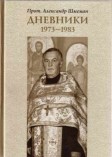Александр Дмитриевич Шмеман
ДНЕВНИКИ 1973-1983
ПРЕДИСЛОВИЕ
После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены восемь тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведенного в "русском" Париже.
Дневник отца Александра – нечто гораздо большее, чем простая регистрация событий последних десяти лет его жизни. Он отражает всю его жизнь (кадетский корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная деятельность…), его интересы (при огромной занятости он поразительно много и широко читал, выписывая в дневник целые абзацы из особенно заинтересовавших его книг), "несет" его мысли, сомнения, разочарования, радости, надежды. Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами – часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившейся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов Американской Митрополии (ставшей, опять же под его воздействием, в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейендорфом, автокефальной Православной Церковью в Америке), проповедник и богослов, отец троих детей с многочисленными внуками, отец Александр к тому же находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций, еженедельно вел ряд программ на радио "Свобода" для России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом: "Touch base (соприкоснуться с самим собой, – англ. ) – вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, "визит", хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете". И еще: "…записать хочется не для "рассказа", а, как всегда, – для души, то есть только то, что она, душа, ощутила, как дар, и что годно, следовательно, для "тела духовного"".
Дневник отца Александра неизменно поражает широтой своего охвата. Им увлечется и ценитель литературы, и любитель политики, встретив тонкость суждений на самые разные темы, но прежде всего поражает глубина религиозного осмысления жизни. Все повседневные, частные явления, все многочисленные впечатления и оценки возведены к главному, к тому высшему смыслу, который вложен в замысел Божий о творении. И над всеми противоборствами и огорчениями, над всей критикой и обличениями основная тональность дневника – радость о Господе и благодарность Ему.
В дневнике упоминаются очень многие люди – это и учителя в кадетском корпусе, и профессора Свято-Сергиевского института, его друзья и наставники, коллеги по Свято-Владимирской семинарии, студенты, знакомые, представители всех "трех эмиграции" – круг общения отца Александра был чрезвычайно широк. Ему были интересны все люди. Он следил за событиями в России, радовался начинающемуся там духовному возрождению, которому и сам способствовал – регулярными передачами на радио "Свобода" и, конечно, своими книгами. Свою последнюю книгу, "Евхаристия. Таинство Царства", он сразу писал по-русски как дань земле, которую никогда не видел, но всегда считал своей. И, конечно, дневник позволяет увидеть глазами отца Александра его близких – жену Ульяну Сергеевну (в дневнике он так написал о ней: "В субботу – Льяне пятьдесят лет! Целая жизнь, и какая счастливая жизнь, вместе!"), дочерей Анну, Марию и сына Сергея (опять приведем его слова: "Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог") и их семьи, брата Андрея и многих других.
Диагноз смертельной болезни был поставлен отцу Александру в сентябре 1982 года. В течение нескольких месяцев в дневнике не появлялось новых записей, и только 1 июня 1983 года отец Александр последний раз открыл свой дневник. Он написал о той "высоте", на которую подняла его болезнь, о любви и заботе близких и закончил дневник словами: "Какое все это было счастье!" Шесть месяцев спустя, 13 декабря 1983 года, окруженный близкими, отец Александр умер у себя дома в Крествуде. Последние слова, которые он ясно произнес, были: "Аминь, аминь, аминь".
Сергей Шмеман
ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Настоящее издание воспроизводит дневник почти целиком. В совместной работе с женой отца Александра, Ульяной Сергеевной Шмеман, изъяты некоторые повторы, подробности, касающиеся людей еще живых, а также записи, которые могли бы быть превратно поняты неподготовленным читателем, но эти купюры составляют не более трех процентов от всей рукописи.
Рукопись подготовлена к печати Еленой Юрьевной Дорман, ею же сделаны примечания к тексту и перевод цитат на русский язык, а также составлен указатель имен. Неоценимую помощь в этой работе оказали прот. Виктор Соколов (Сан-Франциско), Жан-Франсуа и Лиля Колосимо (Париж), Никита Алексеевич Струве (Париж), Наталья Андреевна Шмеман (Париж), Виктор Максимовский (Финляндия) и др. Фотографии были любезно предоставлены Сергеем Александровичем Шмеманом, Никитой Алексеевичем Струве и прот. Виктором Соколовым.
Текст приведен в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации, однако языковые особенности, характерные для речи отца Александра, сохранены
Прот Александр Шмеман
ДНЕВНИКИ 1973-1983
Тетрадь I
ЯНВАРЬ 1973 – НОЯБРЬ 1974
Понедельник, 29 января 1973
Вчера в поезде (из Wilmington, Del.) думал: пятьдесят второй год, больше четверти века священства и богословия – но что все это значит? Или – как соединить, как самому себе объяснить, к чему все это сводится, clair et distinct
[1] , и возможно ли и нужно ли такое объяснение? Двадцать пять лет назад, когда эта, теперь уж меня определившая жизнь (посвящение, богословие) начиналась, все казалось, что не сегодня-завтра сяду, подумаю и выясню, что это только вопрос досуга. Но вот – двадцать пять лет! И, вне всякого сомнения, большая часть жизни – за спиной, а неясного – на глубине – гораздо больше, чем ясного.
Что нужно, собственно, объяснить? Соединение, всегда меня самого удивляющее, какой-то глубочайшей очевидности той реальности, без которой я не мог бы дня прожить, со всем растущим отвращением к этим безостановочным разговорам и спорам о религии, к этим легким убеждениям, к этой благочестивой эмоциональности и уж, конечно, к "церковности" в смысле всех маленьких, ничтожных интересов… Реальность: еще вчера ее ощутил – идя в церковь к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви, до обедни. Всегда то же ощущение: времени, наполненного вечностью, полноты, тайной радости. Мысль, что Церковь только для того и нужна во всей своей "эмпирии", чтоб этот опыт был, жил. Так, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура.
Пятница, 16 февраля 1973
Искал тетрадку в своем столе. Нашел почти новую – и в ней одна запись, сделанная
1 ноября 1971 года. Почти смешно, до чего сходно с той, что предшествует этой: "религия" – худшее и лучшее в человеке. Не только лучшее, а тоже и худшее. Читал Journal Litteraire Leautaud
[2] – странное влечение к такого рода книгам. Может быть, потому, что это как зеркало для верующих: вот какими нас видят правдивые люди. Фальшь, ужасающая фальшь "религиозности". Безрадостность. Бездарная "серьезность". Неужели это возможно, если верить в Бога – в вечное и главное tout est ailleurs
3 (Julien Green)? Почти невозможность дальше выносить "академическое изучение духовности". Сколько ненужного, пустого, фарисейского.
[3]Все утро дома, за столом! После недели в Калифорнии, после торжеств в Wilkes Barre (хиротония еп. Германа), после поездки в Филадельфию (похороны И.М. Цапа) – какое беспримесное счастье! В столовой Том
[4] , с которым мне всегда светло и хорошо. Снег за окном.
Суббота, 17 февраля 1973
Вчера длинный вечер у Сережи с Иосифом Бродским. Сначала скучнейший прием у R.Payne. Снобизм. [Сумбурная компания]. Какие-то таинственные девицы в штанах. Для чего им Бродский? Дома – очень простой и милый. По словам Сережи, в Pen-Club, днем, после чтения им его стихов, на вопрос какого-то еврея, почему он христианин, Бродский: "Потому что я не варвар…" Страшно нервный. Впечатление такое, что потерян, не знает, как себя вести. Возвращение домой ночью, страшным морозом, по снегу, со станции.
Сегодня все утро – блаженно! – в кровати за "Чевенгуром" А.Платонова. Удивительная книга!
Воскресенье, 18 февраля 1973
Литургия в East Meadow. Радостное чувство, что американское православие, за которое пришлось столько вытерпеть хулы, – реальность, в тысячу раз больше реальность, чем дешевая псевдодуховность всевозможных [духовных центров]. Но, увы, люди любят дешевку, лишь бы она была прикрыта бородами, крестами и привычными словесами.
Вчера вечером кончил "Чевенгур". Читал, и все в уме сверлила ахматовская строчка: "еще на западе земное солнце светит…"
[5] . А тут – погружение в мир, весь сотканный, в сущности, из какой-то бездонной глубины невежества, беспамятства, одержимости непереваренными мифами. Как будто никогда не было ничего в России кроме дикого поля и бурьяна. Ни истории, ни христианства, никакого логоса. И показано, явлено это потрясающе. И еще приходит в голову: "если свет, который в вас, – тьма…"
[6] . Все происходит в какой-то зачарованности, душевном оцепенении, каждый ухватывается за какую-то соломинку… Удивительный ритм, удивительный язык, удивительная книга.
Понедельник, 19 февраля 1973
Вчера длинный вечер у Виктора Кабачника с "новыми" – Юрием Штейном и его женой Вероникой (Туркиной), двоюродной сестрой первой жены Солженицына. Длинный разговор – о Солженицыне, о России, об о.В.Шпиллере (которого они считают попавшимся…) и т.д. Конечно, мы отвыкли от этой раскаленности. Но чувствуется в ней и какая-то растерянность. Одержимость политикой. Трудно найти не то что общий язык, но внутреннее общение – или это, может быть, специально мне. Несколько раз тяжкая мысль – побушуете, побушуете и тоже "успокоитесь". Несчастная судьба эмигрантов: приезжать "открывать глаза" людям, которые смотрят в другую сторону. Еще более горькая: встречаться с предшествующим слоем эмиграции, уже "успокоившейся" и перешедшей к внутренним склокам (легче!). Создание комитетов, таинственные звонки в Лондон и Москву. Вечный путь русской интеллигенции – путь возбужденного отрыва. И, вместе с тем, единственное приемлемое в России. Бродского облепляет чернь – академическая. Эти сами стремятся к "черни" политической, не разбираясь, что это "чернь". В конечном же итоге, мне думается, влияет на историю только одно: говорить свое, без оборота на кого бы то ни было, без расчета. "Сказавших правду в скорбном мире…"
[7] Этим мне дорог Солженицын: когда думаю о нем, делается как-то светло и тепло. На мой вопрос Вероника Штейн подтверждает – человек невероятной и упрямой силы… И еще: никогда не бояться, что "история" пройдет мимо, не волноваться, как бы не пропустить ее.
Вероника Штейн рассказывает о семейной драме Солженицына. Она на стороне Солженицына. Эксплуатация всего этого – против Солженицына. Печальное участие в этой эксплуатации о.В.Шпиллера. От его письма Лоуренсу несет удручающей духовной гордыней. Ни на чем в мире так легко играть, как на "религиозности". И сколько людей, что неочищенная, непросветленная религизность и есть средоточие демонического в мире (доказательство – "Чевенгур", насквозь пронизанный страшной, темной религиозностью).
Вторник, 20 февраля 1973
Узнал сегодня о скоропостижной смерти в Los Angeles (во время юбилейного банкета прихода, при произнесении речи) Иллариона Воронцова. Всего лишь две недели тому назад (7 февраля!) завтракал у него в L.A.! Пятьдесят три года… Он был одним из счастливых, даже пронзительных воспоминаний моего детства: лагерь [на юге Франции] в Napoule, 33-й или 34-й год, наша дружба, безоблачное солнце тех лет, юга, моря. Потом, много лет спустя, встреча в Калифорнии. Его удивительная красота, красота всего облика, тихость, любовь к поэзии, одинаковое (для меня) восприятие Церкви, какая-то его вечная неудовлетворенность земным, однако без всякой показной религиозности, без всякой тяги к псевдодуховности. Несколько встреч за эти годы. Две недели назад – его рассказ об Афоне, куда он ездил только что. И опять – без громких фраз, даже с юмором, но все понял, почувствовал, увидел. Его жена: "Он садится в ванну и громко читает стихи". Чувство потери: почти не виделись, не встречались, но каждая встреча была беспримесной радостью. Только что звонил Серафим Гизетти. Говорит, что его речь (15 минут, потом он упал…) была замечательной.
Четверг, 22 февраля 1973
Исповедь. Наставляешь другого: надо начинать с малого, строить, собирать себя, освобождаться. А сам?
Страшная трудность для меня личных разговоров. Почти отталкивание от всяческой "интимности". Мучительная нелюбовь исповедовать. О чем в христианстве можно столько "разговаривать"? И для чего?
Пятница, 23 февраля 1973
Вчера вечером – от усталости, несколько глав Alan Watts, In My Own Way
[8] (автобиография, Ваня Ткачук
[9] подарил мне ее на Рождество). Меня никогда нисколько не интересовали восточные религии, Зен и т.д. В Watts'е меня интересует только тот факт, что он был священником и ушел ради этого, всегда мне казавшегося неглубоким ориентализма. Поэтому прочитал только те главы, что относятся к его пятилетнему англиканскому священству. Сам Watts представляется мне очень поверхностным мыслителем. Эти ссылки на свой "мистический опыт…"! Но кое-что в его критике христианства заслуживает внимания. О молитве: "…interpreted St. Paul's "pray without ceasing" as chattering to Jesus all the time, mostly about how horribly one has sinned" (p.180)
[10]. "Belief in the forgiveness of sins seems to aggravate rather than assuage the sense of guilt, and the more these people repented and confessed, the more they were embarrassed to go creeping to Jesus again and again for his pardon. They feel simply terrible about drawing so heavily on the merits of the cross, infinite as they might be, and idealized being good children in their paternalistic universe…" (p.181)
[11]. Хороший ответ на его синкретизм от одного из его друзей: "Есть много религий, но только одно Евангелие…" Watts хороший пример тому, как христианство, растворенное в "религии" и "мистике", теряет свою единственность, свой смысл и силу как суда над религией.
Суббота, 24 февраля 1973
Вчера разговор с Томом [Хопко] о В. Сошлись, что источник его вопиющих недостатков, то есть недостатков его богословия, – в гордыне. Вся "грехология" сводится, в сущности, к двум источникам: плоть и гордыня. Но гордыня гораздо страшнее (она погубила ведь и бесплотные силы). Христиане сосредоточили свое внимание, свою религиозную страсть на плоти, но так легко поддаться гордыне. Духовная гордыня (истина, духовность, максимализм) -самая страшная из всех. Трудность же борьбы с гордыней в том, что, в отличие от плоти, она принимает бесконечное множество образов, и легче всего образ "ангела света". И еще потому, что в смирении видят плод знания человеком своих недостатков и недостоинства, тогда как оно самое божественное из всех Божиих свойств. Мы делаемся смиренными не потому, что созерцаем себя (это всегда ведет к гордыне, в той или иной форме, ибо лжесмирение всего лишь вид гордыни, может быть – самый непоправимый из всех), а только если созерцаем Бога и Его смирение.
Понедельник, 26 февраля 1973
Малая и бессмысленная ложь. В субботу вечером М.М. (бедненькая, чуть-чуть свихнувшаяся американка, приезжающая ко мне каждые две недели "беседовать" и исповедоваться) уличила меня в такой лжи. На ее вопрос, успел ли я прочитать ее письмо (а в промежутках между посещениями она пишет нескончаемые письма…), я ответил – почему? сам не знаю: "Только наспех и поверхностно…" Через минуту она нашла это письмо на моем столе – случайно! – нераспечатанным. Записываю, потому что сам не могу себе объяснить, зачем я это сказал. Ни малейшей нужды, никакой причины. Какая-то странная боязнь "отрезать", боязнь правды в малом, тогда как в "большом", мне кажется, я не лгу и даже ненавижу всякую ложь. Однако сказано: "в малом был еси верен…"
[12].
Вторник, 27 февраля 1973
Вчера днем в Trinity Church
[13] на Wall Street
[14] о молитве. И сразу же заявление вроде: "А не важнее ли кормить голодных…" Надоевшая американская дешевая жвачка и скука.
Удовольствие попасть в этот удивительный квартал с его суетой, шумом, толпой.
Сегодня утром пакет из Финляндии – финский перевод моего "Великого Поста".
Суббота, 3 марта 1973
Все эти дни давление бесконечного количества малых дел и забот: дело Эванса, дела студентов, звонки из церковной канцелярии, поездка в Тихоновский монастырь к арх. Киприану и т.д., и т.д., и т.д. Душа устает и высыхает от всей этой действительно суеты. Один просвет: два часа поездки в South Canaan вчера, удивительным, солнечным, "предвесенним днем". Так как приехал туда заранее, то целый час ходил по "проселочным" дорогам, среди прозрачных лесов. Тающий снег, вода, солнце, тишина. Так же и обратно. Кроме того, раздробленное время, пустая голова, нервная усталость, "мир сей" в его мелочности и скуке.
Вторник, 6 марта 1973
В субботу исповедь М.Т. Мучительные раздумья: что правильно, что нет. И о том также, как любые схемы разбиваются о действительную уникальность каждой жизни. "Аз же свидетель есмь"
[15].
В воскресенье – служба в Paramus
[16].
Вчера все утро и до четырех часов дома за статьей о литургическом семинаре. Еще раз – убеждение в ложности исключительно "академического" богословия. Голос вопиющего в пустыне.
Ужин у Андерсонов. Диктовка Анне
[17] (молитвы в первый, восьмой и сороковой день). Разговор с В., который, как всегда, обезоруживает меня своей логикой, хотя логика эта способна доказать всегда лишь часть настоящей правды, и даже и ее извратить. Ужас логики, ужасавшей Шестова. Ее жизненное бесплодие. Разумный и логичный человек вряд ли способен к раскаянию. Он способен лишь к анализу.
Трагедия в Хартуме (убийство террористами дипломатов). Ненависть ко всем идеологиям. Отсюда, наверняка, моя постыдная симпатия к Leautaud, commissaire Maigret
[18] и… Талейрану. Безвыходный тупик человеческих "убеждений". И подумать только, что они и веру считают "убеждениями", направленными на "ценности". Вред богословия: сведение веры к идейкам и убеждениям, да еще научно (дюжиной немцев) "обоснованным"… (Это тоже думал, слушая в субботу лекцию L. Bouyer об "Apostolic Ministry"
[19] . Если эта последняя доказывается так, то грош ей цена…)
Только что разговор по телефону с N. Как легко люди падают духом, унывают! И как все тогда кажется безнадежным. Божественная сила терпения. Больше всего для борьбы с дьяволом нужно терпение, а его-то меньше всего в человеке, особенно молодом. Главная опасность молодости – нетерпение. Почему Бог терпит? Потому что Он знает и любит.
Пятница, 9 марта 1973
Письмо от Никиты Струве с замечательной, по-моему, оценкой Платонова: "…Платонов, бесспорно, замечательный писатель, владеющий каким-то доселе неслыханным языком, но, на мой взгляд, писатель не гениальный, потому что "с сумасшедшинкой" и болезненным восприятием мира. Есть в нем и какая-то недосказанность: все в его мироощущении предполагает веру, а была ли у него вера в Бога – неясно. Он не верил в смерть, но тем самым снимал как бы с человеческой судьбы ее трагичность. По правде сказать, я "Чевенгур" недопонимаю. Чевенгурцы какие-то дети природы, обманутые революцией, но остальные все – от кузнеца до убитых буржуев – чем они жили?.. В чисто литературном плане Платонов совершенно лишен дара построения.
"Чевенгур" его единственная большая вещь, и какая-то непостроенная, недоделанная. Я признаю гений его языка, остроумие его сатиры, но чтение его меня не просветляет, от него становится на душе щемяще-неуютно. Это какой-то Достоевский без веры, из видения Версилова – расслабленно доброе, но безвольное человечество. Солженицын с его волевым упором, с его силой и здоровьем куда выше и, главное, куда нужнее…"
Вчера, в поезде и дома, чтение французских еженедельников (L'Express, Le Point). Хотя и совсем другое, но тоже болезненное восприятие мира. Кривляние, псевдоглубина, вошедшие в кровь. Подспудная ненависть к здоровью, к ясности, к смыслу. Удручающее уныние всего этого…
В среду вечером – "малый синод" в Syosset
[20] . Затем – встреча с группой из Sea Cliff. Разговоры, рассказы о борьбе с Белосельским, об участии Граббе и его клики в этом и т.д. Страшное гниение русской эмиграции… А подумать только, что люди этим всем буквально живут, в этом видят "деятельность", "борьбу" и "верность Церкви". "Так вот в какой постыдной луже…"
[21].
Трагическое известие о breakdown'е
[22] в Лос-Анжелесе о. N.N. Значит, признаки, поразившие меня три недели тому назад, были реальными. Боюсь, что причина все та же: "с головой ушел в свою деятельность". А вот этого-то и не нужно. Полная невозможность в какой-то момент увидеть все в перспективе, отрешиться, не дать суете и мелочности съесть душу. И в сущности все та же гордыня (не гордость): все зависит от меня, все отнесено ко мне. Тогда "я" заполняет собой реальность, и начинается распад. Страшная ошибка современного человека: отождествление жизни с действием, мыслью и т.д. и уже почти полная неспособность
жить , то есть ощущать, воспринимать, "жить" жизнь как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким, уже весенним дождем, видеть, ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене – это не только "тоже" событие, это и есть сама реальность жизни. Не условие
для действия и
для мысли, не их безразличный фон, а то, в сущности, ради чего (чтобы оно было, ощущалось, "жилось") и стоит действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает нам Себя ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. И вот почему прав Julien Green: "Tout est ailleurs", "Il n'ya de vrai que le balancement des branches mis dans le ciel"
[23] и т.д. То же самое и в
общении . Оно не в разговорах, обсуждениях. Чем глубже общение и радость от него, тем меньше зависит оно от слов. Наоборот, тогда почти боишься слов, они нарушат общение, прекратят радость. Это я с особой силой почувствовал в тот новогодний, декабрьский вечер, когда в Париже сидел в мансарде Адамовича. Все говорят, что он предпочитал говорить о пустяках. Верно, Но не потому, что не о чем было говорить, а потому, что таким явным было именно общение. Отсюда моя нелюбовь к "глубоким" и, в особенности, "духовным" беседам. Разговаривал ли Христос со Своими двенадцатью, идя по гагилейским дорогам? Разрешал ли их "проблемы" и "трудности"? Между тем все христианство есть, в последнем счете, продолжение этого общения, его реальность, радость и действенность. "Добро нам зде быти"
[24] . Вот таким "добро" был и тот вечер с Адамовичем, да и все, что по-настоящему запомнилось, осталось от жизни как "добро" и радость: ужины и вечера вдвоем у Вейдле в Париже, еще раньше корпусные дружбы. Своеобразная "уникальность", например, Репнина в моей жизни. Нам решительно не о чем разговаривать, и мне всегда
так хорошо с ним, хотя вне этих почти мимолетных встреч в Париже, раз в год, я почти не вспоминаю о нем. Брат Андрей: мы трех "серьезных" слов не сказали друг другу за последние двадцать лет, но встречи и общение с ним одна из главных, реальнейших радостей моей (и, я знаю, его) жизни, бесспорное, очевидное "добро". И наоборот, там, где в центре как содержание общения – действия, события и мысль, там не выходит и общения. А вот с К.Ф. выходит! Действительно, "il n'ya de vrai…". Слова же должны вынашиваться не в разговорах (где они так часто – чеки без покрытия), а на глубине, вот в этом самом опыте tout est ailleurs, как, в сущности, свидетельство о нем. Тогда они звучат, сами становятся даром, таинством.
Итак, если вспомнить, то оказывается, что наибольшая сила и радость общения были в моей жизни от тех, кто "умственно" меньше всего значил для меня: Репнин, о. Савва Шимкевич (в корпусе, 1933-1935 гг.), о. Киприан.
Сегодня в New York Times статья Натальи Решетовской, первой жены Солженицына – в ответ на недавнюю защиту Солженицына там же Жоресом Медведевым. Статья гнусная, злая, полная интуиции и к тому же несносно "бабья". Эта атака, увы, лишнее подтверждение "инспирированности" письма Шпиллера.
Удивительный, совершенно весенний день! Почти жарко. Весь день дома за столом. Счастье.
Суббота, 10 марта 1973
Вчера – длинная пастырская беседы с женщиной в депрессии. Бросил муж. Сын ушел в hippies
[25] . Бросил школу, живет неизвестно где. Дочь двенадцати лет тоже начинает впадать в депрессию. Все бессмысленно. Профессия (медицина) опротивела. Полная тьма. Во время разговора ощущал с самоочевидной ясностью "демонизм" депрессии. Состояние хулы. Согласие на хулу. Отсюда – смехотворность психиатрии и психоанализа. Им ли с "ним" тягаться? "Если свет, который в вас, тьма…"?
[26] Я сказал ей: Вы можете сделать только одно, это – отказаться от хулы, отвергнуть саму себя в этой лжи, в этой сдаче. Больше Вы не можете – но это уже начало всего.
Болезнь современных (да и не только современных) людей – одержимость. А они, а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней.
Воскресенье, 11 марта 1973. Прощеное
У Л. уже несколько недель болело плечо и под рукой. Вчера утром д-р Стивенс сказал ей, что нужно немедленно резать, чтобы "узнать"… Какой глубокой, торжественной становится сразу же жизнь при таком известии. Весь день словно тихое "присутствие". Завтра у Л. свидание с хирургом.
Понедельник, 12 марта 1973. "Чистый"
"И покры ны тьма…"
[27] Два дня этого "присутствия" в доме. Почти об этом не разговаривали. Но, нет-нет, при взгляде, при том или ином слове – прорывалось.
Боже мой, какую болезненную чувствуешь тогда жалость и нежность. Как все становится прозрачным, хрупким, обреченным. Этих двух дней не забыть. Сегодня звонок из Нью-Йорка от Л.: ее доктор категорически утверждает, что все в абсолютном порядке!
Прощеная вечерня – очень хорошая, очень подлинная. Почему все-таки не удается всегда жить на этой высоте? Сегодня длинная-длинная утреня. Один в пустом алтаре, все время ощущая все – и "присутствие" (это еще до радостного телефона), и "светлую печаль" Поста, и весь тот вздох, о котором – Пост.
И уже врывается суета: звонки, гора неотвеченных писем, даже заседание. Как при всем этом хранить, созидать внутреннюю, светлую тишину?
Среда, 14 марта 1973
Мучительная раздробленность времени, даже, вот, в эти дни Великого Поста. Выходишь из церкви – заседание. "Когда можно вас повидать…" Хорошо только дома, только одному. Мучительность всех контактов – и чем дальше, тем больше. Невыразимость, непередаваемость главного. Как я устал от своей профессии или, может быть, от того, как она стала пониматься и восприниматься. Такое постоянное чувство фальши, чувство, что играешь какую-то роль. И невозможность выйти из этой роли.
Изумительные, весенние дни. И как только остаюсь один – как вчера, в Harlem, опоздав на поезд, – счастье, полнота, радость.
Пятница, 16 марта 1973
Вчера несколько часов с Г.Б.Удинцевым. Ученый-океанограф, работает в одном из институтов Академии Наук СССР. Здесь в научной командировке, на восемь месяцев. Устроил свидание со мной через Helen Fisher (моя бывшая студентка в Колумбии). "Хотел Вас повидать, потому что еще в Москве прочитал Вашу "Зрячую любовь" (о Солженицыне). Она много там ходила по рукам. Абсолютно согласен…" Необыкновенно милый, сердечный – вот уж именно тот "русский человек", который нам все больше и больше кажется мифическим. Поклонник Солженицына и Сахарова. Из интеллигентной семьи. Спрашиваю его о Церкви. "Засорена, засорена, но… что же, хотя бы так…" Поразительный рост баптизма. О "русинах"
[28] : "есть ничего – Солоухин, но есть и зловещее…" Все хочет прочесть до отъезда.
Первая неделя Поста прошла сумбурно. Вчера тревожные звонки с Аляски, от о.Д.Г. и т.д. Статьи об англиканстве, о приходе. Горы неотвеченных писем. От всего этого на душе неспокойно и именно "засорено"…
Понедельник, 19 марта 1973
На заседании Митрополичьего совета в Gramercy Park Hotel, слушал скучнейший дебат о пенсионном фонде. Мучение от уровня всей этой "церковной жизни".
Четверг, 22 марта 1973
Три мучительных, напряженно-суетных, тяжелых дня: Митрополичий совет и архиерейский синод. Описывать всего этого нет сил и охоты. Вечное и страстное желание уйти, отстраниться, не [участвовать] – и объективная невозможность это сделать. Безвыходность этого положения: быть eminence grise
[29] , чтобы по возможности limiter les degats
[30] , и ipso facto
[31] оказываться все время на том самом уровне, от [нелюбви] к которому во всем этом участвуешь…
Вчера и сегодня у нас маленький Саша Шмеман
[32] . "Зато слова – ребенок, зверь, цветок…"
[33].
Там, где нет "печали о Боге", нет тишины, памяти о тайном свете, таинственного "вкуса" радости, – там нет Бога, сколько бы ни было "церковности". Откуда этот страшный нервоз у прицерковных людей, этот пароксизм, эта одержимость?
Понедельник, 26 марта 1973
Еще несколько дней суеты. Вашингтон: лекция, обсуждения. Вчера после Литургии – лекция в Whitestone. Предельная усталость, "выжатость" сознания.
Думал сегодня о мучительно низком уровне церковной жизни, о травле Бродского в русской газете, о фанатизме, нетерпимости, действительном "рабстве" стольких людей. На нас надвигается новое средневековье, но не в том смысле, в каком употреблял это понятие Бердяев, а в смысле нового варварства. Православные "церковники", в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили - Ферапонта
[34]. Он им по душе, с ним все ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, – все это соблазн, все это нужно сокрушать. В культуре начинается торжество "русинов" – нео-нео-славянофилов. Расцвет упрощенства, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих падшим человеческим "нутром", как оправдание этих идолов. Тут глубочайший соблазн. Ферапонт – действительно аскет, молитвенник, подвижник, традиционалист и т.д. И расхождение между Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским – чистая историческая случайность. Большевизм уже и сейчас – национальная русская власть, как суть эмигрантского национализма и антикоммунизма – большевистская. И у того, и у другого большевизма только один враг – свободный человек, особенно же свободный "во Христе", то есть единственно подлинно свободный. Подспудная ненависть ко Христу, судящему вечно "Церковь" и "великого инквизитора" в ней.
Отсюда вечный вопрос – что делать? Оставаясь, как теперь говорят, "в системе", волей-неволей принимаешь ее и ее методы. "Уходя" – вставая в позу "пророка" и "обличителя", – скользишь в гордыню. Мучение от этой вечной разорванности.
Пятница, 30 марта 1973
Только когда записываешь, понимаешь, сколько в нашей жизни действительно пустого времени, сколько суеты, не заслуживающей никакого внимания, сколько неважного, съедающего, однако, не только время, но и душу. Все эти дни по вечерам – от усталости, может быть, или от внутреннего отвращения к тому, что нужно делать, от невозможности сесть за письменный стол – пассивное сидение у телевизии. Чувство: "La chair est triste, helas! et j'ai lu tous les livres"
[35] …
А вместе с тем, читая лекции, утром, вдохновляешься все так же. Всегда чувство – что все главное мне открылось при чтении лекций. Точно кто-то другой их читает – мне! Так, во вторник – о "полиелее" (!), в среду – о "космизме" почитания Божией Матери, вчера, в четверг, – об исповеди и покаянии. И запись – книги, статьи – никогда не удерживает всего того, что открывается, когда говоришь. Примат, онтологмический, – благовестия – в христианстве. Христос не писал. И все, что записано, – Библия и т.д. – запись "опыта". И не индивидуального, а сверхиндивидуального, именно космического, церковного, "эсхатологического". Ошибка тех, кто думает, что образование – это в плане идей. Нет, это всегда передача опыта. Трагедия, пустота и банальность академизма, игра в примечания… Люди убеждаются не доводами. Они "загораются" или нет…
Вчера по телевизии страшные рассказы американских пленников о пытках во Вьетнаме. Человечность этих рассказов. Все эти люди еще отмеченные, еще озаренные христианством. Христианство разрушает не буржуазия, не капитализм и не армия, а интеллигентская гниль, основанная на беспредельной вере в собственную важность. Ж.-П.Сартр и Кo – плохенькие "иконы" дьявола, его пошлости, его суетливой заботы о том, чтобы Адам в раю не забывал о своих "правах". Там, где говорят о правах, нет Бога. Суета "профессоришек"!.. И пока они суетятся, негодяи, по слову Розанова, овладевают миром.
Понедельник, 2 апреля 1973
Чудовищная занятость. В пятницу – детское говение, а потом лекция в сирийском приходе в Bergenfield. Вчера – в Watervliet. Завтра – в Buffalo. В среду – Toronto. В пятницу – Philadelphia… И минуты рая: вчера за Литургией в Wappingers Falls, затем – когда ехали с Томом под проливным дождем в Watervliet по той самой [дороге] Route
9 , по которой когда-то с детьми ездили в Labelle
[36] . Смиренное начало весны. Дождливое воскресенье. Тишина, пустота этих маленьких городков. Радость подспудной жизни всего того, что за делами, за активизмом, того, что сам субстрат жизни. И поздно вечером снова тьма, дождь, огни, освещенные окна… Если не чувствовать этого, что могут значить слова: "Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим…"? А это суть религии, и если ее нет, то начинается страшная подмена. Кто выдумал (а мы теперь в этом живем), что религия – это разрешение проблем, это – ответы… Это всегда – переход в другое измерение и, следовательно, не разрешение, а снятие проблем. Проблемы – тоже от диавола. Боже мой, как он набил своей пошлостью и суетой религию, и она сама стала "проблемой религии в современном мире", все слова, не имеющие ни малейшего отношения к субстрату жизни, к голым рядам яблонь под дождливым весенним небом, к страшной реальности
души во всем этом.
Вторник, 3 апреля 1973
Сегодня лекция: о воскресном прокимне за всенощным бдением, о подготовке к чтению и о самом чтении Евангелия и т.д. И снова – сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке непередаваемое передать другим. Боюсь – неудачно, даже в "православии" люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение , в какую реальность оно вводит, как, прежде чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то "измерение", в котором одном все это – сообщение, передача, причастие – могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует Церковь. И без него все ее учение, строй, порядок – все это ничего не значит… Но этого-то [часто] и не чувствуют богословы, и потому у меня такое от них тяжелое "похмелье". В святая святых проникли немецкие профессоришки и все объясняют нам, научно и с примечаниями, его "сущность", "развитие" и "проблемы", и все это, увы, гроша ломаного не стоит. А студент, посидев три года на догматике, патристике и истории Церкви, или просто все это старается поскорее забыть, или же сам становится "немецким профессоришкой" и с бесконечной важностью пишет о "мистическом опыте по Максиму Исповеднику". И игра продолжается…
Четверг, 5 апреля 1973
Вчера в Toronto, после "пассии", – лекция о "духе православного богослужения". О том, что для меня самое очевидное: о богослужении как действительно
явлении Царства Божия, явлении, делающем возможным его любить, молиться о его пришествии, ощущать его как "единое на потребу". О красоте как явлении Истины и Добра, о Церкви как "locus'е"
[37] этого явления… Русские лица. Затаенное внимание. Доходит! Но, вот, извращено религиозное сознание чем-то другим, и, "видя, не видят, слыша, не разумеют…"
[38] – это о духовенстве, об "учении".
Во время "пассии", стоя в алтаре, думал: какая огромная часть жизни, с самого детства, прошла в этом воздухе, в этом "состоянии" – точно все это один длящийся, вечно тождественный себе момент: алтарь, священник в великопостной ризе, совершающий каждение, тот же радостно-смиренно-горестный напев великопостного "Господи, помилуй". Немножко позже снова то же чувство: пели "Тебе одеющагося", неуверенно, медленно, какая-то почти девочка там усердно управляла. И снова пришло это удивительное: "Увы мне, Свете мой!.." Так вот и останется от жизни в момент смерти: единое видение неизменного алтаря, вечный жест, вечный напев. И, конечно, лучше этого ничего нет: "явление"…
В Buffalo, накануне, неожиданный рассказ о.Фаддея Войчика: о женщине в его приходе, простой, трезвой, ничем не замечательной вдове с двумя детьми. Без всякой истерии, надрыва, экстаза. Как, во время богослужения, она на несколько мгновений увидела алтарь и священника светящимися ослепительным светом. И сам Войчик – такой простой, смиренный, ясный. Радость от этого рассказа.
Из Buffalo в Toronto поехал на автобусе, один, три часа. Почти все время вдоль озера – как моря. Дождь. Городки, домики. Здесь и там начинающие цвести ярко-желтые, пасхальные форситии. Смиренная человеческая жизнь, в смирении, простоте, тишине которой только и может быть "явление".
Пятница, 6 апреля 1973
[Вспыхнувший вчера скандал в семинарии
[39] .] Сначала гнев, почти бешенство. Потом печальные раздумья: какая путаница, даже тьма в этих молодых головах, как убита в них непосредственная нравственная реакция, какой сумбур создала в мире, в душе, в культуре всевозможная "интеллигенция". Бесконечная гордыня всего этого. Гордыня и пошлость. Искусственная взволнованность псевдопроблемами, гордость псевдознанием, важность пустоты. И теперь этот злосчастный "академизм", "проблематика", возможность каждому возомнить себя чем-то. И вера в "обсуждения", "выяснения", "коммуникации". Ни один человек в мире не обогатился обсуждениями. Только встречей с реальностью, с правдой, добром, красотой. Чувство полного бессилия – невозможности что бы то ни было во всем этом переменить, будучи при этом деканом. Радикальное непонимание между мною и другими и невозможность его формулировать, в любом рациональном споре каждый из них меня раздавит.
День рождения маленькой [внучки] Веры. Три года с той ночи в госпитале. Как по сравнению с этим жалки и бессмысленны и пусты все эти "обсуждения", вся эта пошленькая, мышиная суета вокруг "проблем"…
Переписываю в одну статью свои скрипты о солженицынской нобелевской лекции. Вся она, в сущности, как раз на эту тему.
Что такое счастье? Это жить вот так, как мы живем сейчас с Л., вдвоем, [наслаждаясь] каждым часом (утром – кофе, вечером – два-три часа тишины и т.д.). Никаких особенных "обсуждений". Все ясно и потому – так хорошо! А, наверное, если бы начали "формулировать" сущность этого самоочевидного счастья, сделали бы это по-разному и, того гляди, поссорились бы о словах. Мои казались бы ей не теми и vice-versa
[40] . "Непонимание"! И замутнилось бы счастье. Поэтому по мере приближения к "реальности" все меньше нужно слов. В вечности же уже только: "Свят, свят, свят…" Только слова хвалы и благодарения, моление, белизна полноты и радости. Поэтому и слова только те подлинны и нужны, которые не о реальности ("обсуждение"), а сами – реальность: ее символ, присутствие, явление, таинство. Слово Божие. Молитва. Искусство. Когда-то таким словом было и богословие: не только слова о Боге, но божественные слова – "явление". Но прельстилось чечевичной похлебкой обсуждений и доказательств, захотело стать словом научным – и стало пустотой и болтовней. И возомнило о себе, и стало нужным только такому же другому болтуну, но
не человеку,
не глубине человеческой культуры. Это знает Солженицын, Бродский. Но этого не знают уже больше богословы. Да и как им знать это? О них только что была статейка в научном богословском журнале. Разве это не доказательство их "важности"?
Что такое молитва? Это память о Боге, это ощущение Его присутствия. Это радость от этого присутствия. Всегда, всюду, во всем.
Воскресенье, 8 апреля 1973
Получил позавчера новую книгу Чиннова "Композиция". Наряду с новыми, последними стихами он включил в нее и свою самую первую книгу "Монолог" (1950). Увы, сравнение в пользу "Монолога". А теперь – именно "композиция", умение, трюкачество. Америка не пошла впрок русским литераторам. Они сами уверовали в "литературоведение", сами стали по отношению к себе уже и "литературоведами". Они [готовят] свои стихи так, чтобы о них почти сразу можно было написать дурацкую американскую диссератацию. Мироощущение Чиннова не изменилось ни на йоту: бессмыслица жизни в свете (или тьме) смерти, ирония, подшучивание над всем и т.д. Но раньше это звучало органично, убедительно. Теперь: "Смотрите, как я ловко и умело это делаю". Однако несколько несомненных удач. Например, на смерть Адамовича: "Душехранилище хоронят…"
Сегодня думал (после разговора с Л. о росте цен, налогах и т.д.) о том действительно поразительном пророчестве, что находим у русских. Достоевский не только предсказал, но подлинно явил суть "бесов", завладевших западной душой. Хомяков предсказал крах западного христианства. Федоров предсказал и определил суть и механизм, злую сущность западной "экономики". Поразительно.
Вторник, 10 апреля 1973
Проглядывал, подчитывал "Свиток" Ульянова и "Русскую литературу за рубежом" Полторацкого. В связи с этим – мысли об эмиграции. Она, в сущности, – моя настоящая родина. Но в Америке – это был правильный инстинкт – нужно было уходить от нее и из нее, спасаться от заражения трупным ядом. Во Франции она просто умирает, и не без достоинства. Здесь она гниет. Там останется ее идеальный образ. Здесь – карикатура. Там была высокая печаль, хотя бы у некоторых, у лучших, у ведущих. Здесь – злость и "карьера"…
Хотелось бы когда-нибудь стать совсем свободным и написать о том, как постепенно проявлялась в моем сознании Россия через "негатив" эмиграции. Сначала только и всецело семья – и потому никакого чувства изгнания, бездомности. Россия была в Эстонии, затем – один год – в Сербии; дедушка и бабушка Шишковы-Сеняк, первые впечатления церковные: незабываемое воспоминание о мефимонах
[41] в русской церкви в Белграде. Ранний Париж. Обо всем этом вспоминаю, как вспоминают эмигранты о летних вечерах на веранде какой-нибудь усадьбы в России. Та же прочность быта, семьи, праздников, каникул… Эта Россия – язык, быт, родство, ритм.
Затем – корпус, может быть самые важные пять лет всей моей жизни (девять-пятнадцать, 1930-1938 . Прививка "эмигрантства" как высокой трагедии, как трагического "избранства". Славная, поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого воинства, "распятая на кресте дьявольскими большевиками". Влюбленность в ту Россию. Другой не было, быть не может. Ее нужно спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет. Чтения ген. Римского-Корсакова: Денис Давыдов, Аустерлиц, Бородино. "Под шум дубов"
[42] – и т.д. Мы – дети гвардейских офицеров. "В Ново-Димитриевской снегом занесены, мокрые, скованы льдом. Шли мы безропотно, дралися весело, грелись холодным штыком…"
[43].
Четверг, 12 апреля 1973
Потом – сквозь эту военную Россию – постепенное прорастание "других" Россий: православно-церковно-бытовой (через прислуживание в Церкви и "тягу" на все это), литературной ("подвалы" по четвергам в "Последних новостях" Адамовича и Ходасевича), идейной, революционной и т.д. Россия – слава, Россия – трагедия, Россия – удача, Россия – неудача… Потом французский лицей, открытие Франции, Парижа, французской культуры. Постепенное внутреннее открытие, что большинство русских живет какой-нибудь одной из Россий, только ее знает, любит и потому абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память. Вообще – "неинтегрированность", фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании.
В сущности, я полюбил все "России". Каждую в отдельности и все вместе. Я до сих пор убежден, например, что тип русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: Римский-Корсаков, Маевский, А.В. Попов, даже папа) – очень высокий, нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой любовался им), как можно любоваться и другими типами: русским священником, интеллигентом и т.д.
Пятница, 13 апреля1973
"Accepter de ne pas etre aime: c'est a ce prix que l'on met sa marque sur les choses"
[44] (из статьи о Michel Debre).
Пятница акафиста. Почти с самого детства я ощущал этот день как
начало . Сегодня вспомнилась так ясно эта самая пятница в один из годов Lycee Carnot (наверное, 1938 г .). Шел после обеда в лицей и предвкушал, как через четыре часа пойду [в собор]
[45] на rue Daru к акафисту. Почему-то шел по rue Brochant – и все помню: освещение, деревья, только что зазеленевшие, детские крики в сквере. Тогда не знал, конечно, что на этой же самой улице увижу в последний раз папу: летом 1957 г . Я уезжал в Нью-Йорк, он смотрел в окно с четвертого этажа.
Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить ; могу восстановить последовательные периоды и т.д. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи (дни, минуты и т.д.) я не вспоминаю, а помню , как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не "замечательные" события и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего "я".
Я убежден, что это, на глубине, те
откровения ("эпифании"), те прикосновения, явления
иного , которые затем и определяют изнутри "мироощущение". Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости (которую, действительно, "никто не отнимет от нас"
[46], потому что она стала самой глубиной души) потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т.д. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее – в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, – в сущности всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновенье. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается
после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. "Анамнезис": все христианство это благодатная
память , реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение времени, суть лжерелигии и лжедуховность. "Будьте, как дети" – это и означает "будьте открыты вечности". Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть "взрослым", от необходимости попирать "детство" в себе. Взрослая религия – не религия, и точка, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все время извращаем. "Вы уже не дети – будьте серьезны!" Но только детство – серьезно. Первое убийство детства – это его превращение в молодежь. Вот это действительно кошмарное явление, и потому так кошмарен современный трусливый культ молодежи. Взрослый способен вернуться к детству. Молодежь – это отречение от детства во имя еще не наступившей "взрослости". Христос нам явлен как
ребенок и как
взрослый , несущий Евангелие, только детям доступное. Но Он не явлен нам как молодежь. Мы ничего не знаем о Христе в 16, 18, 22 года! Детство свободно, радостно, горестно, правдиво. Человек становится человеком, взрослым хорошем смысле этого слова, когда он тоскует о детстве и снова способен на детство. И он становится плохим взрослым, если он эту способность в себе заглушает (Карл Маркс и все верующие в гладкую "науку" и "методологию". "Методология изучения христологии". Брр!). В детстве никогда нет
пошлости . Человек становится взрослым тогда, когда он любит детство и детей и перестает с волнением прислушиваться к исканиям, мнениям и интересам молодежи. Раньше спасало мир то, что молодежь хотела стать взрослой. А теперь ей сказали, что она именно как молодежь и есть носительница истины и спасения. "Vos valeurs sont mortes!"
[47] – вопит какой-то лицеист в Париже, и все газеты с трепетом перепечатывают и бьют себя в грудь: действительно, nos valeurs sont mortes!
[48] Молодежь, говорят, правдива, не терпит лицемерия взрослого мира. Ложь! Она только трескучей лжи и верит, это самый идолопоклоннический возраст и, вместе с тем, самый лицемерный. Молодежь "ищет"? Ложь и миф. Ничего она не ищет, она преисполнена острого чувства самой себя, а это чувство исключает искание. Чего я искал, когда был "молодежью"? Показать себя, и больше ничего. И чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал, а те, кто этого просто не замечал. В первую очередь – папа своей скромностью, иронией, даром быть самим собой и ничего "напоказ". Об него и разбивалась вся моя молодежная чепуха, и я чем больше живу, тем сильнее чувствую, какую удивительную, действительно подсознательную роль он сыграл в моей жизни. Как будто – никакого влияния, ни малейшего интереса к тому, чем я жил, и ко всем моим "исканиям". И никогда в жизни я с ним не советовался и ни о чем не спрашивал. Но, вот, когда теперь думаю о нем – со все большей благодарностью, со все большей нежностью – так ясно становится, что роль эта в том и заключалась, что никакого кривлянья, никакого молодежного нажима педали с ним не было возможно, что все это от него отскакивало, при нем не звучало. И, конечно, светилось в нем детство, почему и любили так его все, кто его знал. И теперь этим детством светится мне его образ.
В Толстом – гениален ребенок и бесконечно глуп взрослый. Толстой кончает "взрослостью", и в этом его ограниченность и падение. Достоевский начинает с "взрослости" и нестерпим. Он делается великим и гениальным тогда, когда отдается "логике детства". Вся потрясающая глубина его оттого, что дает он в себе волю "ребенку". Но потому и все взрослое его по-настоящему не понимает. Апофеоз "взрослости": Маркс и Фрейд.
Лучезарный, солнечный, весенний день. Он как будто сам звенит молитвой: "Радости приятелище! Тебе подобает радоваться единой!"
Понедельник, 16 апреля 1973
Не забыть: акафист в пятницу вечером и, особенно, Литургию в субботу. Пока мы в алтаре причащались, хор пел первые икосы: "Радуйся, его же радость воссияет…". Пел удивительно хорошо. И все это вместе, как дождь на душу после засухи…
Днем в субботу в Wappingers Falls
[49]. Больше всего от невозможности сидеть дома в такой день такого сияния, такой голубизны, такой радости. И вчера за Литургией снова – клубок в горле: пел сборный хор – два-три студента, девочки. Чувство, уверенность: человек "capax Dei"
[50]. И тут же разговор о С.М., о его депрессии. Такое очевидное, демоническое восстание против света, что делается понятным падение ангелов. И хождение к психиатру! Бездна бездну призывает…
"Picasso est aussi important qu'Adam et Eve, qu'une Etoile, une source, un arbre, qu'un rocher, un conte de fees, et restera aussi jeune, aussi vieux qu'Adam et Eve, qu'une etoile, une source, un arbre, un conte de fees" (Jean Arp). Picasso: "Rien ne peut etre fait sans la solitude. Je me suis cree une solitude que personne ne soupconne"
[51].
Четверг, 19 апреля 1973
Все эти дни – мелкие дела, заботы, спешка, огорчения – от сплетен, от того удручающего уровня, который, увы, так сильно чувствуется и в маленьком семинарском мирке. И от всего этого словно серая пыль на душе. Она делается непроницаемой к радости, к свету. Точно, сжав зубы, стремишься только к одному – выжить, "про-жить" эту волну. Маленькие просветы: лекция в среду о Божией Матери, одна из тех, когда словно говоришь самому себе. Сегодня внезапно чувство: изжито, пронесло. Один дома (Л. в Buffalo). И хотя с сильной головной болью, но мир, общение с жизнью. Завтра – последний день Поста. Завтра – "душеполезную совершивше четыредесятницу… Заутра Христос приходит". Начало любимых дней. Хочется молиться, чтобы ничто их не омрачало, не искажало. Весь день нарастала и сейчас (пять часов дня) разразилась настоящая весенняя гроза.
Пятница, 20 апреля 1973
Вчера – на сон грядущий – перечитывал страницы из книги J.Schulmberger об A.Gide и его жене (ответ на "Nunc manet in te…"
[52] ). Как, в общем, мало лет прошло – и как, действительно, в воду канул весь тот мир. Нравственная взволнованность. Умение жить, как Madeleine Gide, "высоко". Что современная молодежь с ее социологией и гедонизмом может понять во всем этом? "Спекуляция на понижение" – во всем: и в религии, и в искусстве. Да, наконец, просто в жизни.
Тоже вчера – две главы из "Дара" Набокова, который перечитывал много раз. Смесь восхищения и возмущения: какое тонкое разлито во всей этой книге хамство . Хамство в буквальном, библейском смысле этого слова: самодовольное, самовлюбленное издевательство над голым отцом. И бесконечная печаль набоковского творчества в том, что он хам не по природе, а по выбору, гордыне. А гордыня с подлинным величием несовместима. Он не "хамит" с природой, и тут его творчество подчас прекрасно, велико ("И хочется благодарить! А благодарить некого…"). "Хамит" он исключительно с людьми, которых он видит по-"хамски": подобное познается подобным. Гоголь видел "пошлость". Но он не "хамил". Потому у него трагедия. Никакого трагизма, ни малейшего, в творчестве Набокова нет. Откуда же ему взяться в этом хамском и пошлом мире? Набоков тоже в конце концов – "спекуляция на понижение". Беспримерное торжество, удача этого "хамства" – чего стоят отчим и мать Зины в "Даре" или Ширин. И полный крах, когда он, как говорят, "выводит положительные типы", то есть тех, кого он любит и с кем не "хамит". Отец, мать (и в "Даре", и в "Других берегах"), Зина, жена, сын. Уж такие они не как все, с такой тонкостью, с такой несводимостью ни к чему обычному, общему. Тут хамству противостоит мелкий "снобизм". Но горе в том, что это не природа Набокова, что и хамство, и снобизм он выбрал. И там, где их нет ("Василий Иванович" и др.), там видно, с какой возможной, данной и заданной ему, полноты он "пал". И, упав, смеется и страшно доволен сам собой. Демоническое в искусстве: ложь, которая так подана, что выглядит, как правда, убеждает, как правда.
Блаженный, ликующий, весенний день. Канун Лазаревой субботы. В этот день всегда вспоминаются о.Киприан и Сергей Михайлович Осоргин.
Вербное Воскресенье, 22 апреля 1973
"Радость церковная". Как она льется из этих двух действительно единственных дней – Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. Сегодняшний Апостол: "Радуйтесь, и еще говорю вам – радуйтесь… мир, превосходящий всякое разумение"
[53] . Праздник Царства Божия!
Вчера после всенощной долгий разговор с Верой Эрдели, сестрой Илариона Воронцова, и ее мужем Сашей Эрдели. Иларион говорил, что работать для Церкви – это как бы писать икону. Разговор об их сыне – 30 л ., йога, вегетарианство, drop-out
[54] … все во имя добра и ни йоты смирения. Чего люди хотят от религии? Все того же – утверждения себя, своего. И потому так закрыты "радости церковной". "Скрыл сие от мудрых и открыл младенцам…"
[55].
Понедельник, 23 апреля1973
Max Jacob: "Je ne suis pas un critique, mais j'aime a admirer et plus encore a dire que j'admire"
[56].
Желая сам себе оправдать мою постыдную привязанность к комиссару Мегре (G. Simenon), прочел книгу о Сименоне Бернара де Фалуа. Вот цитата из Roger Nimier: "Le sentiment le plus positif de cet univers en grisaille, c'est la tendresse ou encore la pitie. Par la autant, que par son gout des details familiers, des details "rechauffants" Simenon est un romancier russe (!!!) tels qu'on les voyait au XIX siecle…"
[57].
Светлый вторник, 1 мая 1973.
Пасха. Страстная. Чуть-чуть омраченные мелким раздражением на суету в алтаре (четыре священника, пять дьяконов!), но в основном светлые, такие, как нужно. И все, что нужно. Я убежден, что если бы люди услышали по-настоящему – Страстную, Пасху, Воскресение, Пятидесятницу, Успение, не нужно было бы богословие. Оно все тут. Все, что нужно духу, душе, уму и сердцу. Почему люди могли веками спорить об justificatio
[58], об искуплении? Все это в этих службах не то что раскрывается, а просто вливается в душу и в сознание. Но вот удивительно: чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что большинство что-то другое любит и чего-то другого ждет от религии и в религии. Чего-то, что я ощущаю как идолопоклонство, что делает контакт с "религиозными" людьми таким мучительным.
Сегодня под майским солнцем по Пятой Авеню. Lunch hour
[59] . Толпа. И вдруг поражаешься: как мало в этой толпе людей с простыми лицами, с человеческой заботой и глубиной. Эта мысль пришла в голову, когда навстречу попалась средних лет женщина, очень просто, почти бедно одетая, именно с таким лицом.
Пятница, 4 мая 1973
Потрясающие "Дневники" Эдуарда Кузнецова. Ведь, вот, кажется, что после Марченко, Гинзбурга и Н. Мандельштам уже нельзя больше "реагировать" на весь этот ужас. Читаешь Кузнецова, и снова нельзя оторваться. Читаю "эмигрантскими" глазами: сколько людей в эмиграции, самых что ни на есть "непримиримых", "верных" и "белых", были бы идеальными чекистами. Самое для меня ужасное в этих книгах – это, конечно, "послушание" всякой советчине. От одной выписки не могу удержаться: "…ничто так не отвращает от религии, как личный – особенно камерный – контакт с верующими" (стр. 68).
Книга Jean Cau "Les Ecuries de l'Occident"
[60] . Много очень верного о гниении Запада, о коренной лжи всякого эгалитаризма и гуманизма и т.д. Много также неверного. Отсутствие измерения внутренней жизни. Всегда – история, власть, сила или биение себя в грудь… Но основное верно. Исчезновение в мире "sursum corda"
[61].
Все эти дни – пасхальные Литургии и крестный ход. Пасха как "вечность". Повторение неповторимого.
Прочел интересный сборник (перепечатанный с самиздатовского издания) – "Август Четырнадцатого читают на родине".
Понедельник, 7 мая 1973
В субботу, после последней пасхальной Литургии, уехали, как в прошлом году, в Montauk Point – отдышаться. Ночевали в том же мотеле в Easthampton. Насладились неимоверно. Утром на скале около маяка. Океан. Солнце. Тишина. Завтрак в немецком ресторане на пристани в Sog Harbor.
В пятницу вечером Митя Поспеловский. Впечатление очень светлое. Что в эмиграции выросли все же такие "русские мальчики" – бесконечно отрадно и утешительно. Теперь профессором в Канаде, начинает академическую карьеру. Только бы не свихнулся в то мелкое честолюбие, всезнайство и мелочную суету, что так типичны для академической среды. Вот [cлучайно] купил за девяносто пять центов и лениво перечитываю "Пнин" Набокова. Как он верно подметил фальшь американского университета, карикатуры на Оксфорд, Гейдельберг и Сорбонну, но карикатуры дешевые. Диссертации, докторат, наука – тут все это вроде зажигалки, которую, не зная, что с ней делать, дикарь вешает себе на нос или на ухо и страшно горд. Эксперты без культуры, мешанина курсов, которые студент выбирает, как овощи на базаре. Библиографии, душный, затхлый воздух "департаментов", напичканных гениями…
Считаешь дни – до Пасхи, до конца учебного года, до блаженного отъезда в Labelle… Если бы вот так, с таким же ожиданием, надеждой, радостью – считать дни до "невечернего дня". А тут – страх, уныние…
Понедельник, 14 мая1973
"Principles are what people have instead of God…"
[62]"Религия". Чего только не покрывает это слово! Думал об этом, думая о двухлетнем уже "несении" М.М., ничем не замечательной средних лет американки, которую я вижу каждые две-три недели, как ее "spiritual father"
[63] . Она хочет жить духовной жизнью, но, Боже мой, какая все это мелкая сосредоточенность на себе, как все – муж, сын, соседи, все – ей мешают, как она слепа ко всему окружающему. Какая-то глухая, слепая лейбницевская монада. Так серо, так скучно! И такой же была уже покойная мать С. Что их притягивает или, вернее, чего компенсацией в их жизни является религия?
Скандал в Вашингтоне (Watergat
[64]). И одновременно – книга M. de Lombieres "L'affaire Dreyfus. La cle du mystere"
[65] . Страшна религия. Но страшно и все "в себе" – эта, по-видимому, неутолимая жажда власти. Настоящая смертельная опасность только одна: это без остатка быть уловленным каким-то engrenage
[66] "мира сего" – властью, деньгами, страстью, религией… Отсюда необходимость знать, сознавать, во главу угла всего внутреннего мира поставить: "проходит образ мира сего…"
[67] . Вне этого все – узость и теснота", мрак, мучение, и какое мучение! Нет большего мучения, чем "Я". Поэтому таким успехом пользуются все религии, построенные на мнимом освобождении от "я", всякая ориентальщина. Однако христианское отречение от себя совсем иного порядка. Потому что там, в ориентальщине, человек отказывается от "я" все же по соображениям эгоистическим, чтобы не страдать. Здесь же, сразу за предложением отречься от себя, следует призыв взять крест свой и нести его, то есть, в сущности, страдать. Но тут все в любви к Богу, тут все в отказе от "религии" как самоутешения, самоутверждения и т.д. Поэтому и само страдание становится, может становиться – радостью.
"Надо понять…" Достигаешь момента, когда так ясно становится, что понимать-то, в сущности, нечего. Что все "сложности" ("он такой сложный человек, его нужно понять…") суть сложности мнимые. Все это туман, разводимый нами, чтобы не оказаться лицом к лицу с одной реальностью – греха. "Проблемы" современного сознания, молодежи и т.д. Два и только два источника греха:
плоть и
гордыня . И человек все стремится прикрыть это "сложностями", и выходит красиво и глубоко ("у него большие трудности…"). И всегда есть услужливые "духоносцы", готовые помочь в этих трудностях "разобраться" и проблемы "разрешить". Плоть и гордыня: "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская…"
[68] . И потому в ключе "проблем" и "трудностей", в ключе этих бесконечных обсуждений, шептаний на скучнейших исповедях, всех этих интроспекций, морбидного
[69] самолюбования, в ключе всего этого – христианство не звучит и не действует. Фальши этой соответствует фальшь "пастырства", понимаемого как этот скучнейший американский "counseling"
[70] , религиозная терапевтика. Настоящая вера есть всегда возврат к простоте – радостной, целостной и освобождающей. Грешник может верить. "Трудности", "сложности" и "проблемы" – пошлейшее алиби самодовольного себялюбца. Ошибочность, ложь нашего современного богословия, построенного, как метод разрешения проблем и трудностей.
Пятница, 18 мая 1973
Все эти дни чудовищная суета, связанная с концом учебного года (завтра). В понедельник и вторник – в Техасе, на англиканской конвенции. Второй раз убеждаюсь в своеобразной красоте этой природы, ее грандиозной открытости, спокойствии. Точно погрузился в какой-то еще не разрушенный, космический лад…
106-й номер "Вестника". Масса материала. Но читаешь, читаешь – и вспоминаешь слова Паскаля: "Je ne crois que les temoins qui se font egorger"
[71] . Как хочется тишины, бегства от этого болтливого христианства, насквозь пропитанного мелкими и болезненными самолюбиями…
Мрачная, грязная пропасть Watergate.
Ужин оканчивающих студентов и их жен: в общем, милые парни…
Пятница, 25 мая 1973
Перечитывал с наслаждением дневник моего любимого Julien Green. Он пишет: "Sans la communion, la vie change et la foi s'en va. C'est a peu pres sans exception"
[72] (p.14). Как верно! Вот уже два дня радость, что завтра буду служить Литургию. Что еще интересно в Церкви?
Дни академической суеты. Маленький мирок, но сколько в нем страстей и страстишек!
Еще из Green'а (цитата из T.S. Eliot): "Ou est la sagesse que le savoir nous a fait perdu? Ou est le savoir que nous avons perdu par l'information?"
[73].
Один дома (Л. в Spence
[74] на спектакле). Слушаю "Тебе одеющагося светом яко ризою…". Всегда прямо в душу: "Увы мне, Свете мой…"
Вчера у Трубецких в Syosset.
Понедельник, 28 мая 1973(Memorial Day)
Два дня в Bridgehampton, у Небольсиных, с двумя Аниными старшими детьми. Всегда там вспоминаю о чудных днях, проведенных там каждый июнь с 1952 по 1957 гг. Океан. Дюны. Морской ветер. Это были страшно трудные годы, но Bridgehampton остался весь солнцем, счастьем, красотой мира. Продолжал там Julien Green'а, дневник, одну из самых, пожалуй, любимых моих книг.
Дом Небольсиных построен в 1710 или 1730 г .! Наслаждение от этих комнат, камина, всей жизни, тут прошедшей.
Paul Valery: "On ne peut pas sortir de l'ombre, meme un peu, sans exciter la haine de beaucoup"
[75].
Думал опять об основном или предварительном вопросе, о котором богословы не думают или который, возможно, они считают разрешенным. Это вопрос о том,
что мерит что… Даже богословие, даже православное богословие, в конечном итоге, критерием веры считает разум, во всех его "оформлениях": историзм, экзегеза (научная), философия, психология… Считает даже тогда, когда очень ловко борется с "рационализмом". И пока это так, мы не выходим из порочного круга. Именно об этом пишет Green: "Perdre le sens du mystere de Dieu est plus frequent qu'on ne croit. Bien des chretiens mettent a la place de Dieu une idole qu'ils appellent Dieu, qu'ils fabriquent de toutes pieces et qu'ils adorent en toute bonne foi"
[76].
Когда Бог трогает душу – ничего не надо, но ничего и "доказать" нельзя. Два, три раза в жизни, [в корпусе] в марте 1934 или 1935 года (четырнадцать-пятнадцать лет). После службы, на "плацу". В те же, приблизительно, годы в Экзенском лесу, в Лазареву субботу (гулял с о. Шимкевичем). В Великую Субботу, о которой, кажется, писал уже в этой тетради. Действительно – свет и радость и мир, но что же к этим словам можно прибавить? Не читать же об этом лекции.
Понедельник, 17 сентября 1973
Тетрадка пролежала все лето в столе. Чудное лето. Все более остро, почти как-то мучительно любимый Labelle. Три недели с Андреем. Поездка в Квебек. Утро с Льяной на [озере] Lac Grand Cache. Дети. Внуки. Потом короткая поездка в Швейцарию и Париж (вторая в этом году: две недели в Париже в июне в связи со съездом РСХД
[77]).
Теперь – back to normal
[78]. Семинария. Суета. Но и предосенние, изумительные дни…
Сегодня: 1. завтрак с Бродским – нужно будет записать.
В Париже 2. встречи с Синявским и Паниным.
Поездка с Андреем в [деревню] Fontenailles – в первый раз с 1933 года!
Церковь в Moisenay.
Пятница, 21 сентября 1973
Кончил читать Chronicles of Wasted Time, Malcolm Muggeridge
[79] . Редко, совсем редко книга давала мне такое удовольствие! Согласие почти со всем. Читая, думал о том, почему с одинаковым удовольствием я читаю верующего Muggeridge и неверующего Leautaud. У обоих то же качество честности с собою, с людьми, с жизнью. Отсутствие той фальши, пронизанность которой религии, христианства, церковности меня все больше и больше отвращает. Все это псевдоглубина, псевдопроблемы, псевдодуховность, все эти претензии на высшее понимание! Все эти словоизлияния!
Четверг, 27 сентября 1973
"Встречи с Пастернаком" Александра Гладкова с довольно интересным разносом "Доктора Живаго". "О поэтах и поэзии" В.Вейдле (с милой надписью). В трех номерах "Нового русского слова" – статьи Корякова обо мне (мой спор со Шпиллером, "Вестник" 106) – непонятные и, по-моему, фальшивоватые, несмотря на сладость.
Каждый сентябрь думаешь, решаешь: устрою жизнь по-другому, без суеты, без нервной трепки, устрою ее с каким-то ритмом, с прослойкой тишины, работы, сосредоточенности. И вот только три недели – и уже все пошло прахом: суета в семинарии, суета в церкви, телефоны, свидания. День за днем уничтожается всем этим. Сегодня, в отчаянии, сказался больным и не пошел никуда. А тогда – угрызения совести…
Отвратительный осадок на душе от вчерашнего [собрания] faculty
[80]. Прочел мой memo – с попыткой "диагноза" наших ошибок, постепенного превращения семинарии в поверхностную псевдоинтеллектуальную graduate school
[81]. Полное непонимание. Чувство тупика: с одной стороны, извне семинарию отождествляют больше всего со мной ("шмеманария"), с другой, внутри, – чувство полного бессилия изменить направление, которое я считаю губительным. Так же и во всем другом: Русская Церковь (поездка этим летом И.М. в СССР, его оценка, его тактика), наши собственные церковные дела. Ничего не делается
без меня, моего согласия и одобрения (отсюда страшная суета и мучительное чувство ответственности), а вместе с тем я – на глубине – в сущности
не согласен и
не одобряю, и не умею это выразить в том плане, на том уровне, в которых все это развивается. Чувство полного одиночества среди будто бы единомышленников. Невыносимость этого положения. Л. говорит: "Ты всегда на все соглашаешься". Увы, это и правда, и неправда. Душой кривил я мало – ругался вовсю и с епископами, и с церковью, и с кем угодно, когда другие помалкивали. Поэтому согласие мое не от малодушия; гораздо чаще либо от боязни уж чересчур огорчить, либо от невозможности put across
[82] то, что я по-настоящему чувствую. "Что же вы хотите взамен?" – Не знаю, не уверен.
Иногда мне думается, что каждый человек призван сказать или сделать что-то одно, может быть, даже и маленькое – но подлинное и то, что только он призван сказать или сделать. Но жизнь так устроена, что его вмешивают во все , и тогда он теряет себя и свое и не исполняет своего призвания. Он должен все время делать вид, что он действительно все понимает, все может и обо всем имеет что сказать. И все становится поддельным, фальшивым, показным.
Я уверен, например, что я не призван ни к какому личному руководству людьми. Нелюбовь к "интимным" исповедям, ко всяким личным излияниям. Когда я исповедую, у меня всегда чувство, что это не я, а кто-то другой и что все, что я говорю, – безличные прописи, не то, совсем не то. Но от священника ждут, требуют такого руководства, в нем видят суть священства. Может быть, я страшно ошибаюсь, но я как-то никогда не видел никакой особой пользы, вокруг себя, в Церкви – от этого духовничества. Напротив, видел всегда скорее вред: потакание эгоцентризму, тонкой духовной гордыне (с обеих сторон), какому-то сведению веры к себе и своим проблемам. Суть христианства мне всегда, с детства, представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их , переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, они потому и есть, что они неразрешимы. Поэтому христианство есть всегда проповедь – то есть явление того, другого, высшего плана, самой реальности, а не объяснение ее… Мне скажут: а старчество, которым так модно сегодня заниматься? Возможно, даже наверное, что старчество есть особое призвание в Церкви, не совпадающее со священством, с пасторством как таковым. Но ведь и это призвание, если всерьез принять все то, что мы о старчестве знаем, совсем не в этом вот интимном духовничестве, не в объяснениях и разрешениях проблем, а в том же явлении самой реальности. И потому так опасен псевдостарец, столь расплодившийся в наши дни и сущность которого в духовном властолюбии. На это псевдостарчество толкает сама система, делающая из каждого священника "духовника" и маленького "старца". В Православной Церкви почти уже нет монахов, которые бы не считали своим священным долгом через два года после пострига писать трактаты об Иисусовой молитве, о духовности и об аскетизме, учить "умному деланию" и т.д. Нет и священников, которые бы не считали себя способными в пять минут разрешить все проблемы и наставить на путь истинный…
Лично я вообще бы отменил частную исповедь, кроме того случая, когда человек совершил очевидный и конкретный грех и исповедует его, а не свои настроения, сомнения, уныния и искушения. А что же делать со всеми этими обычными "состояниями"? Я убежден, что подлинная проповедь есть всегда (о чем бы она ни была) одновременно и ответ на них, и их исцеление . Ибо она всегда есть проповедь о Христе, а все это "снимается" только Христом, знанием о Нем, встречей с Ним, послушанием Ему, любовью к Нему. Если же проповедь не есть все это, то она и вообще не нужна. И сила ее в том, что подлинный проповедник и к себе обращает проповедь – на свое уныние, маловерие, теплохладность и т.д. И что же к этому могут прибавить разговоры?
Поразительно, как люди, "интересующиеся духовной жизнью", – не любят Христа и Евангелие. И понятно, почему: там ничего не сказано о "духовной жизни", как они ее понимают и любят. Где это я читал, что именно о такой духовности притча Христа об очищенной клети, занимаемой еще худшими злыми духами? Грешник кается и обращается. Лжедуховный осужден на гибель: это и есть хула на Святого Духа. Как все это страшно! Я со всей силой ощущаю, что одна из главных опасностей всегда и всюду – псевдорелигия, псевдодуховность… Вообще "псевдо" (псевдобогословие, например…).
Еще хочу записать:
Поездка в Fontenailles
[83] с Андреем во вторник 4-го сентября. Выехали из Парижа в одинадцать утра с владыкой Александром (Семеновым-Тян-Шанским), которого должны были завести [в монастырь] в Moisenay. День как на заказ: солнце, чудное голубое французское небо: "dans la lumiere de l'ete"
[84] … В Moisenay не был с лета 1943 г ., которое мы провели там с Л., ожидавшей Аню. Поразителен храм, построенный почти собственноручно о. Евфимием, - первое чувство: вот тут бы служить! Действительно, храм-эпифания
[85] . Оставили Владыку и поехали в Fontenailles (двадцать-двадцать пять километров), где провели три лета (1929, 1930 и 1932). Погружение в детство, как в абсолютно чистую, беспримесную радость. Поля. Дорога, все еще обсаженная старыми деревьями. Завтрак в La Chapelle-Gauthier, в средневекой auberge
[86] , с метровыми столами, с такой, почти "вкусной", прохладой. Потом еще семь километров – и въезжаем в Fontenailles. Почти все так же, все то же. Только вот нам пятьдесят два года! Ощущенье одновременно и страшной реальности времени, и его призрачности: "как будто все, что было и прошло, уже познало радость воскресенья…"
[87] . Заехали на пруды, где купались когда-то; с ними связано у меня воспоминание праздника. Чудная поездка, и все время чувство полного единства с Андреем, абсолютного общения в том же. Чистая радость.
Разговор с Бродским в ресторане две недели тому назад. Об абсурде как основном чувстве – и в религии. Я: "Где абсурд, там никакого христианства нет и быть не может". Три струи в религии: безличная пантеистическая (одинаково чуждая и мне, и ему), трагическая – a la Шестов, Лютер, Киркегор, которая ему нравится, его привлекает; "благодарственная", та, что я защищаю. "Ведь и Ваша поэзия – благодарственная". Он соглашается. "Но в поэзии я не говорю, не выражаю всего…" Я: "Да и никакой поэзии из абсурда не вышло бы". Он снова соглашается. Надо было уходить. Сережа (он был с нами) вечером, по телефону: "Ты его почти обратил…"
Прочтя четырнадцать (!) больших томов "Journal Litteraire" Leautaud: странное чувство – словно я как-то перед Богом лично ответственен за этого удивительного и почему-то мне бесконечно милого безбожника, развратника и писаку. Почему я устаю вчитываться, вглядываться, вживаться в эту жизнь? Почему с Leautaud мне хорошо? Зимой, в Париже, был на выставке, ему посвященной, в Arsenal. Откуда это волнение – в совершенно пустой зале с его креслом, рукописями, книгами? Почему из всего этого мне что-то определенно "светит"? Словно, читая его, я делаюсь проще, чище, спокойнее, скромнее. Может быть, противоядие от всякой фальши?
Вторник, 2 октября 1973
Все эти дни – в лихорадочной работе. Мой memo коллегам, занимающий меня изнутри. Лекция о marriage and sexuality
[88] (сегодня вечером), которую думал "продумать" в сорок минут и которая съела весь день вчера. Чувство какого-то наплыва сил и вдохновения. Может быть, из-за борьбы?
Среда, 3 октября 1973
Головная боль, должно быть от переутомления вчера. Идя из семинарии, вдруг так отчетливо вспомнил мой "кризис" 1935-1936 гг. (значит, [мне было тогда] четырнадцать-пятнадцать лет). Кризис заключался в чувстве смерти. Не в страхе смерти, а именно в ее чувстве. Как можно жить, зная, что всё и все умрут? Кажется прописью и банальщиной, но вот несколько месяцев я буквально не жил. Помню, на Clichy, за столом, не хватало сил дальше слушать разговоры. Уходил в другую комнату и, смотря вниз, на av. de Clichy, пребывал в какой-то ужасной, страшной, черной дыре. Также в Villejuif, в больнице, где мне делали вторую операцию в июле 1936 г . Это описать невозможно, но: не отчаяние, не страх, а именно страшное противоречие: вот – дома, люди, жизнь, и все это уже "смертно". Но такого страдания я не испытывал ни до, ни после, никогда. Потом вдруг "оставило" и уже больше никогда не возвращалось. И сейчас – помню не содержание, а ужас этого состояния. И это, может быть, единственное время в моей жизни, когда я по-настоящему молился. Иногда мне кажется, что это действительно было прикосновение смерти, ноябре 1935, когда у меня был перитонит, я выжил, если не чудом, то, так сказать, in extremis
[89] , – мне это говорил сам хирург Маршак. Смерть тронула и отошла. Не знаю. It makes sense
[90] – но вот "покры мя тьма". Как должны мы, в сущности, сознавать все время, что эта тьма реальна, что она тут, готова нас поглотить все время и что Бог действительно спасает нас от нее. Тогда я молился о спасении, ни о чем другом, ибо чувствовал, что долго этой тьмы не выдержу. Злая сила…
Сегодня утром после утрени разговор с новым студентом: униат, "умственно" уже обратившийся в православие, но мучающийся о том, как поступить, о "своих" и т.д. Объяснял ему мое убеждение в трагизме униатства: потеряли православие, не стали католиками. Как часто, поэтому, ошибочно их обращение – если они идут, например, к карловчанам
[91] , так это именно от их "католического подхода к православному обряду". В Православии ищут того рабства, которое ослабело в Католичестве, но в котором всегда жило униатство – рабство обряду, рабство легализму… Советовал не торопиться – ждать внутреннего мира свыше.
Эти дни – Послание к Галатам. Какая религиозная гениальность! Им одним можно заменить целый год изучения богословия. Начал книгу J. Lacouture об Andre Malraux (Une vie dans le siecle)
[92]. Первое впечатление: величина дутая…
Понедельник, 8 октября1973
Еще книги, прочитанные летом: E. Morin, "Le paradigme perdu: la nature humaine; R. Aron, Histoire et la dialectique de la violence; Julien Green, Qui sommes-nous"
[93]. Каждая, хотя и отлично от других, вызвала работу мысли: чтобы сохранить веру, лучше читать серьезных агностиков, чем богословов…
Продолжаю Lacouture о Malraux. Впечатление все то же: дутая величина.
Думал сегодня: западное богословие как целое, как предприятие – рухнуло, разбилось на куски. Осталась научность – уже никуда не ведущая, и дешевые клоуны: Harvey Cox, Hans Kung и tutti quanti. О чем с ними можно "диалогировать"?
В субботу – Льяне пятьдесят лет! Целая жизнь, и какая счастливая жизнь, вместе!
В субботу же Education Day
[94] : солнце, прохладно, масса народу. Литургия в палатке. Четыре архиерея. Суматоха, но и какая-то праздничная радость. Столько народа стоит три часа и молится и хочет этого! Это для меня и есть Церковь. Тут все решается: в этом контакте с реальностью Присутствия. Чудная проповедь о. Павла Лазаря. Вечером у нас двадцать пять человек: Бутеневы, Озеровы, Апраксины, Трубецкие…
Война – опять! – на Ближнем Востоке. Интерес почти как к спорту. У меня нет симпатии – глубокой, человеческой – ни к арабам, ни к Израилю. Тип конфликта насквозь "фальшивого", в ложной и отвратительной риторике построенного. Ирландцы, арабы, евреи… Не говоря уже о наших вождях. Жулики в Вашингтоне (Watergate!). И все эти вожди некогда великих государств, ждущие, как милости и вершины признания, быть принятыми Мао! Мой сосед, все утро стригущий свои кусты, кажется мне верхом человечности на фоне этого убожества. Вчера по телевизии – стычки арабов с евреями в Нью-Йорке. Что за лица! И речи представителей какой-то Upper Volta
[95] в ООН. Какая все это безобразная, мелкая, никчемная чепуха. И христиане, жаждущие во все это погрузиться. Повторяю: интерес, как к матчу бокса.
Вторник, 9 октября 1973
Письма, письма, груды писем! Неотвеченные с июня, которые, конечно, останутся неотвеченными. Много для всего нужно времени и спокойствия, и ни того, ни другого никогда нет. Вечная из-за этого "забота" на душе. Боязнь стола. Боязнь этих папок, что ездят со мной из Нью-Йорка в Labelle и обратно.
Завтрак сегодня с Зораном Милькович (по делам семинарии). Разговор о войне на Ближнем Востоке. Как, должно быть, душевно легко людям, которые всегда с такой необычайной простотой и легкостью знают, за кого они и против кого. Мне иногда кажется, что за всю свою жизнь я никогда не был стопроцентно на какой-либо стороне, в каком-либо лагере. Отвращение от этой "стопроцентности". Большинство людей все время делают вид, что они знают, понимают и имеют мнение. Обычно же они не знают и не понимают.
Вчера кончил книгу о Malraux. Последнюю часть (resistance, De Gaulle
[96] и т.д.) читал все-таки с волнением.
Четверг, 11 октября 1973
Вчера на "Андрее Рублеве" в Lincoln Center. Очень ждал этого фильма после восторженных похвал владыки Александра Семенова-Тян-Шанского и Никиты Струве, людей несомненно со вкусом и внутренним слухом. Увы, разочарование. Фильм меня ни разу по-настоящему не увлек, не вовлек в себя. Понимаю и "целую" все благие намерения Тарковского, но avec de bonnes intentions on fait de mauvais films
[97] . Весь его (то есть фильма) символизм уж так интенсивно преподнесен и навязан, уж так все время видны детали, узорчики (смотрите, мол, какая у меня импрессионистическая техника…): хвост лошади и ее зад минуты на две! Жестокость, поданная немного как в Grand Guignol
[98] . Отдельные удачи несомненны, талант налицо. Но в целом, по-моему, неудача. Искусство, особенно же зрительное, требует "синэргизма", участия и даже причастия зрителя. Тут все разжевано, подано, переварено – но зритель остается вовне. В театре – сотни знакомых. Мы с Сережей быстро удрали после окончания фильма, но я заранее слышал все эти "потрясающе!".
Пятница, 12 октября 1973
О.Евфимий Вендт: "Острое отталкивание от всех мировоззрений, сделанных ученостью, а не видением…" (цит. о.Геннадием Эйкаловичем в его статье об о.Евфимии в "Вестнике" 107, стр.93).
Людей незачем обращать к Христу, если они не "обратят" своего восприятия мира и жизни. Ибо и Христос оказывается "символом" только того, что мы и без Него любим, чего и без Него хотим. И такое христианство еще страшнее агностицизма и гедонизма. И потому христианский "активизм" в пределах теперешнего "мировоззрения", ощущения жизни – так ложен и даже отвратителен.
Богословы связали свою судьбу – изнутри – с "ученостью". А им гораздо более по пути с поэтами, с искусством. И потому богословие стало пресной академической забавой, не нужной никому ни в Церкви, ни вне ее. Только вот поэзия, подлинная, трудна, а "ученость" бесконечно легка – "…автор хорошо усвоил литературу предмета…". Современный богослов в религии приблизительно то же самое, что "литературовед" в искусстве: какой точно нужде они отвечают?
"Декан", "протопресвитер", "профессор": иногда (особенно, вот, в такое одинокое солнечное утро, как сегодня) острое чувство, что все это не имеет никакого отношения к моей личности. Между тем почти только этим определяются 90% моей жизни, общения с людьми и т.д. Снимая маску, "шокируешь" людей: как это он стал самим собой? А маской исправляется все: и то, что говоришь, и то, что делаешь. И как легко растворить личность в маске и полюбить эту маску…
Понедельник, 15 октября 1973
Два дня в Labelle, где почти все листья уже осыпались и все сквозит, и над всем ставшее таким огромным небо. Так хорошо, так прекрасно, чисто, глубоко!
Прочел там страшную книгу: воспоминания жены P. Tillich'а о нем ("From Time to Time"). Что это за ужас, дешевка, грязь, разложение! Чтобы почувствовать это разложение, достаточно прочесть: "I was eager to become a human being, but what set me on fire was the spirit and the mind. Heinrich (любовник!) was responsible for my becoming as human as I ever became. Paulus was the fulifillment of my cosmic-mindedness. We were both exposed to demons. I struggled against my id, which wanted to destroy my rational self-awareness. Perhaps, my salvation was that I fought for a conscious personal self, though I always felt in danger of becoming the matter on which another person's mind fed… Paulus was a cosmic power…"
[99] . Когда целая цивилизация начинает говорить таким языком, что делать? Я прочел в свое время много Тиллиха и помню его лично (экзаменовал меня в Union
[100] в 53-54 гг.). И уже тогда думал: безбожное, демоническое богословие…
Хорошее письмо из Англии от Пети Скорера (его будут рукополагать 28-го в дьякона) о "неуловимом" в Православии и потому самом важном.
Продолжаю с огромным интересом читать книгу R. Byrnes о Победоносцеве. Какая трагическая, какая уродливая судьба – не его только, но и всей России. Своеобразная прозорливость – в обоих лагерях – в отрицаниях и полная слепота – в утверждениях.
Среда, 17 октября 1973
Из дневника Бунина ("Новый журнал", 112, стр. 219): "За мной семьдесят лет. Нет, за мной ничего нет".
Письмо от Н. Струве. Разговор по телефону с Бродским.
Кончил книгу о Победоносцеве: как все это страшно, как близко религия, "религиозные убеждения" – к демонизму. И как легко ею оправдать все что угодно. "Правота" Флоровского, "правота" Победоносцева. Это все та же "правота" – людей, никогда не усомнившихся в себе, правота гордыни, мелочности, страха.
Пятница, 19 октября 1973
Вчера письмо-приветствие из Парижа, подписанное Андреем, Петей, Репниным, Винтером, Нестеровым и Траскиным (кадеты). Чуть ли не половина нашего "первого взвода" в Villiers-le-Bel тридцать пять лет тому назад! Чарнецкий и Бекич умерли. Кирилл Радищев погиб. С Сережей Исаковым контакт оборвался. Другие всегда были "периферичны". Винтер и Нестеров прошли через все ужасы войны, плена, увечий. Все прожили такие разные жизни! А вот встреча – радость, пожалуй, неразрушимая. Коля Нестеров приписывает: "Приезжай ко мне в Берлин…"
"Проклятие труда". Но многие, если не большинство, погружены в бешеную деятельность, потому что боятся остаться лицом к лицу с жизнью, с собою, со смертью. Потому что им скучно , а скука – это царство дьявола. Скучно и страшно – вот они и оглушают себя деятельностью, идеями, идеологией. Но сквозь все в "мире сем" просачивается все та же скука и страх. Тональность нашей культуры: оптимистическая деятельность со зловонными испарениями страха и скуки. Без Бога – "все позволено", но это "все" – бездонно страшно и скучно. И потому первый долг в Церкви: отказаться от какого бы то ни было участия в самой логике, самой тональности этого мира. Мир нельзя "просвещать", не отвергнув его сначала en bloc. Но для этого в современном христианстве нужно много мужества и духовной свободы: не поддаться на удочку "понимания", "involvement", "служения миру".
Война на Ближнем Востоке. И все кричат, включаю Папу, о "just and lasting peace"
[101] . Но откуда ему взяться? Его отродясь не было на земле. Арабы ненавидят евреев. Евреи ненавидят арабов. Вот это единственная правда, и между ними все больше и больше крови. А другие? По телевизии показывают, как американские танки евреев атакуют те же американские танки арабов. И этим все показано. И даже из телевизора идет удушающий запах нефти. А вся болтовня о "праве" – Израиля на существования, арабов на Палестину – все это чепуха. Евреи пришли и взяли, сказав: "Это наше право". А до них арабы пришли и взяли. А до них турки, Византия, Финикия и т.д. И у всех "права". А вопрос всегда и только в силе…
Суббота, 20 октября 1973
Вчера после обеда – у Нератовой, вдовы Анат. Ал. Абрамова-Нератова, иконописца и архитектора, скоропостижно скончавшегося этим летом. Они, а теперь она одна, начали иконостас для церкви в Вашингтоне (которую он строил), а из Вашингтона запросили о моем мнении. Я никогда не любил особенно его икон (за исключением алтарной апсиды в Сиракузах). Вся философия Абрамова была построена на точном "списывании" с прошлого, с древности, списывании не только "что", но и "как". Органическое мировоззрение, непромокаемое для свободы, для "дыхания" и веяния Духа. Конечно, буду рекомендовать, тем более что было в нем (и есть в ней) что-то высокое, скорбное, бескомпромиссное. Но душа к этой иконописи не лежит.
Как изумительна была поездка по Taconic Parkway в солнечном пожаре осенней листвы. Я думал: почему мы знаем, что кроме "мира сего" – падшего и во зле лежащего – есть, несомненно есть иной, чаемый? Прежде всего через природу, ее "свидетельство", ее раненую красоту. И мне совершенно непонятно и чуждо искушение какого бы то ни было пантеизма. Все свидетельство, вся красота природы – об ином, о Другом.
Богословие изучает Бога, как наука изучает природу. Без "тайны".
Понедельник, 22 октября 1973
Вчера вечером ужин у Сережи и Мани с Бродским и его приятелем, художником Юрием Куперманом. Резкость суждений Бродского: "Keats – г….!, Пруст – единственный французский писатель…" Может быть, от внутренней неуверенности. Но мое впечатление: так же как Синявского, покойного Кишилова и всю эту "группу" тянет на некое психологическое "славянофильство", Бродского тянет на какое-то органическое место в западной культуре. Там – чуть-чуть перетянутое сопротивление. Здесь столь же перетянутое притяжение. И каждый и в России, и на Западе любит лишь то, что кажется ему "созвучным". Дал мне несколько новых стихотворений для "Вестника".
После ужина и глубоко в ночь – передача экстренного заседания Совета Безопасности. Какая это чудовищная фальшь!
До этого весь день за столом, в полной тишине и одиночестве (Л. у Сережи и Мани, которая заболела).
Четверг, 25 октября1973
Muggeridge, p. 133. "The saddest thing to me, in looking back on my life, has been to recall, not so much the wickedness I have been involved in, the cruel and selfish and egotistic things I have done, the hurt I have inflicted on those I loved – although that's painful enough. What hurts most is the preference I have so often shown for what is inferior, tenth-rate, when the first-rate was there for the having… "Nothing is so beautiful and wonderful, nothing is so continually fresh and surprisingm so full of sweet and perpetual ecstasy as the good" – Simone Weil writes. "No desert is so dready, monotonous and boring as evil." True; but as she goes to point out, with fantasy it is the other way round – "Fictional good is boring and flat, while fictional evil is varied and intriguing, attractive, profound and full of charm"…"
[102].
Пятница, 26 октября1973
Muggeridge об Andre Gide: "I had a strong sense of something evil in Gide; not just in the way everyone has evil in them, but in a particular concentration that canbe easily attractive as well as repellent. This prevented me from truly appreciating his company… To believe in evil today is not considered permissible, or, if this evil is allowed to exist, it tends to be elevated, as having some inherent creativity, beauty, joyousness of its own. Yet what I saw in Gide was the terrible desolation of evil, the total alienation from the principle of goodness in all creation; he seemed to be imprisoned in darkness, like someone walking in a strange room and looking in vain for a switch, or a door, or a window… When I thought of his grey, cold face, and his exquisite words rising out of it, like a clear spring out of a stony ground, it seemed more than ever fitting that the Devil should be a fallen angel…"
[103].
Четверг, 1 ноября 1973
Все эти дни завален работой, заседаниями, собраниями. Но чувство внутреннего спокойствия и бодрости, и это несмотря на все неприятности. Может быть, потому, что на глубине души – писание Confession and Communion
[104] , и эти мысли вдохновляют…
Вчера, по просьбе Russian Institute в Колумбийском университете прочел большую диссертацию какой-то Bernice Roenthal о Мережковском. Умно и дельно написано. Боже мой, сколько было в этом "серебряном веке" – легкомыслия, дешевых схем, ложного максимализма. Да, возможно, "веял над ними какой-то таинственный свет, какое-то легкое пламя…"
[105] . Но сколько и соблазнительного!
Думал недавно: в сущности, наше время, наши "установки" знают четыре позиции, четыре типа отношения ко всему, четыре мироощущения. Это (слева направо) – радикал, либерал, консерватор и реакционер. Но что делать тому, кому одинаково противны, более того – глубоко омерзительны и узколобый фанатизм радикала, и бескостное всепонимание, всеприятие и поверхностность либерала, и глупость консерватора, и нравственная подлость реакционера?
Пятница, 2 ноября 1973
Вчера вечером – "Дневник" Katherine Mansfield, правда, не очень вчитываясь. У меня чувство, что я чего-то не понимаю, не слышу в англосаксонской "тональности". С одной стороны, она как будто гораздо "духовнее" французской, с другой же – именно сама эта "духовность" меня как-то не убеждает. Что-то вроде тумана, и неясно, есть ли за ним что-то. В дневнике убедительны ее болезнь, страдания физические. И как-то не трогают ее искания (завершившиеся, увы, Гурджиевым и Fontaineblau!). Мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь, что англосакс легко поддается на дешевку, и именно духовную дешевку. Мир духовного сектантства. Англосакс слишком легко отказывается от рационализма, не платит за это слишком дорого. Но потому и интуиция его, и даже мистика тоже не слишком дорогие…
Вечером же, может быть в виде "антидота"
[106] , – несколько страничек из "Souvenirs d'Egotisme"
[107] Стендаля. Здесь – мир, как будто вообще лишенный вертикального измерения, но зато и реальный. Стендалевского человека не возьмешь на удочку "сублимации" и лукавого оправдания всяких "urges"
[108] религиозной двусмыслицей. Но этот скепсис в отношении мира, это называние всего своим точным именем, это декартовское опровержение иллюзии, словесного тумана и, потому, обмана – не ближе ли оно к христианской интуиции мира, чем неглубокая мистика, приведшая несчастную, замученную Katherine Mansfield к страшной духовной подделке Гурджиева?
Я глубоко убежден, что подлинное религиозное чувство абсолютно несовместимо ни с каким "украшением", ни с какими благочестивыми словесами. И когда христианство становится украшением, а не красотой, благочестием, а не верой, оно выдыхается.
Воскресенье, 4 ноября 1973
Двадцать семь лет с дьяконского посвящения, на rue Daru, митрополитом Владимиром. Самой службы почти не Фирсовским на Подворье
[109] . Помню серый, осенний день. Служили с митр. Владимиром: о.Киприан, о.Николай Сахаров, о.Тихомиров (водил меня кругом престола), о.Уваров. В алтаре был Фирсов – все умерли, умер – в прошлом году – и о.Фирсовский.
В субботу завтрак с Е.Н.Шуматовой, на берегу, Long Island. Изумительный день. Солнце, чайки, цвет воды. Какое-то сплошное ликование! На обратном пути заехали в Roslyn на кладбище, на могилу [родителей Льяны]. И это как-то тоже было в том же радостном ключе.
Сегодня такой же день. После обеда прогулка с Льяной по Крествуду
[110].
Вчера и сегодня – исповедники. Сколько грусти, одиночества, тупиков, жизненных неудач.
Весь день за столом с ужасом от количества того, что нужно сделать. Почему всегда этот ужасающий завал?
Среда, 7 ноября 1973
Грустные размышление о Церкви после заседаний в понедельник с Митрополитом и "администрацией". Мучительный вопрос: нужно ли это постоянное участие в усилиях, от которых, знаю, не придет "обновление" – а оно одно только и нужно. Что сейчас – время пророчества и "кризиса" или же смиренного "приятия" и бесконечного терпения? Можно ли в старые меха влить новое вино? И нужно ли?
Вчера в Radio Liberty
[111] В.К. Завалишин: "По Нью-Йорку ходят слухи, что вы переходите в зарубежную юрисдикцию!" (Это все из-за моего письма о патриархе Пимене в "Новом русском слове".) Я: "Скажите им, что слухи о моей смерти сильно преувеличены".
Страшное желание – и какое давнишнее! – уйти от всего этого. Завтра – именины папы и сорок лет со дня смерти (1933) ген. Римского-Корсакова. Моя первая сознательная встреча со смертью. Ужасный запах, когда мы несли его на простыне (из-за узости коридора) в церковь для положения во гроб.
Суббота, 17 ноября 1973
Всю неделю – с понедельника до четверга вечером – в Питсбурге на Всеамериканском Соборе. Страшная усталость, с одной стороны, а с другой – какое-то нечаянное, почти чудесное просветление. Еще раз прикосновение к тайне Церкви, и это не риторика, не преувеличение. Ехал на Собор с унынием, "безочарованностью": что хорошего из всего этого может выйти? И вот – в конце, после трех дней страшного напряжения (я опять председательствовал), вдруг ясно: жива Церковь несмотря ни на что, и сборище очень "маленьких" людей в нее преображается. Чудные службы. Сотни причастников, и главное, конечно, это какое-то общее вдохновение… Почти мистический парадокс нашей Церкви: она "держит" епископов (уставом, структурами, невозможностью для них, как раньше, безответственного произвола, оправдываемого "архипастырской" властью), но потому и сама "держится" ими: без них невозможно… Все это пережил очень остро, и все еще держится приподнятое настроение, созданное Собором. Чудо Святого Духа в американском Hilton'е!
До этого перечитывал (взял случайно с полки, но потом, как всегда, убедился, что здесь неизменно действует некий инстинкт: "попадается" то, что где-то, на глубине, нужно) книгу R. de Doyer de Sainte Suzanne "Alfred Loisy: entre le foi et l'incroyance"
[112] . Все это подсознательная работа мысли о богословии, о первичности
опыта . Автор хорошо показывает, что драма Луази не сводится к конфликту веры и науки, как всегда думают, как в начале думал и он сам. Он отверг рациональное богословие, а Церковь ему сказала, что это богословие и есть вера. Между тем – "avec une claret et une ferveur croissantes, il a affirme l'autonomie absolue de sens religieux, qui ne se situe ni dans la categorie du rationnel ni dans la categorie du sensible, mais qui se presente comme une realite qui en postule une autre, laquelle emerge dans l'homme, se manifeste a l'homme, mais n'en procede pas et sans laquelle tout devient inintelligible…" (p.177). Поэтому – "autant il avait mal supporte le regime intellectuel en vigueur dans l'Eglise, autant il s'etait trouve a l'aise dans le climat spirituel de l'Eglise"
[113] . Это я могу сказать – mutates mutandis
[114] – о самом себе.
В Питсбурге, в перерывах, и чтобы разрядить нервное напряжение Собора (в таких случаях нужно погружаться во что-то совершенно непричастное к актуальности, в которой живешь), читал Paul Claudel, "Memoires Improvises" (recueillis par Jean Amrouche). Все тот же climat spirituel de l'Eglise
[115] , какое глубинное здоровье и целостность христианства. И как вне его, или в его всевозможных подделках, все превращается в какую-то соблазнительную, тусклую и безрадостную путаницу.
Стр.218: "…tenir un Journal, se regarder, c'est le moyen le plus certain de se fausser completement… Les Grecs disaient – "connais toi toi-meme". Non, c'est une erreur complete, on ne se connait pas soi-meme!.. Personne ne se connait, c'est cela qu'il y a d'exaltant, c'est de se dire que tout homme est completement inconnu, et qu'il suffira de telle ou telle circonstance pour faire sortir des dons don't on n'a pas idee. C'est bien plus excitant que de se connaitre soi-meme! On connait quoi? Une momie, quelque chose de completement faux, d'artificiel! Ce n'est pas du tout interessant, tandis que de se considerer comme l'amorce d'un tas de choses passionnantes qui peuvent vous arriver de tous les cotes, et de se tenir dans un etat de disponibilite complete avec un mepris profound de soi-meme…"
[116].
О буддизме (стр.146): "…la methode est que le sage ayant fait evanouir successivement de son esprit l'idee de la force et de l'espace pur et l'idee meme de l'idee, arrive enfin au neant, et ensuite, entre dans le nirvana. Et les gens se sont etonnes de ce mot. Pour moi, j'y trouve l'idee du neant ajoutee a celle de jouissance. Et c'est la le mystere dernier et satanique, le silence de la creature, retranchee dans son refus integral, la quietude incestueuse de l'ame assise sur sa difference essentielle…"
[117]В пятницу 9-го – лекция в Греческой Семинарии в Бостоне, а потом вечер у милейших Померанцевых.
Письмо от Н. Струве (о стихах Бродского). Письмо от о. Николая Бер, из Англии, – в ответ на мой ответ епископам о литургической практике (Quarterly).
И все тот же золотой осенний свет, то же небо, та же заливающая сердце радость от всего этого.
Пятница, 23 ноября 1973
Книга Д. Панина "Записки Сологдина". Все тот же вопль: вот что происходит, происходило все эти годы внутри "цивилизации"!.. Ужас при мысли, что Запад умирает – духовно. Моральное безразличие. Равнодушие. Страх. Подлость.
Вчера -Thanksgiving Day
[118] у Ани и Тома, куда съехались все дети и внуки: 15 человек за столом, включая маленького Сашу. После обедни поехали на могилу Teillhard de Chardin в St. Andrew on the Hundson. Старую иезуитскую семинарию продали… American Culinary Institute!
[119] Кладбище осталось: ряды одинаковых могил отцов иезуитов, а среди них – ничем, абсолютно ничем не выделяющаяся могила Teillhard'a! Было пусто, тихо, солнечно. Поздняя осень. И это могила человека, вызвавшего столько и радости, и страстей. Никогда этого посещения не забуду. Оттуда на другую могилу – Рузвельта в Hyde Park. И тоже очень сильное впечатление. Довольно скромный, дворянский дом. Тот совсем особый уют, что живет в таких семейных городах, в этих парках. Музей: собственноручное письмо Сталина. И сразу пахнуло зловонием этой кошмарной, дьявольской казенщины, лжи, тупости. Этого "аристократ" Рузвельт не понял, не знал, на что он обрекает миллионы людей, отдавая их Сталину. Оттуда, наконец, все по тому же Гудзону – во дворец Вандербильта, построенный им в 1896 г ., отданный народу в 1940, после смерти миллиардера. Точно – полвека этой американской "легенды". Тяжелая роскошь всего этого, размах, непомерность. Красота всегда с обрыва над Гудзоном.
Claudel: "Je ne me suis pas fait chretien pour jouir plus on moins du sentiment religieux, d'une espece de volupte mystique. J'ai toujours en herreur de ca. Ce n'est pas pour ca que je me suis fait chretien… Je n'ai jamais eu l'idee de jouir de Dieu, d'en tirer une jouissance ou un plaisir quelconque…"
[120] (Mem. improv. 124).
Ждешь праздников, думаешь: вот спокойно, блаженно поработаю. Приходит праздник: вот такой абсолютно пустой день, как сегодня. И ничего не делаешь. Ужасная неохота писать. Собирал листья в саду. Перечитывал свою Литургию.
Понедельник, 26 ноября 1973
Вчера после обедни у нас И.О. из Оксфорда, милейшая и симпатичнейшая. Разговоры сплошь об их оксфордской церкви, о греках, о священниках, о той, одним словом, "церковности", к которой я все сильнее испытываю настоящую аллергию. Как можно всем этим жить? Да еще с таким упоением. Потом, по хладнокровном размышлении, понимаешь, конечно: нужна церковь, нужна вся эта черная работа и неизбежно все это "человеческое, слишком человеческое…". Но остается мучительный осадок и привкус. Больная религиозность. И все эти побеги – кто в Византию, кто в "Добротолюбие", кто на остров Патмос, кто в иконы… Православие сейчас – это что-то вроде супермаркета. Каждый выбирает, что хочет: эпоху, стиль, identification. Невозможность быть самим собой. Все "стилизовано" – при отсутствии стиля, который всегда создает единство. Грустное чувство: то, что мне в Православии кажется единственно важным и ценным, как-то мало чувствуется другими. А вся историческая чешуя привлекает и принимается с восторгом. "Дети, берегите себя от идолов!" Но иногда кажется, что само Православие заросло идолами. Любовь к прошлому всегда ведет к идолопоклонству, а только этим прошлым или, вернее, множеством "прошлых" православные часто живут. В них прочно сидит старообрядец.
Среда, 28 ноября 1973
Вчера – полуторачасовой разговор с Н. в Harvard Club о "воссоединении" с карловчанами. Разговор, конечно, бессмысленный и бесполезный, но наведший все на те же размышления: о Церкви, о Православии, о той мелочной и даже злобной каше интриг, самолюбий, амбиций, эгоцентризмов, в которой приходится в Церкви жить. Н. мелкий прохвост, не заслуживающий внимания. Но то, что такой человек мог "процвести" у карловчан, – крайне показательно. Делец, аферист и притом барон Мюнхаузен… "Зарубежная Церковь" – это почти символ той болезни, что характеризует современное Православие, того идолопоклонства, которое, увы, привлекает людей в "религии".
В прошлом году в эти дни Нью-Йорк весь сиял и светился рождественской иллюминацией. Вчера на Пятой авеню, под дождем – темно, темнее, чем в обычные дни. Погасли небоскребы, затемнены витрины. Energy crisis
[121].
Накануне вечером – перечитывал Чехова: "Душечка", "Архиерей" и т.д. Перечитывал с огромным наслаждением.
Переворот в Греции – и опять по телевизии какой-то архиерей в омофоре приводит к присяге нового диктатора. На Кипре Макарий низложил трех архиереев, а они – его. Споры о старом и новом стиле! Закрывать или не закрывать Царские Врата! Какой ужас. Какая все это жалкая карикатура. Нам говорят: святые. Но святые есть всюду и везде – в любой религии, любой идеологии. Они как раз, в сущности, "ничего не доказывают". Христианство не может быть манихейством. Демонизм святости без любви, а именно к такой святости стремится современный "духовный" человек.
От всего этого иногда страшное желание: быть свободным для жизни . А эта жизнь – жена и семья (времени нет), друзья (времени нет), природа (времени нет), культура (времени нет), и все это именно от Бога – дар , и к Богу – освящение , благодарность, путь, причастие… Жить так, чтобы каждый отрезок времени был полнотой (а не "суетой") и – потому что полнотой, тем самым – и молитвой, то есть связью, отнесенностью к Богу, прозрачностью для Бога, давшего нам жизнь , а не суету.
Пишу все это в своем кабинете, в семинарии, в тот единственный за весь день час – между утреней и лекциями, когда я почти физически ощущаю отсутствие суеты. За окном очень темное ноябрьское утро и все тихо. А потом до вечера – сумбур, а вечером – нервная усталость, невозможность "засесть" за что бы то ни было серьезное…
Понедельник, 3 декабря 1973
Книга S. Sulzberger (иностранный корреспондент New York Times) – "The Age of Mediocrity"
[122] . Семьсот страниц – о встречах и разговорах буквально со всеми вершителями судеб мира за последние годы: де Голль, Аденауэр, греческие полковники, Насер и т.д. Больше всего поражает то, что высказывания всех этих людей, держащих в своих руках жизнь и смерть миллионов людей, в сущности на том же уровне, что и любая болтовня о политике людей, читающих газеты. Сплошной guesswork
[123], конъюнктуры, ошибочные предсказания, parti-pri
[124] и личные амбиции. У всех без исключения! Под конец мне просто стало страшно: впечатление такое, что очень самолюбивые люди вслепую играют в какую-то азартную, опьяняющую их игру, завися в своих решениях от других таких же слепых людей, снабжающих их "информацией". Жажда власти и страх: больше ничего. Это мир, в котором мы живем. Панин в своей книге пишет о мобилизации "людей доброй воли". Но в том-то все и дело, что к власти приходят не они, а маньяки власти вроде де Голля (какая, в сущности, трагическая фигура!). Такая книга – вся о политических приемах, завтраках и интервью – куда страшнее, чем Кафка. Политически мир не продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И разница только в том, что современные чингисханы все время говорят в категориях "свободы", "справедливости", "мира", тогда как их предшественники честно говорили о власти и славе. И потому были гораздо "моральнее".
А пока они болтают и обсуждают "balance of powers"
[125], страшная, бездарная, кошмарная советчина побеждает: 1920 год: большевизм в России, его можно было смести и ликвидировать тремя дивизиями. 1945 год: он завоевывает пол-Европы и весь Китай, то есть полмира. 1973 год: он завоевывает Ближний Восток, Средиземное море, крепко держит в своих руках Индию. Де Голль вышибает из Франции американцев: сейчас только и говорят, что о "финляндизации" Европы. А "свободолюбцы" все волнуются о Греции, Испании и демократии тут и там… Что за идиотская слепота. И теперь гимны detente
[126] , то есть фактически еще одной, может быть последней, капитуляции…
Мне кажется иногда, что "новое средневековье" – в советско-китайском обличье – неизбежно. Современный мир – "свободный" в ту же меру, что "тоталитарный" – больше всего ненавидит иерархию, элиту. Потому что ненавидит всякую "вертикаль", само ощущение высшего и низшего. Мир возлюбил "низшее", но совсем не за "страдания", не из-за справедливости, а из подсознательной или сознательной ненависти к "высшему" – всякому без исключения, высшему. Диктатор – это приемлемо, потому что он "низший", в нем каждый узнает себя. Он всегда снизу (народ!), а не сверху. Христа возненавидели, в сущности, только за то, что Он "Сына Божия себе сотвори…", что Он – "низший", бездомный, смиренный – все время говорил, что Он сверху, а не снизу. Де Голль только потому и интересен, fascinant, что он – последний! – уверял себя и всех, что он "сверху". Только сам-то он знал – и в этом его трагизм, – что его "сверху" – "la France" – в психологическом контексте нашей эпохи отдавало простым комизмом. И потому в политике он был, в сущности, мелким интриганом и больше ничем. "The Last of Giants"
[127]– замечает Sulzberger по поводу его смерти. По самочувствию, по знанию, что власть, настоящая власть – всегда "сверху", да, на его похороны съехались решительно все, от Никсона до Chou en Lai: все знали, что в его лице в мире снова промелькнула власть "сверху". Но это была эмоция, почти эстетическая взволнованность: реально в это никто не верит, и психологически де Голль не сделал для Франции ничего, и сам это сознавал.
"Властью, от Бога мне данною…": когда это исчезнет в мире, мир превратится в концентрационный лагерь. Он и сейчас уже молится на метафизических пошляков a la Кастро. Смак, с которым западные люди говорят о "les masses"
[128] ! Прав был Вышеславцев: "трагизм возвышенного и спекуляция на понижение".
Два дня во Флориде: лекции у англикан. Длинные часы свободы и одиночества в отеле. Иное солнце. Пальмы. Чувство первозданной красоты мира, неистребимого счастья. То же самое в Dayton, Ohio, на мариологической конференции (в субботу). Вчера, после обедни, блаженный, солнечный день. Собирал листья в саду. Читал. "Ничего не делал". – "Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre?"
[129] Сегодня: все в инее. Красный, морозный восход солнца.
Пятница, 7 декабря 1973
Вчера праздновали – по новому стилю – святителя Николая. А по старому – Александр Невский, мои именины. Вспомнил, как в этот день, должно быть в 1933 или 1934 году, я проснулся в дортуаре нашего "первого взвода" и нашел на табуретке около кровати подарки – stylo
[130] Waterman – от Кирилла Радищева. Помню цвет этого stylo, его ощущение в руке. В этот же день – уже в институтские годы – 42-43? – рукополагали на rue Daru о. Сергия Мусина-Пушкина. Почему некоторые дни, со всеми их подробностями – погодой, количеством света и т.д., так врезаются в память, так остаются в ней?
Серо. Морозно. Тихо. Наслаждаюсь этой тишиной после трех бурных дней.
Понедельник, 10 декабря 1973
Вчера проповедовал в St. John the Divine
[131]: "диалог" с Мортоном
4 . Слушая мой любимый англиканский гимн "Let All Mortal Flesh Keep Silence"
[132], вспоминал первые поездки в Англию – в 1937 и 1938 гг., особенно недели, проведенные в Стемфорде, когда ходил каждый день в очень high church
[133] к обедне. А в лицейские годы каждый день, идя по rue Legendre в Lycee Carnot, заходил на две минуты в St. Charles de Monceau. И всегда в огромной, темной церкви у одного из алтарей шла беззвучная месса. Христианский Запад: это для меня часть моего детства и юности, когда я жил "двойной" жизнью: с одной стороны – очень светской и очень русской, то есть эмигрантской, а с другой – потаенной, религиозной. Я иногда думаю, что именно этот контраст – между шумной, базарной, пролетарской rue Legendre и этой, всегда одинаковой, вроде как бы неподвижной мессой (пятно света в темной церкви), один шаг – и ты в совсем другом мире, – что этот контраст изнутри определил мой "религиозный опыт", ту интуицию, что в сущности уже никогда меня не оставляла, – сосуществования двух разнородных миров, "присутствия" в этом мире чего-то совершенно, абсолютно иного, но чем потом все так или иначе светится, к чему все так или иначе относится, Церкви как Царства Божия "среди" и "внутри" нас. Rue Legendre не становилась от этого – и в этом все дело, все мое внутреннее отталкивание от чистого спиритуализма – ненужной, враждебной, несуществующей. Напротив – говоря очень приблизительно, – она приобретала как бы новый шарм, но понятный, очевидный только мне, знавшему ее "отнесенность" к этой fete a l'ecart
[134], к этому "присутствию", являемому в мессе. Мне все делалось страшно интересным: каждая витрина, лицо каждого встречного, конкретность вот этой минуты, этого соотношения погоды, улицы, домов, людей. И это осталось навсегда: невероятно сильное ощущение
жизни в ее телесности, воплощенности, реальности, неповторимой единичности каждой минуты и соотношения внутри ее всего. А вместе с тем интерес этот всегда был укоренен как раз и только в отнесенности всего этого к тому, о чем не столько свидетельствовала или напоминала беззвучная месса, а чего она сама была присутствием, явлением, радостью. Но что такое, в чем эта "отнесенность"? Мне кажется, что именно этого я никак не могу объяснить и определить, хотя, в сущности, только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не "идея": отталкивание от "идей", все растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея "христианского мира", "христианского общества", "христианского брака" и т.д. "Отнесенность" – это связь, но не "идейная", а опытная. Это опыт мира и жизни буквально в
свете Царствия Божия, являемого, однако, при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть именно конкретности, а не отвлеченности. И когда этот свет, который только в душе, только внутри нас, падает на мир и на жизнь, то им уже все озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом, ожиданием. Отсюда моя любовь к Парижу, моя внутренняя нужда в нем. Она оттого, что именно в Париже, в моем парижском детстве этот опыт был мне дан, стал моей сущностью. И теперь, когда я там не живу, когда у меня там нет никаких дел и обязанностей, он стал для меня, каждый раз, погружением в этот изначальный опыт, его как бы возобновлением. И мне все кажется, когда я один, без конца, просто хожу по его улицам, что он сам, больше чем что-либо другое в мире, возник, вырос из этого опыта, что тут тайна христианского мира, родившегося, как культура, как стиль, как основной опыт, как раз из опыта "отнесенности". В Риме (который я исходил вдоль и поперек осенью 1963 года) все распадается на "красоты" всех эпох и культур, все напоминает – но прошлое и его бренность. В Афинах мне всегда чудится ненавистное мне язычество, та самая "священная плоть", о которой вопил Мережковский и которая и вызывает, как реактив, чистый спиритуализм, манихейство или же тот священный "православный быт", который есть как бы обратная сторона языческой "священной плоти". Только в Париже, в самой его "ткани" и стиле, я ощущаю, почти в чистом виде, эту соотнесенность, ту меру, которая одновременно есть и граница, грань. Граница, сама собою как бы указывающая на то, что по ту сторону ее, на существование, присутствие другой стороны. В Риме есть трагизм и есть веселье. В Париже есть печаль и есть радость, и они почти всегда сосуществуют, пронизывают одна другую. И красота Парижа – из "отнесенности". Она не самодовлеющая, не торжествующая, не мироутверждающая, не "жирная". В сущности такая, какой только и может быть красота в этом мире, в котором был Христос.
Кончил сегодня толщенную книгу Gay Talese "The Kingdom and the Power"
[135] – о "Нью-Йорк Таймс". Как в книге Sulzberger'a (The Age of Mediocrity), поражает больше всего и в этой – сила властолюбия. Непрекращающаяся, звериная борьба за власть, за успех. От этого чтения делается просто страшно. В каждом, самом даже маленьком "мирке" – эта борьба движет всем, все собою определяет и все отравляет. Борьба за власть – квинтэссенция падшего мира. Чтобы спастись, нужно бежать власти. Какой бы то ни было, всякой… видимой и невидимой (например, власти над душами). Я готов думать, что в этом мире всякая власть – от дьявола. Как человечны люди, никакой власти не имеющие и ни на какую власть не претендующие.
Среда, 12 декабря 1973
Вчера – день примечательных встреч. В час – завтрак с о.Георгием Граббе в ресторане отеля Commodore [о возможном соединении с Зарубежной Церковью]. Эта встреча, подготовленная "контактами" с Н.Н., тем не менее, неизмеримо приятнее, чем я, откровенно говоря, ожидал. Тот стиль людей "нашего круга", который все делает неизмеримо легче: знаешь, что не нарвешься на хамство, на грубость. Мы быстро соглашаемся, что препятствия не только к единству, но и к простой detente
[136] огромные. Соглашаемся с Талейраном, что "la politique c'est l'art du possible"
[137] . И все же что-то определенно "сдвинулось", ибо разговор идет не о дьявольщине Патриархии, не об "апостазии"
[138] и вообще не о всей привычной "зарубежной" риторике, а о том, как достичь какого-то соглашения без – с одной стороны – совершенно невозможного отказа от автокефалии, а с другой – столь же невозможного отказа от идей Русской Зарубежной Церкви. Договариваемся и до agenda
[139] : Москва, "чистое Православие", полемика. Договариваемся, главное, продолжать пытаться "договариваться". Увидим. Теперь нужно будет сильно думать о "формуле". О.Граббе – очевидно не фанатик, что я всегда знал (об о. Константине Зайцеве он говорит: "Это интеллигент, так до конца никогда не воцерковившийся"). Но он консерватор в чистом виде, в смысле нечувствия проблем, окромя формальных (канонических, организационных). Чистое Православие, ему это несомненно, включает всенощную – и точка. "Проблема всенощной" – очевидно уже склонение в модернизм и т.д. "Американцев" – то есть карпатороссов, галичан и пр. – нужно просто учить русскому Православию, то есть в конце концов некоему бытовому стилю. Все это – мои формулировки, но они точно соответствуют психологическому типу о.Граббе. В этом смысле у карловчан действительно есть стиль – а не только "стилизация", но это делает всякий разговор с ними столь трудным, ибо стиль исключает возможность просто понять, услышать то, что вне этого стиля и ставит его под вопрос. Горе, однако, в том, что если для людей поколения Граббе это органический стиль, то для более молодых, попадающих в их орбиту, это "стилизация", неизбежно ведущая к надрыву и нервозу. Может быть, каким-то внутренним чутьем он именно это и чувствует. Не знаю. Но от встречи и беседы не осталось никакого неприятного чувства, никакого осадка.
Из Commodore еду в мизерабельный Hotel Latham, где ждет меня милейший Миша Меерсон, недавно приехавший из Парижа. Я встретился с ним в Париже в июне. Провел несколько часов с ним и с покойным Колей Кишиловым на съезде РСХД. Необычайно светлая личность, но, как и все "новые", Меерсон одержим идеей "миссии", у него свои проекты (центр, журнал и т.д.). Русский мальчик, вносящий поправки – уверенной рукой – в карту звездного неба. Это не самомнение, не гордость и даже не самоуверенность. Это плод подполья, необходимости годами и в одиночестве, в некоем безвоздушном пространстве, вынашивать идеи. Но порыв, чистота, идеализм – поразительные.
Перечитал написанное в понедельник и в свете этого еще раз ощутил смысл того, что в самом деле меня всегда как бы удивляло – с самого детства: странное удовольствие, почти счастье от созерцания, от ощущения мира "со стороны". Именно не просто "ухода" (какое мне, мол, дело!), не равнодушия, а внутреннего detachment
[140]. В детстве – пустота корпуса в субботу и в воскресенье, когда мы не ездили в отпуск. Пустой класс. Пустая церковь. На прогулке в Экуенский лес: оказаться близко от других, но одному и вдруг ощутить, с необычайной силой пережить вот этот лес, эти пустые, мокрые ветки на фоне серого неба, все то, что заглушается людьми, но что живет своей особой жизнью, наполненностью каждой минуты какой-то нераздробленной полнотой. Дальше – в эпоху лицея: воспоминание о пустых улицах, о фонарях – между лицеем в субботу вечером и всенощной на rue Daru. Десять минут, как бы всего лишь и только "функциональных" – дойти от лицея до церкви, не имеющих никакого самостоятельного смысла или "ценности". Но почему эти "функциональные" минуты остались и живут в памяти гораздо сильнее и ярче, чем то, что связывали? Сами стали несомненной ценностью, тайной радостью?
Четверг, 13 декабря 1973
Вчера вечером в Princeton Club обед с греками: архиепископ Иаковос, два его викария, три священника. Наш митрополит – хозяин. Все было дружно, даже приторно, но думалось – вот в Церкви торжество дипломатии. Встречаемся с задней мыслью: как поймать другого. После таких "дипломатических" встреч всегда осадок грусти. Обед полагал начало "bilateral conversations"
[141] (!). Буквально как Израиль и арабы.
Продолжение предыдущего: до сего дня ехать куда-нибудь для меня не только так же важно, как доехать, но в сознании отделяется в нечто самостоятельное и самоценное, без отношения к тому, куда едешь.
Пятница, 14 декабря 1973
"Христос никогда не смеялся". Думал об этом вчера во время Christmas Party
[142] в семинарии, где смехом, очень хорошо сделанными сценами из семинарской жизни как бы "экзорцировались" все недоразумения, все испарения нашего маленького и потому неизбежно подверженного всяческой мелочности мирка. Разные качества смеха. Но есть, несомненно, смех как форма скромности. Восток почти лишен чувства юмора – отсюда так много гордыни, помпезности, наклонности tout prendre au tragique
[143] . Меня всегда утомляют люди без чувства юмора, вечно напряженные, вечно обижающиеся, когда их низводят с высот, "моноидеисты". Если "будьте, как дети", то нельзя без смеха. Но, конечно, смех, как и все, – пал и может быть демоническим. По отношению к идолам, однако, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое.
Вчера, в сумерках, длинный разговор с Л. о детстве, об Андрее, о нашей с ним жизни до свадьбы. Как, в сущности, мы были тогда далеки друг от друга! И как потом стали близки. Когда я вспоминаю свою жизнь, то всегда больше всего ощущаю ее вечный "полицентризм". Ни в один из "миров", в которых я одновременно жил, я никогда не "уходил с головой", ни с одним внутренне до конца себя не отождествлял, всегда имел другой, в который каждую минуту можно было уйти. При этом я знаю, что я никогда не был одиночкой, а напротив – крайне общественным существом. Но мне всегда была очевидной невозможность уйти во что бы то ни было именно "с головой". Голова оставалась свободной и отрешенной. Так было уже в корпусе. Я принимал – без всяких оговорок – тот мир, который он нам передавал: военный, русский, романтически-геройский. И одновременно "уходил" в тогдашний другой полюс – к о.Шимкевичу, в разговоры о Подворье, о Церкви, о богословии, и он даже раздражался на меня – зачем мне нужны все эти детали; а для меня они были жизнью. И так было потом всегда – и в эпоху лицея, и "светской жизни" – вечеринок на rue de la Faisanderie, и Подворья, и Движения
[144] . Словно вся прелесть каждого "мира" в том как раз, что из него можно уйти, что есть, цитируя Набокова, – "другое, другое, другое…" Или, по Green'у, "tout est ailleurs". Но это никак не "бездомность" и не "богема" – в сущности я обеих не выношу. Я обожаю дом, и для меня уехать из него с ночевкой всегда подобно смерти, возвращение кажется бесконечно далеким! Наличие в мире
дома – всех этих бесчисленных освещенных окон, за каждым из которых чем-то "дом" – меня всегда наполняет светлой радостью. Я, как Мегре, почти хотел бы в каждый из них проникнуть, ощутить его единственность, качество его жизненного тепла. Всякий раз, что я вижу мужчину или женщину, идущих с покупками – значит, домой, я думаю – вот он или она идет
домой , в свою настоящую жизнь. И мне делается хорошо, и они делаются мне какими-то близкими. Больше всего меня занимает – что делают люди, когда они "ничего не делают", то есть именно
живут . И мне кажется, что только тогда решается их судьба, только тогда их жизнь становится важной. "Мещанское счастье": это выдумали, в это вложили презрение и осуждение активисты всех оттенков, то есть все те, кто, в сущности, лишен чувства
глубины самой жизни, думающих, что она всецело распадается на дела. Великие люди – де Голль, например, – на деле "маленькие" люди, и потому от них так мало остается, или, вернее, интерес, после их ухода, все больше и больше сосредотачивается на "маленьком" в них, на их
жизни , а не на их делах, которые оказываются в значительной мере призрачными! "Он не имел личной жизни", – говорим мы с похвалой. А на деле это глупо и грустно; и тот, кто не имел личной жизни, в конце концов никому не нужен, ибо людям друг от друга и друг в друге нужна
жизнь . Бог дает нам Свою жизнь ("чтобы имели мы жизнь за жизнь" – Кавасила), а не идеи, доктрины и правила. И общение только в жизни, а не в делах. Поэтому дом и не противоречит "tout est ailleurs", который противоречит почти всякой деятельности. Дома, когда все "сделано" (пришел с работы…), воцаряется сама жизнь, но она-то и открыта одна – "другому, другому, другому". Христос был бездомен не потому, что презирал "мещанское счастье", – у Него было детство, семья, дом, а потому, что Он был "дома" всюду в мире, Его Отцом сотворенном как дом человека. Только "дому" (не государству, не деятельности и т.д.) можно, по Евангелию, сказать: "Мир дому сему". Мы не имеем "зде пребывающего града", то есть не можем отождествить себя ни с чем в мире, потому что все ограничено и всякое отождествление становится – после Христа – идолопоклонством, но мы имеем
дом – человеческий и дом Божий – Церковь. И, конечно, самое глубокое переживание Церкви – это именно переживание ее как
дома . Всегда то же самое, всегда и прежде сама
жизнь (обедня, вечер, утро, праздник), а не деятельность. "Церковная деятельность", "церковный деятель", "общественный деятель" – какие все это, в сущности, грубые понятия и как от них – ни света, ни радости…
Понедельник, 17 декабря 1973
В пятницу – чудный вечер с внуками в Wappingers Falls, а Ани и Тома, где я ночевал и где на следующее утро была архиерейская служба с двумя хиротониями наших студентов. После того как я в то утро написал о доме и о жизни, вечер этот был как бы исполнением написанного, его очевидностью.
Вчера после обедни и до шести часов вечера у нас – Миша Меерсон, и одна нескончаемая беседа – о России, о Православии, о Западе и т.д. Из него просто льются свет и чистота. Для меня особенно радостно – это наше согласие в том, в чем я так остро чувствую свое одиночество в Православии: в отталкивании от тех его "редукций", что нарастают на наших глазах и в России, и вне ее, от этого обожествления – будь то "византинизма", будь то "русизма", будь то "духовности" и т.д. Согласие в формуле христианства: "персонализм" и "историчность", их антиномическая сопряженность. Согласие в отрицании традиционного отождествления православности прежде всего с крестьянством, с природой, с "органичностью". Именно крестьянство растворило христианство в язычестве. Чудный разговор: удивительно, что только русские "оттуда" сохранили тайну этой беседы, этого разговора как действительного общения.
Весь день вчера – снег. Сегодня все белое, неподвижное, морозное. Сегодня нашему маленькому Саше – один год!
В свете вчерашнего разговора с Мишей думал сегодня о моей встрече в прошлый вторник с о.Г.Граббе. Он говорит: наша цель – сохранить "чистое Православие". На деле же, конечно, наш спор, наше коренное разногласие совсем о другом. "Чистое Православие" для него это, прежде всего, исключительно,
быт . Никакой мысли, никакой "проблематики" или хотя бы способности ее понять у них нет; есть, напротив, органическое отталкивание от нее, ее отрицание. И с их точки зрения отрицание и отталкивание правильное – ибо всякая мысль, всякая "проблема" есть угроза
быту . Между тем, весь теперешний кризис христианства в том и состоит, что рухнул "быт", с которым оно связало себя и которому, в сущности, себя подчинило, хотя и окрасило его в христианские тона. Но вопрос совсем не в том, был ли этот быт плох или хорош, – он был одновременно и плох, и хорош, а только в том, можно ли и нужно ли за него держаться, как за conditio sine qua non
[145] самого христианства, самого Православия. "Они" на этот вопрос отвечают стопроцентным, утробным
да . Поэтому и так легко из быта переходят в "апокалиптику". Парадоксальным образом апокалиптический надрыв рождается именно из "бытовиков", как реакция на гибель быта, органической жизни, обычаев, уклада. Отсюда также их инстинктивный страх таинств (частого причащения и т.д.). Ибо таинство – эсхатологично, оно не умещается только в быт (в который, однако, прекрасно умещается "умилительный обычай ежегодного говения"). Отталкивание от культуры и от богословия. Ибо, опять-таки, и культура, и богословие – эсхатологичны по самой своей природе. Они вносят в быт проблематику, вопрошание, трагизм, искание, борьбу, они все время угрожают статике быта. Культуру "бытовики" принимают только когда она отстоялась и, ставши частью быта, оказывается как бы "обезвреженной", безопасной бритвой. Когда они уже знают, что и как следует о ней думать (или не думать). При жизни Хомякова считали модернистом и ниспровергателем устоев, теперь для "бытовиков" он символ и воплощение консерватизма. И это так потому, что "бытовики" абсолютно неспособны воспринять какое бы то ни было современное творчество, духовно разобраться в нем. И христианство, и Православие только тем и хорошо, и "приемлемо" для них, что оно древнее, что оно в прошлом, само – субстрат и санкция быта. Поэтому всякие слова (творчество) – самые подлинные, самые истинные, но не облеченные в привычную сакрально-бытовую форму – "бытовики" просто не слышат, для них это сразу угроза, опасность, расшатывание чего-то. Но, конечно, мироощущение это в последнем итоге пронизано просто неверием, и в этом его трагизм и греховность. И трагизм этот усугубляется тем, что обращение в такую "бытовую церковность", в такое "чистое Православие" в эпоху, когда этот быт как данность, как нечто реально существующее и тем самым оправданное – рухнул, неизбежно оказывается надрывом и ведет к глубокому духовному заболеванию. Как стилизация в искусстве, рождаясь при распаде стиля, приводит к смерти искусства, так, на гораздо большей духовной глубине, "бытовизм" в религии (возможный теперь только как стилизация) приводит к заболеванию самой веры. Плоды этого духа: страх, узость, ненависть, полная неспособность распознать Духа… И потому живем мы сейчас в эпоху настоящего экзамена и христианству вообще, и Православию в частности. Чем само оно живо и животворит?
Увы, на вопрос этот, кроме ответа "бытовиков" – целостного, убежденного и потому отчасти услышанного, – другого столь же целостного ответа пока что не существует. Вот тут-то и рождаются редукции: византийская, индивидуально-духовная ("читайте Исаака Сирина!"), "исконная", какая угодно. В сущности все это эрзацы "бытовизма", только более утонченные, умственные. Все это такие же уходы от реальности, от самой жизни, от ее вечной открытости и, следовательно, "проблематичности". И вот, как это ни звучит горделиво, я чувствую, что этот ответ у меня есть, что он для самого меня как бы "просвечивает" во всем том, что я пытаюсь сказать, написать, выразить, но что его трудность в том как раз, что ни в какую систему, ни в какой "рецепт" он не укладывается, что из него не следует никакая система правил для жизни, что его ни из чего внешнего не выведешь. Ибо это опять и именно мироощущение , в котором центрально, существенно и решающе как раз "просвечивание", "отнесенность" всего к "другому", эсхатологизм самой жизни и всего в ней, который антиномически делает все в ней ценным и значительным . Источником же этого эсхатологизма, тем, что делает это "просвечивание", эту "отнесенность" возможными, является Таинство Евхаристии, которым поэтому изнутри и определяется Церковь и по отношению к самой себе, и по отношению к миру, и по отношению к каждому отдельному человеку и его жизни. Ошибка "бытовиков" не в том, что они придают исключительное значение внешним формам жизни. В этом они правы против всех тех псевдо-духоносцев, одинаково религиозных и культурных, которые одержимы тем, чтобы прорваться к содержанию помимо формы или путем ее разрушения и разложения (сюрреализм, беспредметная живопись, автоматическое письмо, "харизматики" всех оттенков). Их ошибка в манихейской абсолютизации одной формы, в превращении ее в идол и тем самым в отрицание ее "отнесенности" к другому . "Проходит образ мира сего" – это значит не то, что этот образ плох или не нужен, что можно вообще обойтись без "образа" – формы, ритма и т.д., что христианство уводит в какую-то "безбытность", а то, что этот образ во Христе стал "проходящим", динамическим, "отнесенным", открытым. Что, десакрализуя быт (язычество), христианство сделало возможным все сделать "бытом" в высшем смысле этого слова, все сделать "образом". И только в ту меру, в какую он "проходит", то есть сам себя все время "относит" к тому, что за ним, над ним, впереди, – он и становится действительно "образом". А для того, чтобы этот опыт ("проходит образ мира сего") стал возможным и реальным, нужно, чтобы в этом мире был дан также и опыт того самого, к чему все "отнесено" и относится, что через все "просвечивает" и всему дает смысл, красоту, глубину и ценность: опыт Царства Божия, таинством которого является Евхаристия. (Не одно только "преложение даров", а та Литургия, которая и являет Царство Божие и исполняется в приобщении за трапезой Христовой в Его Царствии). Церковь оставлена в мире, чтобы совершать Евхаристию и спасать человека, восстанавливая его евхаристичность . Но Евхаристия невозможна без Церкви, то есть без общины, знающей свое уникальное, ни к чему в мире не сводимое назначение – быть любовью, истиной, верой и миссией, всем тем, что исполняется и явлено в Евхаристии, или еще короче – быть Телом Христовым. Евхаристия "объясняет" Церковь как общину (любовь ко Христу и любовь во Христа), как истину (кто Христос? – единственный вопрос всего богословия) и как миссию (обращение всех и каждого ко Христу). Другого назначения, другой цели у Церкви нет, нет своей, отдельной от мира – "религиозной жизни". Иначе она сама делается "идолом". Она есть дом , из которого каждый уходит "на работу" и куда каждый возвращается с радостью, чтобы дома найти саму жизнь, само счастье, саму радость, куда каждый приносит плоды своего труда и где все претворяется в праздник, свободу и полноту. Но именно наличие, опыт этого дома – уже вневременного, неизменного, уже пронизанного вечностью, уже только вечность и являющего, – только это наличие может дать и смысл, и ценность всему в жизни, все в ней к этому опыту "отнести" и им как бы наполнить. "Проходит образ мира сего". Но только "проходя" и становится мир и все в нем, наконец, самим собой: даром Божиим, счастьем приобщения к тому содержанию , формой, образом которого он является.
Четверг, 20 декабря 1973
Во вторник завтрак в Oyster Bay с Александром Николаевичем Артемовым, главой НТС
[146] (по его и о.Кирилла Фотиева инициативе). Милый, искренний, хороший человек, но той специи, что я разглядываю с некоторым недоумением: "зоон политикон". И потому выше чего-то и глубже чего-то разговор не поднимается.
Письмо из Брюсселя от Melitine Fabre (которая переводит на французский мое "Введение в литургическое богословие", единственная мне известная православная почитательница моей книги). Она пишет: "J'avoue que je suis souvent agacee par les discours et conferences orthodoxies triumphalistes et verbeux. Les 'integristea' catholiques nous flatten et les 'progressistes' nous poussent a nous enforcer dans nos pires defauts, par reaction contre le 'secularisme'…"
[147] Абсолютно точно, но сколько людей, это понимающих?
Снег. Лед. Мороз. Начали вчера трипесницы предпразднества. "Готовься, Вифлееме!.." В семинарии атмосфера конца, разъезда.
Вчера 19 декабря. Николай Чудотворец по старому стилю – наш "корпусной праздник". Почему-то вспомнился один из самых первых, оставшихся в памяти как некая квинтэссенция "праздничности". Утром, чтобы занять нас, капитан Маевский читал нам – то есть "первому взводу" – "На Новике". Потом обход, гости – генералы Миллер, Ознобишин, Эрдели. Какие-то радостные дамы. Mutatis mutandis[120], прямо из "Войны и мира". И наше чувство, что мы неотрываемая часть этого мира.
Понедельник, 7 января 1974
С 25-го декабря (вечер Рождества) до 5-го января в Париже с Льяной. Как всегда – много времени с Андреем и мамой. Как всегда – много одиноких, или вдвоем, прогулок по Парижу. В пятницу 28-го в YMCA – бомба! – выход "Архипелага ГУЛаг" Солженицына. Книга буквально и во всех смыслах этого слова – потрясающая! О ней буду писать отдельно – сегодня же – для "Вестника". 29-го традиционный завтрак с Никитой и Машей Струве в "Russin d'Arcadie" на place de la Sorbonne. Новый Год у Кобцевых в Ableiges. Обедня на Olivier de Serres
[148] . 3-го ужин у Фиса с Синявским. Длинный apres-midi
[149] с Melitine Fabre, переводчицей моего "Введения". У Prunier с Бусей. "Cousins et cousines"
[150] у Андрея в полном комплекте: Маги и Ирина, Жорж, Мара с Сережей, Отар с Ниной. St. Lambert. Все как всегда – "и все чудесней – дышать прошедшим на земле"
[151].
Четверг, 10 января 1974
Сегодня нашей Анюте – тридцать лет! А как будто это было вчера. Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог. Об этом думал сегодня утром и позавчера – во вторник – после ужина в [ресторане] "Le Bistro" с Маней и Сережей.
Вчера отослал Никите статью об "Архипелаге", родившуюся, неожиданно для меня, быстро – в ответ на эту "сказочную книгу" (так и назвал статью). Все еще под ее впечатлением, вернее – в удивлении, радостном и благодарном, перед самим "феноменом" Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого ее нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии). И ведь к какой жизни так подходит Солженицын…
Вчера – трехчасовой разговор с о.А.Лебедевым, молодым (двадцать три года!) "зарубежным" священником из Бриджпорта. Симпатичный, явно искренний, убежденный, по-своему "широкий". Но, Боже мой, какая все-таки путаница, и не только мыслей, но именно опыта, сознания. Какое "маленькое" Православие они любят, сколько у них идолов, фетишей, скованности внутренней. Впечатление такое: если на секунду сойдут со своих рельс – все лопнет, и вот они держатся за эти "рельсы", уже даже и не спрашивая, откуда и куда они ведут. Ужасно тягостное впечатление от этого разговора, главное потому, что в одном-то они правы: в утверждении нашей духовной слабости, половинчатости, минимализма. После этого – обостренное чувство одиночества, невозможности – в этих условиях – сказать главное. Вечное желание – свободы, чтобы быть ответственным. Ненависть к церковной "политике", ко всему этому уровню, на котором всегда приходится спорить и разговаривать. В таком настроении – недостойное уныние. Лечусь, читая весь вечер четырнадцатый том Leautaud.
Все в глубоком снегу. Мороз. Хорошо только дома, только с Л. и детьми. Во всем остальном ("дела") только и ждешь того, чтобы наконец кончилось, миновало, отпустило…
Что такое подлинная культура? Причастие . Участие в том, что победило время и смерть.
Пятница, 11 января 1974
В Париже ужин с Синявским и его женой. Впечатление необычайно симпатичного, именно симпатичного человека, "рубахи-парня" на высоком уровне. Но, конечно, и с хитрецой. Его книгу – "Голос из хора" – начал читать, прочел страниц тридцать, но тут разорвалась бомба "Архипелага", и я не кончил. Первое впечатление – не убедительное, некий потуг – розановский, но без розановского гения. Все-таки очень "литература".
Длинные разговоры с Мишей Меерсоном, который живет у нас. С одной стороны, я все время поражаюсь тому, что можно с ним – советским мальчиком двадцати девяти лет! – говорить на одном языке, даже в нюансах. С другой – беспокоит этот умственный и эмоциональный Sturm und Drang. Все идеи, идеи, идеи. Снова эта "интеллигентская беспочвенность", эта вера в кружки, надрывные разговоры, журнальные статейки. Впечатление такое, что неспособны они на медленный труд, а только на какой-то фейерверк.
В Париже тоже ужин с Паниным-Сологдиным и его женой. Обратное Синявскому. "Моноидеизм". Idee-fixe. Никакой "легкости". Обреченность таких людей, все "продумывающих" и потому уже абсолютно неспособных "услышать" что-либо другое, даже согласное с их взглядами. Чудное лицо, выражение – "уст, сказавших правду в скорбном мире…"
[152] . Жена из тех, кто говорит "мы". Мы думаем, мы считаем…
Понедельник, 14 января 1974
В субботу под вечер поездка в Wappingers Falls (где праздновали Анино тридцатилетие). Страшно холодный, морозный, зимний вечер. Снег. Заснеженные деревья, и над всем этим – грандиозный закат. Я давно не видал такой красоты. И эта красота говорит : только мы разучились ее слышать.
Все эти дни – в "творческом подъеме". Пишу – в моем Baptism
[153] – параграф о смерти и крещении (подобие смерти), параграф, который вот уже больше года "блокировал" книгу. Как всегда – точно все это не из меня, а наоборот – мне открывается. Всегда очень удивительное, очень радостное чувство.
Вчера до обедни причащал в госпитале мать Давида Др. – семьдесят два года. Серьезная операция. Явление смиренного, почти бессознательного христианства, самоочевидной веры, ясности, радости. Никаких теорий, но все то, о чем с таким трудом и надрывом, ссорясь друг с другом, пишут богословы. И думаешь: какой страшный грех совершают по отношению к таким людям всевозможные церковники, одержимые своей правотой, "юрисдикциями", ссорами и т.д. Правда, что "таким людям" до всего этого нет никакого дела. Слава Богу!
Вечером – у родственников. Невероятно милы – и они, и дети. Но всегда острое ощущение духоты, спертости воздуха в этом "зарубежном" мире. Старшие эмигранты вспоминали Россию, эти "сохраняют" уже Россию эмигрантскую, искусственную. Удивительно, что этим можно жить. Жить, в сущности, ничего не зная ни о России, ни об Америке, ни о мире, "только зеркало зеркалу снится…"
[154].
Вторник, 15 января 1974
В письме Никите (посылал статью об "Архипелаге") я спрашиваю – не рехнулся ли я в своем восхищении Солженицыным, не преувеличено ли оно? Меня так удивляет, что люди как будто не видят поразительности его явления, глубины, высоты и ширины этого явления. Вчера у Connie T. (освящение дома) – "резервация"
[155] Ив. Мейендорфа по типу: "Да, конечно, но…" Я постарался, на этот раз, понять, вслушаться в эти "резервации". Вопрос о Церкви: Солженицын этого не чувствует, не понимает… Длинноты. И т.д. Я могу понять все эти возражения. Но ни одно меня не убеждает. О Церкви, например: я все больше чувствую, что "кризис" Церкви в том-то и заключается, что центральной темой ее жизни стал вопрос о том, как "спасти" Церковь. Но этот вопрос изменил удельный вес христианства в мире, ca a fausse tout
[156] . Солженицын, мне кажется, занят не "спасением Церкви", а человеком. И это более христианская забота, чем "спасение Церкви", во имя которого принимается и оправдывается любая ложь, любой компромисс. Величие Солженицына и его значение в том как раз, что он "меняет" перспективу, меняет вопрос. Но этого как раз больше всего и боятся люди и меньше всего именно это понимают. Церковь, которую нужно все время спасать ценой лжи, что это за Церковь? Как она может проповедовать веру? "Не бойся, только веруй…"
[157] . Солженицын сам – доказательство того, как нравственная сила побеждает, сама делается "историческим фактором".
Среда, 16 января1974
Leautaud (15, 215): "…le cri de cette chouette dans la nuit! Une sorte de delice pour moi, delice de melancolie, de mystere, de solitude, de pitie pour des etres…"
[158]/
Вчера – весь день в "делах": собраниях, разговорах, заседаниях, телефонах. "Департамент внешних сношений", "Малый Синод". Сплошной va et vient
[159] в моем кабинете в семинарии. Я возвращаюсь домой совершенно больной от всего этого, буквально измученный. Что-то есть духовно смертоносное в этой суете и – главное – в этих безостановочно предъявляемых мне требованиях. После этого ничего не остается, как целый вечер лежать на диване, читать Leautaud. Мучительный вопрос: как от всего этого освободиться?
Leautaud: человек, рассказывающий изо дня в день свою жизнь, говорящий только правду о себе. И вот он становится другом. Это не означает ни согласия, ни единомыслия. Это что-то совсем другое, по-своему таинственное: полюбить человека ни за что иное, как только за него самого. Он пишет так, что становится жаль: вот не было "меня" в его жизни. Но что меня не было в жизни Гегеля или Канта, это мне решительно безразлично. Дар жизни, по-видимому, обратно пропорционален дару идей.
Четверг, 17 января 1974
Вчера длинный разговор по телефону с Мариной Трубецкой. Почему-то речь зашла о Святой Земле, о паломничествах, об их месте в христианской вере и жизни. Утомительно быть каким-то "иконокластом"
[160] (на глубине мне это совершенно чуждо, ибо, в сущности, я ощущаю себя консерватором), но я совершенно убежден, что этот by-product
[161] христианства гораздо вреднее, чем полезнее, что он во многом определил скольжение Церкви от Христа к "благодати", к освятительному богословию, к почти магическому пониманию "освящения", к "де-декатологизации" христианства…
Телефоны с восьми до одиннадцати утра почти без перерыва. Уже разболелась голова, а сознание раздробленно какой-то трясучкой. И вот так почти каждый день. И каждый, кто звонит, чего-то от меня хочет, но никогда не то, что, может быть, я мог и должен бы был дать. Но что нужно сделать – не приложу ни ума, ни совести… "Дар жизни". Но в падшем мире как часто он оборачивается непосильным бременем жизни, саму эту жизнь разрушающим. Это когда в самую душу входит суета. "Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду"
[162] . Однако способен ли я расслышать ответ на эту молитву?
Суббота, 19 января 1974
"Исторический кризис Православия". Никогда, кажется, не ощущал я его так ясно – во всем его объеме и глубине, как в эти дни частых разговоров с живущим у нас М.М. Не из-за самих этих разговоров – ибо все то, что говорит и рассказывает Миша (как, например, вчера о молодом советском иеромонахе, постриженнике Никодима, перешедшим – будто с ведома Никодима - в католичество, сидящим до сих пор где-то, на каком-то старушечьем приходе и постепенно духовно и психологически разлагающемся…), я уже знал, а потому что разговоры эти приводят к раздумью, к "синтезу" всего того, что я так или иначе думал все эти годы.
Исторически Православие всегда было не столько Церковью, сколько "православным миром", своеобразной православной "икумени". Такой православной "икумени" оно оставалось и тогда, когда распалось на множество национальных, этнических мирков. Сузился духовный горизонт, но не основное "самочувствие" Православия. Но самочувствие это всегда исключало категорию истории, перемены и потому способность "реагировать" на перемены, всегда составлявшую силу западного христианства. Говоря языком Eliade ("Fragments d'un Journal"
[163] которого сейчас читаю), оно, то есть Православие, предельно "архетипично", но не исторично". Всякая перемена ситуации, то есть сама история, вызывала и вызывает у православных рефлексию предельно негативную, состоящую, в сущности, в отрицании перемены, в сведении ее ко "злу", искушению, демоническому натиску. Но это совсем не верность вере или, скажем, догматам, неизменным во всех изменениях. Догматами, "содержанием" веры православный мир перестал жить и интересоваться давно. Это именно отрицание
перемены как категории жизни. Новая ситуация неверна, плоха только потому, что она
новая . И это априорное ее отрицание не позволяет даже понять ее, оценить в категориях веры и по-настоящему "встретить" ее. Уход и отрицание, но никогда не
понимание . Исторически центральной и определяющей в Православии всегда была категория не православия по существу, то есть Истины, а именно "православного мира", неизменного потому, что он православный, православного потому, что он неизменный. Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся, то первым симптомом кризиса нужно признать глубокую
шизофрению , постепенно вошедшую в православную психику: жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий. Православное сознание "не заметило" крушения Византии, Петровской реформы, революции, не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни… Короче говоря, оно не заметило
истории … Но только это отрицание, это "незамечание" истории, конечно, не прошло, не могло пройти Православию даром. Вместо того, чтобы понять "перемены" и потому справиться с ними, Православие оказалось попросту раздавленным ими. На деле оно изнутри определено и окрашено и подавлено как раз теми "переменами", которые оно отрицает, определено неким "надрывом". Этот надрывный уход каждого – будь то к "Отцам", будь то к Типикону или же в католичество, в эллинизм, в "духовность", в русизм, в быт, в безбытность, но непременно уход, отрицание сильнее, чем утверждение, это цепляние за стиль, за форму, за букву, этот страх, пронизывающий православный "мир". Этот все ускоряющийся распад Церкви, лишенной "православного мира", эта невозможность для православных что-либо понять, даже друг друга, полное отсутствие православной
мысли как понимания и оценки истории: все это брызги, плоды того же основного кризиса – внутреннего, глубинного, "а- и анти-историзма" Православия или, вернее, православного мира, неспособности его справиться изнутри с основной христианской антиномией – "в мире сем, но не от мира сего", неспособности понять, что самый что ни на есть "православный" мир все же именно "от мира сего" и что всякая его абсолютизация есть
измена . И пока Православие измену это не осознает, оно будет продолжать разлагаться, как оно сейчас разлагается. Эту страшную цену разложения мы платим за то, что сотворили себе кумира, сотни кумиров. За то, что в основном христианский опыт – "проходит образ мира сего" – не включили или, вернее, из него выключили – свой собственный "православный мир". И когда он, в греховном грохоте, распался, все хотим "восстановить" его и возродить. Эта почтительная, страстная возня с "Византией" и византийскими текстами, занимающими богословие. Эта мышиная суета юрисдикций, побрякивающих во все стороны канонами. Это желание покорить Запад самым спорным и скверным в нашем прошлом. Эта гордыня, это мелкое самодовольство, это "шапками закидаем". Все это страшно, и, может быть, страшнее всего, что никто этого страшного не видит, не чувствует, не сознает. Если кто чему и ужасается, то только "падению мира" (а падение Православия?!), грехам других православных и т.д. И это в тот момент самой
истории , когда суть Православия, его
Истина действительно и, может быть, в первый раз – в диалектике этой истории – могут быть услышаны как спасение. Остается только верить, что "Бог поругаем не бывает"
[164] . В личном же плане все тот же мучительный вопрос –
что делать?
Понедельник, 21 января 1974
Читая о писателях, об академической среде, пришел к приятному для себя выводу, что я никогда не страдал "карьеризмом": не рассылал "оттисков" и книг с надписями и даже, в сущности, бежал знакомства с "сильными мира сего" – то есть теми, кто способен "помочь" именно в карьере. Правда, я никогда никому ничего не навязывал – ни книг, ни статей, ни выступлений. Пишу об этом не из "гордости", а потому что как раз не приписываю это духовным качествам – смирению, скромности. Приписываю, скорее, своеобразной боязни "связаться", лени, тайной, но постоянной жажде свободы.
Другая мысль, пришедшая мне в голову вчера, в поезде (ехал на очередной доклад в Wilmington), при чтении интересных "Fragments d'un Journal" Mircea Eliade: это полное отсутствие интереса к всевозможным "восточным" религиям, ко всему тому, что так интересует Элиаде и круг, в котором он вращается. Мой ум и сердце к этому абсолютно непромокаемы. Может быть, все это нужно – эта встреча Запада с Востоком (о чем мечтает Элиаде), и многое из того, что он пишет, мне кажется заслуживающим внимания, но я лично не нахожу ни малейшего вкуса ни к Тибету, ни к Индии и ни к одному из этих "центров притяжения". Мне все это представляется каким-то жутким и душным миром, несмотря на все "космизмы" и "освобождения".
Wilmington, куда я уже езжу четвертый год. До доклада ужин в старомодном отеле. Мне иногда кажется, что моя тайная радость от этих поездок - это эти два часа в этой огромной, старомодной, барской зале. Огромные окна. Старые американские пары за столами: торжественное завершение пустого воскресного дня. Свечи. Старая прислуга. И зимние морозные сумерки за окном.
На лекции больше трехсот человек. Но это, конечно, не я, а Солженицын.
Ночевка в Statler-Hilton, напротив вокзала. Странное чувство: полной потерянности, полного одиночества в мире.
Визит к доктору: безнадежно здоров…
Среда, 23 января 1974
Состояние уныния. Не личного – "лично" я могу смело и безоговорочно считать себя очень счастливым человеком: семья, дети и т.п. А по отношению к Церкви, ее состоянию, моей деятельности. Я становлюсь, мне кажется, "аллергичен" к той церковности и той религиозности, которые наполняют Церковь и церковную жизнь и которые мне все больше и больше представляются глубочайшими извращениями христианства и Православия. Между тем только об этом, только в этом вся моя "деятельность", засасывающая бесконечными звонками, письмами, разговорами, собраниями. Все это вне подлинной реальности: Бога, человека, мира, жизни. Душа буквально плачет о другом. Уныние же оттого, что никакого выхода я не вижу. Уйти? Но куда? Я не могу уйти от Церкви, ибо это моя жизнь. Но, оставаясь в том положении, в котором нахожусь, я не могу служить ей так, как я понимаю это служение. Я верю, что Православие – истина и спасение, и содрогаюсь от того, что предлагают под видом Православия, от того, что любят, чем живут, в чем видят "православие" сами православные, даже лучшие, бескорыстные среди них. "Спаси себя, и спасутся кругом тебя тысячи"
[165] . Но ведь
спастись же каждый должен по-своему, спасение каждого в исполнении того, к чему он призван. А если сами условия жизни как раз этого спасения и не позволяют? Если вся деятельность в постоянном отрицании того уровня, на котором одном это спасение возможно?
Все это, как ни странно, усиливается от восхищения Солженицыным! Его величие только подчеркивает нашу мизерность…
Начало занятий. Первая лекция: опять двадцать лиц, слушающих… И мучительное чувство, что главного, что "единого на потребу" не скажешь. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что слушающие не этого хотят и ждут и потому и не услышат. И вот говоришь что-то среднее, что-то хотя, может быть, и верное, но не то.
Четверг, 24 января 1974
Все утро, после лекций, писал письма. Физическое удовлетворение от того, что мучившая меня гора неотвеченных писем на столе стала таять и уменьшаться. Два-три письма, заслуживающих ответа, откладываю, потому что от них не отделаешься торопливыми ответами.
Кончаю книгу M. Eliade (Fragments d'un Journal). Очень сильное впечатление. Много бесконечно верного, а вместе с тем где-то, в чем-то роковая ошибка. Так понимать все о религии, о символах, о сакральном – и не иметь живой, конкретной религии. Судьба современного "интелллектуала". С одной стороны, почти завидуешь его свободе от "церкви", от институции и от всего налипшего на нее. А с другой – сразу же чувствуешь ее
правду , ее незаменимость. "Куда нам от тебя идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной".
[166] И блажен, кто не соблазнится о Тебе.
В нашем мире всякая религия без Христа (даже христианство, даже православие) есть явление отрицательное и даже страшное, и даже соприкосновение с нею опасно. Ее можно изучать для лучшего уразумения христианства или, лучше сказать, Христа. Но сама по себе она не может быть "спасением", что бы под этим словом ни разуметь. Этого не видит, не чувствует Элиаде. Как не видит и того, что Христос есть одновременно и исполнение той "сакральности", в которой он справедливо видит явление для человека не "историческое", а онтологическое, основную для него "структуру", – и ее преодоление, без которого религия неизменно "разлагается" в нечто демоническое.
Ранние христиане: Тело Его на престоле, потому что Он среди них. Теперешние христиане: Христос тут, потому что Его Тело на престоле. Как будто бы то же самое, а на деле та основная разница, что отличает раннее христианство от нашего, разница, о которой почему-то не знают, которую почему-то не понимают богословы. Там все от знания Христа, от любви к Нему. Здесь – от желания "освятиться". Там к причастию приводит следование Христу и из него вытекает следование Христу. Здесь – Христос почти что "ни при чем". Это почти две разные религии.
Недавний разговор с И.М.: о падении современного православия, об его глубочайшем кризисе. Он: но как же тогда знать, где сохранилась Истина? Все та же забота – о внешней гарантии. "Православие сохранило Истину". Но на самом деле надо говорить иначе: ничего внешнее само по себе не "сохраняет" Истину. Истина живет и побеждает только сама собою.
Три часа. Дети идут из школы. И вдруг остро вспоминаю радость этого выхода из Lycee Carnot, этот блаженнейший момент: "quatre heures"
[167]. Свобода. Солнце на Boulevard Malesherbes, почти болезненное чувство жизни, молодости, счастья.
Понедельник, 28 января 1974
Дни безостановочной суеты, телефонных звонков, бесконечных – иссушающих и расстраивающих душу – разговоров. И потому уныние, тьма. Сегодня, возвращаясь со станции, думал: почему мне не хочется домой, когда я так люблю быть дома? Понял: от телефонной незащищенности, от подсознательного ожидания каждую минуту звонка, и притом всегда неприятного. Чувство загнанности, затравленности. Прихожу. Анна (пасущая маленького Сашу): звонил такой-то, такой-то, такой-то. Будут снова звонить. Просят позвонить. И вот уже все пронизано беспокойством. Как быть? Что делать? Вопрос, который я задаю себе тысячи раз, не находя никакого ответа. Чувствую, однако, что долго так продолжаться не может.
Сегодня, ранним утром, пятнадцать блоков
[168] по Park Avenue. Как я люблю эту утреннюю городскую суету, как всегда любил ее.
Уныние, думается, от невозможности быть собою, говорить правду, как видишь. А значит – от малодушия и от маловерия. Минуты молитвы – и все становится просто, как будто душа наполнилась светом. А потом сразу все падает.
Вторник, 29 января 1974
Вчера, ища что-то в подвальных завалах, случайно наткнулся на почти совсем распавшуюся черную записную книжку, озаглавленную: "Заметки Александра Шмемана, 1936-1937", то есть когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет. Это как раз время того "кризиса", о котором я вспоминал в этом году: со второй операции в Villejuif в июле 1936 до марта 1937 года. Поэтому решил сделать выписки. Больше всего меня удивляет то, как все мои теперешние "интуиции", все то, что на глубине определяет мои сознание и мысль, уже так очевидны в этих заметках почти сорокалетней давности. Итак, прав Bernanos: "J'ai toujours ete l'enfant de 12 ans que je fus…"
[169] . Итак, вот главное.
На обложке: "Вся премудростию сотворил еси".
На обороте обложки: "Церковь Бога Живаго, стоп и утверждение Истины".
На заглавном листе, после "Заметки" – гроб (!) и надпись: "Житейское море, воздвигаемое зря напастей (sic!) бурею…"
Еще дальше: "Твое бо есть еже миловати и спасати нас…"
Дальше начинаются сами заметки:
ДНЕВНИК 1936-1937
Суббота, 18 июля 1936
Начинаю третью книжку. Вторая окончилась в каком-то стихотворном хаосе. Попробую в этой книжке быть спокойнее и короче. Короче – это главное. ‹…› Мой кризис, кризис "трех искушений", изжит еще не совсем – но теперь я уверен в нескольких вещах: что бывают чудеса, что я рано или поздно успокоюсь – и на основе Православия, и, наконец, в том, что порядок внешний очень содействует порядку внутреннему. Вообще я чувствую себя внутренне много лучше.
13-го скончался о. Иаков Смирнов…
Чувствую непреодолимое влечение к писательству.
Страшно нравится Бунин. В больнице попались книжки "Совр[еменных] Зап[писок], и там начало "Жизни Арсеньева". Но, к сожалению, нигде нельзя книг достать.
Там также прочел отрывок из "Истории любовной" Шмелева… У меня три эмигрантских классика – Бунин, Шмелев, Зайцев. Кроме того, много любимых.
Досадно и грустно, что книг нету, а читать все новое очень хочется. Сейчас очень хочется достать альманах "Круг" – да денег нету. (О! Блаженная бедность нашего детства! Как я теперь за нее благодарен… – янв. 1974 . )
Вот как будто бы и все. Жизнь моя не очень разнообразная, но я скучать не умею. Да и скука иногда полезна. В этом отношении я уверен, что госпиталь сыграл большую роль в моей внутренней жизни. Я начал думать об очень многом и совершенно новом.
Вторник, 21 июля (Казанская) 1936
Вчера вечером был у всенощной, сегодня у Литургии… Все думаю о религии и, кажется, прихожу к Истине. Молю Бога да поможет мне обрести покой душевный. Непрерывно тянет в церковь и только в церковь. Боже, помоги мне. Верую, помоги моему неверию.
Среда, 22 июля 1936
Произвел генеральную уборку комнаты и стола. Мое правило – внешний порядок для внутреннего. Тихо. Думаю. Молюсь. Грешу.
Четверг, 23 июля 1936
Был в церкви… Все сомневаюсь и томлюсь. Погода плохая. Все тихо снаружи и, надеюсь, будет внутри.
Пятница, 24 июля 1936
Читаю Иоанна Златоуста… Все тихо… Господи, помоги.
Суббота, 25 июля 1936
Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. Благодарю Бога за то, что подал мне, недостойному, руку в дни искушения моего. Был у Литургии. Служили молебен (после операции – 1974). Главное – вера в милосердие Божие и любовь к Богу. Любовь совершенная не имеет страха. Господи, дай мне любить
Тебя. Le monde n'a pas ete cree en une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu… L'artiste n'invente pas, il decouvre… (M.Proust)
[170].
Воскресенье, 26 июля 1936
Надо верить, что у Бога истина, стремиться к ней и не искать ей подтверждений, так как если мы что-либо стараемся подтвердить, то, значит, мы допускаем сомнение в данном предмете, а если мы сомневаемся, мы не верим.
Понедельник, 27 июля 1936
Завтра день ангела ген. Римского-Корсакова. Когда я о нем вспоминаю, мне всегда немножко совестно. Он меня так любил, а я его забываю… Скольким я ему обязан.
…Все в порядке. Слава Богу.
Вознесь же си, смирихся и изнемогох…
Понедельник, 3 августа 1936
Давно, целую неделю, ничего сюда не записывал. Живем на даче. Недалеко от корпуса… Полон надежд. Стараюсь стяжать благодать Духа Св. Начинаю "Жизнь во Христе" о.Иоанна Кронштадтского, "Свет разума" Шмелева. Читаю Бунина, предполагаю прочесть "Les Miserables"
[171] , Ю.Фельзена (?), Степуна… Читаю также много "Современных записок".
О.Иоанн Кр[онштадтский]: "…если истина открыта в Божественном слове, исследована и объяснена богопросвещенным умом святых мужей, прославленных Богом, и познана сердцем в ее свете и животворности, тогда сомневаться в ней есть тяжкий грех".
Подумать и вникнуть: "…немощи немощных носи и тако исполниши закон Христов". О.Иоанн Кронш[тадтский] – "т.н. светская литература совершенно чужда христианскому духу. Она даже стыдится духа Христа".
* * *
Пятница, 8 февраля 1974
Шесть дней в солнечной Калифорнии, в Сан-Франциско. Пишу "солнечной", потому что, несмотря на то что был безумно занят (семь лекций о Солженицыне, встречи, ужины, разговоры), "доминантой" в памяти остался этот изумительный, праздничный свет, синева неба, синева океана, белизна города, цветущие японские вишневые деревья. Который раз в Сан-Франциско – и всегда это впечатление рая. А вместе с тем именно там больше всего загадочных убийств, самоубийств, путаницы, сатанизма и т.д.
Масса людей на лекциях. Почти отвык от этой, доживающей свой век, русской эмиграции, а в Сан-Франциско как-то особенно провинциальной. Сколько путаницы, эмоций, упрощенности! И вдруг изумительные, прозрачные, райские люди (как те, у которых жил, особенно она), подлинная русская культура. То, что в этой культуре светит, – всегда "преодоление". Но, встречая таких людей, чувствуешь корни, делающие это "преодоление" возможным.
Понедельник, 11 февраля 1974
Три блаженных, тихих дня дома, почти не выходя. Только вчера под вечер прогулка с Льяной "вокруг блока": мороз, снег, неподвижные огромные деревья в снегу. Это мне всегда что-то "говорит": высокое, успокоительное, торжественное. За эти дни (в аэропланах, по ночам в кровати после невозможных по суете дней) прочел Georges Hourdin "Dieu en Liberte"
[172] . Воспоминания "прогрессивного католика". Много чего я не понимаю во всей этой тональности, но покоряет искренность, широта, ненависть к узости, провинциализму, щедрость души. Как нам далеко до всего этого, какие мы маленькие, узенькие, злые и самодовольные! Дальше – "Correspondance d'Andre Gide – Andre Rouveyre"
[173]. Какой закрытый в своей "византийской" утонченности мир! Claude Mauriac "Andre Breton"
[174] . Меня всегда занимал сюрреализм как "западный симптом". Что-то там все-таки блеснуло, какая-то тоска, жажда. Но и какой тупик!
Звонил Сережа: в пятницу Солженицына вызвали к прокурору.
Сегодня с шести до восьми утра, еще в полной темноте, в очереди за бензином. В сущности, блаженные часы! Как меня "фасинирует"
[175] всегда этот мир простых людей, утренняя суета, жизнь в ее повседневной пестроте. Взял с собой книгу, но не читал. Своего рода "созерцание".
В Аргентине умерла Наташа, двоюродная сестра. Вспомнил лето 1939 года в Белграде, когда мы, приехав из Парижа, проводили столько времени с ней и Аней. "Dans la lumiere de l'ete"[148]. И какая же потом была у нее страшная и грустная жизнь! Почему одним, а не другим так очевидно отказано в земном счастье?
Четверг, 14 февраля 1974
Все эти дни полон Солженицыным. Во вторник вечером в Вашингтоне, куда я прилетел говорить о Солженицыне в American University
[176], узнал о его аресте. А утром, на следующий день, о его высылке в Германию. Вчера вечером по телевидению видел и его самого – выходящего из аэроплана. Почему-то думал, что голос у него низкий, а он высокий. Звонил Никите. Он говорит: "Я как-то раздавлен этими событиями. Грустно за Россию. Теперь нам остается только пить водку. Рад за Солженицына лично. Но какая это зловещая трагедия для России!"
Звонки, звонки, звонки, суета, суета, суета. Одно хорошее английское слово: harassment
[177] . Как это изматывает и опустошает душу. Мечты о "покое и воле" – соблазн или призыв совести?
Только бы остался Солженицын сам собой. Что на Западе, да в эмиграции – неизмеримо труднее, чем в России. Страшно за него – в первый раз…
Пятница, 15 февраля 1974
В своем дневнике Green пишет (о Malraux): "…il y a ceci a dire de lui c'est qu'on n'a jamais pu lui faire accepter de la fausse monnaie"
[178] . Вот формула, которую с обратным знаком можно обратить к "православным". Как все среди них запутано подделками и фальшивками.
Если бы он спросил меня, что ему делать в изгнании, я сказал бы Солженицыну: "Прежде всего, превыше всего, будьте самим собой. Россия, изгнавшая Вас, – не Россия, но и Россия "зарубежная" – не Россия. Будьте выше обеих, над ними, потому что Вы сейчас – голос России. А это трудно и бесконечно ответственно. Далее – не отождествляйте себя ни с чем и ни с кем на Западе. Вас облепит все худшее – карьеристы, интеллектуалы, "mass media" – и потом так же бросят. Короче говоря: "Ты царь – живи один…"
[179] . Надеюсь, что все это он понимает и без моих советов, и все-таки страшно за него – как бы не поскользнулся…
Светлая легкость христианства, но тяжесть Церкви.
Сегодня утром исповедь. Как легко даешь другим те советы, которые, по опыту знаешь, нужно было бы обратить к себе.
Только в Церкви можно найти полный образ Христа. Это и есть дело богословия – и больше ничего. Но его одинаково заслоняют и "поп", и "богослов". Один поставил ставку (беспроигрышную) на вечную нужду человека в "священности", другой самого Христа превратил в "проблему".
Суббота, 16 февраля 1974
Вчера вечером блины у Штейнов (Вероника Туркина – двоюродная сестра первой жены Солженицына). Несколько "новейших". Необычайно дружественная атмосфера – "русскость" at its best
[180] . Возвращаясь, думал: какие дикие и ненужные препятствия наставило на пути таких людей наше "православие". Как могло бы оно сейчас очиститься, обновиться, засиять! Но для этого нужно то отречение от идолов, особенно идола прошлого, на которое православные меньше всего способны, ибо именно этих идолов они-то и любят в православии.
Перечитывая дневник J.Green, думал, как каждая религия, в данном случае католичество, одновременно и сообщает главное, и ограничивает его. Green все мучается вопросом о числе избранных, предназначенных к спасению. Он успокаивает себя тем, что, хотя отдельные святые об этом говорят, Церковь по этому вопросу не высказалась. Как православному сам этот подход, само это мучение чужды! И не потому, что тут нет "проблемы" – она есть везде и всюду, а потому, что суть веры в том, что она не разрешает, а снимает проблему. Наличие проблем – обратно пропорционально наличию веры.
Родительская суббота. Стоя сегодня в алтаре, я вдруг остро почувствовал, что я две недели не причащался, почувствовал это как очевидное "отсутствие" в моей жизни.
Бог и религия. Не Бог, а религия ставит "проблему мира", и потому как раз, что она часть мира и потому автоматически ощущает проблему соотношения своего с "целым". Но в те редкие минуты, когда сквозь религию пробиваешься к Богу, никакой проблемы нет, потому что Бог не есть "часть мира". В эти минуты сам "мир" становится жизнью в Нем, встречей с ним, общением с Ним. Не Богом становится мир, а жизнью с Богом, радостной и полной. Это и есть "спасение мира" Богом. Но совершается оно всякий раз, что мы верим. Поэтому подлинная вера есть всегда преодоление "религии". И Церковь – не религиозное учреждение, а наличие в мире "спасенного мира". Но ей ужасно хочется быть "религией", и вот она запутывается в "проблемах", для веры не существующих и вредных. Почему никто этого не видит и не понимает?
Вторник, 19 февраля 1974
Суетливый week-end. Суетливый понедельник – весь в заседаниях, делах, разговорах. Вечером у нас – Миша и Анека. Блины. Сегодня вечером блины у Жени и Нелли Трубецких. В оставшиеся свободные часы ни на что как-то не способен. Сегодня утром – опять час в очереди [за бензином].
"Духовность", "церковность" – какие это двусмысленные и потому опасные понятия. Удивительное дело, но почти все те, кого я знал как искателей "духовности", были всегда узкими, нетерпимыми и скучными, безрадостными людьми, при этом всех всегда обвинявшими в "недуховности". И всегда в центре их были они сами, не Христос, не Евангелие и не Бог. В их присутствии не расцветаешь, а, наоборот, как-то духовно "ежишься". Гордыня и эгоцентризм, самодовольство и узость – но зачем тогда эта пресловутая "духовность"? А эти специалисты по "церковности"!.. Какой это маленький и душный мир. Но мне скажут – это не подлинная духовность, это псевдодуховность. Однако где эта подлинная духовность? Может быть, где-нибудь в пустынях и одиноких кельях. Не знаю. Но то, что "профессионально" выдает себя за нее в Церкви, о чем говорят, как о "духовности", меня не только не убеждает, а, напротив, отвращает. Нет ничего хуже профессиональной религиозности! Все эти перебирания четок во время церковных сплетен, весь этот стиль опущенных глаз и вздохов – все это выдохшаяся ужасающая подделка. Эти мысли пришли после вчерашних
разговоров о Солженицыне. Я сказал: я думаю, он не церковный человек, имея в виду его "не-акафистность". Ужас собеседников! "Церковность" – это в наши дни алиби безответственности: христианской, нравственной, жизненной. Словно "церковность" освобождает от заботы о чем бы то ни было другом, главное – о сущности христианства, о его учении, призыве, откровении.
Среда, 20 февраля 1974
Вчера бесконечно для меня радостный, пасхальный день. Около четырех дня телефон из Парижа от Никиты, только что проведшего два дня с Солженицыным в Цюрихе. Слова Солженицына обо мне: "Он родной мне человек". Похвала моим передачам о ГУЛаге. Желание видеть! Весь вечер – в радостном подъеме. Слова Никиты: "Вы правы, он – superman…" Одна только тень: еще труднее делать все то, что я должен делать и к чему так не лежит сердце.
Четверг, 21 февраля 1974
Touch base
[181] – вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, "визит", хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете. Но на глубине, я знаю, мучит не суета, не занятость сами по себе, а внутреннее сомнение почти во всем, что я делаю, в "роли", которую я вынужден именно играть и которая иногда так мне надоедает, что я сочувствую моим "врагам", начинаю понимать обычно так меня огорчающую ненависть их ко мне. Есть только одно, во что мои "враги" никогда не поверят: что эту роль я и сам ненавижу, не хочу ее, что она мне навязана, что я ее не добивался. (Продолжение через две страницы.)
ДНЕВНИК 1936-1937
(продолжение )
Среда, 5 августа 1936
Читаю беседу Серафима Саровского с Мотовиловым. Когда же наконец я обрящу покой, Господи?
Понедельник, 10 августа 1936
Никогда, кажется, кризис сомнения не был так силен, как сегодня утром. Я прямо измучился. Господи, доколе отвращаеши лице Твое от мене, доколе не прострешь руку твою спасти меня. Господи, помоги мне. Богородице, помилуй.
…Совершенная любовь страха не имеет, потому что в страхе есть мучение.
"…и падшие возстают. Остаются в падении только те, которые не хотят встать…" (абба Феодор Освященный).
"Сказал старец: приобретем главнейшее из благ – любовь. Ничто пост. Ничто бдение, ничто труд при отсутствии любви, ибо писано: Бог любы есть…"
Пятница, 14 августа 1936
Успокоение. Освобождение.
Вторник, 18 августа1936
Ничего. Солнце. Беспокойство.
14 сентября 1936
Очень долго ничего не писал. Все думал – нечего писать, да и лень. Должен сообщить: религиозные "искушения" еще не прекратились. О них я писать ничего не буду, трудно, да и я о них столько думал, столько мучался, что писать будет очень больно. Верю, Бог поможет. Вчера мне исполнилось пятнадцать лет. Мы вернулись из деревни, и теперь скоро уже тот же серо-розовый [лицей] Carnot, rue Legendre, compositions
[182]. Но нету отвращения. Напротив, даже хочется… Страшно оторваться от обыденщины и посмотреть на
весь мир сразу . Ужас…
16 сентября 1936
…Вчера вечером был на Сергиевском подворье. Какая благодать и тишина. Правда, чтобы верить в Бога, надо любить Его, а чтобы любить, надо верить. Если веришь, то любишь, если любишь, то веришь.
Воскресенье, 4 октября 1936
Трудный день. "Вся жизнь мудрого есть томление по небесной родине, подготовка к смерти, отрицание мира и всех дел его" (Платон).
"…чтобы спасти погибающий мир, Богу надо было или отнять у людей свободу, разлюбить их (потому что свобода – высший дар любви), или согласиться на то, чтобы Сын Божий пожертвовал Собой за мир… Мертвым догматом будет крест, пока люди не поймут, что на Голгофе свершилась победа не только любви, но и свободы Божественной" (Мережковский "Иисус Неизв.").
Пятница, 7 ноября 1936
Вон сколько времени ничего не писал. Книжечка лежала в столе, и я так и не собрался ее вынуть. Прошел уже целый месяц лицея, целый месяц… дождей и compositions[156].
…В отношении внутреннем очень странно. Религиозных мучений, "трех искушений" нету, и я несколько раз очень хорошо молился, но чувствую, что еще не все кончено, что будет еще взрыв, и еще глубже чувствую, что успокоюсь на Церкви.
Тянет писать стихи. И хотя все это не "то", не настоящее, но все-таки стихи. Прочел Бодлера и Верлена.
Вся жизнь есть борьба с пошлостью во всех ее проявлениях…
Идет дождь. "Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville…" (Verlaine)
[183]. Конечно, должно быть прояснение. И все идет к чему-то светлому… и хорошему. Зачем сомневаться, когда так хорошо жить.
* * *
Четверг, 21 февраля 1974 (продолжение)
Страх смерти – от суеты, не от счастья. Именно когда суетишься и вдруг вспомнишь о смерти, она кажется невыносимым абсурдом, ужасом. Но когда в душе тишина и счастье – и о смерти думаешь и ее воспринимаешь иначе. Ибо она сама на уровне высокого, "важного", и ужасает в ней несоответствие ее только мелочному, ничтожному. В счастье, подлинном счастье – всегда прикосновение вечности к душе, и потому оно открыто смерти: подобное познается подобным. В суете же нет вечности, и потому она ужасается смерти. "Во блаженном успении" – это значит: в смерти, воспринимаемой счастливым человеком.
"Церковность" должна была бы освобождать. Но в теперешней ее тональности она не освобождает, а порабощает, сужает, обедняет. Человек начинает интересоваться "старым" и "новым" стилем, епископскими склоками или же всяческой елейностью. И духовность он начинает воспринимать как необходимость читать скверные книги, ужасающие по своей бедности и риторике, всякие брошюрки о чудесах и чудотворных иконах, всякую сомнительную "поповщину", все время болтать на религиозные теми. Вместо того, чтобы учить его по-своему смотреть на мир, на жизнь, Церковь учит его смотреть на саму себя. Вместо того, чтобы по-новому принять самого себя и свою жизнь, он считает своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, закопченный, постным маслом пропахший камзол так называемого "благочестия". Вместо того, чтобы хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раздражительным, узким, нетерпимым и очень часто просто злым и уже даже не раскаивается в этом, ибо все это от "церковности". Яков в "Убийстве" Чехова – как все это верно и страшно. "Благочестивому" человеку внушили, что Бог там, где "религия", и потому все, что не "религия", он начинает отбрасывать с презрением и самодовольством, не понимая, что смысл религии только в том, чтобы "все это" наполнить светом, "отнести" к Богу, сделать общением с Богом. В сущности все это любовь лесковских купцов к "громкости в служении". Ужас "приходской залы" с портретами архиереев и объявлениями о приходских блинах…
Пятница, 22 февраля 1974
Дождь. Порывы ветра. В доме – все дети Тома и Ани. Чувство покоя и счастья. Вчера все "после-обеда" – на заседании Митрополичьего Совета. Как хорош и светел человек, когда он "не ищет своего…".
Суббота, 23 февраля 1974
Вчера письмо от Никиты, на бумаге Hotel International Zurich. Переписываю его:
"…Всего несколько слов, чтобы поделиться с Вами первым (после жены, по телефону) той фантастикой, которую сейчас переживаю в трехдневном общении с А[лександром].И[саевичем]. после стольких лет тайного сотрудничества и засекреченной переписки, настолько, что он продолжает называть меня прежним, подпольным именем. Впечатление, как Вы можете себе представить, ошеломляющее. Он – как огонь, в вечной мысли, внимании, устремлении при невероятной доброте, ласковости и простоте. Не было у меня встречи в жизни более простой, чем с ним… (он сначала мне позвонил, и телефон меня смутил: я как-то не мог склеить голос, образ и книги). Много говорил о Вас, он уже слышал Вашу радиопередачу о Гулаге и выделил пункт, где Вы говорите о "художественном исследовании". Вообще сказал: "Удивительно, выросли врозь, а вот как мы с о.А. и Вами единомышленники". А прощаясь: "О.Александр – он мне родной…" … Бодр он удивительно, не унывает и не собирается унывать. Страны еще не выбрал: колеблется между Швейцарией и Норвегией (других вариантов и не обсуждает). То, что Вы мне писали в прошлом письме, совершенно подтверждается. Такого человека в русской литературе не было, он и не Пушкин (нет и не может быть той надмирной гармонии), он и не Достоевский (нет той философски-космической глубины в подвалы человека и вверх ко Христу), он Солженицын – нечто новое и огромное, призванное произвести какой-то всемирный катарсис очищения истории и человеческого сознания от всевозможных миазмов. Видите, как и Вы, я помешался, и будем же и вперед с Вами двумя такими сумасшедшими… P.S. Ум невероятный: он все заранее понимает, даже то, что ему еще не сказали. В некотором роде он визионер…"
Понедельник, 25 февраля 1974
"Чистый понедельник". Великий Пост. В субботу и вчера – в приходе в Endicott, N.Y. Неожиданно радостное впечатление – и от людей, и от службы. Это – после недель "бунта" (внутреннего) против Церкви, такое ясное указание: не бунтуй, куда от нее уйти, она плоть и кровь твоя, ты с нею "обвенчан" священством.
Вечером вечерня и обряд прощения в семинарии.
Вторник, 26 февраля 1974
Читаю "За рубежом" Н.М. Зернова: второй – зарубежный – том истории зерновской семьи. В общем, хорошая и полезная книга, своей широтой, доброжелательностью, культурностью. Вклад несомненный в историю эмиграции. О первых годах Движения, Института. Снова поражает сила мракобесия, все это отрицавшего и поносившего – что продолжается и до сего дня. И вдруг – удар в сердце – на ранней, белградской фотографии – милый о. Киприан [Керн], еще студентом. Ощутил, как я его любил, сколько он значил в моей жизни. И укол, и совесть – как легко забываешь, как легко целые пласты выпадают из памяти… Думал о спорах тех лет: "Церковь" или "культура". Личное благочестие, духовный уют – или "ответственность". Русская тема в Православии 20-го века, видимо, не случайная, а очень глубокая, – о ней, в сущности, и Солженицын. Этот кризис обойти Православие не может, это вопрос о веках совершенно отрешенной церковности, о духовном крахе сначала Византии, а потом – России. Но как силен образ этого отрешенного Православия, какое сильное алиби он делает людям, как легко и "благочестиво" – гарантируя чистую совесть – дает он православным "право", в конце концов, мириться со всяким злом, просто не замечать его или же бороться совершенно неверной борьбой, впадать в чистейшее манихейство. Слишком сильна прививка "благочестия", слишком, по-видимому, прекрасно оно в качестве "опиума для народа". И получается удивительная, по своему противоречию Евангелию, двойственность: благочестие и жизнь. К этой последней благочестие не имеет никакого отношения. В благочестии – логика благочестия, а в жизни – логика зла: вот к чему все это неизбежно приводит. Самое же, конечно, удивительное и трагическое во всем этом – это то, что на деле, в глубине, в истоках своих "благочестие" – это именно о жизни и для жизни, что для того, чтобы стать манихейским, оно должно восприниматься сознанием иначе, вопреки тому, свидетельством о чем, призывом к чему оно является. Люди не понимают, какая глубокая "псевдоморфоза" определяет собой историческое Православие. Не понимают глубочайшей "еретичности" своего восприятия и переживания "православия". Православие с маленькой буквы не дает им увидеть, услышать подлинное Православие. Это тема русской литературы, но, за исключением единиц, Православная Церковь ее не услышала. Услышит ли?
Среда, 27 февраля 1974
Вчера – очередная операция десен и, после того, весь день сильная боль. Лежал, читал Зерновых. Несмотря на некоторую расхлябанность тона, на некое излишнее самолюбование – это, в сущности, хорошая и мужественная книга. Трагедия эмиграции. Останется от нее только то, что совершила она в культурном плане. В книге Зерновых особый привкус – "интеллигентского возвращения в Церковь": повышенный интерес к "духовникам", "старцам", послушницам с удивительными глазами, знамениям и т.д. "Движенщина", которой я почти уже не застал в РСХД. Что ни собрание, что ни съезд, что ни
встреча – все "решающий опыт". Очевидно, что на этой экзальтации долго не прожить. А вместе с тем мужественность Н.М. в отстаивании – среди мракобесия и узости – экуменизма. Еще более удивительное мужество С.М. в защите русских, травимых после войны. Все это вызывает глубокое уважение, даже восхищение. Понятно тоже и то, что им хотелось запечатлеть аромат их, по-видимому, необычайно дружной семьи, ее радость. Только для этого нужен большой художник, а то – ненужная сладость и сентиментальность. Здесь, как это ни странно, экзамен лучше всех выдерживает наименее замечательный, наиболее прозаический из них всех – В.М., доктор. Книга погрузила меня в мою "родину" – эмиграцию тридцатых годов, в ее совсем особенную, ни на что не похожую атмосферу.
Булгаков, Зеньковский, Карташев. Запада, в сущности, они не знали и не понимали, знали западную (преимущественно немецкую) науку и философию. Отсюда все-таки несомненная ограниченность их творчества, их вклада. Пушкин и Тургенев – гораздо более всемирны, чем они. Зернов прав – русская церковная элита, в отличие от греков, сербов и т.п., всегда сознавала вселенскость Православия. А вместе с тем жила все же в "византийской" и "русской" перспективе, с вечным оборотом на русскую "особенную стать". В том-то и все дело, однако, что ни Византия, ни Россия сами по себе не "всемирны". Пушкин "всемирен" потому, что все его творчество – до "историософского" соблазна и падения русского сознания. Всякий оборот на себя, всякая попытка a priori отождествить "свое" с вселенским и всемирным сразу же ограничивает, а на глубине ведет и к духовному заболеванию. Все то же вечное правило: "не сотвори себе кумира.
Вчера в церкви за утреней пели целиком вторую часть канона [Андрея Критского]. И еще раз поразил контраст между этой божественно-грандиозной поэзией, где гремит, сокрушает, действует, царствует, спасает Бог, и вкрапленными в нее византийскими тропарями с их платонической сосредоточенностью на "душе моя", с полным нечувствием истории как Божественного "театра". Там грех – не видеть во всем и всюду Бога. Здесь – "нечистота". Там – измена, здесь – "осквернение" помыслами. Там в каждой строчке – весь мир, все творение, здесь – одинокая душа. Два мира, две тональности. Но православные слышат и любят в основном вторую.
Четверг, 28 февраля 1974
Вчера – первая Преждеосвященная. До этого – полтора часа исповедей! Все то же впечатление: сужение "благочестием" человеческого сознания и отсюда – исповедание не грехов, а каких-то, в сущности, не заслуживающих внимания "трудностей". Мой вечный призыв – живите "выше", "шире", "глубже" – в этой перспективе не звучит. Утром вчера как раз лекция о грехе ("реконструкция" таинства покаяния). Его настоящие "измерения" – теоцентрическое, экклезиологическое, эсхатологическое. Но как все это далеко от привычной установки, приводящей к серому копанию в себе. Сколько в Церкви попросту ненужного , но занимающего всю сцену. И как мало воздуха, тишины, света… Сегодня за лекцией толковал изумительный Апостол на Вербное Воскресенье, Флп.4:4-9 ["Радуйтесь всегда в Господе, и паки реку – радуйтесь…"]. Какой это призыв! И как мало звучит он в "историческом" Православии.
"Чтоб полной грудью мы вздохнули
О луговине той, где время не бежит…"
[184]Где это – в церкви?
Залитые солнцем, предвесенние, сияющие дни.
Пятница, 1 марта1974
"Aimer a en mourir quelqu'un dont on n'a jamais vu les traits ni entendu la voix, c'est tout le Christianisme… Un homme se tient debout pres d'une fenetre et regarde tomber la neige, et tout a coup, se glisse en lui une joie qui n'a pas de nom dans le langage humain. Au plus profound de cette minute singuliere, il eprouve une tranquillite mysterieuse que ne trouble aucun souci personel: la est la refuge; le seul, car le Paradis n'est pas autre chose que d'aimer Dieu et il n'y a pas d'autre Enfer que de n'etre pas avec Dieu" (Julien Green. Journal II, 1940-1945, Plon, 41-42)
[185].
Вчера вечером кончали (чтением Митрополита) канон Андрея Критского. Снова то же впечатление – некоей внутренней неловкости от этого насквозь риторического произведения, что особенно очевидно, когда читаешь в переводе (в оригинале или по-славянски есть хотя бы словесная музыка, поэзия). Вся эта "редукция" Библии к оригенистическому морализму… И не в том дело, что упор все время на одиночной душе (Библия – книга и о мире, и обо всем человечестве, и о каждой душе), а в характере этого упора, в его диапазоне. Я вспоминаю, как в какой-то момент моей жизни, после нескольких лет увлечения (под влиянием о. Киприана, конечно) "византинизмом", Византия стала для меня скучной и пресной. Я почувствовал, что отождествление Православия с византинизмом – губительно, грозит сужением православного сознания. Православие нуждается не в возврате к византинизму, а в оценке этого последнего, в оценке его места в истории и жизни Церкви. А вместо этого произошел как раз "возврат", превративший Византию в идола. Типичное идолопоклонство: либо перед Западом, либо перед Византией. А евразийцы прямо махнули к Тамерлану и Чингис-хану. Не дается русским самостоятельность, свобода – ни мысли, ни души. Всегда они в "пленении" каким-нибудь очередным идолом, максимализмом, чьей-то чужой "целостностью". Так же и интеллигенция "возвращалась" к Церкви и Православию как к чему-то внешнему и сразу же, оказавшись внутри Церкви, отказывалась и от мысли, и от свободы, сразу простиралась перед "Типиконом". И во имя этого вновь обретенного "Типикона" с упоением начинала отрицать и оплевывать все лучшее в себе. "Дар всемирного понимания", "Нам внятно все": на вершинах и взлетах русской культуры это несомненно так. Но слаб в ней "логос" и сильна "эмоция". Русские не любят, а влюбляются – даже в Гегеля и Маркса. В "Запад", в "Византию", в "Восток". И влюбление сразу же ослепляет, лишает как раз "внятности" и понимания. Мучительные страницы в "Автобиографических записках" Булгакова о том, как он "влюбился" в Государя. Но он, собственно, всю жизнь во что-нибудь влюблялся и сразу же строил теорию на этом шатком основании. А другие влюблялись в "Отцов", в "икону", в "быт". И всякая "часть" – таков закон этой русской влюбчивости – моментально превращается в "целое", тогда как единственный смысл всех этих "объектов" влюбления, что только как части они и осмысленны, не "идолы". Пушкин России нужен гораздо больше, чем "Типикон". Во имя Пушкина нельзя ненавидеть, резать и сажать в тюрьму. А во имя "Типикона" очень даже можно.
Понедельник, 4 марта 1974
Вчера весь день в Бостоне. Служба в соборе, завтрак в ресторане (где, в гарвардские годы, мы часто бывали с Сережей) с Померанцевыми, лекция о Солженицыне, ужин у Померанцевых с милейшей парой "новоприезжих" – Шиллеры. Утром, в аэроплане, новая солженицынская "бомба": его сентябрьское письмо правительству с программой – отказа от коммунизма, "расчленения" Советского Союза, отказа от индустриализации и т.д. Текст сам в N.Y.Times
[186] не напечатан, комментарии в правильных категориях (национализм, мессианизм, славянофил и т.д.). Нужно подождать русского текста. Но чувствую, что снова – не уложить этого удивительного человека в эти устаревшие категории, что здесь опять что-то новое, требующее для того, чтобы быть понятым и услышанным, отказа от этого привычного "редукционизма".
И это в то время как раз, когда газеты полны статьями о кризисе демократии, о развале Европы, о неслыханном malaise
[187] западного сознания. Мне чудится (хотя, повторяю, нужно подождать текста), что и тут Солженицын окажется пророком, а не ретроградом. Разваливают демократии, в сущности, не идеологии, а экономика индустриализации, непрерывного роста и соответствующее перерождение общества. Не зовет ли Солженицын к концу "гигантизма", к отречению от него, то есть к чему-то совершенно новому, к подлинному перевороту в сознании?
Вторник, 5 марта 1974
Уже по-весеннему тепло, сыро, пасмурно. Сегодня на два дня уезжаю в Syosset на собор епископов, и, как всегда в этих случаях, внутреннее раздражение и мучительное сомнение: нужна ли, правильна ли вся эта сторона моей жизни? Я не верю в христианство вне Церкви, верю в Церковь, но для меня все мучительнее контакт с "профессионалами" церковности, как, впрочем, и с профессионалами благочестия. Страшно душно в этом "церковном" мире. Но что делать – не знаю. И потому раздражение и уныние.
Читал вчера дневники Green'а за военные годы (1940-1945). В Америке – тоска по Парижу. В Париже – по Америке. Как мне это понятно.
Четверг, 7 марта 1974
Два дня на соборе епископов. Запомнится только Преждеосвященная Литургия, которую пели сами владыки. Пели по-дьяковски, вместе с тем очень хорошо, привычно. Поражает эта твердокаменная приверженность, верность, своего рода смирение: не понимаем, не думаем, но вот храним и радуемся, как хорошо храним. Ветхий Завет, а вместе с тем важность этого хранения: потом это "хранимое" ударяет кому-то в сердце своей глубиной, огнем. Не было бы этого "сохраненного", нечем и нечего было бы "зажигать".
Получил вчера в Radio Liberty и затем прочел солженицынское "Письмо к вождям Советского Союза". Снова ощущение той же силы и простоты правды. Эта правда сначала поражает, как наивность, как "чепуха" (не меня, но "искушенного", "современного" читателя). А на деле это, конечно, пророчество, это подлинное различение духов. И это в миллион раз более реалистично, чем все, о чем болтают политики и эксперты. Удивительный, грандиозный человек. По сравнению с этим пророчеством все остальное выглядит, как потемки, растерянность и детский лепет…
Пятница, 8 марта 1974
Только что разговор с М.М.[162]: полное отрицание солженицынского письма, разочарование. "Не в свое дело сунулся", "Жалко", "Смешно" и т.д. Я не удивлен: я с самого начала был уверен, что эмоциональному единодушию и восторгу вокруг С. очень скоро наступит конец. Теперь его будут травить (попервоначалу почтительно, а затем уже и открыто) и слева – "демократия", "конвергенция" и т.д., и справа – "единая неделимая, режь, жги и вешай". Но услышать, понять не захотят. Все это вчера сказал по телефону Никите, с которым наше согласие нерушимо. "Меня эта книга веселит", – говорит он. Страшная плененность людей привычными категориями мысли, неспособность взглянуть по-новому, между тем как призыв к этому "новому" и составляет сущность пророчества. Написал Солженицыну письмо.
Вчера собрание у нас семинарских женщин – матушек и будущих матушек. Ведь вот, тьма в мире (газеты, телевизия), а сколько хороших людей, простых, доброжелательных, скромных. И как легко все это испортить.
Суббота, 9 марта 1974
Литургия в семинарии с еп. Григорием (Афонским) с Аляски. Вчера после дня спокойной работы дома – ужин у Сережи и Мани. Поздно вечером у нас Аня и Том со всеми детьми. "Несрочная весна"
[188] . Правда и красота малых дел, с виду малых радостей. Обо всем этом думал сегодня, идя в церковь и почему-то вспоминая чей-то стих: "И март весенний, грустный, ранний, меня поддерживаешь ты…"
Вторник, 12 марта 1974
"Господь пасет мя и ничтоже ми лишит…"
[189]. Сила молитвы, когда говоришь Богу: "Я не могу, но Ты можешь… Помоги". Когда всем существом узнаешь, что "без Меня не можете творити ничесоже"
[190].
Вчера в New York Review of Books длинная и очень хорошая статья о "Гулаге" George Kennan'a. А также автобиография Андрея Сахарова.
Уныние от суеты, завала дел и телефонных звонков. Утром настоящая боязнь идти в семинарию, погружаться в эту суету, растерять то, что само "созидается" в часы одиночества.
"Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre?" A.Gide
[191].
Среда, 13 марта 1974
Вчера длинный разговор с А.Б. Два человека – девочка, которую он любил, и еще кто-то – порвали с ним, потому что он не верит "по-православному". Объяснял свое отталкивание от Церкви, невозможность верить "по-церковному", "непромокаемость" к "учению". При этом лучезарный мальчик, светящийся добром и любовью к людям. Что можно сказать таким людям? Или, вернее, как "защищать" все то, через что уже почти не просвечивает христианство? Опять та же мысль: тем, кому дан
дар жизни – и это значит: "религиозное" ее ощущение, гораздо меньше нужна "религия", которая почти всегда от недостатка, а не от преизбытка, от страха перед жизнью, а не от благодарности за нее. И эта безрадостная, безжизненная религия отталкивает. Отталкивает прежде всего потому, что обращена к жизни осуждением и злобой. "Всегда радуйтесь, за все благодарите"
[192] : это разве звучит в нашем измученном собственной историей христианстве?
Читаю книгу M.Green "The von Richthoten Sisters"
[193] . Духовная история столетия 1870-1970. Всех взрывов, поляризаций, восстаний, тупиков. D.H.Lawrence и Max Weber. Маркс и Фрейд. "Патриархат" и "матриархат".
Разум и инстинкт. И, конечно, страшнее всего в этой истории – почти полное отсутствие христианства как видения, как term of reference
[194] , как возможного выхода из всех этих тупиков. Второй после Возрождения распад христианской интуиции мира. Возрождение: восстание против него во имя "личности". Наше столетие: восстание против него во имя всего "безличного", всех "глубин" жизни. И здесь, и там, следовательно, во имя того, что христианство "открыло" и "привило" человеческому сознанию и с чем само не справилось, ставши казенной религией (лютеранство и бисмарковская Германия, православие и византино-славянский мир, католичество и Западная Европа), ставши формой, санкцией, подпорой, социально-политическим "тотемом". Поэтому, начиная с Возрождения, все то, что определяло собой историю, что вдохновляло, взрывало, меняло человеческую судьбу, уже не было христианским, а на глубине было восстанием против него. И еще на большей глубине – восстанием против измены христианства самому себе.
Четверг, 14 марта 1974
Что это "казенное" христианство выдохлось, кончается, выпадает из истории – в этом, пожалуй, нельзя, да и не нужно сомневаться. Это кризис, но в положительном, библейском смысле слова. "Проходит образ мира сего", и казенное христианство, связавшее себя с одним его образом, как будто "не преходящим", потому-то и должно, потому-то и не может не освободиться от этой своей казенщины. Но для этого оно должно "всего лишь" стать самим собой. Сейчас налицо – две реакции на кризис. Те, для кого мир кончается потому, что один "образ" его, самим же христианством абсолютизированный, пришел к концу. Те, кто уже готов абсолютизировать новый его "образ", к тому же еще неведомый, становящийся. И здесь, и там отсутствие "пророчества" как различения, понимания, предвидения, чтения воли Божией и воли дьявольской. Одни романтически смотрят в прошлое, другие, столь же романтически, – в будущее. Но прошлое как прошлое – то есть не понимаемое, абсолютизированное, не претворяемое в настоящее, – только груз, только идол, яд, отравляющий организм своим собственным разложением. А будущее как только будущее есть бегство из настоящего, "мечтание" и "прелесть". Для христиан то, что преодолевает прошлое как прошлое и будущее как будущее, что дает им реальность, но и освобождает от них, это – Христос, Который "вчера и сегодня и во веки Тот же"
[195].
"Ересь" Ф. – абсолютизирование им "эллинских" категорий в христианстве – только градусом отличается от "ереси" старообрядчества. Как раз "категории" не могут быть абсолютными, потому что они-то и являют "преходящесть" образа мира сего. Категории преодолеваются творчеством: какие "категории" у Шекспира или Пушкина? И если они есть – в чем их интерес? Не в том ли и все дело, что, каковы бы они ни были, творчество их "претворило" и торжествует над временем, то есть над всеми категориями? Но творчество всегда из жизни и о жизни, никогда о "категориях". Отсюда вечное, непреходящее торжество Библии. Она откровение, но Самого Бога, самой жизни, самого мира, а никак не "категорий".
"Он пришел к Церкви…" Двусмысленность, опасность этого выражения. К Церкви можно прийти по тысячам причин, из коих многие совсем не положительные, даже опасные. Нужно "прийти ко Христу". Павел обратился к Христу, а не к "церкви", и потому Церковь для него была только и всецело жизнью со Христом и во Христе. Но вот росла, росла и выросла в истории "Церковь" сама по себе, которую можно любить (даже "влюбленно"), к которой можно "обращаться", которой можно жить, но отлично от Христа…
Воскресенье, 17 марта 1974
Все эти дни – писание, пускай даже и урывками, моего "Of Water and Spirit"[170], вдохновляющее и радостное. В каком я счастливом настроении, когда могу работать над любимым, прикасаться к "единому на потребу"!
Вчера съезд в Yonkers. Ужасно не хотелось, встал в плохом настроении. Но на пути – дождь, ставшее мне за двадцать с лишним лет близким, даже родным, уродство американских рабочих пригородов (где неизменно ютились наши пролетарские, славянские церкви) – как-то чудесно "обратился". Вдруг почувствовал грех этого нежелания, измену. Ведь это мое дело: "во благовремении и не благовремении…" И вот, было хорошо и светло – и во время съезда, и весь день после.
Вечером – вынос креста. Продолжающийся внутренний подъем и свет. Тут – вся правда, тут единственная победа!
А утром сегодня (не пошел в церковь, так как уезжаю на "миссию" в Пенсильванию), пиша очередной скрипт для радио "Свобода", – опять освобождающая радость от солженицынского "Гулага". "Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением" (стр. 175).
Понедельник, 18 марта 1974
Лучезарный, ветреный, весенний день. На Пятой авеню на ярком солнце развеваются и хлопают от ветра огромные флаги. Чувство праздника.
В сущности, приезд Солженицына знаменует закрытие "эмигрантского сезона". Эмиграция как целое, как "другая" Россия – кончена и должна была бы это признать, чего она, конечно, не сделает, и гниение ее будет продолжаться.
Четверг, 21 марта 1974
Вчера Преждеосвященная в East Meadow. Проповедь. Лекция о Солженицыне. Полная церковь. Причастие из двух чаш. Внутренний подъем от всего этого погружения в саму реальность Церкви. Утром лекция о покаянии, одна из тех, редких, когда получаешь внутреннее удовлетворение. Днем – несколько часов писания "Крещения", тоже с радостью. Наконец, поздно вечером, после лекции, – полчаса у Коблошей с ними и с Губяками. Радостное чувство братства, единства, любви. Почему нужно все это записывать? Чтобы знать, сознавать, сколько все время дает Бог, и греховность нашего уныния, ворчания, нерадости.
Смотря на толпу в церкви, думал: "Скрыл от мудрых и открыл младенцам"
[196] . Сложность, снобизм, дешевая сентиментальность эмигрантского подхода к Церкви, простота этих, презираемых эмигрантами, "американцев".
Воскресенье, 24 марта 1974
В пятницу радостное письмо от Никиты: "…вокруг Троицы он (А.И.Солженицын) Вас приглашает к себе отслужить Литургию и приобщить всю семью. До этого он "церковной" жизни не начнет…" Теперь жду письма от самого.
Вчера пришел запоздавший "Вестник" (108-109-110!). Читал до двух утра, как говорится – "с неослабевающим интересом". Это единственное во всем православном мире издание, которое берешь в руки с радостью, которое возвышает и вдохновляет, а не вызывает некую духовную изжогу.
Среда, 27 марта 1974
В воскресенье вечером и в понедельник хорошо отпраздновали Благовещение. Полнота радости. Прорыв к нам – из сияющей вечности – "архангельского гласа". Но как трудно сохранить праздник, его светом жить. Точно, "отпраздновав", все начинают стремиться как можно скорее заглушить эту тишину, радость, свет, поскорее погрузиться в привычную суету.
Вчера с Льяной в Нью-Йорке. Покупки. Детское чувство свободы и праздника.
Четверг, 28 марта1974
"Complication verbale, artificielle, singularite premeditee et appliquee, fausse profondeur, pure alienation intellectuelle"
[197] . Эти слова Leautaud, написанные им в 1949 г . (J.L. 18, 11), можно было бы отнести, в еще большей мере, ко всему тону современной культуры. Думаю это по прочтении двух номеров Express'a. Голый король!..
Etat de reverie. Этому французскому выражению нет настоящего русского перевода, выражения, которое бы соответствовало ему полностью. Не "мечтательность" и не "мечтание". Думал сегодня: "греховно" ли оно, хорошо – то есть состояние reverie – или же нет? Ибо мне ясно, что это мое излюбленное состояние: полураздумье, полусозерцание. Погружаюсь я в него чрезвычайно легко и при каждом удобном случае, отрываюсь от него – всегда с трудом и усилием.
Сегодня рано утром – Мариино Стояние. Вчера вечером Преждеосвященная, которую служил архиепископ Иаков, в сослужении со мной и о.Иоанном Мейендорфом.
Достигать полного и настоящего, а не показного, равнодушия к тому, что о тебе говорят. Раньше я был очень чувствительным к этому: меня угнетало непонимание, несправедливость, вражда – всегда, по моему убеждению, незаслуженная. Но я с радостью убеждаюсь в том, что освобождаюсь от этой чувствительности. Особой заслуги нет: тут, как и всюду, привычка. К этому приучает Сам Бог. В эти дни умирает Аркадий Борман, поливавший меня грязью все эти годы. Ни малейшего чувства враждебности. Только жалость ко всей этой "passion inutile"
[198].
Один за другим – лучезарные, холодные дни. И вот уже завтра: "Радуйся егоже радость возсияет: радуйся, заре таинственного дня…" С детства – любимейший день.
Суббота, 30 марта 1974
Весь день вчера – снежная буря. Весь день – дома, "bien au chaud"
[199] , как говорит Мегре. Вечером – акафист, порыв радостного любования, бескорыстной хвалы. По телевизии – приезд в Цюрих семьи Солженицына, он, несущий на руках своих мальчиков. Виденье чего-то простого, вечного, светлого: той жизни, которую калечит, извращает и демонически разрушает суета и злоба "мира сего". Но "всуе мятутся земнороднии…" Только это и живет и пребывает.
Размышления о стиле. Читая Leautaud, например, совсем забываешь, вернее – не сознаешь все время, что он пишет по-французски. Язык и человек сливаются до конца, и язык полностью, до конца выражает человека. Но это очень редко. Обычно decalage
[200] остается. И чем он больше, тем "ограниченнее" писатель, тем больше чувствуется он, как только русский, только француз или, что еще хуже, – только писатель. Принцип перевода: писать так на этом языке (на который переводишь), как писал бы на нем писатель, которого переводишь, если бы именно этот язык был его языком. Проникновенье, иными словами, в писателя, а не в его "язык", или в язык, как его язык. Перевод передает не "стиль", а мироощущение автора. Засим вполне допустимо, что мироощущение это, тем не менее,
только французское (как, думается, в случае Leautaud). Но тогда и переводить "не стоит", ибо во "французское" (а не "всечеловеческое") мироощущение доступ один: язык.
Вторник, 2 апреля 1974
В воскресенье русская лекция в Бостоне. Ж.П.: "Как я рада, что они Вас слушали, если бы Вы знали, что о Вас говорят…" Сперва меня это всегда удивляет: откуда эта ненависть, эти самые невозможные небылицы, эта – у некоторых – буквальная "одержимость" мною? Но скоро убеждаюсь, с радостью, что это перестало, как раньше, выбивать меня из колеи, лишать спокойствия. Постепенно начинаешь всему "знать цену", главное же – человеческим пристрастиям, "популярности", "непопулярности".
Вчера днем – на короткое время в Wappingers [к дочери Ане], а потом вдвоем в Kent
[201] . "Ностальгическое" путешествие: как мы любили эти поездки к Сереже в его годы учения в Kent School, 1957-1963. Ехали по маленьким дорогам, через горы, этот особый уют Новой Англии. Ужинали в ресторане, куда ходили с детьми. Все голо, но в воздухе unmistakably
[202] чувствуется, пробивается весна.
Пятница, 5 апреля 1974
Письмо от Солженицына:
"30.3.74
Дорогой отец Александр!
Простите, что до сих пор не написал Вам: очень трудно жить, пока освоишься, – не то что до серьезной работы, не то что на письма отвечать, но даже распаковать их и рассортировать не хватает сил (уже за 2000, наверно).
Мне говорил Никита Алексеевич, что Вы собираетесь к Троице в Европу. Если так, то спишемся – и приезжайте-ка Вы к нам в Цюрих на денек-другой. Много набралось, о чем поговорить. Здесь на Западе, в частности, остро встал не совсем понятный для меня вопрос о множественности православных церквей за рубежом. Уже были у меня кое-какие встречи, и я хотел бы получить от Вас разъяснения. Но раньше того и сердечней того хотелось бы мне у Вас исповедоваться и причаститься. Да и семья вся, наверно. Возможно ли это? Обнимаю Вас! Душевно Ваш. А.Солженицын".
Радость от этого письма, от его простоты, скромности, непосредственности.
Эти дни:
Во вторник: разговор на радио "Свобода" с В.Б., одним из "новейших". Об отталкивании его от "новообращенных", об их гордыне, жестокости, самодовольстве. О поисках в религии нового порабощения. Впечатление очень тяжелое.
В среду утром – полет в Монреаль. Чудный весенний день. Так как никуда не торопился, то с аэродрома сел на автобус в город, потом в метро. Любимое чувство: одиночество и свобода, в солнечное утро, в чужом городе, живущем своей будничной жизнью, а для меня – праздничной. Лекция в [университете] McGill. Вечером удивительная Преждеосвященная – хор молодежи под управлением Лизаньки Виноградовой. Умиление до слез этой молодежью, которая, несмотря на все, несмотря на тупое сопротивление "старших" (безысходный грех русской эмиграции), тянется к подлинному, находит его и снова зажигает все светом.
Смерть в Париже Помпиду. Страшное волнение, внутреннее "участие": как все-таки Франция и все, к ней относящееся, мне близки. Сколько "родин" может иметь человек?
Маленькая Вера
[203] . Рай, открытый детям, из них сияющий.
Сегодня – последняя великопостная утреня. Нарастание Лазаревой Субботы, всего высокого, во что вступаем…
"Несрочная весна…"
Лазарева Суббота, 6 апреля 1974
Какой удивительный праздник! "Общее воскресение прежде твоея страсти уверяя…" Действительно – "удостоверяет", действительно – поглощает смерть победой. Вершина Православия в его последней подлинности, в его глубинном опыте. Причастие детей.
Вчера вечером – телефон от В.Н.Чалидзе. Полное возмущение на солженицынское "Письмо вождям". Так же, будто бы, и Сахаров. Это, конечно, за приятие в России "авторитарного режима". Только у Солженицына реализм – от жизни, от опыта, от "зрячей любви", а тут – идеи. Высокие, прекрасные, но ненужные. Россия и демократия. Правовое сознание. Но оно предполагает некую интуицию человека, без нее оно не живет.
Великий Понедельник, 8 апреля 1974
Хорошо отпраздновали Вербное Воскресенье. Торжественные службы. Масса народу в церкви. Вчера весь день в доме – внуки, и Анины, и Сережины. Вечером – "Се Жених…" Все сады вокруг нас светятся цветущими форситиями.
Чехов ("Письмо"): "…наказующие и без тебя найдутся, а ты бы… милующих поискал!"
Светлый Вторник, 16 апреля
Страстная и Пасха с обычной для них напряженностью, нарастанием, полнотой. Всегда волнуюсь о том, чтобы все прошло хорошо, и, слава Богу, всегда тот же подарок с неба. И опять то же чувство: как легко все это – всю эту красоту, полноту, глубину – превратить в "самоцель", в "идола". Ибо как только применишь это к жизни – страшное сознание, что в жизни это – крест. То, чему учит, что раскрывает Страстная и Пасха, – это такой замысел о жизни и победе, который действительно, как оружие, "проходит сердце".
Два дня суматохи в доме – дети, внуки.
В пятницу, после выноса Плащаницы, – полтора часа с Коржавиным. Сегодня – Чалидзе и Литвинов.
Вчера в New York Times ответ Сахарова Солженицыну. Растущее кругом раздражение на Солженицына. И, как всегда, не знаю, что ответить "рационально". Умом я понимаю это раздражение, понимаю все возражения Сахарова – умеренные, обоснованные, разумные. Но сердцем и интуицией – на стороне Солженицына. Он пробивает стену, он бьет по голове, он взрывает сознание. Вечный конфликт "пророчества" и "левитства". Но пророк всегда беззащитен, потому что против него весь арсенал готовых, проверенных идей. Трагедия пророчества в том, что оно не укладывается в готовые рамки и их сокрушает. Только этого и не прощают пророку. Борясь с ним, его идеи излагают в тех категориях, которые они – эти идеи – и ставят под вопрос. И он выходит каким-то дураком. Вот почему нужно "истолкование пророчества" – в этом, может быть, и состоит назначение культуры.
Светлая Среда, 17 апреля 1974
Вчера вечер с В.Н.Чалидзе и П.М.Литвиновым. Этот последний мне очень понравился: светлый, открытый и – чувствуется – глубокий. Оба настроены крайне отрицательно по отношению к солженицынскому "Письму". Мне кажется, что от "единого фронта" этих диссидентов далеко, так наболело у каждого и так каждый бурлит своим, "выношенным". Все за свободу, но каждый остро и жестоко "анафематствует" каждого… Грустно.
Таких дней, такой ясности, такого солнца, кажется, никогда не видел. И каждое утро – пасхальная обедня и крестный ход. Если бы "это" предложить всем или, вернее, то, что – с такой победной силой – льется из всего этого.
Тоже вчера – завтрак с милым о. Кириллом Фотиевым в ресторане, потом длинная прогулка по Нью-Йорку.
Чтение французских журналов: "L'Express", "Le Point". Предвыборная лихорадка. Правота "консерваторов": ощущение народа как целого. Ошибка "левых": сдача перед "классами" и "экономикой". Ошибка "правых": подчинение мифу "величия". Правота "левых": отрицание этих мифов. А в общем – две мифологии.
Перечитываю свою записную книжку 1936 года:
ДНЕВНИК 1936-1937
(продолжение )
…в доверии к Богу, к себе, к людям…
Нет, хорошо, хорошо. "Pour un coeur qui s'ecoeure, o le chant de la pluie…"
[204].
Понедельник, 30 ноября 1936
Ничего не пишу, потому что забываю. Да в общем ничего важного и не случилось. Два раза в месяц езжу на собрания по изучению Православия, Католичества и Англиканства, а летом, наверное, в Англию.
90
Слушал Зеньковского и о. Михаила Осоргина. Последний в особенности очень хорошо говорил. Прочел "Иисуса Неизвестного". Я думаю, что самые животрепещущие, страшные и великие вопросы в христианстве: о Евхаристии, о предопределении, о чуде.
Четверг, 10 декабря 1936
Был у о. Михаила Осоргина. Разговаривали о предопределении, о пресуществлении.
Тишина – гармония звуков. Предопределение – как спасение всех. Великий человек может спастись, если хочет. Предведение Божие (апостол Павел – ревнитель о Господе и гонитель христианства). Понять все душою, а не умом (Литургия). Главное – любовь к Богу, любовь к ближним. Любить. Понял, но еще не душою. Ждать просветления. Сомнения бывают только у верующих людей. Подчинение ума – духу.
Пятница, 11 декабря 1936
Вчера был у о. Михаила Осоргина в Clamart. Много нового, хорошего – такой от него исходит покой.
Еще не совсем разрешил предопределение.
Пишу стихи.
Погода серая и туманная, и Париж тоскует.
Кончается год.
Об обедне – очень ясно говорили. Трудно, но можно…
‹…›
К таким вопросам, как Евхаристия и предопределение, нельзя подходить умом, логикой: "если – значит…". Надо душой. В каком-то восторге, экстазе, напряжении открывается и познается все. Без любви к Богу – нельзя. Не говорить: "Сначала пойму, потом полюблю". Надо: "сначала полюблю, потом пойму". В этом – весь секрет Богопознания. Главное благо – единственное и незаменимое – это мир душевный, и этот мир не противоречит вышеуказанному "восторгу".
* * *
Вторник, 23 апреля 1974
Внезапная, всех поразившая смерть Сережи Бутенева в прошлый четверг [пятьдесят два года]. Я приобщил его в госпитале в среду ночью. Отпевали в Светлую Субботу – удивительным, радостным, торжествующим пасхальным чином. Как случилось, что Церковь – за исключением этой одной недели – просто потеряла то, что должно было бы быть христианским погребением? Предпочла тональ-
ность, морбидность, мрачную "делектацию"
[205] своих теперешних, не-христианских похорон? Маленький Петя Бутенев своей матери: "Я понял связь между Пасхой и смертью". Но ведь связь эта и есть христианство. Педагогика страха и ада: но она не действует. И вот, не понимают больше: "Поглощена смерть победой". И выдыхается христианство со всеми своими догматиками…
В субботу – пасхальная открыточка от Солженицына.
В пятницу – крещение Лили Штейн.
Вчера – Mary Washington College в Fredericksburg, Virginia. Лекция о Солженицыне.
Усталость от напряжения всех этих дней, от массы мелких забот. А, может быть, от того, что после субботнего прорыва – этого пасхального погребения, службы, как бы несшей всех нас в своем ликующем утверждении, – трудно возвращаться к маленьким заботам и суете, которых так много в моей жизни. Осталось три недели!
Текст сахаровского заявления по поводу "Письма вождям". Замечательный по тону, по убедительности. И все, конечно, рукоплещут (вчера на радио "Свобода") и готовы обрушиться на Солженицына (давно хотелось!) Но вот не видят того, что именно вся "правда" Сахарова – весь этот рациональный, умеренный, проверенный подход – что все это как раз и обанкротилось в два страшных "века разума". Что это тупик. Что Солженицын с медвежьей неуклюжестью и своеобразной "слепотой" ломает стену, призывает нас взглянуть не туда, по-другому, по-новому. Сказал вчера Корякову по этому поводу: "Да, слепы люди, низки тучи – и где нам ведать торжества!"
[206].
Пока писал эту страничку – четыре телефона!
Среда, 24 апреля 1974
Весь день в семинарии: утреня, потом лекции, потом писание писем, аж до головной боли! И все время кто-то заходит, "дела", то-сё… И поражаешься, в каком маленьком и душном мире все это живет, какими страстишками волнуется, как от всего этого хочется бежать. Лишний раз чувствую всю ограниченность, ложь всякого "клерикализма", всех этих "церковных интересов". "Интерес к религии", но не к жизни преизбыточествующей, не к радости, не к полноте.
Пятница, 26 апреля 1974
Переворот в Португалии, приближающиеся выборы во Франции, Watergate и impeachment
[207] здесь. В высшей степени подозрительное – ибо возбужденное, упрощенное, поверхностное – "религиозное возрождение", с тягой на мистику, экзорцизмы, "технику молитвы" и т.д. Вчера рассказ Тома о посещении его двумя бенедиктинцами-монахами, ищущими "эксперта" по Пахомию Великому для чтения им лекций, якобы необходимых для их "молитвенной жизни". Какое все это безумие! Чувствую, что единственное правило в жизни – чуждаться всякой моды, всякой волны, всего того, что на гребне волны.
Вчера совет профессоров – вот уже свыше двадцати лет я удивляюсь – как можно так не понимать! Так не слышать!
Прочел книгу "левого" журналиста Jean Lacouture. Все то же чувство – мне одинаково противны – и уже давно – и правые, и левые.
Суббота, 27 апреля 1974
Утром свадьба М. Оболенского в пустой церкви. Насколько осмысленней наших торжественных и опустошенных "светских" свадеб!
Потом отвозил венцы в Yonkers: бедные домишки, садики, мастерские, люди, идущие за покупками. Как будто свежий воздух, сама жизнь!
Лучезарный, почти летний день. После обеда два часа сидел на солнце, перечитывая "Le Revolver de Maigret"
[208] . Сплошное счастье, несмотря на уколы совести (стол, заваленный незаконченной работой…)
Но зато как хороша церковь в эти пустые утренние часы, с солнечными лучами на иконах. "Царство Божие посреди вас есть". О чем читать лекции? И вести диалоги? И какие проблемы решать? Христианство "болтающее" – это, в сущности, новая глава в его истории. Когда люди поставили "проблемы", они перестали радоваться, благодарить и молиться.
Понедельник, 29 апреля 1974
Убирая и переставляя книги, случайно перелистал "Souvenirs d'enfance" E.Renan. О St. Sulpice: "L'echo des discussions passionnees du temps franchissait parfoir les murs de la maison; les discours de M. Mangin… avaient surtout le privilege d'emouvoir les jeunes. Un jour, l'un de ceux-ci lut au superieur, M. Duclaux, un fragment de seance qui lui parut d'une violence effrayante. Le vieux pretre, a demi plonge dans le Nirvana, avait a peine ecoute. A la fin, se reveillant et serrant la main du jeune homme: "ou vout bien mon ami, lui dit-il, que ces homes la ne font pas oraison…" Ces vieux sages consommee ne s'emouvaient de rien… Un jour on entendit quel-que bruit sur la place St. Sulpice: "Allons a la Chapelle mourir tous ensemble", s'ecria l'excellent M., prompt a s'enflammer. – "Je n'en vois pas la necessite", repondit M. …et l'on continua de se promener en groupe sous les porches de la cour". (Nelson, p.159).
"…solide doctrine, repudiant l'eclat abhorant de success…" (Ibid, p.162)
[209].
Сегодня рано утром в Нью-Йорк (приехал с Л. и было рано идти на радио "Свобода"), зашел в St. Patrick
[210] . Там кончалась месса, человек сорок причастников. Много людей, погруженных в молитву, рассеянных по всему храму. Эти люди, молящиеся в будничное утро, в самом сердце "Вавилона", всегда увлекают меня за собой. Прикосновение к душе "мира и радости в Духе Святом".
Совсем лето. Наш Crestwood утопает в цветущих деревьях. Вчера весь день дома: уборка моей комнаты (в ее хаосе уже больше нельзя было работать), прогулка с Л., два радиоскрипта о "Гулаге".
В метро, в давке, думал сегодня утром о "рабочем вопросе". Тупик в том, что они хотят точно того же самого, чего хотят их "эксплуататоры", та же шкала ценностей. Если бы они хотели другого! Но того, что они хотят, достичь, по всей вероятности, можно только при капитализме и экономическом неравенстве. Порочный круг. И обман демагогов, уверяющих, что "равенство" возможно. Утомительная ложь и пустота всего этого.
Среда, 1 мая1974
"Quand le poete s'en va, la vraie foi n'est pas loin" (Francis Jeanson, Sartre dans sa vie, Seuil, 1974, p.191)
[211].
Четверг, 2 мая 1974
Книга Jeanson о Сартре. Jeanson (сам атеист и восторженный поклонник Сартра) хорошо показывает, что, в конечном итоге, все – и в жизни, и в мысли Сартра – исходит из
веры . И предпосылки –
свобода и, конечная цель,
человек – суть прыжки, leaps of faith
[212] , они ни из чего не вытекают, ничем не доказаны, суть "абсолют" веры. Это надрывный атеизм, это вера в атеизм, выбор атеизма, ненависть к религии, но религиозная. Поэтому от мысли Сартра ничего не остается, но остается трагическая судьба человека, всю жизнь хватавшегося за любой "абсолют", лишь бы это не был Бог, христианство, Христос. Единственный настоящий вопрос потому – это вопрос о причинах, истоках этого страстного, действительно фанатического отказа и отречения. Одна причина, так сказать "положительная", – это
радикализм , привитый христианством новой культуре, человеческому сознанию. Радикализм – то есть эсхатология, то есть отрицание "мира сего" как демонического "образа" во имя подлинного творения, божественного космоса. Вторая же причина, "отрицательная" (и даже демоническая), – это, конечно,
гордыня , восстание уже личное против Бога. Сартр готов поработиться чему угодно – истории, "молодежи" и т.д., готов бичевать себя, но все это остается пронизанным неслыханной гордыней.
Трагичнее же всего, конечно, это ответственность Церкви – и за отчуждение радикализма от христианства, и за антихристову печать этого нового, не христианством вскормленного радикализма; ответственность, укорененная не в грехах и слабостях, а в отречении от эсхатологизма, в принятии "религиозной функции", в замене веры – благочестием, Церкви – "освящением", панихидами и молебнами, Христа – "сладчайшим Иисусом", Божией Матери – сентиментальным причитанием, свободы сынов Божиих – рабьим страхом нарушить Типикон, спорами о "каноничности" и измерением "благодати", в замене богословия – "богословской наукой"…
Вот читаешь такую книгу о Сартре – и всем существом осознаешь и ощущаешь, что все тут – страшный, слепой, мучительный вопль о христианстве и к христианству. Атеизм, пронизанный религиозной жаждой, с одной стороны; религия, пронизанная атеизмом, – с другой: вот контекст, в котором нужно жить и работать!
Гордыня . Она оттого (хотя бы отчасти), что человек думает (и его так учат все "религиозники"), что смирения требует Бог или, иными словами, что Бог, потому что Он Бог, может быть "гордым", а нам – ничтожной твари – подобает быть "смиренными". Отсюда вывод – религия "унижает" человека и т.д. На деле же, конечно, смирение как раз Божественно , и его как Божественное, как суть Божества являет Христос. Слава и величие Божие – в Его смирении. И вот характерно, например, что у Сартра настоящая жажда смирения , настоящая в смысле подлинности. Он отвергает Бога, потому что он думает, что Бог – это гордыня и гордость , требующая порабощения, то есть признания гордости, смирения как онтологического закона Божия, утвержденного религией. И это подтверждается тем, что Бердяев называл "гордостью смиренных" и что является, увы, основным извращением христианского благочестия, действительного рабьего и рабской психологией пропитанного. Но если бы он – Сартр – понял, или не понял, а ощутил каким-то для него, как и для всей нашей культуры, недоступным "озарением", что смирение Божественно, а гордость – от маленького и мизерного дьявола, который первый "обиделся" на Бога и подумал, что Бог – "горд", то, может быть, все переменилось бы. Но это основное духовное недоразумение – об онтологии смирения – больше всего питается самой религией, больше того, есть исходная предпосылка религии, разрушенная Христом, но вечно возрождающаяся в религии, в присущем ей "антропологическом минимализме".
Суббота, 4 мая 1974
Завтра – выборы во Франции. Купил французские журналы – L'Express, Le Monde – и весь вечер вчера читал. Ужасающая слепота Запада, это дешевое увлечение всем, что "слева", разлив демагогии. И все это после страшного опыта всех этих десятилетий, после "Гулага". Действительно – ушами будут слышать и не услышат, глазами смотреть – и не увидят
[213] … Стихийный закат Запада.
В четверг вечером – лекция о Солженицыне в Lafayette College, в Пенсильвании. Поездка туда – весенним вечером, через поля, фермы. Удивительная красота и радость ранней весны. Хороший вечер, милые люди. Все зло от "идеологий", от идеологизма. Цель и критерий власти: "общее благо", и только. Но оно как раз не "идеологично".
Понедельник, 6 мая 1974
В Binghampton, у о. Бориса Власенко. Проповедовал на утрени, проповедовал на Литургии, две "беседы" с прихожанами, потом – с двух до пяти: собрание с местным духовенством. В общем полюбил эти "погружения в базу", и меня совсем не смущает чудовищная примитивность вопросов, волнующих людей (нужно ли женщинам покрывать голову в церкви, календарь, обряды), – в них все же больше подлинности, чем в разговорах о "духовности".
Среда, 8 мая 1974
Преполовение. Ранняя Литургия. Цветущее блаженство мая: день за днем такое сияние, такое цветение, что диву даешься. Завтра – последние лекции в этом учебном году. Письмо от [брата] Андрея.
Понедельник, 13 мая 1974
В субботу открытка от Солженицына (в ответ на мое письмо об отелях и т.д.):
"Дорогой о. Александр!
На аэродроме Вы возьмете такси и немедленно приедете ко мне. Отсюда мы тотчас выедем с Вами в горы , где Вы и проведете у меня сутки-другие (и выспитесь отлично). Там и наговоримся. Я настоящий собеседник – только вн е города. В последний день вернемся домой, и тут отслужите.
Поверьте – это лучшая программа, которую я не предлагаю никому. Никаких отелей! Обнимаю Вас и жду…"
Вторник, 14 мая 1974
На прошлой неделе – два дня в Rochester. Лекция. Две телевизии. Прием. Журналисты. В субботу – лекция семинаристам-грекам, тихоновцам и нашим. Исповеди. Всенощная. В воскресенье – Бостон. Вчера – радио "Свобода". Письмо и речь Митрополита на завтрашнем Синоде. И т.д. И при этом – ларингит (без голоса) и качающиеся зубы… И от всего этого загромождения – опустошается душа…
После разговора с D.D. в аэроплане (из Бостона) думал о своей жизни. Я ощущаю себя неизменно "созерцателем" – не в смысле, конечно, какой-то напряженной "духовной жизни" (о нет!), а в житейском смысле. Я люблю читать, думать, писать. Люблю друзей и спокойствие и бесконечно счастлив один, дома, с семьей. А вместе с тем вся моя жизнь – одна сплошная обреченность
на "действие" – в церкви, в семинарии и т.д., на "решения" и на "ответственность". Как бы сказать? Меня постоянно
вмешивают в дела, в которые я совсем – нутром – не хочу вмешиваться. Многие, если не все, считают меня, наверное, необычайно властолюбивым, амбициозным человеком, "активистом". Но, по совести, я знаю, что я этого не хочу и не ищу. Откуда же это и почему – всегда приходит? Я вмешан решительно во все и всюду, во всем оказываюсь своего рода "ответственным", если не козлом отпущения. И вот в 52 года я так и не могу решить: что мне делать? Принять это "вмешивание" и нести его – при всем внутреннем нежелании, отталкивании – или же пытаться освободиться? Что правильно, а что малодушие? "Il faut que chacun suive sa pente pourvu que ce soit en remontant…"
[214] . Но что делать, когда неясно, в чем именно моя "pente"?
Вторник, 21 мая 1974
Все эти дни – в суматохе и делах – ничего не записывал. Хочу, поэтому, отметить только главное:
В прошлый вторник вечером (14-го) – у Штейнов с Коржавиным, Борисом Зубок и Балашовым (только что из СССР). Их страстные споры между собой.
В среду 15-го – синод в Сайоссете, избрание владыки Сильвестра Временно Управляющим и т.д.
В четверг 16-го – ужин у нас оканчивающих студентов.
В пятницу 17-го – бесконечный совет профессоров.
В субботу 18-го – выпуск. Литургия с вл. Феодосием. Board of Trustees
[215], обычные церемонии.
Наконец вчера – 20-го – поездка в Тихоновский монастырь для разговора с вл. Германом и вл. Киприаном. Главное – сама поездка, из-за невозможной красоты дня, цветущих лесов, залитых солнцем полей. Как будто принял ванну одиночества, счастья, тишины. После всех этих суетных дней это было острое блаженство.
Известие об аресте в Москве о. Дмитрия Дудко.
Среда, 22 мая 1974 . Отдание Пасхи
Вчера – весь день в Нью-Йорке. Разговор с таксистом-поляком: "В Америке слишком много свободы…" А в России – слишком мало. И то, и другое правда, но как решается это уравнение? И опять мне кажется, что прав Солженицын: свобода без нравственного этажа – сама себя разлагает. Этой свободе "учат" в университетах: страшная судьба женщин, погибших в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией, – все как одна "радикализировались" в университете.
Четверг, 23 мая 1974. Вознесение (до Литургии)
Вчера, после всенощной, исповеди. Каждому то же самое: освобождаться от пут мелочности. Мелочность – души, отношений, интересов, "забот" – не только мешает Богу в душе, она и есть сущность демонического. Падший мир – это, прежде всего, мир "мелочный", мир, в котором не звучит высокое. В нем и религия непременно становится мелочной. Искажение христианства не от "ересей", а от "падения". Падение – вниз, а внизу – мелочное.
Я хотел бы написать для себя, по возможности – абсолютно правдиво, в чем моя вера. Осознать тот строй символов – слов, настроений и т.д., что ее – во мне и для меня – выражают. Единственный важный вопрос: как объективная вера становится субъективной, прорастает в душе как вера личная? Как общие слова становятся своими ? "Вера Церкви", "вера Отцов" – но ведь тогда только и живет она, когда становится своей.
Суббота, 25 мая 1974
Два дня до отъезда к Солженицыну. Нарастание внутреннего волнения – "каково будет целование сие…"
[216] . А тут еще звонок за звонком – скажите С., передайте С., внушите С., попытайтесь убедить С., спросите С. Письмо от Никиты: "С. издерганный…" Изгнание для него гораздо труднее, чем могло казаться сначала. Нетерпеливый. Требовательный.
И все же – хорошая тишина внутри, мир. Будет то, что нужно и как нужно.
Понедельник, 17 июня 1974
Вчера вернулся из Европы. Сначала – с 28 по 31 мая – у Солженицына в его горном уединении, вдвоем с ним все время. Перепишу сюда записки из моей книжечки, которые я набрасывал там, каждый вечер. И уж только потом, может быть, смогу подводить "итоги" этим – самым знаменательным – дням моей жизни.
Потом – Париж, съезд Движения, неделя суеты, встреч, разговоров.
А с 10 по 15 июня с Льяной в Венеции, в золотом свете этого удивительного города. Такой "anticlimax"
[217] солженицынским дням… В Венеции же прочел второй том "Гулага".
"ГОРНАЯ ВСТРЕЧА"
(переписано из записной книжки, которую я брал с собой в Цюрих)
"Горная встреча" – из надписи, сделанной С. на подаренном мне карманном "Гулаге": "Дорогому о. А.Ш. в дни нашей горной встречи, к которой мы давно приближались взаимным угадыванием…"
Вторник, 28 мая 1974
В десять утра начинаем спускаться к Цюриху. Идет проливной дождь. Несмотря на бессонную ночь в аэроплане, чувствую себя бодро, но странно: "регистрирую" все мелочи, все вижу, а дальше все упирается в: "сейчас еду к Солженицыну!"
Сейчас. И потому – запомнить все, по отдельным кускам времени: как я стою в ожидании багажа, как я жду такси, и вот – едем… Дождь, улицы, улицы, повороты. И вдруг: Stapterstrasse 45. Запущенный садик, незапертая калитка. Огибаю дом. Звоню. Et voila[218] : открывает дверь А.И., и сразу ясно одно: как все просто в нем…
Среда, 29 мая 1974
Sternberg. Zurcher Oberland
Вчера глаза слипались, заснул. Сейчас семь утра. Наверху копошится А.И. Перед окном горы и небо. Вчера – в Цюрихе, при встрече, – все подошли под благословение, особенно усердно Ермолай. Чаепитие. Я: "У меня такое чувство, что я всех вас так хорошо знаю". Жена Наташа: "А уж как мы Вас знаем…" Мать жены – Екатерина Фердинандовна, тоже простая и милая.
Первое впечатление от А.И. (после простоты ) – энергия, хлопотливость, забота. Сразу же: "Едем!" Забегал, носит свертки, чемоданчики. Чудная улыбка. Едем минут сорок в горы. Примитивный домик, беспорядок. Вещи – и в кухне, и на письменном столе – разбросаны. В этом отношении А.И. явный русский интеллигент. Никаких удобств: кресла, шкапа. Все сведено к абсолютному минимуму. Также и одежда: то, в чем выехал из России. Какая-то кепка. Офицерские сапоги. Валенки.
"Мне нужно столько с Вами обсудить" (обсуждение подготовлено, продумано: список вопросов на бумажке).
О Церкви: "Знаете что: я буду "популяризатором" Ваших идей".
Об "Узлах"
[219] : прочитать (в рукописи) все, что написано о Церкви. "А я исправлю, если нужно…"
Об эмигрантских церковных разделениях.
О "Вестнике".
О еврейском вопросе.
Четверг, 30 мая 1974
Вчера – весь день вместе. Длинная прогулка на гору. Удивительный, незабываемый день. Вечером, лежа в кровати, думал о "несбыточности" всего этого, о сказочности. Но только потом пойму, вмещу все это…
Дал мне прочитать – в рукописи – главы второго узла: пятую, шестую, седьмую, восьмую. Разговор Сани Лаженицына со священником: о старообрядчестве, о церковных реформах, о сущности Церкви, о христианстве и других религиях…Пятая глава мне сначала не понравилась: как-то отвлеченно, неживо, книжно… Сразу же сказал А.И. Принял. Но шестая, седьмая, восьмая – чем дальше, тем больше захватывают. Он все чувствует нутром, все вопросы ставит "напробой", в основном, без мелочей. Потом последняя глава – шестьдесят четвертая. Исповедь. "Это все, Вы увидите, Ваши идеи…" (Насчет моих идей – не знаю, но глава прекрасная.)
Страстное сопротивление тому, что он называет "еврейской идеологией". (Евреи были огромным фактором в революции. Теперь же, что режим ударил по ним, они отождествляют советское с исконно и природно русским.) Попервоначалу можно принять за антисемитизм. Потом начинаешь чувствовать, что и тут – все тот же порыв к правде , затуманенной, осложненной, запутанной "словесами лукавствия". (Все это потом развить.)
Дает читать статьи для нового сборника с Шафаревичем. Новая перспектива о России и ее истории… Народ. Все заново, все по-новому. Что-то стихийное.
Страшно внимательный. Обо всем заботится. (Неумело) готовит, режет, поджаривает. Что-то бесконечно человечески-трогательное. Напор и энергия.
О России все говорит: "тут". Запад для него не существует. Никакого интереса.
Не любит всего петровского периода. Не любит Петербурга.
Пастернак: "Не имеет никакого отношения к России…"
"Любимый мой праздник – Троица…"
Хочет жить в Канаде. Устроить "маленькую Россию". "Только так смогу писать…"
"Всю мою жизнь за успех в главном я платил неудачами в личной жизни". Рассказ о первом браке.
"Я знаю, что вернусь в Россию". Ожидание близких перемен. Уверенность в них.
Абсолютное отрицание демократии.
Признание монархии. Романовы, однако, "кончились еще до революции".
Невероятное нравственное здоровье. Простота. Целеустремленность.
Носитель – не культуры, не учения. Нет. Самой России.
"Подлинный подход ко всему – в самоограничении…"
"Религия – критерий всего" (но это "утилитарно" – для "спасения" России…).
"Вестник РСХД" (108-110) – с его карандашными пометками. На стр. 30, в моей статье о Евхаристии (о перерождении эсхатологии) – приписано сбоку во всю длину абзаца: "поразительная картина".
Целеустремленность человека, сделавшего выбор. Этим выбором определяется то, что он слушает, а что пропускает мимо ушей. Слушает, берет, хватает то, что ему нужно. На остальное – закрывается.
Зато – внимание к конкретному: постелить кровать, что будете есть, возьмите яблоко…
Несомненное сознание своей миссии, но именно из этой несомненности – подлинное смирение.
Никакого всезнайства. Скорее – интуитивное всепонимание.
Отвращение к "жеманной" культуре.
Такими, наверное, были пророки. Это отметание всего второстепенного, сосредоточенность на главном. Но не "отвлеченная", не "идейная", а жизненная (развить: см. гл. 64 второго узла).
Живя с ним (даже только два дня), чувствуешь себя маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами. Рядом с тобою – человек, принявший все бремя служения , целиком отдавший себя, ничем не пользующийся для себя. Это поразительно. Для него прогулка – не отдых и не развлечение, а священный акт.
Его вера – горами двигает!
Какая цельность!
Чудный смех и улыбка.
"Представьте себе, мой адвокат все время отдыхает". Искренне удивлен. Не понимает (как можно вообще "отдыхать"…).
"Мы с женой решили: ничего не бояться". И звучит абсолютно просто. Так решили, так и живут… Никакой сентиментальности по отношению к семье и детям… Но говорит с женой по телефону так нежно, так заботливо – в мелочах…
Сижу за его столом, на котором хаос несусветный. Подернутые утренним туманом горы. Колокольчики коров. Блеянье овец. Цветущая сирень. Все это для него не Швейцария, не Запад, он целиком – "там" ("тут", как он говорит). Эта точка – анонимная на земном шаре: горы, небо, звери. Это даже не кусок России. Там, где он, – там сама Россия. Для него это так ясно, что ясным становится и мне.
Легкость, с которой он отбрасывает все ненужное, все обременяющее.
В том же костюме, в котором его выслали. Никаких удобств – лампы, кресла, полок. Но сам прибивает мне гвоздик для полотенца. Но он не "презирает быт". У него все – внутри.
В феноменологии "великого человека", прежде всего, чувство стихии . В эту стихию вовлечено все, что его окружает, все мелочи (парное молоко, зеленый лук…).
Ничего от "интеллигента".
Не вширь, а вглубь и ввысь…
О людях:
Синявский: "Он как-то сбоку, несущественен…" (о "Голосе из хора").
Набоков: ""Лолита" даже неинтересна. Все же нужно будет встретиться. ‹…› Если бы с таким талантом!.."
Архиереи: Антоний Блюм – понравился. Антоний Женевский – не понравился. Иоанн Шаховской – бесцеремонно ворвался, как и его сестра. Ничего не видит в его писаниях. Антоний Блюм – понравился, но "разве его протесты достаточны?" Антоний Ж. Георгия Граббе не принял (или не пришел?). Нравится карловатский батюшка в Цюрихе.
Возмущение булгаковской статьей о еврействе в "Вестнике" – "разве это богословие?.."
Длинная прогулка по лесу и по холмам. Длинный разговор – уже по душам – обо всем: о вере, о жизни…
Вдруг острое чувство, вопрос: сгорит он или не сгорит? Как долго можно жить таким пожаром?
Говоря, собирает цветы: полевые желтые тюльпаны, дома долго ищет, куда бы поставить (на следующий день не забудет отвезти жене).
С гордостью показывает свой огородик (укроп, редиска, зеленый лук…).
Подробный рассказ о своем Фонде, завещании. Мечта употребить деньги на Россию. Ему действительно ничего не нужно, и в этом – никакой позы.
Слова о Канаде: как будет там ездить верхом на лошади.
И снова – со страстью – о евреях! Почти idee fixe: не дать им еще раз заговорить нас своей идеологией. Но, вот, надо признать, что и тут – правда и простота. Когда евреи увидели, что ими в значительной степени созданный режим не удался и по ним же – в лице Сталина – ударил, они "перестроились": это режим русский, это русское рабство, это русская жестокость… Отсюда – недоверие к "новым": все они антирусские в первую очередь.
Вечером – длинная исповедь наверху в его комнате. Закат за окном.
"Пройдемся в последний раз". Так дружески. Так любовно.
Удивительные по свету и радости, действительно – "горные" дни.
"…у меня в "узлах" три прототипа (то есть в них я вкладываю себя, пишу о себе) – Воротынцев, Саня Лаженицын (был еще Саша Ленартович, да безнадежно разошлись…) и… Ленин! У нас много общего. Только принципы разные. В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось… Но для этого нужно и быть таким, каким он был: струна, стрела… Разве не символично: он из Цюриха – в Москву, я из Москвы – в Цюрих…"
"Мне нужно вернуться, войти по-настоящему в Церковь. Я ведь и службы-то не знаю, а так, "по-народному", только душой…"
Будут ли у меня в жизни еще такие дни, такая встреча – вся в простоте, абсолютной простоте, так что я ни разу не подумал: что нужно сказать? Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое "кокетство".
Среда, 5 июня 1974 . Париж
Последняя запись (30 мая) была сделана вечером, в канун отъезда из Штернберга. Следующий день, пятница 31-го, останется, конечно, навсегда незабываемым. Утром рано за нами заехала Екатерина Фердинандовна. Спуск в Цюрих. Подготовка Литургии. Исповедь Наташи и Мити. Литургия. После Литургии А.И.: "Как хорошо так, как близко, как доходит все…"
Суета в доме. Дети. "Напор", может быть, даже некий надрыв (Наташа).
Запомнить: разговор с нею о юрисдикциях. Чтение – в суматохе – глав о "кадетах". Обед (тяжелый, русский: мясо, вареники).
После обеда – в городе прием итальянской прессы…
Наконец после всего – действительно страшного – напряжения этих дней остаюсь один на аэродроме в Цюрихе. Снова дождь и туман. Снова привычная западная толпа, в сущности – мой мир. В котором мне просто. Просто – в смысле привычной принадлежности к нему и внутреннего в нем – одиночества, свободы…
В первый раз мысль – не сон ли все это было? В реальном ли мире? Или в какой-то страшным усилием созданной мечте, иллюзии? Иллюзии, которой неизбежно суждено разбиться о "глыбу жизни". В первый раз – сомнение, страх, и с тех пор – растущая жалость.
Полет Цюрих-Базель, потом Базель-Париж. Спуск в мир. Bain de realite
[220] . Мама. Андрей.
На следующий день, в субботу, – привычный завтрак с Андреем. Всенощная под Пятидесятницу.
Вечером – слушанье пластинки А.И. "Прусские ночи".
Воскресенье 2-го: съезд РСХД в Монжероне. Литургия с Петей Чесноковым. Все как всегда. Там – в Цюрихе – сплошной огонь (но какой!). Тут – привычная болтовня о Христе и преображении мира.
Понедельник 3-го: мой доклад. Все как всегда. Усталость.
Вчера (во вторник 4-го) весь день у Никиты [Струве] в Villebon. We compare notes
[221]. Соглашаемся в том, что за А.И. страшно. Страшно от домашней атмосферы. Страшно от напора. Страшно за то,
что и
как он сделает.
Конец цюрихской записной книжки.
Пятница, 21 июня 1974
Все эти дни – с возвращения из Европы в прошлое воскресенье, 15-го, – погружен в несусветную суету: семинария, церковные дела, радио, поездка в Сиракузы на alumni retreat
[222] и т.д. Поскольку же все и всюду спрашивают о С., снова и снова переживаю дни, проведенные с ним, радость, вопросы, сомнения, возбужденные в душе этой незабываемой встречей.
Хотел написать о Венеции, но первое, непосредственное впечатление выветрилось. Осталось чувство привидения, щемящее чувство бренности, конца, обреченности. Старая, великая Европа, столько красоты, столько достоинства – все обращенное в туристическую проституцию.
Суббота, 7 сентября 1974
Лето, как и в прошлом году, оборвало мои записи, и теперь, пожалуй, всего уже не запишешь…
Все лето – в Labelle, и какое чудное лето, оставшееся в сознании сплошным светом, солнцем, радостью! В первый раз за много лет (второе – за всю жизнь!) провели его одни, то есть без гостей в доме. Поэтому ритм был такой спокойный, прозрачный. Работа (кончил книгу о Крещении и три статьи!), купанье, прогулки (никогда, кажется, столько не гуляли), вечер обычно с детьми и внуками в "большом доме". Все дети, все внуки. Церковь.
Переписка с Солженицыным – подчас мучительная, но об этом напишу отдельно.
Чтение: две книги Jouhandeau, переписка и театральные статьи P. Leautaud, "Jeunesse" Julien Green'a, "Le Temps Immobile" Claude Mauriac'a
[223] . Безмерный "нарциссизм" современной французской литературы. Иногда впечатление, что это не "дым, а тень, бегущая от дыма…"
[224].
Со вчерашнего дня – погружение в привычную суматоху семинарии, Церкви и т.д.
Особенно сильное чувство внутренней отрешенности, впечатление, что во всем этом действует почти кто-то другой, а не "я". Но чего – кроме покоя, тишины и свободы – хочет этот "я"?
Понедельник, 9 сентября 1974
В субботу утром уборка с Л. дома: он вдруг снова становится своим, нашим – после летнего отчуждения. Физическое удовольствие от этого.
Потом поездка автомобилем в Филадельфию – на банкет по случаю освящения нового храма, где я – "guest speaker"
[225] . Радость от самой поездки: сереньким, "погожим" днем, огромный мост через Delaware River на фоне такого же огромного заката, два часа "созерцания" – как всегда, целительного, насущного…
Вчера начал работать над своим новым курсом: Liturgy of Death
[226] . И снова поражаюсь: как никто этим не занимался, никто не заметил чудовищного перерождения религии воскресения в похоронное самоуслаждение (с оттенком зловещего мазохизма; все эти "плачу и рыдаю…"). Роковое значение Византии на пути Православия!
Кончил "Le Temps Immobile" Claude Mauriac's. Как я понимаю его страстную озабоченность временем, его утечкой, его неподвижностью.
Среда, 11 сентября 1974
Вчера завтрак с Андреем Седых в ресторане напротив "Нового русского слова". Поразительное постоянство, неизменность эмигрантской атмосферы: грязная лестница с надписью на картонке по-русски (!) – "Просьба закрывать дверь" (наверное, висит двадцать лет!). Все те же "русские дамы". Та же смесь убожества, провинциализма и сплетен. Сам Седых – очень симпатичный хитряга. Горько жаловался на "новейших", обижен на Солженицына… Самое интересное в нем: он свидетель 30-х годов в Париже, "золотого десятилетия" русской эмиграции.
Понедельник, 16 сентября 1974
В субботу и вчера после обедни ездили с Л. на Jones Beach. Солнце, океан, песок: какой это праздник, "символ" полноты и блаженства.
Все эти дни чтение, работа в связи с новым курсом (Liturgy of Death). И, как всегда, то, что казалось извне сравнительно простым, вдруг предстает во всей своей глубине и сложности. Смерть стоит в центре и религии, и культуры, отношение к ней определяет собою отношение к жизни. Она – "перевод" человеческого сознания. Всякое отрицание смерти только усиливает этот нервоз (бессмертие души, материализм и т.д.), как усиливает его и
приятие смерти (аскетизм, плоть – отрицание). Только победа над ней есть ответ, и он предполагает transcensus
[227] отрицания и приятия ("поглощена смерть победой"). Вопрос в том, однако, в чем состоит эта победа. Смерть раскрывает, должна раскрыть смысл не смерти, а жизни. Жизнь должна быть не приготовлением к смерти, а победой над ней, так чтобы, как во Христе, смерть стала торжеством жизни. Но о жизни мы учим без отношения к смерти, а о смерти – безотносительно к жизни. Христианство жизни: мораль и индивидуализм. Христианство смерти: награда и наказание и тот же индивидуализм. Выводя из жизни "подготовлением к смерти", христианство обессмысливает жизнь. Сводя смерть к "тому, иному миру", которого
нет , ибо Бог создал только один мир, одну жизнь, – христианство обессмысливает смерть как победу. Интерес к "загробной участи" умерших обессмысливает христианскую эсхатологию. Церковь не "молится об усопших", а есть (должна быть) их постоянное
воскрешение , ибо она и есть жизнь в смерти, то есть победа над смертью, "общее воскресение".
"To come to terms with death"
[228]… Написал это в своей лекции, но это "изнутри". В 53 года (стукнуло в пятницу…) пора, как говорится, "подумать о смерти", включить ее – как увенчание, все собою завершающее и осмысливающее, – в то мироощущение, которое я именно ощущаю больше, чем могу выразить в словах, но которым я в лучшие минуты жизни действительно живу.
Для памяти отмечу следующие важные "открытия":
– В смерти нет времени. Отсюда умолчание Христа и подлинного предания о состоянии умерших между смертью и воскресением, то есть о том, о чем больше всего любопытствует не-подлинное предание.
– Ужас умирания. Может быть, для внешних? Смерть, две недели тому назад, Мариночки Розеншильд, утонувшей спасая своих детей. Ужас этой смерти для нас. А для нее? Может быть, радость самоотдачи? Встреча со Христом, сказавшим: "Больше сея любви…"
[229].
– Что исчезает в смерти? Опыт уродства этого мира, зла, текучести… Что остается? Его красота, то, что радует и тут же мучит: "Полевые пути меж колосьев и трав…"
[230] "Покой". Тот покой субботний, в котором раскрывается полнота и совершенство творения. Божий
покой . Не смерти, а жизни в ее полноте, в вечном ею обладании…
Пятница, 20 сентября 1974
Сегодня, лежа в кровати (простудился и, следовательно, блаженствовал) думал о своих sic et non. Выходит так (и так было с тех пор, что я себя помню), что во всем том, что я люблю, считаю своим и с чем себя так или иначе отождествляю – религия, Церковь, тот мир, к которому я принадлежу по рождению, воспитанию, вкусам и убеждениям, – я остро вижу их неправду и их недостатки. В том же, что я не люблю и от чего отталкиваюсь, – "левизна" во всех ее проявлениях, – я вижу его правду, пускай даже и относительную. "Внутри" религии я ощущаю себя радикальным contestataire
[231]. Но с contestataire'ами я чувствую себя консерватором и традиционалистом. Отсюда всегда мучительная трудность общения с любым "лагерем", отвращение от всех людей с "целостным мировоззрением" и идеями, приведенными в "систему". Все "законченное", завершенное и, следовательно, не открытое к
другому , мне кажется тяжелым и самим себя разрушающим. Это в равной мере относится и к идеям, и к чувствам. Ошибочность – по моему убеждению – и всякого "диалектизма": тезис, антитезис и синтез, снимающий противоречие (то есть опять называющийся "целостным мировоззрением" и "идеологией"). Я думаю, что открытость и незавершенность должны всегда оставаться, они-то и есть
вера , в них-то и встречается Бог, Который совсем не "синтез", а жизнь и полнота. Может быть, это и есть "апофатика", via negativa: интуиция, что все "завершенное" – измена Богу, превращение всего в
идола . Совершенство в искусстве пропорционально его
открытости : совершенное искусство вечно открывает то, что оно открыло, являет то, чего явлением оно было. Потому и в "идеях", богословии, философии и т.д. живет, остается лишь одно то, что сродни искусству, и только в ту меру, в какую оно сродни искусству.
Суббота, 21 сентября 1974
Прочел вчера "одним махом" книгу Jean Daniel "Le temps qui reste"
[232]. Подкупающая жажда добра, победы добра в мире при полной невозможности верить. Очень замечательное "свидетельство.
Стр.41: о Камю: "…Il y a des etres qui vous font vous demander si la vie a un sens et d'autres, comme lui, qui donnent un sens a la vie…"
Стр.229: "On est de droite si l'on se resigne a la nature, de gauche si l'on s'efforce de la corriger"
[233].
Сегодня весь день за примечаниями к моему "Водою и Духом". Игра в "ученость".
Понедельник, 23 сентября 1974
Две ночи подряд – сны о Солженицыне. С какой-то почти болезненной любовью к нему, радостью общения с ним, ощущением невероятной близости. И он – радостно светящийся, и светящийся радостью.
Начало "осени первоначальной"
[234]… Вчера днем поездка к Ане. Горы, леса, залитые уже осенним солнцем, совсем живые в этой удивительной прозрачности сентябрьского солнца…
В связи с этим (а также и новым курсом) – мысли о смерти. В ужасе перед смертью одно из самых сильных чувств – это жалость покидать этот мир: le doux royaume de la terre (Bernanos)
[235], то, что так сильно чувствовал тоже Mauriac. Однако что если le doux royaume de la terre: это открытое, светлое небо, эти залитые солнцем горы и леса, эта безмолвная хвала красок, красоты, света, – что если все это и есть, в конечном итоге, не что иное, как
единственное явление нам того, что
за смертью? Окно в вечность? "Да, но вот того – единственного, неповторимого, серенького денька и в сумерках его вдруг вспыхнувших огней – того, что так мучительно помнит душа, его-то нет, не вернуть…" Но душа-то потому и помнит, что этот "денек" явил ей вечность. Что не его я буду помнить в вечности, а сам он был "прорывом" в нее, неким – наперед – "воспоминанием" о ней, о Боге, о жизни нестареющей…
Все это так или иначе было сказано тысячу раз. Но вот когда входит в душу и становится опытом – откуда, почему? – такой покой, такая радость, такое растворение страха, печали уныния? И одно желание: пронести это чувство нерасплесканным, не дать ему засохнуть, выдохнуться в суете. Почти (но только почти, увы) начинаешь
слышать : "Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение…"
[236] . Как же жить? Собирать жизнь для вечности, и это значит – всем жить как вечным. Сеять в тлении, дабы
потом восстала она в нетлении
[237] . Но можно в жизни собирать и смерть… Жить – "похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской"
[238](уже мучение, уже смерть). Покоряться суете (опустошение души, смерть), служить идолам (тупик, смерть).
Среда, 25 сентября 1974
В понедельник вечером, после лекций – к нам только что приехал тогда Константин Андроников – у меня началась лихорадка, жар, и я заболел. Утром у доктора: глубокий бронхит, низкое давление. В общем – неделя дома! Вчера чувствовал себя неважно и мог только читать. Перечитывал "Совр[еменные] записки" Вишняка.
Все эти дни волнения в связи с собором карловчан и, главное, письмом к этому собору Солженицына. Вчера вечером по телефону о. А. Киселев говорил, что "атмосфера переменилась", что составлено и одобрено послание к "нам" с призывом о "смягчении отношений". Свое "послание" Солженицын мне летом присылал, хотя потом ужасно волновался, что об этом узнают, так что я разыгрывал полное неведение. Оно замечательно. Нужно ли верить в то, что искренность и сила Солж[еницына] действительно проломит стену?
Для меня ясно, что "перемена атмосферы" в Православии означает, прежде всего, способность взглянуть на себя со стороны, подлинную "самокритику", подлинное покаяние и обращение. Солж[еницын] пишет о грехе Русской Церкви против старообрядцев – у него это один из трагических "узлов" русской истории. Но он, мне кажется, не видит, что и старообрядчество было тупиком и во многом – само трагедией древнерусского сознания. Нужно брать гораздо глубже. "Обновленцы" провалились, потому что видели только внешнее: кризис епископата (монашеского), формы богослужения. Поповский бунт, да еще поддержанный советской "охранкой". Гораздо серьезнее то, что в Православии – историческом – начисто отсутствует сам критерий самокритики. Сложившись как "православие" –
против ересей, Запада, Востока, турков и т.д., Православие пронизано комплексом самоутверждения, гипертрофией какого-то внутреннего "триумфализма". Признать ошибки – это начать разрушать основы "истинной веры". Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла: преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда – во "внутри". И пока это так, то, по моему убеждению, никакое возрождение Православия невозможно. Главная же трудность здесь в том, что трагизм и падение по-настоящему не в грехах людей (этого не отрицают…), а укоренен, гнездится в тех явлениях, которые принято считать, в которые принято верить, как именно в саму
сущность Православия, его вечную ценность и истину. Это, во-первых, какое-то "бабье" благочестие, пропитанное "умилением" и "суеверием" и потому абсолютно непромокаемое никакой культуре. Стихийная сила этого благочестия, которым можно жить, как чем-то совершенно самодовлеющим, вне какого бы то ни было отношения ко Христу и к Евангелию, к миру, к жизни… Тут все слова "жижеют", наполняются какой-то водою, перестают что-либо означать. Это "благочестие" и есть то, что вернуло христианству "языческое" измерение, растворило в религиозной чувственности. Оно и Христа мерит собою, делает Его – символом самого себя… Это, во-вторых,
гностический уклон самой веры, начавшийся уже у Отцов (приражение эллинизма) и расцветший в позднем богословии (западный интеллектуализм). Это, в-третьих, в этом благочестии и этом богословии укорененный
дуализм , заменивший в церковном подходе к миру изначальный эсхатологизм. Это, в-четвертых, сдача Православия – национализму в его худшей языческой (кровной) и якобинской (государственно-авторитарной негативной) сущности. Этот сплав и выдается за "чистое Православие", и всякое отступление от него или хотя бы попытка в нем разобраться обличаются немедленно как "ересь". Между тем этот именно сплав есть тот тупик, в который зашло историческое Православие, и ужас этого тупика не меньше, а, в сущности, больше оттого, что он притягивает к себе всевозможных "конвертов"
[239]. [Раньше] был страх, был inferiority complex
[240] , была самозащита, но, счастливо избежав западных религиозных войн и всего кризиса Реформации и Контр-Реформации, Православие не имело в себе априорного религиозного негативизма как содержания церковной жизни.
Четверг, 26 сентября 1974
Странно, как почти все всегда. Утром вчера написал эти строки, а днем читал, и прочел, с восхищением роман Mauriac'a "Un adolescent d'autrefois" и в нем:
"Il disait que j'avais eclaire pour lui une evidence: c'est que presque tout ce que les ennemis de l'Eglise haissaient dans l'Eglise etait un effet haissable en l'avait toujours ete, a tous les moments de l'histoire humaine, comme l'etait la religion pharisaique de madame. Ils s'acharnaient contre des structures que d'autres adoraient, comme Huysmans, fou de gregorien. Et ces adorations etaient aussi vaines que ces maledictions. Nous deux savions qu'a un certain moment de l'histoire, Dieu s'etait manifeste et qu'il se manifesterait encore dans des destines particuliers d'hommes et de femmes qui avaient un trait commun, celui d'epouser etroitement la croix" (p.153).
"…Je le mettais en garde contre l'illusion qu'il existe des methods assures pour atteindre Dieu sensiblement: je lui rappelais qu'il n'est rien au monde qui releve moins de notre volonte, et que le divin que nous en avons trahi la recherche d'une delectation que nous ramene a ce que nous voulions fuir…" (p.154)
[241].
Два часа с К.А. Он "занимается антропологией". А вместе с тем годами несчастен, frustrated, обижен… Как ему объяснить, что "занимается" он, как и все мы почти всегда,
собой , своей ролью в жизни и что это занятие и есть источник мучения – всегда и без всякого исключения… Отречение от мира не в уходе из него – "уход" тоже может стать ролью, исканием себя и своего, а только в освобождении от этой вот занятости своим местом в нем. Тут начинается мир, "превосходящий всякое разумение"
[242].
Проверка – не Христа, не Евангелия, не Церкви в ее последней сущности (той, что
дана и не зависит ни от каких приятий), а исторических форм христианства, в том числе и "православия", – в
культуре , ими создаваемой или вдохновляемой. Культура каждой данной эпохи – это зеркало, в котором христиане должны были бы увидеть самих себя, степень своей верности "единому на потребу"
[243] , "победы, побеждающей мир…"
[244] . Но они обычно даже не смотрят в это зеркало, считают это "недуховным", "нерелигиозным" (чего стоят хотя бы невозможные по своему примитивизму декламации [духовных лиц] против театра и литературы!), между тем как кровная, необходимая связь христианства с культурой совсем не в том, чтобы сделать христианство "культурным" и тем самым привлекательным и приемлемым для "культурного" человека. Культура и есть тот мир (а не биология, не физиология, не "природа"), который христианство
судит, обличает и, в пределе,
преображает . Оно
над культурой, но не может быть
под ней или
вне ее. Само понятие Царства Божия может "взорвать" культуру, но в том-то все и дело, что "вне" культуры – ни понять, ни услышать, ни принять его невозможно. Поэтому так ужасны "примитивизм" априорный, триумфальная "антикультурность" современного православия. На "верхах" это воплощается в выходе из современной в какую-то другую – древнюю, старую, но признаваемую единственной "христианской" – культуру: Византию, Москву и т.д., в ее абсолютизацию. Но, во-первых, сами-то эти культуры мы знаем, воспринимаем, получаем
только в категориях знания и понимания нашей культуры, через непрерванную культурную преемственность, и таким образом сам этот "выход" определяется всецело культурой, есть акт внутри нее. А во-вторых, все равно не может человек, не искалечив себя психологически и духовно, стать сегодня "византийцем", "москвичом" и т.п. Сама "ностальгия прошлого", которым так сильно живет современное Православие, есть явление, характерное для
нашей , современной культуры и потому не может никогда быть духовным освобождением… На "низах" же эта антикультурность обращается уже подлинным примитивизмом, то есть фактически "язычеством", религией природы, а не человека, духа и истории… Христианство призвано все время изнутри
взрывать культуру, ставя ее лицом к лицу с последним, с тем, кто выше нее, но кто, вместе с тем, и "исполняет" ее, ибо на последней своей глубине культура и есть
вопрос , обращенный человеком к "последнему". Но варвар ничего не взрывает, он отрицает, уничтожает и разрушает. Если Православие стоит перед "современностью" как голое отрицание, то оно делает дело варвара. Ибо оно все больше и больше отрицает и отбрасывает то, чего попросту не понимает и на что ему "решительно наплевать". Как важна, как драгоценна потому эта, постоянно подчеркиваемая в Евангелии, связь Христа и Его проповеди со всей преемственностью, то есть именно культурой тех, кому Он проповедует, и безнадежность – отсюда – всех попыток выделить какое-то "чистое Евангелие". Только потому и могло Евангелие "взорвать" древнюю культуру и изнутри изменить и обновить ее, что было
внутри ее… Все эти размышления в связи с книгой Mauriac'a. Почему душно богословие, душно и благочестие, а вот в "культуре" – у Mauriac'a, у Солженицына – так ярко вспыхивает "единое на потребу"?
"Аще не умрет, не оживет"
[245]. Это относится также и к "прошлому". В христианстве мы заняты не (а) смыслом истории (идол гегельянства), не (б) природой (идол эллинизма, оживающий в современном формализме, структурализме и прочих извечных антиисторизмах), а смертью и воскрешением как постоянной победой Христа и над историей, и над природой. Чтобы быть нашей жизнью, прошлое должно в нас умирать как только прошлое, природа как только природа и история как только история. В этой
возможности – единственность Христа и христианства. Царство Божие трансцендирует, побеждает природу и историю, но открыто оно нам Христом через природу и через историю. Начало и конец всего: "Христос сегодня и вчера и во веки Тот же"
[246] . Все это "решается" только, когда "решается" вопрос о смерти. Откровение ее нам Христом.
Пятница, 27 сентября 1974
После восхищения, вызванного литературным совершенством Mauriac'овского "Un adolescent d'autrefois", прочел вчера вечером несколько страничек "Карантина" Максимова. Первые страницы только, поэтому и впечатление первое, может быть, ложное: серости, "неумения" в том смысле, в каком Mauriac "умеет". Что такое подлинное произведение искусства, в чем секрет его совершенства? Думал сегодня, лежа в кровати: это полное совпадение, слияние закона и благодати . Ведь если и в духовном, религиозное плане – "Павловском" – благодать противопоставляется закону, то не потому совсем, что они о разном , и что одним – благодатью – просто уничтожается и заменяется другое – закон. Без закона невозможна благодать, и именно потому, что они о том же самом – как образ и исполнение, форма и содержание, идея и реальность. Таким образом, благодать – это тот же "закон", но преложенный в свободу, лишенный всего "законнического", то есть отрицательно-заградительного, то есть чисто "формального" в себе. В искусстве это очевиднее всего. Оно начинается с закона , то есть с "уменья", то есть, в сущности, с послушания и смирения , принятия формы. Оно исполняется в благодати : когда форма становится содержанием, до конца являет его, есть содержание.
Воскресенье, 29 сентября 1974
Недолго дома – с бронхитом и кашлем. И как не хочется "вылезать" обратно, из норы, из – хотя бы относительного – одиночества!
В пятницу в газете "Новое Русское Слово" все послание Солженицына Зарубежному Собору и ответ на него митрополита Филарета. Ответ жалкий, насквозь лживый и фальшивый. Судьба всего того, что держится исключительно отрицанием и обличением, духовной подделкой…
Вчера и сегодня – в церкви. Какая радость, когда люди на исповеди заявляют, что счастливы…
Смерть Николая Иванова (жениха [племянницы] Наташи) в Париже.
Пишу, чтобы разогнаться: на столе – груда неотвеченных писем, за которые решил взяться сегодня, и вот – отлыниваю…
Четверг, 3 октября 1974
Сегодня мне прочли по телефону послание к "Американской Митрополии" Зарубежного Собора, полное притворной любви, но по существу – ход на шахматной доске… И все же, если есть хоть один шанс "умиротворения", за него нужно хвататься.
Увы, от всего этого, от работы "практического ума", этим всем вызванной, то же уже много раз испытанное "измельчание" души. Она попадает в водоворот, в суету и мельчает, сохнет. И в ней прерывается радость. Не вопросы и заботы поднимаешь на ту высоту, на которую нужно, а сам спускаешься туда, где они неразрешимы…
Понедельник, 7 октября 1974
В субботу – ежегодный Orthodox Education Day [ежегодный праздник, "день православного образования" в Св.-Владимирской семинарии ]. Ждешь его, как кошмара, а переживаешь – когда он уже наступил, начался – как радость. Эта огромная толпа, солнце, палатки! Литургия с сотнями причастников. Чувство Церкви, радость растворения в ее жизни. Весь день на ногах: здороваясь, обнимаясь, приветствуя кого-то, – и никакой усталости… Как бы ни был каждый из нас слаб и мизерен в отдельности, на всех вместе лежит отсвет – единственный в мире – Христовой любви. Русские, арабы, греки, украинцы: где еще они встречаются "во Христе"? В этом сила и единственность этого дня.
Вчера – рожденье Л. Поехали с ней сначала на Battery
[247]. Теплый, совсем летний закат. Статуя Свободы и острова в золотом свете моря – совсем как в Венеции, когда смотришь в сторону Lido. Какие-то старички, старушки на скамейках. Потом ужинали – случайно, из любопытства – в армянском ресторане. И так пахнуло детством, русским Парижем, тогдашними русскими ресторанами.
Нарастающий крах западного мира. Скольжение налево в Португалии, хаос в Италии, частичные победы на выборах вчера во Франции de la "gauche"
[248] . Но мое "бешенство" (холодное!) направлено не на "левых", а на то чудовищное банкротство всего "правого", что привело к этому краху, к этому тупику. Начиная с 1914-го года, а в сущности еще раньше: с этих тупых "империализмов" бездарного "величия" (все эти Бисмарки, Черчилли, Де Голли), и, главное, полное отсутствие хоть какого-нибудь "идеала",
мечты . Удушающая тоска капитализма, "потребления", нравственная низость созданного ими мира. Я не сомневаюсь, что то, что идет на смену ("левое"), еще страшнее и ужаснее. Но вина на тех, кто, имея всю власть и все возможности, завел мир в этот тупик. Они не заслуживают никакой жалости. Михаил Михайлов, Варшавский защищают против Солженицына демократию – взволнованно, искренне, бескорыстно. Но как не видеть, что она вдруг перестала "работать", что передаточные ремни обрываются один за другим. Что поле ее применения было маленьким, оранжерейным и что главной "жажды" (ею же возбужденной) – о свободе, "участии", основном равенстве людей – она не решила, не утолила. Первородный грех демократии – так, во всяком случае, мне кажется – это ее органическая связь с капитализмом. Гарантируемая ею формальная свобода нужна капитализму, но им же и извращается, изнутри "предается". Ибо капитализм превращает ее в свободу наживы. А как реакция на это – отречение и от свободы! Порочный круг западного мира. Демократия без "нравственного этажа".
И вот выбор: ужасная "правая" и еще более ужасная "левая". С тем же, в сущности, абсолютным презрением к человеку и к жизни . И нет, до ужаса нет – "третьей идеи", которая должна была бы быть христианской. Но христиане сами разделились на "правых" и "левых", никакой своей идеи уже даже не чувствуют! Отождествили себя с гражданской войной, уже давно идущей в мире.
Блаженство "индейского лета"
[249] , невероятная красота "осени первоначальной", этого все заливающего солнца, желтеющей листвы, золотистого света.
Вторник, 8 октября 1974
"Трудно богатому…"
[250] . Так очевидно, что в центре "христианской идеи" стоит отказ от богатства, всяческого богатства. Красота бедности. Ибо есть, конечно, и уродство бедности. Но есть и красота. Во всяком случае, христианство светится только смирением, только "обнищавшим сердцем". "Доля бедных, превратность судьбы…"
Преп. Сергия по старому стилю. Тридцать четыре года тому назад сегодня я поступил в Парижский Богословский Институт (1940).
Бедность – не в том, чтобы всегда чего-то не хватало (это ее "уродство") а в том, чтобы всегда хватало того, что есть. Думал об этом, читая "Je me souviens" G. Simenon
[251] : удивительный образ его отца.
Среда, 9 октября 1974
Днем – молодой американец с моей книгой ("For the Life of the World"
[252] ), зачитанной, подчеркнутой в тысячи местах карандашом… Вопросы о символизме жизни, о реальности и т.д. Как трудно объяснить, что христианство, Церковь и есть встреча, единственно возможная и подлинная, с Реальностью – Бога, а потому и всего. И что потому оно "сакраментально". Таинство – это явление, встреча, знание, общение, причастие.
Вечером – речь президента о борьбе с инфляцией. Чего, однако, никто не говорит и, очевидно, не понимает, что "инфляция" это, прежде всего, состояние духовное, психологическое, форма сознания. Весь мир стал "инфляцией": слов, переживаний, самого отношения к жизни. Инфляция – это состояние лягушки, начинающей пыжиться. Когда про уборщика в большом магазине говорят (вчера по телевизору): "maintenance engineer
[253] " – это "инфляция". И когда сам воздух, которым мы дыши, наполнен, становится инфляцией, то – жизнь разрушается. Если все неправда, все бесконечно раздуто, преувеличено, искажено – то почему в чем бы то ни было соблюдать меру? Почему накидывать на цену три цента, когда можно накинуть сразу доллар – и пройдет… И потому начинать нужно не с экономической, а с духовной борьбы с инфляцией как состоянием души и сознания…
Идя сегодня утром от утрени (опять удивительное солнечное осеннее утро), вспоминал строчки Ходасевича, которыми "упивался", когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет, и они были для меня каким-то "прорывом", прикосновением к таинственному блаженству:
Светлое утро. Я в храме. Так рано.
Зыблется золото в медленных звуках органа…
[254]И вся жизнь, в сущности, на глубине была стремлением снова и снова этот прорыв, это блаженство ощутить. А все остальное – "из-под палки" и, главное, относительно: "малая правда". Боятся "релятивизма". Но ведь именно потому, что есть Абсолютное, именно по отношению к Нему, в Его свете, в Его абсолютности все и делается "относительным" (и существующим как "малая правда"). Об этом вся Библия. Максимализм в относительном – это все та же гордыня ("мои принципы", "принципами я не поступлюсь"). Если есть Бог – принципы эти просто не нужны (ибо достаточно, что есть Бог!). Если нет – то все равно грош им цена и ни от чего они не спасают и ничего не создают…
Пятница, 11 октября 1974
Вчера весь день – церковные заседания. Буря в связи с приездом в Америку (в феврале) патриарха Пимена. Две непримиримые по отношению одна к другой позиции, обе мне, так сказать, "понятные". Как всегда, невозможность для меня быть целиком на одной из сторон… Мучительное раздумье, как разрешить эту дилемму, что правильно, что по совести!
Понедельник, 21 октября 1974
Все эти дни так занят, что до тетрадки не добраться. Хочу хотя бы отметить то, чего не хочу забыть:
– в четверг и пятницу (17-18) – поездка в Moravian College в Bethlehem, Пенсильвания; сама поездка солнечным осенним днем, и "уют" этого города, "моравского" квартала, таромодного отеля, маленького "восприимчивого" колледжа. О Солженицыне, о Православии;
– в пятницу же вечер со Шрагиными и Литвиновыми;
– первый номер "Континента";
– вчера – вечер у Штейнов;
– работа над статьей для "Континента" ("Кризис христианства и христианство как кризис");
– правка корректуры для моего "Baptism".
"Диссиденты": сближаясь с ними, постепенно узнавая их, одновременно сознаешь и близость к ним, и отрешенность от их "бурлящего" сознания. Все это подлинно – и острая ностальгия, и обостренность сознания, и желание "высказаться", но – одновременно – и болезненно. На них можно было бы научно, "феноменологически" изучать зарождение эмигрантского сознания, его неизбежной "пустозвонности". Особенность этих диссидентов в том, что они уже и там, в своем маленьком московском мирке, были отчасти пустозвонными, не имели приводного ремня ни к какой реальности.
В связи со всем этим – размышление о Солженицыне, о его отталкивании от диссидентов, о его растущем одиночестве, неизбежном для каждого, кто не хочет "раствориться", кто имеет свое дело и призвание.
От
эмиграции , от всей ее полувековой истории останутся, как ни странно, те, кто остался внутренне от нее свободен, отстранен и кто делал
свое дело . Вот уж действительно – une passion inutile
[255] …
Вторник, 22 октября 1974
Сегодня – сон, о котором я все забыл, кроме чувства какой-то невозможной любви, нежности, чистейшего счастья, действительно "касанья" чему-то. После этого я проснулся, и сразу же зазвонил – по-ночному тревожно и даже страшно – телефон. Было 4.30 утра. Какой-то голос, не то пьяный, не то сумасшедший, обличающий меня в том, что я "иезуитский священник". Странный контраст: этот удивительный свет во сне, эта пугающая "тьма" наяву…
Вчера у меня на дому – факультет
[256]. Сравнительно мирно. Но, Боже мой, как трудно людям не то что соглашаться друг с другом, а просто слышать друг друга. И если это так в маленькой группе якобы единомышленников, то что же сказать о мире at large
[257]? Реальность разделения и отчуждения – как суть "первородного греха". Но потому и единство невосстановимо иначе как во Христе.
Длинное письмо от Андрея с подробностями о кончине Николая И.
[258]. Как все меняются, какими другими становятся люди, когда входит в их жизнь настоящее горе.
Холодные, прозрачные, солнечные дни. Медленно падающие листья. Всегда поражающее меня печально-светлое торжество осени.
Как я прав, мне кажется, в моем убеждении, что прежде, чем чему-либо другому, Христос "противостоит" религии, ее затягивающей, двусмысленной, соблазнительной мути. В падшем мире самое страшное – это падшая религия. Тут набито бесами.
Нашел в записной книжке 1959 г . следующую выписку из "Memoires Interieurs" Мориака:
"…le combat de ceux qui dans l'Eglise croient que "c'est vrai", contre cet qui jugent que "c'est utile"" (p.155). И дальше: "Pour moi je ne cesse d'apprendre des Provinciales, ecrites sous une monarchie absolue, et par ce chretien exemplaire a qui le Christ avait parle durant la nuit des "resurs de joie", ce qu'est la liberte des enfants de Dieu et que contre elle rien ne prevaut. C'est elle qui donne son prix a la destinee d'un homme. C'est elle que nous devons preserver dans notre proper vie, dans la nation, dans l'Eglise…" (p.156)
[259].
Четверг, 24 октября1974
Вчера купил и частично прочел "The Limit of Growth"
5 , доклад того Римского клуба, на который постоянно ссылается Солженицын. А также L'Express и L'Observateur. Это все растущее ощущение тупика, кризиса, паники, чувство распада того мира, в котором мы живем. "The global needs, the national means…"
[260] . Удивительная вещь: "прогресс" создал, так сказать, "единый мир" и, одновременно,
маленького человека, лишенного мировой перспективы. Против global needs человечество защищается уходом во все "маленькое", но совсем не в то "раскаяние и самоограничение", к которому призывает Солженицын.
Уверен, что христианская эсхатология тут "очень причем" и что на нее должно быть направлено сейчас христианское сознание.
Только что длинный разговор с К.Т. Удивительно, как, только стараясь помочь другому, сам начинаешь "понимать"!
Человек хочет быть любимым – и потому страдает. А разрешение в том, чтобы полюбить. Это божественное решение: так все "проблемы" решает Бог: любя, а не ища ответной любви.
Пятница, 25 октября 1974
Вчера за ужином у Т. – Н.Н. (стареющий, элегантный, красивый педераст): "Я обожаю Афон, я каждый год езжу на Афон, нужно спасти Афон…" Как часто замечал я эту тягу к "Афону" (или к подобным же реальностям, целиком оторванным от мира и жизни) у людей такого типа. Это их "алиби" для самих себя. Не ходить же ему в скучный приходской храм – вот он и любит "Афон". А почему, в сущности, нужно спасать Афон, если Афон не "спас" Православие? Есть "православие", живущее пафосом спасения собственных исторических обломков: "восточных патриархатов", "Афона", "быта". И вот включи в свою жизнь одну такую "заботу" – и совесть чиста. Как в большом, так и в малом. И трупный яд разлагает Православие. Но на этот-то "запашок" и тянет неудержимо "религиозных" людей. Им искренне кажется, что этот "запашок" и есть Православие…
Понедельник, 28 октября 1974
Поездка в Оттаву и Монреаль. Лекции, службы. "Bain de foule"
[261]. В промежутках – на аэродромах, в одиночестве аэропланов – чтение книги Th. Molnar
[262] о Сартре. Какой больной должна быть наша эпоха, если эта "философия", сотканная целиком из отрицаний, капризов, каких-то ребячьих скачков и словесного тумана, могла стать "властительницей душ". Страшен не Сартр (он жалок), страшна доверчивость "интеллигенции", страшна ее готовность принять что угодно "на веру" кроме веры, страшна очевидная за всем этим ненависть к Христу. В этом смысле, конечно, Сартр – "дьявол", одно из бесчисленных воплощений зла. Компоненты дьявола: во-первых, основоположная, все собою пронизывающая тьма (хула на творение); во-вторых – ложь (он искони лжец), перетолковывание, извращение, подтасовка, подмена белого черным; в-третьих, страстное желание заменить Бога, найти другой "абсолют", "спасти"; в-четвертых, полная плененность собой и этой ложью, невозможность увидеть свет, ненависть к нему. Негативная сотериология – отсюда ее успех… "Ибо люди больше возлюбили тьму, нежели свет…"
[263].
В Оттаве встреча с Борисом Гореловым, моим одноклассником по гимназии, которого я с тех пор – лет тридцать с чем-то – и не видел! Удивительно, как в седом, пятидесятилетнем человеке сохраняется и живет "мальчик". Словно не "зрелый возраст" и не "старение" – сущность человека, а только и навсегда l'enfant qu'il fut
[264]. Борис всегда был "раненным жизнью" – и вот такой же: испуганный, всего боящийся, так очевидно проживший как-то "рядом" с собственной жизнью.
И там же – в Оттаве – другая встреча, тоже с детством и юностью: Саша Яконовский (корпус, а потом – в 41-42 годы – [лагерь в] Verrieres le Buisson). Тоже седой и тоже тот же: "авантюрист", полная противоположность Горелову. И вот оба живут в Оттаве (!) и "отрицают" друг друга, хотя, может быть, общее детство могло бы быть светом, прорывом из одиночества.
Горелов: "Ты знаешь, я, когда приехал в Париж, пошел en pelerinage
[265] на [ту улицу] Bd. d'Auteuil, где была гимназия…"
Яконовский: "Ты знаешь, у меня сохранились стихи Кирилла Радищева, я тебе их пришлю…"
Встречаемся – в прошлом, в детстве, обмениваемся обрывками чего-то безнадежно ушедшего и о котором, когда мы умрем, никто не сможет вспомнить. Как мы определены детством!
Вторник, 29 октября 1974
Сегодня нашему маленькому [внуку] Ивану десять лет! А как будто это было вчера: я прилетел в Бостон, меня встретил Сережа – он тогда учился в Гарварде – и мы, позвонив с аэродрома, узнали, что у Ани родился сын. И, значит, с тех пор прошла огромная часть жизни, и умом, конечно, я могу восстановить ее "содержание". Но время, все это длиннейшее время, его реальность – провалилось, кануло в какую-то бездну. Между сегодняшним туманным утром и тогдашним солнечным осенним днем – как будто ничего! Время не течет, а проливается…
Пишу это перед отъездом в Тихоновский монастырь – до четверга! Митрополичий Совет, Архиерейский Синод. Три дня разговоров, три дня участия во всяческих "борьбах", в человеческом непонимании. Три дня усилий все это сгладить, выпрямить, и всегдашний вопрос в душе: нужно это или не нужно? И если нужно, то, собственно, что нужно и что не нужно?
За окном – утренний туман и сквозь него ярко-желтая листва. По веткам бегают белки. Все живет и движется во времени, которого нет . Удивительно. Духовная жизнь: претворение этого "нет" в реальность тем, что есть. Падшая жизнь: растворение в этом "нет". Но это кажется реальностью, тогда как – на деле – не реально. А то – извне – кажется нереальным, хотя – на деле – только одно и есть реальность. Это приобщает смерти, то – жизни.
Духовная жизнь: собирание, стяжание "реальности", которая и есть
тело воскресения . Душа создает себе
тело – Тело Христа – все творение, как наш мир, как наша жизнь. Иначе – "воскресение тела" не имеет смысла. Тело – это только общение, это превращение мира в "себя", в "жизнь". Создание тела, создание своей вечности. Вот почему так бесконечно драгоценно
время . В нем сеется тело душевное, без которого не восстать – телу духовному…
[266].
Четверг, 31 октября 1974
Четыре часа дня. Только что вернулся из монастыря, с Синода – теплым, почти жарким днем, по пенсильванским просторам, залитым солнечным туманом. Два дня страшного напряжения, закулисных разговоров, попыток предотвратить столкновения, борьбу, бессмысленные стычки. Успех в этом. И потому чувство полной "выжатости". Описывать все это не стоит: в историю оно не войдет. Но – еще один малюсенький – и каким усилием! каким трудом дающийся! – шаг в сторону какого-то просветления церковной жизни. Всегда, неизменно тот же опыт: о маловеры!.. Едешь с унынием и со страхом, возвращаешься "свидетелем" Духа Святого в немощах и падениях церковной эмпирии.
Сегодня испытал чувство, которое испытываю часто, – это чувство конца: конца учебного года, конца съезда, собора – как сегодня. Только что все кипело, было напряжено. И вдруг все начинает "сквозить". Кончено. Прошло. Пусто, светло и немного грустно… И сразу – "il faut tenter de vivre…"
[267]. Особая окрашенность, особый вкус времени – в "канун", либо же "конца" и т.д.
Пятница, 1 ноября 1974
Toussaint
[268] . В детстве – первые каникулы учебного года. В этот день всей семьей обедали [у тетушек] на St. Lambert, потом ехали на могилу дедушки на [кладбище] Pantin. Память о вакханалии цветов на парижских кладбищах, особенно хризантем. Память об этом сочетании "черноты" дня (сумрачно, дождливо, темно) и ярко разукрашенных могил. В 1935 г . после этого дня у меня сделался перитонит, и я чуть не умер.
В монастыре (ночью, после изнурительных заседаний) прочел книжечку Jeanson о Сартре в коллекции "Les ecrivains devant Dieu".
"Je fus conduit a l'incroyance non par le conflit des dogmes, mais par l'indifference de mes grand-parents". Cette notation, – пишет Jeanson, – m'apparait capitale… La croyance en Dieu (a cette epoque et dans ce milieu-la) se sentait si assuree d'elle meme qu'elle en etait devenue paisible, tranquille et prodigieusement discrete: au point qu'un athee, aux yeux d'un croyant, faissait figure d'originale, de "furieux", de "fanatique encombre de tabous" – un (Sartre:) "maniaque de Dieu qui voyait partout son absence, et qui ne pouvait ouvrir la bouche sans prononcer Son nom, bref d'un monsieur qui avait des convictions religieuses". La bonne Societe, elle, n'en avait point: elle "croyait en Dieu pour ne pas parler de Lui…" (p.42-43)
[269].
Смотря на семинаристов – и наших, и тихоновских: религию можно любить совершенно так же, как что-либо другое в жизни: спорт, науку, собирание марок. Любить ее за нее саму, без отношения к Богу или миру или жизни. Она "занимает" и "занимательна". Тут все, что любит особый тип человека: и эстетика, и тайна, и священность, и чувство собственной важности и "исключительности", глубины и т.д. Но эта религия совсем не обязательно вера , и в этом-то и вся трудность "религиозной проблемы". Люди ждут и жаждут веры – мы предлагает им религию. И это противоречие, это "несовпадение" все глубже, все страшнее.
Суббота, 2 ноября 1974
Проснулся в восемь (Льяна в Монреале). Думал сразу начать работать в это лучшее из всех – субботнее – утро. Не тут-то было. Телефон за телефоном (один Никола Арсеньев "держал" около получаса!). И вот садишься за стол уже изнуренный, выжатый, brouille
[270] … День – эта длинная спокойная перспектива – подпорчен. Уныние и раздражение.
Вчера вечером – длинный разговор с Томом о библейском семинаре, затеянном [профессорами семинарии]. Безнадежность этого подхода к Библии. Я давно уже убежден, что православные должны были бы, прежде всего и раз и навсегда, отделаться от "псевдопроблем" вроде "природы боговдохновенности" и т.д., от богословского тупика . Пока писал это – еще два телефона. Безнадежность любого "плана". Все равно кто-нибудь его нарушит.
Воскресенье, 3 ноября 1974
Весь день в Wayne: десятилетие прихода. Как всегда – радостное чувство от успеха такого прихода, от осмысленности богослужения, храма, всего "тона". На этом можно строить.
Размышления о
власти в связи со скриптами о солженицынском "Письме вождям". Вчера и сегодня прочел книгу J.F. Revel "Lettre ouverte a la droite
[271].
Понедельник, 4 ноября 1974
Двадцать восемь лет с посвящения сегодня на rue Daru в диаконы.
Упадок сил – после напряжения прошлой недели. Остаешься один – и "падают руки". И все кажется ненужным – и статья, которую пишу для "Континента" Максимова (о кризисе христаинства и о христианстве как кризисе), и все дела, которые нужно сделать, и бумаги, которыми завален стол. Все вокруг как будто так ясно знают, что нужно, чего не нужно, все "целеустремлены" – а у меня почти всегда такое чувство, что я этого-то и не знаю. А скорее – maintenance job
[272]: чтоб не испортился "водопровод", чтобы проходила вода, свет, добро. Не знаю. Нет у меня "убеждений", а скорее только "реакции", что-то вроде камертона в душе.
В новой книге "Нового журнала" (№116) последние записи Бунина: какое страшное, полное отчаяние, страх смерти, одиночество. И злоба! И самолюбие!
И вот, выходит, каждый "бубнит свое" пока есть силы и потом оказывается одиноким, ненужным.
По-видимому, нужно просто знать и помнить, что "бывает такое небо, такая игра лучей…"
[273].
Вторник, 5 ноября 1974
Получил извещение, что моя "Life of the World" вышла по-немецки (в Швейцарии) – это ее шестой перевод.
Профессор Monas из Austin пишет, что в прошлом году в Ленинграде встретил группу студентов, у которой мое имя было "watchword"
[274] … И вот приглашает в Austin на десять дней и предлагает 1500 долларов! Америка.
Несколько страничек из книги Huizinga об Эразме.
С утра темно и дождливо. Листья почти все опали.
Среда, 6 ноября 1974
Вчера, вернувшись с голосования, весь вечер слушали о результатах выборов по телевизии. Разгром республиканцев, расплата за Никсона и за [уотергейтское дело]. Никсон, меж тем, при смерти… Удивление, даже страх от мысли – от кого, от чего зависит наша жизнь, от трагикомической природы земной власти и земных властителей. Пожалуй, только в одном месте Евангелия, в вопросе Христа: "Чье это изображение?" – слышится в нем презрение. Огромная страна погружается в кризис, потому что президент болен патологическим недоверием и видит всюду заговоры против себя. Никсон, Сталин – что-то очень важное для понимания феноменологии власти. В том-то и ужас, однако, что они – исключение, подтверждающее правило о "демонизме", присущем власти…
Четверг, 7 ноября 1974
Вчера в Нью-Йорке. Завтрак с о. Кириллом Фотиевым. Радио "Свобода": проводишь там полчаса, но погружаешься зато в типично эмигрантскую атмосферу, сотканную из страха, сплетен, недоброжелательства и твердокаменной "правоты". Трагедия эмиграции, прежде всего, конечно, в выпадении из времени и потому – остановке времени. Как замирают люди с открытым ртом и поднятыми руками, когда останавливают фильм. Рот и руки и вся поза выражают движение, а на самом деле все неподвижно и окаменело. Это окаменение во всем – в спорах о "русскости", в "национальных организациях", потому что оно в самом сознании. Поэтому эмиграция реакционна по самой своей природе. Не участвуя в реальной жизни страны, народа, культуры, она может только "реагировать", но реакция эта, определенная изнутри этим отрывом, мертворожденная, иллюзорная. Все это я почувствовал, если не осознал…
Пятница, 8 ноября 1974
…в сущности очень рано, пожалуй, еще в корпусе. Уже тогда, мне кажется, я сознавал, что вся эмигрантская риторика (вроде "Церковь – это все, что у нас осталось от России… будем хранить ее…") – изнутри ложная, духовный тупик. Но вот прошло несколько десятилетий, и этот тупик все еще тут…
Пишу это, вернувшись утренним аэропланом из Rochester, где вчера вечером я читал лекцию в университете. До этого провел несколько преуютных часов у о.Ф.Войчика, с которым мне всегда как-то особенно хорошо. Три чудных мальчика.
Сегодня – сорок один год со смерти [в корпусе] нашего директора ген[ерала] Римского-Корсакова, человека, сыгравшего в моей жизни большую роль: открывшего мне русскую поэзию и литературу. Он меня особенно любил, всегда выделял и давал мне тетрадки с переписанными от руки стихами. И это в корпусе, где дальше погон, полков и "русской славы" никто не шел. Его смерть была моей первой сознательной встречей со смертью, и притом очень реалистической. Из-за узости коридора в его спальню нельзя было внести гроб, и мы – старшие кадеты – несли его на простыне в корпусную церковь. Он умер от рака желудка, и потому трупный запах был страшный, невыносимый… Тогда я в первый раз осознал разлуку, пустоту, остающуюся после смерти близкого в жизни, призрачность самой жизни.
И именно после его смерти начался мой внутренний отрыв от корпуса, все в нем стало пресным, пустозвонным, и через год с небольшим я сам попросил маму перевести меня во французский лицей, куда (осенью 1935 года – Lycee Carnot) я и перешел.
Если мерить жизнь решающими "личными" встречами, то получится, пожалуй, так: ген.[ерал] Римский-Корсаков, о.Савва (Шимкевич, "поручик"), В.В.Вейдле, о.Киприан. Каждый из них что-то действительно "вложил" в мое сознание, тогда как другие только так или иначе влияли на него. И это так потому, наверно, что каждый из этих четырех не только что-то "давал", но и брал от меня – то есть любил меня, и я, следовательно, был ему нужен. Кадый раз здесь был своего рода "роман", а не только умственное общение. И этого "романа" совсем не было с другими, может быть гораздо более замечательными людьми: Карташевым, Булгаковым, Зеньковским. Насколько же, по-видимому, личная встреча и взаимность и личная любовь важнее в жизни, чем "умственное" влияние. А вместе с тем точно описать и определить, что эти четыре мне дали , – невозможно, "влияние" же других вполне для меня очевидно.
Осень. Все больше неба, все больше этого удивительного, отрешенного света.
Понедельник, 11 ноября 1974
В пятницу вечером – приезд из Парижа племянницы Наташи. В субботу после всенощной – Тихон и Марина Трояновы. Рассказы о только что кончившемся в Дижоне втором съезде православной молодежи. Семьсот человек!
Вчера – на храмовом празднике в Sea Cliff'е
[275]. Два архиерея, крестный ход, изумительный солнечный день, радость от погружения в "праздник" и празднование. Потом банкет и моя для меня самого неожиданно "сильная" речь. Сильная в том смысле, что выливается в исповедание действительно и предельно искреннего убеждения, что наше "американское" православие не только не "измена" русскому, а его исполнение, его торжество… Вечером страшная усталость от всего этого.
Вторник, 12 ноября 1974
Восемь тридцать утра. Сижу в своем кабинете, вернувшись с утрени. Перспектива дня: экзамен по литургике, дантист, заседание Малого Синода, заседание "исполкома" Trustees [попечительский совет (англ.).], лекция на [вечернем курсе] Extension Program
[276], общая исповедь. Кроме того, нужно найти время и написать на завтра очередной скрипт для радио "Свобода". Вот! В такие дни встаешь уже усталый… Кроме того – просьбы о встречах: студента Колумбийского университета, пишущего о Солженицыне, англиканского монаха из Англии, Верховского, собрание о новой постройке. Каждый день что-то, что выбивает из колеи, причем уже неясно, что и в чем сама "колея", если не в постоянной суматохе и трепке нервов.
Эти дни – с племянницей Наташей. Удивительная, прозрачная, светлая – naturaliter christiana. "Утешение", исходящее от таких людей.
Вчера вечером – заседание нашего Faculty, мирное и дружное. Доклад "историков" – Мейендорфа и Эриксона. В связи с этим размышления – опять и опять! – о богословском образовании вообще, об "истории" в частности. В идеале изучение истории Церкви, конечно, должно освобождать человека от порабощения прошлому, типичного для православного сознания. Но это так в идеале, увы. Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и т.д., от увлечения, от "игры". А теперешний студент, определяемый в первую очередь незнанием истории вообще, никакой истории, еще меньше способен к нахождению собственного синтеза и "целостного мировоззрения". И главное здесь в том, что у Церкви нет "священной истории", подобной истории библейской. А между тем наше преподавание, выделяющее "историю" Церкви, как раз и превращает ее, волей-неволей, в священную историю и тем самым извращает, прежде всего, само учение о Церкви, восприятие и переживание ее сущности. Тут что-то крайне неладно, но как это исправить, как, прежде всего, это дать понять, формулировать – не знаю. И потому – неуверенность, разлад. С одной стороны – согласие с "историками": вне исторического подхода возникают ложные абсолютизмы. С другой – [согласие] с "пастырской" фракцией, стремящейся ограничить историю в пользу реальной, живой, существующей Церкви… Выходит так, что определение Церкви требует определения "историчности" Церкви и, следовательно, "истории Церкви" и ее изучения…
Основная "формула", мне кажется, все та же: эсхатологическая. Церковь – это присутствие во времени, в истории святого и священного , но не по принципу дихотомии "священное – профанное", а по принципу эсхатологическому – для возможности все во времени и в истории относить к Царству Божьему и тем самым оценивать его. Но в этом смысле Церковь и не имеет сама никакой "истории" как священной категории собственного бытия. Ее жизнь всегда "сокрыта со Христом в Боге", живет она подлинно не историей, а Царством Божиим. Поэтому ее история есть всегда и только история ее встречи с миром, всегда и только "соотношение". Вселенские Соборы, например, не суть какие-то "священные события" per se, "онтологически", в духовной реальности никакой "эпохи Вселенских Соборов" нет. Качественно они ничего не меняют в Церкви и в этом смысле – "относительны", как и все формы и выражения Церкви, вся ее "видимость" и "историчность". Их важность в том, что они всегда ответ миру, утверждение возможности спасения и преображения. Но как только мы их "абсолютизируем", то есть делаем ценностями в себе, а не по отношению к миру, как только, иными словами, мы делаем их самих "священной историей", мы лишаем их их подлинной ценности и подлинного значения. Такова очевидная греховность "абсолютизации" в Православии ее исторической культуры: пяти восточных патриархатов, переживание греками "Вселенского Патриарха" как священной и вечной категории Православия и т.д.
Поэтому богословской предпосылкой изучения истории Церкви должно быть как раз освобождение истории Церкви от ее священного абсолютизирования. Между тем как изучение это, сосредоточенное уже давно на Церкви в себе, а не на соотношении ее с миром, культурой и т.д., и создает этот опасный и вредный подход: "священная история". Вместо освобождения получается порабощение, которое и является, увы, основным бременем Православия.
Четверг, 14 ноября 1974
Письмо от Солженицына. Смешно, как с некоторых пор что-то как будто чуть-чуть "надломилось" между нами. Письмо очень милое, с предложением встречи в декабре, в Париже, но вот словно все очевиднее разница в "длине волны". Солженицын пишет:
"…с интересом прочли Ваш разбор "Архипелага" [я послал ему по его просьбе мои тридцать скриптов]. В одном месте нашел я противоречие и не пойму: у Вас ли это противоречие или Вы вскрыли его у меня. Именно: с одной стороны, следователи – только держатся за положение, за власть, "люди без верхней сферы". С другой стороны, и в "Архипелаге", и в моем споре сейчас с Сахаровым я настаиваю, что вся правящая клика (даже помимо своей воли и ведома) пронизана идеологией и именно ею опасен режим и именно его , а не "просто злодеяниями" совершены все злодейства. Второе мне кажется самым верным, но, может быть, где-нибудь допустил противоречие…?"
Мне же кажется, вернее – я убежден, что если исходным целительным у Солженицына был его "антиидеологизм" (см. мою "Зрячую любовь"), то теперь он постепенно сам начинает опутывать себя "идеологией", и в этом я вижу огромную опасность. Для меня зло – прежде всего в самой идеологии, в ее неизбежном редукционизме и в неизбежности для нее всякую другую идеологию отождествлять со злом, а себя с добром и истиной, тогда как Истина и Добро всегда "трансцендентны". Идеология – это всегда идолопоклонство, и потому всякая идеология есть зло и родит злодеев… Я воспринял Солженицына как освобождение от идеологизма, отравившего и русское сознание, и мир. Но вот мне начинает казаться, что его самого неудержимо клонит и тянет к кристаллизации собственной идеологии (как анти , так и про ). Судьба русских писателей? (Гоголь, Достоевский, Толстой…) Вечный разлад у них между творческой интуицией, сердцем – и разумом, сознанием? Соблазн учительства, а не только пророчества, которое тем и сильно, что не "дидактично"? Метеор, охлаждающийся и каменеющий при спуске в атмосферу, на "низины"? Не знаю, но на сердце скребет, и страшно за этот несомненный, потрясающий дар …
Завтрак вчера с Н. Разговоры только о христианстве, только об "истине". И этот ужасающий тон – высокомерие, оскорбительное недоверие, сверху вниз – по отношению к подающим нам лакеям… Грустно и противно.
Показывал Нью-Йорк Наташе. Бродвей. Наш дом против Union Seminary, Центральный парк, гостиницу "Plaza", Парк-авеню. Холодный, ветреный, солнечный день. "Ретроспектива". Смотря на окна нашей квартиры (одиннадцать лет!) подумал: сколько уже и в этом нью-йоркском периоде нашей жизни кончилось, стало далеким прошлым: лекции у Новицкого, Гагарины, литературный кружок у нас, дружба с Карповичем, с Ю.П.Денике, встречи в пиццерии с Варшавским, ужины у Терентьевых, завтраки в Steak de Paris (даже дом разрушен!). Все это десятилетие пятидесятых годов – до переезда в Crestwood, то есть когда мне было между 30 и 40 годами! Еще все-таки молодость. Шестидесятые годы: отрыв от всего этого, даже физический – [переезд] в Crestwood. Страшное бремя "церковной работы". Смерть: Карповича, Денике, Гагарина, Новицкого, Терентьева, смерть, проводящая черту между настоящим и тем, что внезапно претворяется в прошлое… Семидесятые годы: начало шестого десятка, то есть, в сущности, старости или хотя бы только старения. Снова Россия: Солженицын, диссиденты, "Вестник". Может быть, начало некоего внутреннего "синтеза", какого-то уже все на свои места расставляющего "видения"? А также – несомненная полнота семейного счастья: дома, в детях, во внуках. Присутствие "тайной радости". "Высоким полднем плавились года…" . Когда смотрю назад – всегда звенит в душе эта строчка (откуда?). Прежде всего вижу озаряющее эти годы солнце, этот "высокий полдень".
А над миром – тьма, приближение какой-то страшной ночи (вчера на площади Объединенных Наций тысячи полицейских: речь Арафата, манифестации…). В памяти: четыре удивительных – и таких разных – десятилетия: тридцатые годы – парижская юность, золотой век эмиграции и последние лучи старого европейского мира. Сороковые – война, крушение этого мира, подворье, семья, священство, молодость. Пятидесятые – "благополучие", "творчество". Шестидесятые: "engagement" (Церковь). И вот вдруг: такое сильное ощущение, что прошлого -то гораздо больше, чем будущего , что все отныне будет итогами, раскрытием того, что уже было, уже дано…
"Десятилетия"
1 ноября 1930 г . – поступление в корпус
8 октября 1940 г . – поступление в Богословский институт Париж
8 июня 1951 г . – отъезд в Нью-Йорк Нью-Йорк
14 октября 1962 г . – переезд в Crestwood Crestwood
1 Из стихотворения П.Ставрова.
Тетрадь II
НОЯБРЬ 1974 – АВГУСТ 1975
Пятница, 15 ноября 1974
Вчера длинное письмо Никите в связи с письмом ко мне Солженицына. Поделился с Никитой моими волнениями о скольжении С. в сторону "идеологизма" и "доктринерства", непонимания им церковной ситуации и т.д. Кончаю письмо так: "Пишу Вам все это, как думаю и чувствую. Может быть, целиком ошибаюсь и в мыслях, и в чувствах, чему первый буду очень рад. Люблю его так же, даже больше – ибо теперь с какой-то болью за него. Все данное и подаренное им воспринимаю и переживаю так же – как одно из самых радостных, больших, решающих событий даже личной жизни. Ни от одного слова, написанного о нем, не отрекаюсь. Но вот когда натыкаешься на самое для себя святое и "последнее": не Церковь для России, а только в бесконечно трансцендентной, самоочевидной, все превышающей истине Церкви – и сама Россия, и все в мире, тогда чувствуешь и самоочевидную границу согласия – даже со святыми и гениями… Тут смириться должен он, тут правда, ему неподсудная и, главное, несводимая ни чему, даже самому любимому, самому драгоценному в "мире сем"".
Воскресенье, 17 ноября 1974
Сегодня после обедни в воскресной тишине дома (солнце, голые деревья) слушали Matthaeus Passion
[277] Баха. Всегда, слушая их, вспоминаю "встречу" с этой удивительной музыкой в нашем домике в L'Etang la Ville. Она тогда буквально "пронзила" и восхитила меня. И с тех пор всегда, когда слушаю ее, особенно некоторые места (плач "дщери Сиона", последний, завершительный хорал), думаю то же самое: как можно в мире, в котором родилась и прозвучала эта музыка, "не верить в Бога"?
Встреча вчера, до всенощной, с Mark Tweedy, англиканским монахом из Community of the Resurrection
[278] , с которым я встречался в Англии на съезде Fellowship'а
[279] в 1948 или 49 году. Всегда поражает удивительная
детскость, присущая этого рода людям. Их трудно представить себе грешащими. И пахнуло Англией, вернее – моими встречами с Англией в 1937-1938 гг. и потом после войны.
Занимаюсь исправлением "самиздатовского" перевода моей "For the Life of the World". Странное и радостное чувство: эту книгу кто-то переводил, кто-то читал там.
Вчера Connie принесла мне мою только что вышедшую книжечку "Liturgy and Life"
[280] . Удивительно: когда читаешь "самого себя" напечатанным, "опубликованным" – точно читаешь написанное кем-то другим. Всегда узнаешь что-то новое.
Сегодня в "New York Times" малюсенькая статейка (на седьмой странице) о пресс-конференции Солженицына в связи с выходом сборника статей "Из-под глыб" (Шафаревич, Агурский, Барабанов и др.). Знаю, как он к этой пресс-конференции готовился, какое придавал ей значение. И вот – несколько строчек, и больше ничего…
Понедельник, 18 ноября 1974
Ужин у Кишковских. Впечатление от обоих – света, простоты, неподдельного добра. Ни о чем "важном" не говорили, а чувство такое, что прикоснулся к свету.
Смутный сон, в котором почему промелькнул Л.А.Зандер, что-то тяжелое и неясное. Проснувшись, понял: это запало в сознание после известия] о только что скончавшемся Лаури. Тогда еще подумал об ужасе этого умирания заживо, о том страшном времени, когда человек, игравший "активную роль" (как Лаури в Париже сороковых годов, эдаким был генералом), еще жив, но уже как бы "выведен в расход", не нужен, начисто, наглухо забыт. Понял с жалостью эти так надоедающие всем звонки А. Он знает, что, если он не напомнит о себе, никто не вспомнит, и вот эта патетическая борьба с погружением в небытие, с "раковинным гулом небытия"
[281]. Ощущение заживо погребенного…
Сережа передал мне вчера ленту о пресс-конференции Солженицына: она длилась четыре часа! Причем в начале он говорил два часа… Лента упоминает "усталых журналистов".
Выборы в Греции. Атмосфера войны на Ближнем Востоке. Забастовка во Франции. Абсолютная неразрешимость ни одной из этих проблем при теперешнем подходе: "правa"…Правда Солженицына и его рецептов раскаяния и самоограничения. Но это требует духовной революции, для которой в теперешнем человеческом сознании нет решительно никаких предпосылок. Человек] знает только самоутверждение и обличение чужой неправоты. Мы живем в шизофрении: христианская мораль, в ту меру, в какую она вообще была воспринята, воспринята была только как мораль индивидуальная. Но в отношении
своего народа,
своей церкви и т.д. христиане первые (после евреев) живут самоутверждением, гордыней и "экспансией". Откуда же взяться "раскаянию" и "самоограничению"? "Я", может быть, и уступлю, "мы" никогда не уступим, потому что мы правы, всегда правы, не могли бы секунды прожить без своей правоты. Или тогда – омерзительное биение себя в грудь, как у американских либералов в отношении негров, "третьего мира" и т.д., или у кающихся русских интеллигентов. Тогда как смысл христианства в том, чтобы быть правым и уступить и в этом дать засиять победе: Христос на кресте – и "воистину Человек сей сын Божий…"
[282]. В четверг вечером, накануне Рождественского поста, говорим, вернее – пытаемся говорить все это студентам. Почему пришествие в мир Бога в образе "Отроча Младо" не только "кеносис"
[283], но и самое "адекватное" Богоявление. Поэтому-то в нем так очевидна, так божественна –
ненужность силы, славы, правоты, прав, самоутверждения, авторитета, власти, всего того, что нужно только там, где нет
истины , и что, поэтому, не нужно Богу. Навсегда поразившие, убедившие меня слова Claudel'a: "et j'ai compris l'eternelle enfance de Dieu…"
[284].
Удивительная логика, явленная христианством: сумма грешных людей "дает" Церковь, Тело Христово, а в "миру" наоборот: сумма индивидуально и скромных, и жертвенных, и во всех смыслах, возможно, "порядочных" людей "дает" дьявольскую гордыню, коллектив, живущий самоутверждением. Увы, однако, и Церковь живет "мирской", а не христианской логикой.
Перечитал написанное и остановился на словах "L'Etang la Ville". Мы прожили там почти шесть лет! С 1945 по 1951. Оттуда я ездил посвящаться, а потом – служить в Clamart. Оттуда также поехал – в октябре 1945 – на свою первую лекцию в Институте. Оттуда Льяна ездила в Clamart к родителям рожать Сережу и Машу. Мы были тогда невероятно бедны (иногда, накормив детей, сами не ужинали), но какие же это были счастливые годы! Жили прямо на опушке леса, в продувной избе. Часто гуляли по лесу – помню почему-то одну такую весеннюю прогулку, яркость березовых стволов, ландыши, и почему-то это осталось в памяти связанным со словами "Христос – новая Пасха"…
Вторник, 19 ноября 1974
Вчера в Льяниной школе попытка девочки шестнадцати лет покончить самоубийством. И самое страшное, что это уже почти не удивляет!
За кофе сегодня утром разговор с Льяной о "сравнительной литературе". Русская литература – ничего не боится! Прет напролом, лезет на самый верх или в преисподнюю, карабкается, падает, снова карабкается. Невероятные удачи – добрались, доползли, и невероятное падение. Отсюда у некоторых (у Л., например) инстинктивный страх перед нею. Английская литература мне всегда кажется начиненной подспудным "фрейдианством", своего рода самозащитой против него, неким "law and order"
[285]. Немецкая – "Смерть в Венеции", где все, что происходит, происходит в конечном итоге только потому, что перенесено в Венецию, где, иными словами, "Венеция" и есть сущность драмы… И, наконец, французская – без "подспудного", но все же единственная в своем свидетельстве о "христианском человеке".
Пятница, 22 ноября 1974
Введение во Храм, и всенощная и Литургия "удались", то есть совершилось то, пускай и мимолетное, "прикосновение" праздника душе, которое осознаешь только потом, но из которого все – знание, радость, понимание, свидетельство – и вырастает…
Вчера после обеда водил племянницу] Наташу по Нью-Йорку (33-я улица, потом Уолл-стрит, Фултон-стрит…). Страшно холодный, страшно ветреный, темный день. В ущельях-улицах между небоскребами трудно идти от ветра. Что-то грандиозное в этих громадах, в их скоплении в одном месте, в окруженности их водой с висящими над нею мостами (Brooklyn Bridge – весь кружевной, прозрачный, Manhattan Bridge…), и что-то, меня всегда "вдохновляющее". Идя с Наташей, показывая ей, думал о Солженицыне с его ненавистью к городам, асфальту, высоким домам. Он бы, наверное, проклял все это с ужасом и отвращением. А вот я не нахожу в себе ни этого ужаса, ни проклятия. Настоящий вопрос: есть ли это часть того "возделывания мира", которое задано человеку Богом, или нет? Солженицын, не задумываясь, отвечает: "Нет", но прав ли он? Он видит падение, извращение, порабощенность. А я, понимая весь "демонизм" этого (одно скопление банков чего стоит! Настоящая архитектурная литургия "золотого тельца"), спрашиваю себя: чего же это падение, чего извращение – ибо не могу отделаться от чувства, что и тут что-то просвечивает , чего падение не в силах до конца затмить. Но что это – не знаю… Знаю только, что есть и величие, и красота в этих царственно возвышающихся, грозно скопленных громадах, в их грандиозности и, вместе, простоте, в этих тысячах освещенных окон, есть гармония, есть "музыка".
Закончили вечер втроем в уютнейшем армянском ресторане на University Place.
Суббота, 23 ноября
Сегодня – по делам семинарии – в Питтсбург, завтра – в Коннектикут. От всего этого вперед устаешь и запыхиваешься. Вчера, от усталости и также от отсутствия "дежурной" книги, читал Theatre de Maurice Boissard (Paul Leautaud)
[286] и думал о разных "умах". Острый ум, глубокий ум, "интеллектуальный" ум и т.д. У каждого своя функция. Leautaud, очевидно, не понял бы ни одной строчки, скажем, Бергсона. А между тем его ум – острый, и функция такого ума – безжалостно разоблачать всякую фальшь, позу, претензию. Это как бы зеркало, в которое нужно время от времени взглядывать, чтобы проверять себя: а не поза ли это, не выспренная ли болтовня, не обман или самообман. Антидот того благочестивого и тем часто лицемерного благочестивого тумана, в котором живет большинство религиозных людей и в котором "everything goes"
[287]…
Семь часов утра. Морозный, красный восход солнца.
Воскресенье, 24 ноября 1974
Вчера почти целый день над статьей о мариологии. Как трудно сказать самое простое и самое главное! Все слова оказываются не "те", и понятным становится искушение "академического", "научного" богословия: вечно повторять – "научно" – то, что говорили другие, и еще – кто на кого и как повлиял…
Постоянное присутствие в доме глубокой грусти: Наташа… Как тут "помочь"?
Все продолжает быть залитым солнечным светом. Удивительная осень. За обедней сегодня вспоминал только что скончавшегося Жарковского. Вот уже и ранние "американские" годы уходят в прошлое.
Вторник, 26 ноября 1974
В воскресенье в Коннектикут по делам семинарии. Образ преуспевшей Америки, богатства, успеха. Собрание в богатом доме, все крайне благопристойное. Но, Боже мой, с каким трудом в этой обстановке звучат слова о Церкви и о служении ей.
Сегодня утром – после утрени – длинный разговор с J.L., молодым студентом, об его "дружбе" с Я.Р. – другим, старшим студентом. Как говорить об этой извечной проблеме, как уберечь? От эмоциональности, сентиментальности, от этих под приторным покровом религиозной фразеологии и чувственности расцветающих "дружб", в которых уже ощущается головокружение перед пропастью. Пугать адом? Цитировать апостола Павла? Я знаю, что вдохновение собранности, чистоты, внутренней свободы есть преодоление "вверх" всех соблазнов, что если нужна борьба, то она возможна только во имя чего-то очень высокого и горнего. Своего рода "сублимация". Как провести черту между "половодьем чувств"
[288] и извращением? Черту формальную, ибо "сердцем" я ее всегда в других ощущаю: это именно когда радость заменяется какой-то унылой "фиксацией", одержимостью, когда человек "закрывается" тому, что через
все в этом мире светит и просвечивает. Тогда начинается "нощь безлунная греха".
Пятница, 29 ноября 1974
Вчера Thanksgiving – у Тома и Ани. Вся семья, все внуки плюс Наташа и Алеша и Лиза Виноградовы: девятнадцать человек за столом. Чудный день! Сначала тихая, "легкая" обедня. Потом – уже по традиции – посещение имения Рузвельта в Hyde Park и Vanderbilt Museum на обрыве над Гудзоном. Зимнее прозрачное солнце, безветренный день, тишина этих парков, этих комнат, в которых когда-то было столько жизни. Не знаю, почему, но на меня все это действует неотразимо. И снова – этот удивительный свет, это где-то далеко за Гудзоном вспыхивающее в закате окно. Вечером – индюшка. Дети поют хором – "Да молчит всякая плоть", "Архангельский глас" и Christmas carols
[289]. Беспримесное счастье, полнота жизни…
В среду – лекция в Brooklyn College. Час на метро – и словно в какой-то другой стране, другом городе вылезаешь наружу. Час в разговоре со студентами, и полное от этого удовлетворение. Утром проснулся со звенящим в голове стихом (Одоевцевой?):
Я помню, помню, я из тех,
В ком память змеем шевелится,
Кому простится смертный грех
И лишь забвенье не простится…
Сегодня вечером – Чалидзе, Литвиновы, Шрагины.
Суббота, 30 ноября 1974
Вчера – "вечер диссидентов" у нас. Впечатление, что все это – очень
хорошие люди: чистые, благородные, сердечные – в самом глубоком смысле этого слова. Но притом – люди без
окончательного выбора и потому, в сущности, растерянные, потерянные. Они чудно могут анализировать все "тамошнее", но словно неспособны на выбор и цельность, на собранность и целеустремленность. Это не страх и не малодушие: каждый из них это доказал своим "диссидентством", это какая-то врожденная боязнь, испуг перед "абсолютом", боязнь потерять "свободу", "включиться"… По избитому шаблону: "суждены нам благие порывы…"
[290]. Удовольствие от состояния "порыва". Sic et non. И от всякого толчка в сторону большей ясности, большего выбора – пугаются, сжимаются, уходят в себя и пассивно сопротивляются. Отсюда их нелюбовь – к Максимову, к Солженицыну. Они их пугают своим выбором. В сущности, идеал их – это быть расстрелянными во время безнадежной демонстрации. Amor fati
[291]. Однако "человеческий тип" бесконечно привлекательный и столь же "мучительный". Сидели до двенадцати и уходить явно не собирались… Подтолкнул Миша Аксенов.
У русских: огромное, рыхлое, бесформенное – но всем этим сильное "я". Двадцать восемь лет со дня посвящения в священники (преп. Никона Радонежского). Этот день помню с большой ясностью: как спускались с Льяной от метро по rue de Crimee к Сергиевскому подворью] и, так как было еще рано, зашли в парк] Buttes Chaumont. Помню серый, типично парижский день. Потом на Часах, когда кадил еще дьяконом, помню папу в церкви (необычно – на подворье). Сам момент хиротонии не помню. Только массу духовенства в церкви и радостного о.Киприана (он водил меня вокруг престола). После службы Андрей принес в алтарь греческую рясу, только что сшитую А.Л.Световидовой (ее привез с собой в Америку). Завтракали на Clichy у родителей], потом, на пути в Clamart, где я служил первую всенощную (а на следующий день – первую Литургию), заехали с Л. к дяде Мише Полуектову. А на следующий день – в воскресенье – днем я заехал к митрополиту Владимиру, и он подарил мне дароносицу. Помню проливной дождь на пустой rue Daru, фонари, Василий Абрамович Гаврилов, сторож, отвел меня в ризницу и подарил мне епитрахиль митрополита Евлогия. Все это было двадцать восемь лет тому назад! И остается от этого одно огромное чувство благодарности за все полученное в жизни, за все это ничем не заслуженное счастье, столько счастья! И пока пишу это, в окно вливается ярко-красный закат и озаряет книги, многие из них – еще подворских лет: Duchesne, Васильев (?) – купленные в подражание о.Киприану…
Только что завтракали в Scarsdale у Миши и Веры Бутеневых. Все дети – дома, и я всегда, глядя на них, думаю о том, как хорошо сотворил Бог человека (и это несмотря на то, что Алеша и Таня "не ходят в церковь"), – ибо из них, особенно старших, излучается красота добра.
Понедельник, 2 декабря 1974
Только что проводил в Kennedy
[292] – в Париж – Наташу, с которой за три недели мы очень сжились.
Вчера днем заезжал Павел Литвинов – передать Наташе письмо – и с ним Есенин-Вольпин, которого я еще никогда не видал. Впечатление – русского интеллигента-профессора 19 века… Волнения об аресте Осипова, вызове Анатолия Марченко, обыске у Твердохлебова. По видимости, начался новый нажим.
Вечером преуютный ужин у Сережи и Мани.
В пятницу говорил Шрагину: нужно было бы для вас, "третьей эмиграции", устроить семинар по русской эмиграции, в которой вы ничего не понимаете. У меня все время сидит в голове эта мысль: не только для них, но и для самого себя разобраться в этом опыте, совпадающем хронологически с моей жизнью. Это был целый мир, смешение и столкновение всех "Россий", особенно обостренное тем, что происходило оно в безвоздушном пространстве. Но чем поразителен и, пожалуй, единственен этот "мир", то это своей полной отвлеченностью, отрешенностью от всякой реальности: "русскость", но без всякого не только отношения, но даже интереса к реальной России, Православие, но в ту меру, в какую оно – составная часть этой отвлеченной "русскости".
В "эмигрантском мифе" поразительны и его иллюзорность, и его сила, или, вернее, их сочетание: чем иллюзорнее миф, тем он сильнее. С одной стороны – "кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу"
[293] , а с другой – именно этот "вальс" и завораживает, и втягивает в себя, и побеждает убежденность, жертвенность, энергия, с которой люди действуют во имя совершенно иллюзорных дел: какого-нибудь "общекадетского съезда"… Собрать его просто для того, чтобы встретиться, – и никто собирать не будет, и ничего не выйдет. Но претворить его в ритуал, включить его в "эмигрантский миф" – и все выходит, хотя то, что вышло, со стороны поражает своим абсолютным номинализмом, своей полной ненужностью. Однако в том-то и все дело, что нужна была только сама
встреча , которой бы не вышло, не будь она овеяна силой "мифа".
Еще поразительно то, что
миф , чтобы сохранить свою силу, свою "энергическую" способность, должен быть всеми силами охраняем от всякого анализа, должен оставаться "золотым" – или трагическим, или еще каким-либо –
сном ("честь безумцу…"
[294] ). Он должен быть возвышенным, дабы оправдывать "верность" (мы остались
верными России…). Далее, он должен иметь свой
негативный полюс, дабы "верность" могла переживаться как "непримиримость", "бескомпромиссность", "принципиальность". Он должен быть достаточно расплывчат и поверхностен ("За Русь, за Веру!"), чтобы, переживаемый как верность, бескомпромиссность и т.д., одновременно не слишком мешал жизни ("эмигрантскому быту" – с балами, весельем, встречами Нового Года и т.д.). И достаточно прост, чтобы можно было не задумываться (ибо "Россию погубили все эти интеллигенты").
Таким образом, миф сохраняет эмиграцию (вводит в нее детей, родившихся в 1951году!), но он же делает ее решительно бесплодной, саму ее претворяет в миф. Ибо, поскольку это миф, он непромокаем для "реальности" – будь то России, будь то Запада. Как характерно, что "вторая эмиграция" – 40-х годов – в сущности включилась в этот миф, ничего нового к нему не прибавив. Ибо тут действует простое правило: чтобы быть эмигрантом , нужно принять миф, но, приняв миф, теряется всякий смысл самой эмиграции, она становится "целью в себе".
Поэтому от всего того, к чему, согласно мифу, эмиграция стремится, во имя чего существует, ничего не останется. Однако сама эмиграция все больше будет претворяться в объект изучения, любопытства, своеобразной "ностальгии". Она, может быть, даже останется в русской памяти, как остались "дворянские гнезда", романтика военного быта и т.д., как нечто своеобразное и по-своему законченное.
Сейчас наступил ее конец. И трупный яд, пожалуй, в ней сильнее, чем сила – миф: он сам начал распадаться. Но потому-то, пожалуй, и так важно начать процесс ее
понимания , которое одно может противостоять яду. Не суд над ней ("А судьи кто?"
[295]), а именно понимание.
Paul Leautaud (в некрологе о ком-то, кто всегда, все время работал): "…J'y ai pense souvent: travailler a ce point, ne jamais s'arreter, quell don d'illusion cela suppose! Quel manque de sensibilite, aussi! Alas, jamais de reverie, d'incertitude, de detachement, un peu de ce gout amer de la vanite de toutes choses? Il faut bien croire que non…" (Le Theatre de Maurice Boissard, I, 373)
[296]. Вот, по-видимому, чем мне так дорог Paul Leautaud: "ce gout amer de la vanite de toutes choses…".
Среда, 4 декабря 1974
Маленькие бури в семинарии, в церкви. Уныние от пропитанности всего этого душного мирка враждой, мелким честолюбием, мелким властолюбием, личными счетами, недоверием. Опустошенность души, неспособность стряхнуть с нее всю эту липкую нечисть и страстное, overwhelming
[297] желание уйти… Днем читал некоторое время статьи и брошюры о патриархе Тихоне, и вот еще раз убедился в том, что книги "приходят" в нужное время: именно в нечисти и окруженный ею жил патриарх, она была его крестом и мукой, в принятии, несении их его подлинная святость. Урок и наставление.
"Узость и теснота": почти физическое присутствие и ощущение уныния. И вдруг – отпускает. И такое же ощущение мира и света. То, что кажется невозможным за минуту до этого, становится самоочевидным, реальным.
Введение во Храм по старому стилю. "Семеновский праздник". Нас с детства водили в этот день на полковой молебен на rue Daru. Сначала было много народа, атмосфера светского праздника. Они – офицеры – уходили в ресторан. Потом все меньше и меньше… А теперь стоит на молебне, в освещенном храме, с полным хором, один Андрей! Вот она – "верность an Sich"
[298] , безотносительно к тому, чему она верна. Миф, о котором я писал вчера или позавчера, – в чистом, хрустальном виде. Когда он перестанет устраивать этот молебен, что-то
кончится . Что именно? Не Семеновский полк, конечно, которого нет уже пятьдесят лет. Некая платоновская идея. Память о памяти, воспоминание о воспоминании:
Был целый мир, и нет его,
Нет ни похода Ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно – ничего…
[299]Сохранить же навеки все это: группу седеющих людей, уходящих в свете фонарей, в промозглый парижский вечер, из русского собора, после вечной памяти "Державным шефам", – эту вспышку праздника, молодости, дружбы и т.д., сохранить, воплотить все это, причастить этому может только искусство. "Квинтэссенция эмиграции".
Семеновцы были всегда впереди,
И смерть дорога им, как крест на груди
[300].
В этом, однако, все . И вот, по-видимому, задача этой тетради, инстинктивная в ней нужда: сохранить в себе все, не дать себе сузиться до чего-то одного: "декан Св. Владимирской Духовной Академии", "литургист" и т.д.
Вчера – в невероятно ясную, страшно морозную ночь – потрясающий вид Нью-Йорка перед въездом в сам город. И зажженные елки на пустой Парк-авеню.
Перечитал написанное и подумал: а Пруст-таки прав. Никогда, наверное, не был Семеновский полк так жив , как в эти парижские полковые праздники, когда память очищала его от всему мешающей и все извращающей "реальности". В этом, конечно, сущность праздника. "Его же память ныне совершаем".
Один в кабинете в семинарии. Солнце. Девять часов утра: "il faut tenter de vivre…"
[301].
Пятница, 6 декабря 1974
Именины по старому стилю, Николай Чудотворец по-новому. Архиерейская служба. Хиротония. Все эти дни – удручающие по своей мелочности церковные страстишки, выматывающие душу. В среду ездил в Принстон читать лекцию в Princeton Theological Seminary
[302]. Главная радость – от самой поездки. Потрясающий закат: на несколько минут все – голые деревья, поля, дома – стало красным, горящим. Потом – чудный городишко, ужин во французском ресторане, после лекции – беседа "на высоком уровне". Та Америка, которую я люблю: доброжелательная, свободная, укорененная в атмосфере толерантности, желания понять чужую точку зрения, то есть всего того, чего так катастрофически не хватает русским.
Вчера – с Льяной на Пятой авеню. Совсем случайно попали на зажжение грандиозной елки в Rockefeller Center. Огромная толпа, вдруг радостный гул – когда вспыхнуло тысячами разноцветных огней восьмиэтажное дерево. Какой это был "удобный" мир. Говорю "был", потому что все указывает на то, что он приходит к концу, изживает сам себя.
Книга G.Suffert "Les Intellectuels en chaise longue"
[303]. Как все это до смешного верно!
Суббота, 7 декабря 1974
Утро блаженного безделья после бурных дней (вчера годовое заседание Board of Trustees). Читал в "Нью-Йорк Таймс" речь американского посла в ООН: предупреждение и угроза, твердые и спокойные. Тон, которого так ужасно недостает в мире.
Понедельник, 9 декабря 1974
В субботу – длинный разговор по телефону с Павлом Литвиновым. Р.Б.Гуль (по-видимому, не без давления со стороны G.Kennan и Whitney) предложил ему, Хомякову (моему на протяжении нескольких лет "редактору" на радио "Свобода") и Ржевскому войти в редколлегию "Нового журнала". Все, что Литвинов мне говорил – о Гуле, о журнале, о своих планах, кажется мне верным, умным, благородным. Я ему говорю: "Как бы ни было трудно, принимайте…" "Историософски" это была бы передача эмигрантского толстого журнала "новой эмиграции", передача оправданная, поскольку "старая" кончается и выдыхается.
В субботу – письмо от Никиты, в ответ на мое о Солженицыне, письмо, очень меня обрадовавшее согласием Н. со мной.
"Со всеми Вашими формулировками я целиком согласен, но можем ли мы требовать от А.И., чтобы он в три месяца все понял, когда нам понадобилось свыше тридцати лет! Верно, что эмиграция, чтобы быть плодотворной, должна не только умереть, но и умирать, выделяя лишь то основное, что привело ее в страну чужую: в этом вся сила нашего направления, где, питаясь от соков прошлого, нет оглядки на прошлое и бесплодной зачарованности им. И наше направление нужно всемерно укреплять, чтобы не дать А.И. склониться в эмигрантщину… Что соблазнов у А.И. – много, я очень чувствую и иногда больно переживаю: соблазн догматизма, авторитаризма, некоторого упрощения и т.д. В творчестве все эти соблазны преодолеваются, снимаются, в жизни они неизбежны. Это обратная сторона его силы… Я думаю, не следует слишком переживать то, что мы с А.И. неизбежно стоим не совсем синхронно: за нами пятьдесят лет эмиграции, за ним девять месяцев. И все же он нюхом, в основном, понял, куда следует склоняться преимущественно. Но его может пугать, что наше направление очень несильное: за "Посевом" стоит довольно-таки дисциплинированная организация, за "Континентом" "писатели", а за "Вестником"? Три-четыре человека, и обчелся…"
Вчера днем у нас – детское царство: Сережа и Маня со своими, Аня со своими. Вечером ужинали у "молодоженов" – Сережи и Лизы Бутеневых. Пришел немецкий перевод моей "For the Life of the World": это уже шестой язык, на который переводится эта au courant de la plume
[304] в четыре недели в Labelle написанная книга. Как раз в эти дни правил корректуру "Of Water and the Spirit" и, как всегда, сомневался: книга вдруг показалась полной неудачей, катастрофой.
Вчера весь день – проливной дождь, а сегодня с утра – опять солнце. Сегодня – малый синод, и вот – нужно погружаться в церковные дела.
Четверг, 12 декабря 1974
Вчера, зайдя в Bedford, получил от Вероники Штейн "Из-под глыб" и вечером прочел. Сборник хочет быть "Вехами" нашего времени: судом над интеллигенцией, над ее "отчуждением" от России и т.д. Быть новой грозе: Солженицын бьет наотмашь со священным гневом.
Двенадцать дней до отъезда в Париж: страстное желание оказаться где-нибудь на Bd. Richard Lenoir, одному, прикоснуться к детству.
Письмо от Никиты: о "нашей" третьей эмиграции, то есть нью-йоркской: Литвинов и К о – "…ради общего дела и, в каком-то смысле, "Вестника" ее нужно приласкать. Конечно, за деревьями они не видят леса. Они не понимают или не хотят понять, что А.И. – явление мировое, первый русский человек после смерти Толстого, дошедший до сознания десятков миллионов. Что рядом с этим фактом реплика или еще какие-нибудь писульки, в которых А.И. не сумел обуздать силу? А они об этом всерьез. Шрагин пишет: "От великого до смешного – один шаг". Смешно не это, а думать, что реплика имеет хоть какой-либо вес против величия всего его творчества! Мы все еще не раз будем страдать от несоответствия эмпирического облика А.И. с его историческим значением, его относительной (неизбежно) публицистики с почти безошибочным художественным творчеством…"
"Совсем прекрасен Ваш ответ (узнал Ваш стиль) Филарету – неотразим, ибо соответствует самой сущности Церкви…"
Пятница, 13 декабря 1974
Андрея Первозванного – по старому стилю, преп. Германа Аляскинского по новому. Именины Андрея, рождение Елены – крестницы. Служили хотя и раннюю, но очень торжественную Литургию с множеством сослужащих. Отмечаю это потому, что вчера вечером, когда я уже в начале двенадцатого часа вернулся после исповедей домой, звонил Павел Литвинов (до этого уже звонил Льяне), весь опечаленный и больше – письмом Никиты, особенно – Шрагину, в котором он цитирует: "Quod licet Jovi, non licet bovi…"
[305]. Обида. Подлизывание к Солженицыну! Потеря (Никитой) достоинства… и т.д. Что делать? Я стою между двумя правдами – большой (о которой пишет Никита мне и с которой я согласен) и "малой", человеческой. По-человечески я понимаю обиду "диссидентов" на Солженицына, а когда смотрю "выше" – вижу правду Солженицына, даже по отношению к ним, к их интеллигентской гнильце и разложению, к этому "гуманизму".
Вчера думал и (полусерьезно) написал Никите – о нашем сборнике (в котором мы ответили бы и "Из-под глыб", и "Континенту", и Литвиновско-Шрагинской "фракции"). Даже название пришло в голову: Единое на потребу . И вот так бы и начать: сначала "единое на потребу": "Ты еси один Господь…", а потом, из него, в его свете: Россия, мир, Запад, культура и т.д. Попытка, иными словами, поставить опять все на свои места во взлохмаченном снова мире "русской проблематики". Свидетельство "эмигрантских мальчиков" в ответ на такое же – "мальчиков советских". Ибо всякий спор есть всегда спор об иерархии ценностей, о том сокровище, что определяет местонахождение сердца, об "едином на потребу"… И, думаю, если не выйдет сборника: не засесть ли самому. Ведь это и будет тем "самопознанием" и подведением итогов, на которые меня давно тянет. В тональности: "чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день…"
"Канва" должна быть автобиографической. Прежде всего, как пришло, как открывалось, как завладело душой и сознанием "единое на потребу": мама, церковь, встречи, опыт "инобытия", опыт тайного присутствия, света, радости, желанного – в самой ткани жизни. Проверка, углубление: Богословский институт и т.д. Раздробленность церковного опыта, "синтез": космический, исторический, экклезиологический. "Самосвидетельство Церкви" и соблазны церковного сознания: националистический, "православизм", идеологизм и т.д.
Затем: Россия. Как она раскрывалась постепенно "эмигрантскому мальчику". Ее раздробленность, ее единство. Встреча с нею.
Эмиграция. Последняя о ней правда: "аще не умрет, не оживет…" Service inutile
[306] – его подлинность.
Запад: его правда, его неправда.
Культура: ее подлинное призвание.
Свобода, освобождение, стояние в свободе.
Выбор, служение, жертва.
Суббота, 14 декабря 1974
Вчера – рождественский get-together
[307] в семинарии. Очень дружно, смешно и весело. Меня всегда удивляет: почему люди, в данном случае – студенты, столь беспомощные в разрешении своих "проблем", так остро и точно видят саму "суть" других людей (профессоров)? Себя не видят, а других видят!
Читаю – по второму разу – "Из-под глыб". Огромная, неудобоваримая правда Солженицына. Тут, действительно, "ничего не поделаешь". Она, как всякая глубокая правда, не может не вызвать реакции всего того, где есть еще идолы, самообман и самообольщение.
Понедельник, 16 декабря 1974
Пишу только, чтобы "прийти в себя" от суеты: телефонных звонков, разговоров, вопросов. Чтобы как-то найти, встретить себя. Черный день. Проливной дождь. Утром на радио "Свобода": Слава Шидловский, только что вернувшийся из Мюнхена, рассказывает о спорах, фракциях, разделениях там, на станции. За Солженицына и против него. Евреи и антисемиты. "Третий путь" и т.д. От всего этого становится тошно и грустно. В Церкви волнения в связи с приездом в феврале патриарха Пимена. Дриллок волнуется о намерении антиохийцев открыть собственную семинарию. И все это звонит мне, а меня все это очень мало интересует. Но как нести сквозь всю эту суету нерасплесканным мир душевный, тайную радость, глубокий взор?
Вторник, 17 декабря 1974
Вчера собрание профессоров,
Среда, 18 декабря 1974
…на котором погорячился против о.Шнейрла. И, хотя по существу сказал то, что я действительно думаю (мелочность, удручающее "плебейство" реакций на автокефалию, которая всех поставила лицом к лицу с вопросом: что же такое Церковь?), от горячности этой, как всегда, противный осадок.
Вчера – два года нашему маленькому Саше. После короткого заезда к нему с подарком ужинали с Л. в маленьком французском ресторане на 86-йулице и потом – по Пятой авеню, Рокфеллеровский центр с его огромной, изумительной елкой. Музыка. Ярко освещенный каток. Всюду рождественские украшения. Толпа. Чуть-чуть морозит. И, хотя я знаю, что весь этот Christmas spirit
[308] насквозь пропитан "коммерцией", все равно радуюсь, как каждый год, этому сам воздух наполняющему празднику.
Оттуда домой по "старой" дороге, как ездили, когда жили в Нью-Йорке, мимо нашего дома, где прожили первые одиннадцать лет нашей американской жизни. Всегда остро переживаю эти прикосновения к прошлому.
Сегодня после утрени: исповедь недавно рукоположенного священника, молебен молодому студенту о каких-то его друзьях. Наличие, не умирающий в мире запас – веры, жажды "горнего".
Четверг, 19 декабря 1974
Св. Николая Чудотворца по старому стилю. Вчера служил торжественную вечерню в Whitestone, где храмовый праздник. Как всегда – подъем и радость при виде восьми молодых священников, молодого хора, всего этого движения и тоже подъема, когда вспоминаю этот приход двадцать лет тому назад! С какой ненавистью, с каким презрением относились тогда старые окопавшиеся "миссионеры", а также самодовольные, только что из Европы приехавшие священники к каждому новому слову, как отстаивали это спящее, меркантильное православие! И вот все же что-то проросло. Но и как трудно! Вчера же письмо от бывшего студента] J.L., длинное, мучительное: уходить ли из священства или нет? Вчера тоже известие о том, что Т.К. бросил священство… Сегодня исповедь П.М. – что делать, куда идти, со всех сторон давление избрать "маленькое" и "разумное".
Корпусной праздник. Воспоминание о детском опыте праздника, "квинтэссенции" праздничности. Так ясно, что все дано, все предопределено в детстве. Как я благодарен Богу за эту в сущности странную – безбытную и посвоему на какие-то куски разорванную жизнь (корпус и Подворье, лицей и эмиграция, Кламар и Америка и т.д.), теперь осознаваемую в своем глубинном единстве. "Но веял над нею какой-то томительный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет…"
[309].
Вчера весь день – за письменным столом. Буквально десятки писем – ответов на гору неотвеченных писем. Как из-под палки!
Пятница, 20 декабря 1974
Вчера вечером у нас – Штейны: Юра и Вероника, Лена и Лиля. Ездил за ними в Woodside и после ужина отвозил обратно. Удивительно хорошие и светлые люди. Конечно, весь вечер разговор о Солженицыне, об "Из-под глыб", о "мальчиках", как Вероника называет Литвинова, Шрагина и др. и которые смертельно, кровно на Солженицына обижены. То ли еще будет, когда они прочтут "Образованщину"!
В семинарии последний, до каникул, день. На утрене уже горсточка студентов. Солнечные пятна на стене. Вчера – первый трипеснец предпразднества. Любимая мною атмосфера "кануна".
Том и Павел Лазор увлекаются "Путем моей жизни" митрополита Евлогия. Вчера за завтраком – разговор о русских эмигрантах, об их "специфике" – в приходе, американизированном, о.Павла Лазора, об их подходе к Церкви… А днем я писал статью о патриархе Тихоне. Вопрос Тома и Павла: можно ли действительно строить церковь, приход – "только" на Христе? Можно ли преодолеть – церковно – эту сращенность церкви с "плотью и кровью"? В этом, в сущности, весь вопрос американского Православия и – шире – Православия в двадцатом веке. Его "экзамен" на трансцендентную "истинность" и вселенскость. Однако если истина его только о мире ("освящение жизни"), то на экзамене этом оно провалится. Если же оно, прежде всего, истина о Царстве Божием ("эсхатология"), то тогда оно его выдержит. Ранняя Церковь побеждала только эсхатологической радостью, несомненностью – для себя – опыта Царства Божия, "пришедшего в силе", ощущением, видением "зари таинственного дня"
[310] . Для подавляющего большинства православных это очевидно звучит книжно и отвлеченно. Единственную альтернативу "плоти и крови", быту, национализму и т.д. они видят тогда только в развоплощенной "духовности", притом непременно сугубо индивидуалистической. Tertium non datur
[311]. Но вот, слушая вчера песнопения предпразднества: "Христос раждается падший возставити образ…", "таинственный сад…" – весь этот набор удивительных образов и символов, я снова и снова думал: сердце, сущность всего в Церкви именно
здесь , в этом постоянном прорыве к "последнему" как уже данному, ощутимому, созерцаемому… Церковь живет не "церковью", не "религиозной редукцией" (организация, клерикализм и т.д.) и не "миром" (тут неизбежна identity
[312] – национальная обычно, а если нет – то какая угодно: этническая, "духовная", иконная…), а
Царством . Она есть – таинство Царства. И вопрос только в том – с одной стороны: почему христиане это забыли и это "выдохлось", а с другой: можно ли к этому опыту вернуться. Свидетельство о нем, призыв к нему могли бы, должны были бы быть, я убежден, сущностью православного возрождения и его вселенской миссии, ибо тут все – и преодоление секуляризма, и богословский "синтез", и ответы на "современные" вопросы о культуре, об "истории", о "религии" и т.д. Но никто этого как-то не слышит, и меньше всего – богословы, все удивляющиеся, почему и мир, и Церковь так глубоко равнодушны к их научным исследованиям, почему предпочитают либо свою "редукцию" Церкви (русскую, греческую, какую угодно), либо жадно бросаются на всяческую, подчас сомнительную, "духовную" литературу. Ибо и то, и другое –
реально, есть , тогда как книги о византийском богословии относятся к чему-то, чего в реальности
нет.
Мы говорим человеку: Православие, христианство – не русское, не греческое и т.д. Мы говорим ему: оно освящает всю жизнь. Но он чувствует себя русским и требует, чтобы Церковь, чтобы Православие освятило его жизнь, то есть его реальность. Во имя какой же
реальности мы зовем его отказаться от этого? Во имя
Церкви , отвечаем мы. Но в чем же
реальность Церкви? That's the question
[313]. Молодые священники самоуверенно отвечают: ходите в церковь, часто причащайтесь, "стройте" приход, участвуйте в церковной жизни. Но в том-то ведь и дело, что никакой
своей жизни у Церкви нет, а если есть, то довольно призрачная. Если же Церковь живет
миром , то, значит,
реальностью жизней ее членов. И тогда не имеют права говорить: то, что реально для вас, вообще говоря,
не реально… Но на деле Церковь живет Царством Божиим, в этом
ее жизнь, действительно собственная, ни к чему в мире не сводимая. Этот опыт Царства Церковь призвана нести миру, и это опять значит – в реальность… "Церковь в себе", церковность ради церковности – страшное сужение, измена и подмена…
Пятница, 17 января 1975
Перерыв – меньше чем в месяц, и чувство такое, что прожита целая жизнь. Вчера вернулся из Парижа, куда мы с Л. уехали вечером в день Рождества после чудного празднования, чудной елки со всеми внуками. Но Париж был столь напряжен, в этом же году особенно из-за Солженицына – первые девять дней, что три недели, проведенные там, кажутся очень длинными. Хочу хотя бы кратко записать все по дням.
Приехали 26-го утром (четверг). В тот же день в четыре часа встреча в кафе с Никитой и Машей Струве]: Солженицыны приезжают завтра (то есть 27-го)! Будем вшестером встречать Новый Год у "Доминика"
[314]. Страх и трепет: "каково будет целование сие"?
Пятница 27-го. Еще "свободный" день! С утра с Л. по Парижу. Завтрак с Андреем в маленьком ресторанчике. Вечером звонок от Струве: приехали и ждут… Едем поездом к ним. Очень радостная встреча. Объятия. И все же – с самого начала чувство какого-то отчуждения, не то, что было… Потом все это объяснится… Очень нервные Н.икита] и Маша, у которых Солженицыны] остановились.
Суббота 28-го. У С.олженицына] заседания у Струве] в Villebon с издателями] и Морозовым. Мы "свободны". Вечером "даем" ужин Андрею, Лике и девочкам у Prunier
[315]. Радость общения с ними.
Воскресенье 29-го. Литургия на Olivier de Serres, потом кофе у Игоря Верника, завтрак у Андрея.
Понедельник 30-го. Рано утром еду к Струве] в Villebon и втроем – с Солж. и Никитой – едем на русское] кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Полтора часа! С. очень взволнован, особенно "военными могилами": записывает имена, надписи. "Ведь это – все мои отцы, его поколение!.. Там погибшее под сталинскими глыбами, и вот – здесь – в изгнании!" На кладбище о.Н.Оболенский хоронит кого-то: сегодня же весь Париж узнает о присутствии Солженицына! Возвращаемся в Villebon, откуда С. и Струве едут немедленно в Версаль и Шартр. Зовут с собой, но я возвращаюсь в Париж. Прогулка с Л. по старым парижским кварталам] Marais, St. Sulpice.
Вторник 31-го. Солженицыны переехали на rue Jacob (Hotel Isly), и Наташа С. свалилась с сильным гриппом. Я захожу в отель в десятьутра, и мы выходим с А.И. на осмотр Парижа. Тепло. Солнечно. Шесть часов пешком, вдвоем: esplanade des Invalides, pont AlexanderIII, Rond Point, Concorde, Rivoli, Vendome, Hotel de Ville, завтрак в маленьком ресторанчике, потом Bastille, Monmartre, place de Teatre, вниз – на Pigalle и до Trinite, где расстаемся…
Сначала он захвачен Парижем, особенно историческим (где что случилось…), радостен, порывист. Но под вечер, когда стояли на горе над Парижем, вдруг как бы затянулся грустью, сжался, ушел в себя, погас. Долгое – странно-задумчивое – хождение вдоль тиров и балаганов на Pigalle. Впечатление, что он внезапно физически ощущает страшную тяжесть, лежащую на нем. Тяжесть, от которой он как-то "темнеет".
Расстаемся с тем, чтобы в 9.30 встретиться у "Доменика". Я еду служить новогодний молебен. Когда мы с Л. приезжаем к "Доминику", они – Солженицыны и Струве – уже там, и сразу же чувствуется наличие драмы. Маша Струве шепотом объясняет: драма – об ИМКА-Пресс, его желание печатать полное собрание сочинений в "Посеве", грубые обвинения – "кумовство", неряшливое издание, возмущение И.М. и т.д. Солженицын мрачен как туча. Наташа – essaye de faire bonne mine a mauvais jeu
[316], всему радуется. Струве – дико напряжен. А кругом – чудовищная новогодняя пошлятина: клоунские шапочки, чепуха… Без десяти десять С. говорит: "Через десять минут Новый Год в Москве – встретим его, а потом уже – пошлый, западный Новый Год…" Разговор не клеится, веселье – и того меньше… Л. чудно все выдерживает, держит твердый и ясный тон. Вскоре после двенадцати, слава Богу, пытка эта кончается. Мы успеваем еще заехать к Ягелло, где встречают Новый Год все наши.
Среда 1-го. Чудный новогодний завтрак у племянницы] Елены. Днем заезжал в отель за Солженицыным, пешком идем с ним к старику Лодыженскому. С. спокойнее, ровнее, но разговор как-то не клеится. Изумительный зимний закат над пустыми, праздничными улицами…
Четверг 2-го. Я волнуюсь, потому что в дело включен Андрей: надо собрать "военных" – свидетелей великой и гражданской войн, нужных С. Волнуюсь потому, что волнуется Андрей. В 4.30 захожу в "Русскую мысль", где принимают С., чтобы "передать" его Андрею. Но, слава Богу, это все (встреча со стариками в Морском собрании) проходит хорошо, и Андрей очень доволен (мы его с волнением ждали до одиннадцати вечера у него дома).
Пятница 3-го. Моя последняя прогулка с С. вдвоем по Парижу. Беру его в одиннадцать утра на Exelmans (военный музей Геринга), и мы пешком идем по Сене, через Марсово поле – к отелю… Он кашляет, разбаливается, но светел и ласков.
Суббота 4-го. Андрей везет его, совсем больного с 39° жара, в Ste.Genevieve к полковнику Колтышеву, адъютанту Деникина, – "договаривать", а мы берем Наташу в отеле для прогулки по Парижу. Страшно реагирует, радуется. Завтрак в La Bouteille d'Or
[317] около Notre Dame de Paris, куда приезжает и Андрей. К трем отводим ее в отель, а сами вдвоем – идем по Тюильри. По-моему, я никогда не видал такого голубого освещения, такой потрясающей красоты. Отдышиваемся в кафе в центре.
Воскресенье 5-го. Служу на Exelmans
[318]. В четыречаса прощание в отеле. Он совсем болен. Суматоха. Она взволнована. Он говорит опять – о Канаде, говорит, что окончательно решил… Она – в коридоре, быстро: "Знайте, что в обморок буду падать только у
вас , к
вам …" Приходят Струве, я ухожу. На все вопросы Струве только машут рукой: потом, дескать, все обсудим…
Понедельник, 20 января 1975
Снег и холод. Вчера – в который раз уже! – ездил читать лекции в Wilmington, Delaware. В этом году как-то особенно радуюсь возвращению в Америку, может быть, в первый раз с такой силой ощущаю свою "кровную" связь с нею…
В Париже, уже после отъезда С., виделся с Максимовым и – отдельно, накануне отъезда – с Синявским. Оба буквально накалены против С. Опять моя вечная трудность: вполне понимаю и их, и его и не хочу выбирать, ибо для меня это – не выбор.
После всей этой суматохи сильное искушение: отойти, "отрешиться". Душа во всем этом не участвует, хочет "другого, другого, другого…".
Кончина тети Веры – такой огромной части детства… Удивительно, что в самый разгар солженицынской суматохи мне пришлось два раза напутствовать умирающих. И оба раза чувствовал: вот это мое дело, тут все ясно.
Эти дни читаю (в поезде, в кровати) "Les Cahiers de la Petite Dame"
[319] (Mme Theo von Rysselbeyne – подруги А.Жида). Странное чувство: столько в мире – "миров"! И каждый имеет и свою правду, и свою ограниченность. Я же знаю, что жить могу, только переходя из одного в другой, зная, что этот переход возможен. При одной мысли остаться в одном из них делается чувство духовной клаустрофобии. Но почти все – выбирают один и только в нем живут, и только его признают и утверждают.
В аэроплане, летя над Парижем, прочет A.Houtin "Ma Vie de Pretre"
[320]. Модернисты были небольшими людьми. Однако кризис начала века меня всегда так волнует и занимает потому, что именно тогда впервые наметилась основная проблема, суть "кризиса христианства", который теперь всего лишь раскрывается в своих логических последствиях. Поскольку Церковь отождествила себя с "институтом" и "разумом", она не могла не вступить в собственное разложение. Ибо ее "разум" не выдерживает критики, а ее "институт" – жизни.
Вторник, 21 января1975
Вчера – в Union Theological Seminary. Симпозиум-семинар "The Liturgy and the Arts"
[321] с моим вступительным словом. После меня – А.Б., последовательница Юнга. Символизм, подсознательное и т.д. Сидел и думал: какая невероятная путаница происходит в сознании (или подсознании) христиан! Трудно себе представить,
что может предложить христианство современному миру. В том-то, однако, и все дело, мне кажется, что, говоря, христиане думают именно о "современном мире", тогда как христианство (вернее – Христос) направлено никогда не к "современности", а только к вечному и неизменному в человеке. Трагический грех в том, что мы согласились с "современностью" в отрицании самого наличия этого "вечного", все стали воспринимать в категориях истории, то есть изменяемого, текущего. И потому, что мы не знаем, кому мы говорим, мы не знаем также и
что говорим…
Читал вчера второй номер "Континента" – окончание повести Корнилова. Впечатление какой-то ненужной запутанности, псевдосложности. Все сильнее ощущение, что с этой "новой" Россией – почти ничего общего. Разные опыты, разные "ключи".
После семинара вчера – ужин у Сережи и Мани, невероятно уютный, с детьми. Возвращение домой в трескучем морозе.
Среда, 22 января 1975
Утром поездка к Нератовой (вдове иконописца Абрамова) по просьбе вашингтонского прихода: удостовериться, что иконы закончены. То же неловкое чувство, которое я всегда испытываю при общении с людьми "органического мировоззрения", то есть закованных, заключенных в свою истину, для них самоочевидную. Понимаю сущность удовольствия, испытываемого мною при чтении "Cahiers de la Petite Dame" – об Andre Gide. Удовольствие от этой потрясающей, неслыханной "открытости", постоянной готовности услышать другого, дара симпатии в глубочайшем смысле этого слова. Эти постоянные чтения друг другу, переживание каждым всего, что касается другого… Сравнить это с нашей "христианской" жизнью, в которой каждый окапывается от другого…
Несмотря на уже засасывающую суету – дела, телефоны, заседания, разговоры, – чудное настроение. Только вот – полная невозможность "засесть за работу"… Она кажется ненужной, "скоромимопреходящей".
Пятница, 24 января 1975
Вчера весь день в Тихоновском монастыре: Малый Синод и т.д. Но все бодро, доброжелательно, без мучительной атмосферы подвохов и взаимных непониманий.
В связи с чтением "Cahiers de la Petite Dame" мысли о постоянном, несмотря на все, успехе в мире всего "левого". А с другой стороны – таком же постоянном, ответном крене "вправо". Что это такое? В чем это укоренено? Можно ли преодолеть эту поляризацию – именно психологическую, душевную и даже духовную, найти для нее "христианский рецепт"? Ибо она очевидно вытекает из христианства, есть плод его "распада" и "разложения". Хотел именно об этом писать для "Континента", но, зная себя, вряд ли соберусь…
Понедельник, 27 января 1975
В пятницу и субботу в Hartford (Hartford Seminary)
[322] на конференции "Theological Affirmations"
[323]: попытка противостать "модернизму", царствующему над американским богословием. Двадцать человек, крайне интересно и плодотворно, но, Боже мой, с каким страхом, с одной стороны, а с другой – желанием "рекламы" устроители подходят к этому делу. Может быть, начало чего-то, а может быть – и очередной мыльный пузырь, стремление к маленькой сенсации…
Вчера утром – храмовый праздник в Wappingers Falls
[324]. Служба с владыкой] Сильвестром. Удовольствие от поездки туда, рано утром, от солнца на голых деревьях, просторного, светлого, как бы вымытого неба. Радость и от самого праздника, от атмосферы дружбы, света, благожелательства этого прихода.
Днем – серебряная свадьба Мейендорфов. Наконец, вечером очень оживленный ужин у нас с вл. Сильвестром и Трубецкими.
Совсем поздно вечером – истерический звонок Юры Штейна и о.Кирилла Фотиева: появилась якобы неслыханно гнусная статья С.Рафальского в НРС
[325] против АИС
[326]. "Он оголенный, его нужно защитить, это ужас, это восстание всех против него, его добьют… нужно… немедленно…" Я "поддаюсь", соглашаюсь сегодня приехать в Н.Й. завтракать с ними. Утром, однако, все это мне кажется крайне преувеличенным. Сам А.И. только и делает, что наносит оскорбления направо и налево, и если обиженные им начинают реагировать (а имя им легион, еще в субботу вечером звонил Литвинов…), то c'est de bonne guerre
[327]. Надо, мне кажется, не столько "защищать" его, сколько ему сказать и говорить правду… Думаю о своем месте или "роли" во всем этом. Нежелание вмешиваться в эмигрантские споры: это раз. Стремление отстаивать
только "трансцендентное": это два. Отвращение от "лагерей", какие бы они ни были: три. Отстаивать то, что я
услышал в Солженицыне, в его художественном творчестве. Быть совершенно свободным в отношении его идеологии, которая – это очень важно – мне, прежде всего, несозвучна.
В Hartford'е кончил "Les Cahiers de la Petite Dame": о "коммунистическом" периоде Жида, поездке в Россию, разочаровании и т.д. Квинтэссенция западной наивности, с одной стороны ("чистота Сталина", "la purite de Staline"!), с другой же – поразительное, какое-то "фрейдианское" стремление к "сильному", отдаться сильному мужику. Культ на Западе всех этих Мао, Кастро, а до этого – Сталина необъясним без этой патологии. А потом такое же, в сущности, разочарование: мужик пахнет слишком сильно, и Жид отскакивает в испуге. И еще одно, тысячу раз проверенное: способность западных "интеллектуалов" строить аргументы из ничего, под все подводить глубокомысленные теории. Чемпион этого – Сартр, но это коренная болезнь Запада: невозможность, нежелание увидеть правду , больше того – убеждение, что они – то есть западные интеллектуалы – знают секрет объективного подхода к реальности. Духовно Запад не может не погибнуть, уже погиб и разложился.
Начал читать двухтомную переписку Bremond-Blondel.
Вторник, 28 января 1975
Опять – ранняя утреня, а до этого – морозным утром из дома в семинарию. Back to normal
[328] . И как освежительно и успокоительно это "normal", это чувство, что у тебя есть devoir d'etat
[329] и что все ясно и просто.
Среда, 29 января 1975
Все большая внутренняя оскомина от "солженицынской" бури или, может быть, от ее преломления в эмигрантском болоте. Ибо все, что в нем преломляется, тем самым искривляется: Церковь, культура и т.д. Ибо эмиграции это все нужно не само по себе, а для "себя", как оправдание самой себя, как видимость какого-то дела, служения и т.д. Все тот же "миф" и потому – неизбежное мифотворчество.
Думал опять о статье Борисова о нации как личности ("Из-под глыб"). Статья умная, "на уровне" и во многом верная. Но все та же опасность: свести религию, веру до уровня "вспомогательной" силы. Даже если нацию и можно, с оговорками, уподобить (именно – уподобить) личности, то нравственная оговорка в том состоит, что личность онтологически выше нации. Личность есть и может выразить, воплотить себя и вне нации, и безотносительно. Больше того, в каком-то смысле она противополагает себя всякому "безличному" коллективу. Никакого чувства "итальянской нации" у Данте, например, не было. Но было "чувство" Флоренции – то есть родины . А родина и нация совсем не то же самое. У де Голля чувство государства , у еврея – чувство народа . Источник путаницы, может быть, в том, что три этих, совершенно разных, понятия сливают в одно, тогда как на деле они различны даже в элементарном опыте. "Родина" – это почти физическая связь с местом, с детством, со всем тем, что дало нам впервые "вкусить всю радость бытия". Для меня, например, родина в этом непосредственном смысле – Франция, точнее Париж, куда меня всегда и тянет как именно на "родину". Но мне столь же очевидно, что я никогда не принадлежал к французскому "народу" и не ощущал Франции как моего "государства". Принадлежность к народу – это уже плод воспитания, изначально данного "направления". Еврей Мандельштам – нераздельная часть русского "народа". Имея "родину" во Франции, будучи частью русского "народа", я, наконец, ощущал США своим государством. Но что из всего этого – "соборная личность"? Кроме родины (связь с которой я не выбрал и которая потому "дана", есть факт), пожалуй, все остальное. В этом смысле (главном) – это Церковь, в других (вторичных и не исключающих один другого) – это русский народ, Америка, эмиграция и меньшие "единицы" (семья, конечно…). Богословски это можно выразить как возможность для каждой личности (ипостаси) ипостазировать разныет природы (усии). То есть личность сама по себе "соборна", может и должна в себе самой соборовать и соединять разделенное по "природам", и теоретически предела этому "соборованию" нет, или, вернее, полнота его во Христе, Богочеловеке, соединяющем в Себе все . Таким образом, личность есть также и преодоление ограниченности всякой "природы" и, следовательно, суд над нею. Всякий "национализм" есть отказ от этого суда, подчинение личности природе, тогда как смысл и сила личности в том, чтобы победить, очистить и преобразить природу.
Пятница, 31 января 1975
Тридцать два года со дня нашей свадьбы!
Дома – письмо от Никиты: "…на Вестник сейчас с разных сторон что-то вроде осады… Вообще чем больше вживаюсь в "советский мир", тем больше убеждаюсь в жизненной правде и необходимости христианства. Даже если Москва "откажется" от Вестника , нам необходимо его продолжать и развивать, защищая все наше (даже не наше – общее) христианское достояние:
теперь ясно, что христианство новой советской интеллигенции очень свежее, часто поверхностное, а главное – тоже расколотое. Помимо тем, нами обсуждавшихся, следует прибавить тему "чистоты", "цельности"…"
Понедельник, 3 февраля 1975
В пятницу вечером отпраздновали день свадьбы в преуютном французском ресторане, загородном, куда взяли с собой Анюшу, с которой всегда так хорошо – от ее прозрачности, цельности, честности…
Week-end почти весь дома, за исключением церкви. Чудно отпраздновали Сретение, торжественно, солнечно, радостно.
Вчера, наконец, впервые сел за свою "Евхаристию". Очень хочется вернуться к настоящей работе, уйти от "статейной" суеты, от всех маленьких бурь, в которых жили эти недели. Постараться писать хоть по три страницы в день!
Вторник, 4 февраля 1975
Утреня. Три с половиной часа лекций. Совет профессоров и несколько мелких встреч.
Вчера все утро – часа четыре, несмотря на телефоны, – работал над своей "Евхаристией", словно возвращаясь к главному, вечному, неизменному. Отсюда, может быть, радость, которая твердо держится в душе, несмотря на суету.
Четверг, 6 февраля 1975
Вчера, из-за снега, Л. не пошла на работу, и мы провели блаженный, тихий день дома. Весь день писал. Вечером у Качуров. Православная Америка: Качур – карпаторосс, его жена – венгерка. Затем: пара белоруссов, пара греков и мы – я и Льяна, отец] Иоанн Мейендорф и его жена] Майка. "Роскошный" ужин с "роскошными винами". Но атмосфера дружелюбия и даже, по-своему, "возвышенных интересов". И получается так, что эти – совсем чужие мне по происхождению и воспитанию – люди ближе нам, чем, например, родственники, с которыми мы ужинали в понедельник.
За окнами: красота неподвижных заснеженных веток, белых крыш и садов.
Пятница, 7 февраля 1975
Переписка Blondel-Bremond вперемежку с Чеховым, перечитываемым в который раз! Помимо самого содержания интерес этих книг, их "функция" в том, что они "вставляют в перспективу" суету, в которой живешь, "проблемы"… Как тогда тогдашняя суета казалась важной и как полностью забыта! И остаются только люди, единственный и неповторимый образ каждого. То, что в этой переписке было главным, – неинтересно, то, что тогда было "житейскими мелочами", – приобретает новое значение как кусок живой жизни. И то же самое, по-видимому, притягивает меня к Чехову.
На этой неделе: размышления – в связи со скриптами для радио "Свобода" – о "национализме" Солженицына. При некотором сходстве со славянофильством (нелюбовь к петербургскому периоду, самобытность, антизападничество) глубокое от него отличие: отсутствие "мистики", интереса к "избранию", "призванию" и т.д. Это, по-моему, очень важно.
Размышления также об истории православия в Америке в связи с "философской" статьей для сборника, готовимого к осеннему Собору. Вчера вечером продиктовал первый "драфт"
[330] Ане.
Телефоны, письма, приглашения, просьбы – и огромное время, тратимое на все это! Позавчера – Н.А. вопил мне в телефон по часам пятьдесят пять минут… Но все, что от меня хотят все эти люди, требует времени, которое они же и "съедают" безнадежно. Малодушие мое во всем этом…
Понедельник, 10 февраля 1975
В субботу – почти весь день (несмотря на шумное присутствие в доме всех внуков) писанье "Евхаристии", дающее глубокое и радостное удовлетворение. Действительно, нет меры, нет предела хотя бы возможности вживаться в полученное нами, дарованное нам! И какая это радость: прикосновение к вечности.
Вечером – ужин у Верховских, дружелюбный, "милый". Как он хорош, когда смывает с него его патологическая обидчивость, подозрительность и отсюда – "колкость".
Вчера, в воскресенье, – служба и лекция в Sea Cliff'е, потом завтрак у Кишковских, чай у А.А.Боголепова. И все это на фоне глубинной неподвижной радости воскресного дня, падающего снежка, заснеженных садов. А когда ехал обратно: огромный морозный закат вдали над нью-йоркскими небоскребами.
Как блаженна жизнь и как "всуе мятутся земнородные".
Вторник, 11 февраля 1975
Утром вчера – заседание с епископами в семинарии. Очередной ответ карловчан и кароловчанам, приезд советской делегации и т.д. Потом – короткая передышка дома (Bremond-Blondel), потом – Нью-Йорк: к Чалидзе, и вечером преуютные блины у Сережи и Мани.
Забыл записать: в субботу звонил из Принстона Туркевич и рассказал о двойной попытке самоубийства Van-Dusen'ами. Она умерла, он выжил (не смог проглотить снотворное…). Какой ужас! Van Dusen, когда я приехал в Америку в 1951году, был для меня олицетворением не только Union Seminary, но и вообще – богатства, солидности, устойчивости. Американский "establishment". А мы, нищие, ютились в подвале Union Seminary. И вот – такой конец. Sic transit
[331]… Жаль его бесконечно.
Вчера после блинов Сережа показывал фотографии прошлого лета в Лабель. Какая из них льется беспримесная радость: "Dans la lumiere de l'ete…". Эта свобода, небо, озеро, дети, детская беззаботность. Какой это всегда был дар Божий!
Среда, 12 февраля 1975
Трех Святителей по старому стилю: день смерти о.Киприана Керна].
Снегопад. Не пошел в церковь. Думал:
– о Н.Арсеньеве. Я вдруг ощутил весь ужас его одиночества, старческой беспомощности, погружения в некую пустоту забвения, ненужности;
– о соотношении "религиозная мысль – богословие". Под влиянием, одновременно, переписки Blondel-Bremond и размышлений о "религиозной мысли", хаотически пробуждающейся сейчас в России.
Католический "модернизм" был сплетением разных тем и чаяний. У Bremond, Blondel и Co., однако, очевидно стремление заменить "позитивное богословие" именно религиозной мыслью – то есть свести богословие к "описанию религиозного опыта". Оправданий у этого восстания было сколько угодно, но на глубине это все же разлагающий подход. Мы (и Восток, и Запад) расплачиваемся за крах богословия, но это не значит, что его вообще не должно быть, что его можно заменить расплывчатой "религиозной мыслью". Богословие
есть описание религиозного опыта. Но, во-первых, опыта
Церкви , во-вторых – опыта полученного, трансцендентного
Откровения , а не имманентного "переживания". Ошибка "научного" или "схоластического" богословия: отождествление самого Откровения с "идеей" и "доктриной", тогда как по отношению к ним Откровение всегда остается трансцендентным. Ошибка религиозной мысли: в нечувствии Истины как единственного "объекта" и Истины Откровения как объекта "sui generis"
[332]. Богословие слишком легко само себя выдает за Истину, не видит своей "символичности". Религиозная мысль бродит кругом и около Истины, брожение это и искание выдавая за "суть" религиозного опыта. Богословие начинает с того, что все уже найдено, и отрицает искание как непреложный путь к Истине. Религиозная мысль пуще всего боится "нахождения". Тогда как особенность "Истины" в том, что, с одной стороны, она открывается
только исканию, жажде – хотя, открываясь,
отлична от искания, а с другой стороны – порождает большее искание и более глубокую жажду. Крах богословия – от его "статики". Неудача религиозной мысли – от неукорененности ее "динамики" в
уже данном, открытом и потому – неизменном. Богословие отрицает
вопрос . Религиозная мысль считает всякий "вопрос" оправданным, не видит их "иерархии", отрицает аскетизм мысли и сознания, в пределе – лишена смирения. Богословие оказывается слишком часто отрицанием свободы сынов Божиих, религиозная мысль – павловского порабощения Христу.
Blondel : "…je voudrais pratiquer nous meme l'abandon passif, et tout ce qui est des contingences de la vie, des obstacles humains, des suspicions a la fois justifiees et illegitimes, afin de reserver a un oeuvre personelle tout ce qu'on me laissera de forces et de liberte. A Dieu de disposer des suites…" (Correspondence H.Bremond – M.Blondel, 1, 465)
[333].
Bremond: "…suis je perdu si je continue a croire que toute theologie ne saurait etre qu'une explicitation d'une experience (etant donne – ce que nous ne nierons jamais – que tout acte implique une metaphysique); que le depositum n'est pas une science mais une vie, un esprit, une grace d'action? Et, encore un coup, nous savons bien que cette vie est revelatrice, mais nous demandons qu'on nous montre: 1?la possibilite d'une dogmatisation et formulation algebrique de ces lumieres; 2?la realization de cette possibilities dans le concile de Trente et autres" (Correspondence, 2, 24-25)
[334].
Воскресенье, 16 февраля 1975
Л. с пятницы в Монреале у дочери] Маши. В пятницу завтрак с англиканским священником. Все волнения о священстве женщин… Вдруг, среди этих разговоров, подумалось: как в сущности несерьезна стала религия, перестав быть основной формой жизни общества. Впечатление такое, что она себя все время "выдумывает", чтобы просто не исчезнуть, не быть выброшенной.
Люди перестали верить не в Бога или богов, а в
гибель , и притом вечную гибель, в ее не только возможность, а и неизбежность и потому – и в
спасение . "Серьезность" религии была прежде всего в "серьезности" выбора, ощущавшегося человеком самоочевидным: между гибелью и спасением. Говорят: хорошо, что исчезла религия страха. Как будто это только психология, каприз, а не основное – основной опыт жизни, смотрящейся в смерть. Святые не от страха становились святыми, но и в святости – знали страх Божий. Дешевка современного понимания религии как духовного ширпотреба, self-fulfillment
[335]… Убрали дьявола, потом ад, потом грех – и вот ничего не осталось кроме этого ширпотреба: либо очевидного жульничества, либо расплывчатого гуманизма. Однако страха, даже и религиозного страха, в мире гораздо больше, чем раньше, только это совсем не страх Божий.
Вчера почти весь день до всенощной, не отрываясь, читал нового Солженицына, "Бодался теленок с дубом". Опять шестьсот страниц! Что же это за стихийная продукция! Под свежим впечатлением написал письмо Никите:
"Вчера весь день, не отрываясь, читал – и прочел – "Теленка". Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхищают… Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига… С другой же – пугает этот постоянный расчет, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз
так ощущаю – жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной "смекалки", какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку… Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее – в горах: "Я – Ленин…". Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются, как пешки одного, страшно напряженного напора. И это в книге нарастает. В дополнении 1973года – уже только Георгий Победоносец и Дракон и "график" их встречного боя. Когда на стр.376 читаю (в связи с самоубийством Воронянской, открывшим шлюзы
Архипелага ): "…ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину… Но, достаточно ученый на таких изломах, я в шевелении волос теменных провижу – Божий перст! Это ты! Благодарю за науку!" (что-де приспело время пускать
Архипелаг ), мне страшно делается. Начало гораздо человечнее, изумителен Твардовский, но чем дальше – тем сильнее это "кто не со мной, тот против меня", нет – не гордыня, не самолюбование, а какое-то упоение "тотальной войной". Кто не наделен таким же волюнтаризмом – того вон с пути, чтобы не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С нетерпимостью. Все это – по ту сторону таланта, все это изумительно, гениально, но – как снаряд, после пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже свои… А почему не поступили, как я, как нужно? Вот и весь вопрос, ответ, объяснение. Еще по отношению к Твардовскому еще что-то от "милость к падшим призывал"
[336]. А больше – нет, нет самой этой тональности, для христианства – центральной, основной, ибо без нее борьба со Злом понемногу впитывает в себя зло (с маленькой буквы) и злобу, для души столь же гибельные. Только расчет, прицел и пали! Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего – своей потрясающей интересностью. Мне же после нее еще страшнее за него: где же подлинный С.: в "первичной" литературе или вот в этой – "вторичной", и какая к какой ключ? Или же все это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир? Но и тогда – оправдывает ли она , эта непомерность, хоть малейшую сдачу ей в тональности? Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же "ленинство"? Сегодня за Литургией, но еще весь набитый этим двенадцатичасовым чтением, проверял все это. И вот чувствую: какая-то часть души говорит "да", а другая, еще более глубокая, некое "нет". Слишком и сама эта книга – расчет, шахматный ход, удар и даже – сведение счетов, чтобы быть до конца великой и потому до конца "ударом". Но, может быть, я во всем этом целиком ошибаюсь, и Вы, со свойственной Вам трезвостью и чувством перспективы, да и литературным чутьем, – наставите меня на путь истинный. Во избежание недоразумения добавлю: считаю его явлением еще, может быть, более грандиозным, чем думал раньше, – исторически. Но вот – духовно, вечно (в перспективе пушкинского "Памятника") – тут мучительные сомнения. А посему – взываю к Вам…"
Вторник, 18 февраля 1975
Вчера – суета в связи с приездом московской церковной делегации. Я был только на завтраке в двенадцать часов, в ресторане, но не на официальном приеме. Сидел с о.В.Боровым, единственный с человеческим и даже страдальческим лицом. Остальные – какие-то благообразно окаменелые, одинаковые, на одно лицо, с тем же выражением, теми же улыбками. Я говорю о.В.: "Может быть, заехали бы к нам, в Академию". Он: "Говорите с начальством. Вы ведь знаете, если пошлют, то мы и к черту поедем…" Нервный, желчный, ехидный, но по отношению "своих"… Хорошее слово вл. Иоанна Шаховского: "Держите крест над Россией…"
Вечером, когда мы с Л. вернулись из Нью-Йорка, где ужинали, – буря по телефону: вместо давно уже условленного молебна "они" хотят служить сегодня в National Council of Churches
[337] – Литургию. Все растеряны и трусят… Сообщаю о.Стаднюку, что "ни при каких условиях" студенты наши петь эту "экуменическую" литургию не будут.
Четверг, 20 февраля 1975
Послав письмо Никите, тут же получил письмо от него – о нашем "полном единодушии". Тут же начал писать для "Вестника" статью Об иерархии ценностей : попытка сказать, выразить наше "главное".
Вчера полдня в Принстоне на "русско-американской" богословской встрече (то есть встрече "церковников" из СССР с американцами). Опять то же плавное выступление владыки, то же чувство, что все это показное, казенное, что меньше всего в этой встрече – желания подлинно встретиться. Они привыкли быть посылаемыми, чтобы просто своим явлением a la град Китеж убедить Запад, что там все "в порядке". Но все это жалко, хотя одно свидетельство несомненно: не о том, что там все в порядке, а о том, что, несмотря на все, вопреки всему, – там есть Церковь. Завтрак с архиепископом] Владимиром, ректором Московской Духовной Академии, – очень светлое впечатление…
Очень умная речь о.В.Борового.
Переводчики, переводчицы с хорошими, русскими лицами. Кто они? Как могут они так жить?
Страшное загромождение жизни мелочами, делами, заседаниями – знакомое уныние и раздражение от этого. Чувство распыляемой, раздробляемой, расплескивающейся жизни.
Пятница, 21 февраля 1975
Один за другим – солнечные дни, синее небо. Вчера все "после обеда" на заседании митрополичьего совета.
Суббота, 22 февраля 1975
Ithaca, Cornell University
Один в отеле Корнелльского университета, куда я приезжал раз пять в шестидесятых годах. Прилетел вчера. Ужин в отельном кабинете с группой профессоров, потом лекция. За ужином, слушая разговоры, думал: как это точно описано в набоковском "Пнине" (Набоков писал именно о Корнелле, где преподавал). Тот же сарказм, безостановочный деланный хохот, "sophistication"
[338]. Что-то есть страшное в этой профессии: эта власть над молодыми душами и умами, власть теперь без всякого над собою контроля, не человеческого, а, т.[ак] ск.азать], "трансцендентного": убеждений, внутренней связанноости каким-то служением, каким-то "видением", мироощущением. Что такие люди могут
дать ? Маленькие, исполненные всяческого страхования (место, ранг, популярность)… Конечно, исключения, много исключений, но вся система принуждает вот к этой внутренней запуганности и внешнему цинизму ("знаю я цену всем этим идеям!").
Сегодня в "Нью-Йорк Таймс" статья о переменах в России за последние пять лет. "Диссидентство" замирает, молодежь не идет на смену уехавшим или осужденным. Об одиночестве Сахарова. Марамзин освобожден после раскаяния с условным приговором. Телевизоры, машины, мороженое, удобства. Выходит так, что трагическая, высокая нота, взятая Солженицыным, уходит вот в эту вату. "Жить не по лжи!" – но Чалидзе мне сказал недавно: "Как он не понимает, что люди всегда и всюду жили, живут и будут жить по лжи". Невозможность перебить инерцию низшей, безличной логики человеческих обществ. Америка "хочет" торговать с Россией, и это безличное "хотение" сильнее, чем какой бы то ни было протест. Россия "хочет" лучшей – материально – жизни. И с этим ничего не поделаешь. Страшное абсолютное бессилие религии в этих "хотениях". И дело тут не в слабости и падении самой религии, а в чем-то неизмеримо более глубоком. Религия перестала быть основным term of reference
[339], основой "мироощущения", пускай и слабой, но "оценкой" всех "хотений". Особенно сильно почувствовал я это (хотя, конечно, знаю об этом давно) в пятницу на Митрополичьем Совете: был доклад Committee on Investment
[340], то есть обсуждение того, что лучше – вкладывать церковные деньги в какие-то bonds
[341] или какие-то stocks
[342]. Я уже не говорю о том, что никто, видимо, не чувствовал какого-то демонического комизма самого этого обсуждения, с участием епископов и священников. Не говорю о том, с каким подлинным
благоговением слушали члены Совета финансовых экспертов: банкира и биржевого маклера; тут было именно – на час – то
благоговение , тот религиозный awe
[343], который начисто отсутствовал в обсуждении простых церковных дел. Это последнее велось, напротив, в тонах мелкого политиканства, взаимного недоверия (проверка чуть ли не каждого цента, истраченного церковной администрацией) и т.д. Банкиров слушали с духовной усладой и если о чем спрашивали, то в тоне, которым, mutatis mutandis, раньше обращались к старцам, мудрецам и "мэтрам". А они говорили с той простотой и благородным смирением, что присущи людям, знающим свою силу, свое
незаменимое место в обществе и в общественной иерархии. Вот тут все: этим тоном не говорит религия, ибо этого места у нее больше нет. Она вся "петушком, петушком", как Добчинский и Бобчинский, только бы ее "тоже взяли", "не забыли", что она все еще тут и не совсем – поверьте, поверьте – бесполезна. Сокровище мира, а потому и сердце – не в ней, однако забыл сказать, что оба-то финансиста – банкир и маклер – сами очень деятельные члены Церкви, отдающие ей буквально и жертвенно все свое свободное время, причащающиеся каждое воскресенье и т.д. Что это значит? Чего это символ? Да того, конечно, что сама религия приняла секулярную "логику" и в этом принятии не видит, не ощущает не только никакого падения, но даже и никакой "проблемы". Да и как бы могла она иначе
жить?
Две иллюстрации сказанного в газетке, подсунутой под дверь моего номера (Syracuse Post-Standard):
В Чикаго, в огромном городском госпитале, пять лет назад построили внутренний крематорий для сжигания трупов одиноких бедняков. "There was no question, – утверждает директор, – that it would be cheaper to cremate the bodies than deal with private cemeteries…"
[344]. Но крематорий так и не действует, ибо служащие протестуют. Один из них сказал: "We do have some people with a bit of religion left who don't buy that way of disposing of human bodies, and I guess I'm one of them…"
[345]. Самое же замечательное в том, что, по словам директора, постройка крематория была предварительно обсуждена с "religious leaders"
[346] and "there was absolutely no opposition…"
[347]. Еще бы! Лидеры да еще сопротивляться "современности"… Сопротивляется еще, но уже недолго, – "a bit of religion left…".
В том же номере заявление католической монахини, возглавляющей какой-то институт для осведомления мира о "new image"
[348] монахинь: "Sisters have become very serious ministers dealing with issues of social justice and with the Gospel in terms of the world today"
[349]. Оказывается, нестерпимым был их старый image как смиренных и послушных учительниц, сестер милосердия и т.д. "At present… the widespread, lingering attitude is that nuns are only cogs in the institutions, either teachers or nurses (!!!), although actually they are increasingly getting out of simply staffing institutions as schools and hospitals…"
[350]. И опять, ужас в том, что ни она и никто иной как будто даже и не чувствуют этого поразительного презрения к реальному, живому делу: дети, больные, старики (что выше, что святее!) – и уродливости этого убеждения, что "ministry"
[351] – это обязательно какие-то безличные "agencies"
[352]. Добчинский и Бобчинский! "Петушком, петушком…" Но
что делать?
Кончил второй том переписки Bremond- Blondel, которую читаю с наслаждением. Почему меня так давно и неизменно интересует и волнует все относящееся к французскому модернизму? Может быть, потому, что я бессознательно чувствую, что тогда были не столько "сформулированы", сколько пережиты основные вопросы религии и Церкви в нашем современном мире, тогда, в каком-то смысле, решалась дальнейшая судьба Церкви. Я никогда не думал, что модернисты были во всем правы. Напротив. Но "проблему" они чувствовали. Эта проблема была тогда задушена и замолчана террористически. И за это Церковь (католическая) расплачивается теперешней катастрофой.
Реальность Церкви , трасцендирующая относительность "доктрин" и "богословий", – вот, в сущности, основное "переживание" таких людей, как Bremond, да даже и Loisy, который не ушел, а которого "ушли". Примат
опыта Церкви над всем остальным. Церковь как опыт, а не "авторитет" (который – авторитет только в ту меру, в какую он нужен для сохранения
реальности и
опыта ). На это Церковь ответила утверждением себя как
голого авторитета (reductio ad absurdum
[353]) и как абсолютизма формул, то есть того же авторитета. И через несколько десятилетий лопнула: Ватикан II и вакханалия: разложение "авторитета".
Blondel (p.392): "L'infinie et subtile et musicale complexite des sentiments, des idees et des choses"
[354].
Bremond (p.411): "Voila ou nous en sommes: au moindre courant d'air, nous croyons voir venir la fin du monde"
[355].
Bremond (p.383) (о Паскале, о jansenisme): "…le devoir religieux par excellence est oublie:
l'adoration . Homo creatus est d'abord ut laudet. Dechu ou non, l'homme est pour lui sa fin premiere est de ui render gloire. Evidemment, l'anthropocentrisme dominera toujours dans la faute, mais Pascal est le premier a nous en faire une sorte de devoir: devant Dieu, nous ne devons penser qu'a notre misere"
[356].
(p.384): "…et, puis un des grands bienfaits du christianisme n'aurait il pas ete de nous querir, en partie, de l'obsession de moi? Quoi de plus reposant que les gloria qui finissent tout, et que d'etre obliges de nous attarder a l'Adveniat regnum tuum , avant de passer au panem nostrum.
…M. ne me pardonnera jamais d'avoir dit que notre premiere fin etait de louer Dieu, mais enfin il y a toute la liturgie…"
[357].
Что другого должно было сказать Православие, если бы не было оно давно в плену у тех же "западных" соблазнов и искушений! Трагедия католичества – наша трагедия.
Понедельник, 24 февраля 1975
Хочу кратко записать мое "корнелльское" воскресенье или, вернее, то, что остается от него как "жатва" для души ("блага, которых мы не ценим за неприглядность их одежд"
[358] , но которые – потом и уже навсегда – и составляют "благо" пережитого, остаются…). В субботу – катанье на автомобиле вокруг города] Итаки с Сашей Нератовым. Старое кладбище, озеро, старые дома: уходящая Америка, шарм которой я всегда так остро чувствую. Ужин с группой православных студентов и с обычными разговорами.
В воскресенье рано утром Литургия в греческой церкви. Еще раз поражаюсь бессмысленностью греческого "факта" в Америке, неспособностью греков "продумать", осознать… начать Церковь свою интегрировать в реальность. Затем – без передышки – в церковь] Sage Chapel, где я должен проповедовать на "convocation"
[359] и где я уже бывал раньше несколько раз. Изумительный, всегда меня поражающий хор. Смотрел на лица этих мальчиков и девочек (студентов), пока они процессией проходили мимо меня, и прямо шок в сердце: как много в мире добра, красоты, чистоты, как бессознательно, наверно, хотят их эти хористы и как все это, наверно, превращается в gachis
[360] нашей "цивилизацией" и этими университетами, знающими все, кроме того, для чего они существуют. "Горе тому, через кого соблазн приходит"
[361].
На Kennedy, около трех часов], встретила меня Л., и, так как было еще рано, мы поехали с нею к Трубецким. Серенький, очень туманный день, красота и печаль деревьев, парков, просторов: физическое наслаждение… Заезжали на кладбище.
Вечером – ужин у Тани Терентьевой в Sea Cliff'е со Штейнами, Месснерами и Кириллом Фотиевым]. Необыкновенно дружно и хорошо.
Au total
[362] : чудный week-end.
Вторник, 25 февраля 1975
Весь день вчера полное бессилие – что бы то ни было делать – и уныние и раздражение от этого, раздражение на эту в мелочах и суете разлагающуюся жизнь. Утром сел за стол, написал – чтобы "разогнаться" – написанное выше, и вот первый телефон. Полчаса! Пока разговаривали, приехал Дриллок: меня ждут в семинарии представители Фрока
[363] , чтобы вручить чек… Еще час. Кончили. "Вас хотят видеть два украинских семинариста из Виннипега". Еще час… И вот сознание уже засорено, и невозможно вернуться к первоначальному, "творческому" вдохновению. После завтрака, читая, заснул. И уже до вечера – никакой работы, а вечером – идиотский детектив по телевизии. Отвратительное недовольство собой за эту распущенность…
Читаю переписку Maritain-Mounier (1929-1939). Все та же "судьбоносная" декада. Неудержимый крен влево христианской интеллигенции (да и не только христианской – ср. эволюцию Gide'a в эти же годы по "Les Cahiers de la Petite Dame", которую читал в январе). И хотя ужасаешься – теперь, задним числом – этому крену, еще больше поражаешься и ужасаешься тому, что его вызвало: твердокаменной тупости и подлости и ограниченности всего "правого". Опять эти доносы в Рим, травля в газетах, ханжество. "Правое" – это неспособность, нежелание что бы то ни было пересмотреть, переоценить, понять, услышать, увидеть. И все собою пронизывающий, липкий страх. Крен "влево" нетрудно понять – христианство очевидно "революционно". Трагизм его в том, что, оторвавшись от христианской эсхатологии, христиане-максималисты неудержимо "падают" либо в личное "мироотрицание", либо же в левый "коллективизм". Вне эсхатологии невозможна христианская доктрина
зла . Либо сам мир становится злом, либо же оно отождествляется с чем-то одним в мире (социальными структурами и т.д.). И то, и другое – ересь. Христа не нужно ни для ухода в мироотрицающий буддизм личного "спасения", ни для "социальной революции". Mounier чувствовал это, может быть, сильнее, чем кто бы то ни было среди христиан, и все же это притяжение к коммунизму etait plus forte que lui
[364] … Но чистота, благородство его образа удивительные… До этого пробежал книгу – сборник статей – о Laberthonniere. Все это, чувствую, не случайные чтения. Они связаны с желанием разобраться в нашем – русском и, главное, православном – кризисе. Ибо мне все яснее становится, по мере того, как я вчитываюсь и вдумываюсь в судьбы католичества (и вообще христианства) в 19-20 вв. (до модернизма, вся буря в связи с Ватиканским собором 1870г., реакция ПияIX, Syllabus, до этого – Lamennais, а еще раньше – традиционалисты De Maistre, Bonald и т.д.), что все это одна и та же диалектика, нарастание одной и той же волны, рожденной, вызванной падением средневекового христианства (в Православии – византийского синтеза). Именно в нем укоренено основное раздвоение: "левого", то есть попытки разобраться, пересмотреть, переоценить и, главное, снова – ощущение "мира" как объекта Церкви, для которого она одновременно и спасение, и преодоление, спасение
через преодоление, – и "правого", постоянной реакции на эту попытку, стремление ее раздавить в корне. Это раздвоение определяет собою и наше время, и вся задача богословия сейчас – его преодолеть, исцелить, поднять на тот уровень, где оно "снимается". Ключ же к этому – в христианской эсхатологии, то есть христианском восприятии
мира (творение, падение, спасение) и, следовательно, зла… А "они" все хотят к чему-то вернуться и что-то "реставрировать" – кто Византию, кто старообрядчество, кто Аквината, кто… Либо же сдаются "миру"…
Среда, 26 февраля 1975
Ранняя Литургия. Идя в церковь еще совсем ночью, но с огромной морозной луной на небе, думал, с некоторым раскаянием, о моем постоянном "томлении" от суеты и забот, о считании дней до каникул, лета. Почувствовал греховность этого неприятия настоящего, моей неверности в малом. Нужно было бы (и я сам всегда говорю об этом) принимать каждый день и все в нем, как дар Божий, и претворять в радость, и если мне все это не в радость, а в тягость (разговоры, студенты, собрания, переписка и т.д.), то, действительно, от греха, от эгоизма, от лени…
Кончил вчера переписку Mounier-Maritain и начал Anthropologie du Geste, Marcel Jousse
[365], антрополога-иезуита. Сложно, запутанно, но чувствую, что он открыл что-то очень важное, что-то, чего я смутно искал для "литургического богословия".
Яркое солнце. Холод. И некое несомненное – чуть-чуть – веяние весны.
Письмо от бывшего студента, бесконечно меня тронувшее: "I would like, in a very simple way, to thank you for a very memorable three years at St. Vlad. Seminary. Listening to you in class and serving with you both as a Deacon and as a Priest has been a tremendous joy for me…"
[366].
Четверг, 27 февраля 1975
Мучительное заседание, вчера, факультета. Мучительное не тоном – он был мирный и даже веселый, а тем глубоким разбродом и, в сущности, взаимоотрицанием, что изнутри определяет собой нашу работу и которое, конечно, неслучайно. Разброд этот мне представляется так: В. – major obstacle
[367], ничего не понимающий человек, без какого бы то ни было чувства реальности и опасный своим негативизмом. Затем – "академизм" М. и, наконец, группа понимающих все положение Церкви по отношению к миру, к культуре и т.д. Как согласовать все это, наладить хоть какое-нибудь единство? Вот моя следующая "проблема", к которой я не знаю, как подойти…
Все утро лекции, встречи, разговоры… Сегодня после лекции (о хиротониях) Миша Аксенов мне: "Эти лекции для меня – полтора часа бальзама на душу".
Пятница, 28 февраля 1975
Перед отъездом на два дня по семинарским делам в Питтсбург. Вчера, за ужином, у нас Jim и Pamela Morton. Дружелюбно, оживленно, но чувство такое, что нам, в сущности, не о чем друг с другом разговаривать кроме Лабель и перемывания косточек знакомых. Наши жизни в разных "ключах", хотя, может быть, в них действовали попервоначалу те же предпосылки, та же тональность.
Сегодня после утрени разговор с Мишей Аксеновым о Солженицыне. "Он нас воспитал и вдохновил, – говорит Миша, – и потому мне так страшно обидно видеть, как он "ридикулизирует" себя, разменивается на мелочи… Его чуждость культуре, страшное непонимание того, что нужнее всего России – Европа, Запад. Вот оторвались от них на пятьдесят лет, и что вышло? Упрощенность, стремление к упрощенству…" Увы, в этом много верного.
Далее разговор с Paul Garrett о переводах, обо всей этой проблеме переложения Православия на язык другой культуры.
Вчера в
Express статья Jean Francois Revel: "La tentation totalitaire"
[368], которую хотелось бы всю переписать, до того она бьет в цель. Ограничиваюсь выписками.
"Tous les defauts des societes liberals sont majores par leur critiques a tel point qu'elles apparaissent comme foncierement totalitaires, et les defauts des societes totalitaires minores a tel point qu'elles apparaissent comme foncierement liberals. Du moins tient on pour acquis qu'elles sont bonnes par nature, quoique passagerement irrespectueuses des droits de l'homme et les autres mauvaises par nature, quoique les homes y vivent accidentellement moins mal et plus librement…"
[369]Цитата из книги
Les Normalises (Christian Jelen)
[370].
Ilios Yannakakis: "Satisfait, condescendant, a l'ecoute de sa propre voix, l'occident se repete a lui meme son proper recit du socialisme, le non recu erige en dogme…"
[371].
Суббота, 1 марта 1975
Вчера и сегодня – в Питтсбурге. Вчера вечером собрание Foundation
[372]. Среди присутствующих – свыше десяти священников, наших "питомцев", вчера – как мне кажется – еще сидевших за партами в семинарии. Радостное чувство от их хотя и разного у каждого, но горения, от этого сознания – "мои", "наши". Вспоминаю свой первый приезд в Питтсбург в феврале 1952г. (!) – и ужас от тогдашнего духовенства.
Сегодня с десяти до трех в сирийской церкви у Corey так называемый retreat
[373], то есть на деле две моих лекции с обсуждением. Свыше ста человек. Ехал усталый, неохотно, но при виде всех этих людей, их внимания – опять радость, подъем. Сам почувствовал, что говорилось легко и искренне.
В Питтсбурге утром – снег, а потом синее небо, солнце. На аэродроме около четырех часов, оставшись один, переживаю – как всегда, внезапно – эту, уже знакомую мне минуту bliss'a
[374], непонятной, но полной и блаженной радости. Лучи солнца из огромных окон, музыка под сурдинку, льющаяся отовсюду и ниоткуда, и вдруг – это полное единство со всем, что тебя окружает, точно все предметы как-то мягчают, оборачиваются к тебе дружбой, близостью. Это мгновение – вне времени, но в нем собирается, сосредоточивается вся жизнь.
Все тут, хотя и неназванное, не объективированное, все – от самого детства. Прикосновение к душе вечности – когда не нужно "вспоминать", ибо нет пропасти между собою вспоминающим – ии вспоминаемым, то есть самой жизнью.
Вечером – у всенощной в семинарии. Поспел прямо к "На реках Вавилонских" и "Покаяния отверзи ми двери…". И снова – вторично – тот же "укол" полноты и блаженства. Однако – оно ведь все время , всегда тут, рядом, вокруг. И вот как редко и мимолетно, как вместе с тем даром – вдруг изливается в душу.
Понедельник, 3 марта 1975
Неделя о Блудном Сыне. Служил, проповедовал. Чудный смешанный хор. "Святый Боже" Чайковского, который мне всегда так живо напоминает о папе, как он играл его на рояле дома.
Обед Иннокентиевского братства на Второй улице. Какая-то стареющая и разодетая красавица поет в микрофон под аккомпанемент аккордеона: "Поцелуем дам забвенье…". Те же, только очень постаревшие, мужички, что и в 1951году! Но вот из этого тупика растут, пробиваются новые побеги: как это удивительно! Вечная сила, жизненность, правда Церкви – раскрывающаяся только любви, смирению и терпению.
Вечером ужин у Дриллоков с Эриксонами. Чувство близости, "семьи", полного доверия, дружбы. Сколько за один день можно насчитать таких "даров"!
Прочел, на ходу, роман R.V.Piltres "L'Imprecateur"
[375], получивший какой-то приз. По-французски умно, талантливо, хорошо "сделано". О тупике современного мира, о диктатуре безличных мировых трестов. Почему люди так ясно, кажется, видят природу зла и так бессильны? Не потому ли, что совершенно не знают,
что противопоставить ему? Видят гибель жизни, распад мира, не видят, не знают спасения.
Вчера в соборе получил в подарок от какой-то совершенно мне не знакомой пожилой женщины – старинный русский наперсный крест. "Почему мне? Откуда Вы меня знаете?" – "О, я Вас хорошо знаю, давно слежу за Вами, слушаю Вас…"
Удивительная зима: весь февраль яркое солнце, ясное небо. Но вот уже март, и повсюду – намеки на весну.
Вторник, 4 марта 1975
Вчера почти весь день, не отрываясь от стола, за писанием "Иерархии ценностей". В сущности это, конечно, попытка сказать что-то Солженицыну, оттого и пишется с таким трудом и раздумьем не только о содержании, но и о "тональности". После обеда прочел начало Л. Она: "Ты абсолютно убедительно показал всю правду церковного национализма…" Однако в том-то и дело, что я вырос в нем, изнутри знаю его убедительность, его "правду", что я не хочу бороться с карикатурой. "В мире сем" и "не от мира сего" – это не выбор между двумя возможностями жить, это всегда крест.
Дневник Leon Bloy
[376], которым так увлекались о.Киприан, Е.Н.Осоргина. Всегда то же впечатление: с одной стороны – огромного таланта, может быть даже с проблесками гения (отдельные богословские интуиции), с другой же – какое-то самоупоение собственной бедностью, бешенством, бескомпромиссностью. Не знаю, но весь этот тон мне не по душе. Христос не бил людей по физиономии и не обращался к ним с площадной руганью. И потом образы вроде: La France est le seul pays don't Dieu ait besoin…
[377]. Читаешь (да еще после часов размышления над такими же, только русскими, утверждениями о России) и думаешь: нет, не то. Не нужно всего этого. Не нужно нажаться педали – ни об евреях (Le Salut par les Juifs
[378]), ни о Франции, ни о чем. Истина Христова светла и проста, а тут какое-то трагическое "рококо". Чувствуется вся искусственность "конца века". Haysmans, poetes maudits
[379], и вот тоже это грохочущее христианство…
Вечером – беседа со "студентскими женами" о Посте. Как всегда – иду с неохотой и внутренним протестом. Возвращаюсь с радостью от этого общения в главном и насущном.
Еще о Bloy: мне чужды эти "гадания" о тайне будущего. "Вам не дано знать…". Есть, однако, этот тип религиозного сознания – с "легкостью чрезвычайной" в том, что о.В. Зеньковский называл "поспешными обобщениями". Вере одинаково свойственно чувство тайны (не "секретов") и простое светлое доверие.
5 марта 1975
Leon Bloy. Сколь ни сопротивляешься тону его писаний, экзальтации, преувеличениям, "нажатию педали", они захватывают. Действительно, le pelerin de l'Absolu…
[380].
Отдельные фразы, утверждения бьют прямо в душу.
P.104: "une chretienne me dit ceci: – il est necessaire d'avoir un mari pour etre vierge. A quoi je reponds avec toute l'Eglise: – le virginite integrale est en proportion du desir surnaturel de la maternite. C'est a force d'etre Mere de Dieu que Marie est parfaitement vierge".
P.114: "L'Incarnation est la creation consommee. Ce monde etant un systeme de "choses invisibles manifestees visiblement", on peut dire que la Creation se renouvelle chaque fois que notre oeil percoit une realite sensible. La Genese commence par le Fiat Lux".
P.134 (о кладбищах): "villes des ames qui souffrent, qui ne peuvent pas parler et qui sont ainsi des
ames enfants "
[381].
Уже который день – все то же солнце, все та же удивительная, ликующая синева неба! И в тишине залитого солнцем дома со страхом и трепетом пишу свою "Иерархию ценностей". Утренние евангелия этих предпостных дней: о страстях Христовых. Всегда этот цикл, всегда все приходит к этому концу , без которого невозможно никакое начало.
Четверг, 6 марта1975
Leon Bloy:
P.181: "il me semble que les Exercices de St. Ignace correspondent… a la Methode de Descartes. Au lieu de regarder Dieu, on se regarde soi-meme…"
P.182: "psychologie inventee par les Jesuites: methode qui consiste a se regarder continuellement soi-meme, en vue d'eviter le peche. C'est la contemplation du mal a la place de la contemplation du bien. Le Diable substitue a Dieu. N'est-ce pas toute la genese du catholicisme moderne…"
P.184: " Exercices …d'ou est sortie l'odieuse, l'abominable depravante psychologie contemporaine. Toujours s'analyser, s'interroger anxieusement, se regarder l'ombilic!.. Fuyez l'analyse comme le diable et jeter-vous a Dieu comme un perdu…"
P.265: "Traits caracteristiques des protestants, a quelque secte qu'ils appartiennent. Haine de la penitence, amour de tout ce qui est facile, indifference monstrueuse pour tout ce qui est beau".
P.270: "faire ce qui plait et croire ce qu'on veut. C'est la base meme du protestantisme".
P.270: "…avait appris d'un professeur fameux de Copenhague, que la pensee ne peut se passer de problemes, mais qu'elle se passe tres bien de leur solution. Il s'agit meme de ne jamais les resoudre pour ne pas se barrer l'horizon ".
P.266: "Objection inexprimee et sans replique:
ma sante ne me permet pas de devenir un saint . Tel est le fond de ces serviteurs de Dieu"
[382].
Вчера вечером по делам семинарии в Кливленд. Любимое мною одиночество аэродрома, аэроплана… Сегодня из гостиницы, где ночевал, в 7.30утра – на аэродром на метро. Так редко приходится за последние годы быть в этой предрассветной, еще ночной, рабочей толпе.
Прямо с аэродрома в школу] Scarsdale High School – лекция о Солженицыне, устроенная Петей Бутеневым. Шестьдесят мальчиков и девочек: слушают идеально, напряженно…
Кончил сегодня Leon Bloy. И остается, несмотря на все, впечатление чего-то огромного: веры в ее самом чистом виде, такого опыта Бога и небесного, что по сравнению с этим все кажется ничтожным. Начинаешь понимать его вопли, лучше сказать – его вой к небу, невозможность для него жить в этом мире; нет, огромное явление, невероятный свидетель… И снова убеждаюсь в том, что книги приходят, когда нужно: а мне сейчас, когда я пишу "Иерархию ценностей" и сомневаюсь, это свидетельство – как воздух…
"И март весенний, грустный, ранний, меня поддерживаешь ты". Не помню, чей это стих, но в нем – весь сегодняшний серенько-солнечный день, весь уже направленный к весне.
Пятница, 7 марта 1975
Попробовал было начать новую книгу Malraux "Lazare"
[383]. Но почувствовал: сразу после Bloy, его
драмы , настоящей, библейской по своей глубине и подлинности, –
невозможно ! Там, у Bloy, все обожжено Богом, тут – в конце концов – все только о себе, самолюбование…
Вечером вчера на блинах у друзей. Все очень мило, очень дружелюбно. И все же – какая-то внутренняя пропасть между нашим и их ощущением Церкви, жизни, того, что нужно, и того, что главное и второстепенное.
Письмо с предложением телевизионной программы.
А мне для того, чтобы написать статью в семь-десять страниц (как "Иерархия ценностей"), нужно две недели мучений и сомнений.
Понедельник, 10 марта 1975
Бурная неделя! Три полета: в Питтсбург, Кливленд и Акрон. В пятницу – в Акрон, у о.Иоанна Масона, в очень уютной и доброжелательной атмосфере. Опять собрания, те же разговоры… Вылетаем обратно в субботу в полной темноте при падающем снеге. В семинарии служит о.Виталий Боровой. После обедни он обращается к студентам. Очень умно, как всегда – мы, мол (то есть теперешние церковные деятели в России), только удобрение для будущего – и как удобрения (которое иногда плохо пахнет) нас чуждаются. Но Бог и история рассудят… В 4.30 обед с арх. Владимиром, ректором Московской духовной академии, о.К. Гундлевым (Ленинградская духовная академия), его братом о.Николаем и Боровым. Обмен речами – в речи арх. Владимира слышится обида: что это нас все попрекают нашей "несвободностью". Потом всенощная. Какой-то осадок на душе – кроме Борового (или он уж слишком умен) все – включая доброжелательство – отдает "официальной" линией… Их закованность!
Вчера неделя о Страшном Суде. "Спокойная" обедня – с одним диаконом. После бурной субботы – радость этого одиночества в алтаре. Весь день дома, вечером блины вдвоем с Л.
Сегодня в 9.30 в ABC
[384] программа о "Hartford"
[385] с Avery Dulles и Richard Neuhaus. Приехал с Л. заранее. Поэтому пешком по Пятой авеню, вдоль парка. Серенькое, холодное, но такое весеннее утро! Потом также с West 67-йулицы на 42-ю в радио "Свобода". То же наслаждение – всегдашнее – от города, от уличной суеты…
Вторник, 11 марта 1975
В воскресенье и вчера перечитывал буквально горы своих "скриптов" (радио "Свобода") – в поисках возможной статьи для "Континента". Общее впечатление: несмотря на изобилие халтуры (поспешное, иногда впопыхах и в последнюю минуту, писание) – единство "мироощущения". Ах, если бы немножко свободы: не пора ли все это привести в порядок? Или Он лучше меня знает, что нужно, и как раз этого "приведения в порядок", систематизации и не допускает?
Письмо от Никиты – в защиту "Теленка". Я сразу готов согласиться – так мне хочется, чтобы Солженицын был "прав" и "велик". Мое мучительное свойство: видеть (может быть, хотеть видеть) правду каждого подхода, каждой "установки", невозможность быть ни в одном лагере. Испуг, отталкивание – когда вижу даже у Солженицына психологию "партии", "лагеря", "стратегии".
Мокрый снег. Холод. Письма и телефоны.
Среда, 12 марта 1975
Вчера вечером лекция в Manhattanville College
[386]. До лекции ужин у моей старой подружки монахини К.Б. – с нею, еще двумя "монахинями" (в штанах и завитушках), двумя бородатыми активистами (про которых я так и не узнал, священники они или нет) и двумя молчаливыми студентами, ошеломленными всем происходящим. К.Б. говорит мне о приближающейся катастрофе: школа умирает, бывшие студенты перестали помогать и т.д. Зачем же была вся эта суматоха с "секуляризацией", постройка где попало новых дортуаров, все это истерическое перекрашивание? Подлинно, кого Бог хочет наказать, того он лишает разума…
На лекции масса народа, большой успех. Говорил о христианском понимании человека, о необходимости обличить "человека", преподносимого нам наукой: сведенного к полному детерминизму, но почему-то "свободного" и "с правами". Говорил о том, что довольно жалкой апологетики, целиком построенной на расшаркивании перед "наукой". И потом – об "образе неизреченной славы", сотворенном, падшем, возрожденном…
После лекции – чаепитие у Павла Литвинова с Катей Алексеевой, Я.С.Исаковым и Ириной Баратовой, приехавшими на лекцию специально из Sea Cliff'a.
Письмо от шведского издательства – предложение издать шведский перевод "For the Life of the World": после русского (самиздатовского), греческого, французского, итальянского, финского и немецкого это – седьмой перевод! Отсюда – страстное желание вырваться из суеты, засесть за работу. Вчера Дриллок говорил о своем восторге от "By Water and Spirit". "Пишите…" А я вот уже три недели не тронул своей "Евхаристиии". А вместе с тем очень остро чувствую, что все это, может быть, гордыня ("мое творчество!"), что именно "суету", а не "творчество" посылает мне Бог. Вечный вопрос: как действительно провести черту между удовольствием от "успеха" (гордыня) и радостью, что что-то, что ощущалось важным и истинным, доходит ("для Бога", "не нам, не нам…"). Страшная недостижимость подлинного смирения. Вечное, немедленное, моментальное выскакивание маленького "я", о котором сразу же узнаешь его ничтожность и пошлость. Боязнь всего того, чем Бог это самодовольство "врачует".
Суббота, 15 марта 1975
Два дня в Syosset на епископском соборе. В четверг лекция в Nassau College, потом – завтрак с проф. К.Каллауром, его женой и каким-то молодым историком. Вчера вечером, после собора, блины у Месснеров в Sea Cliff'e с Пушкаревыми, Фотиевым и Кишковскими. Из-за снежной бури ночевал у Кишковских и только сейчас "заехал" домой – перед отъездом в Endicott!
Понедельник, 17 марта 1975
Великий Пост. Вечер субботы и воскресенье провел в приходе в Endicott, как и в прошлом году. И опять радость и даже умиление – от вечерни с детским хором, от количества причастников, от реальности – неумирающей – несмотря ни на что! – жизни Церкви.
Вчера вечером – прощеная вечерня в семинарии, сегодня длинная, "уставная" утреня. Пытаюсь "собраться", утихомириться, углубиться, но, Боже, как это трудно…
Вторник, 18 марта 1975
Лучезарные, весенние дни. Вчера все "послеобеда" с Л. у Сережи и Мани. Маня в Вашингтоне у матери, у которой был второй удар. С детьми на ирландском параде St. Patrick's Day
[387].
Вечером канон Андрея Критского. Полная церковь. Вчера также письмо от незнакомой мне Barbara A.: "…your lucid descriptions of what was, ought be, and is, are very helpful to my own understanding of Orthodoxy. Were it not for writers and speakers such as you, and Fr. Hopko, for instance, I might long ago have abandoned ship or what seemed to be a soulless dinosaur…"
[388].
Рассказ Тома о поездке в Грецию, о бессмыслице церковного положения там. Исторический кризис Православия и вопрос: сумеет ли оно творчески пережить распад, крах своей органической эпохи? С человеческой точки зрения, положение почти безнадежно. Но твердо верю, что "невозможное человекам возможно Богу"
[389].
Среда, 19 марта 1975
Статья В.В. Вейдле в "Русской мысли" об эмиграции – против Шафаревича и Солженицына. Тон – благородный и высокий, от которого мы давно отвыкли.
Самому Вейдле восемьдесят лет!
Четверг, 20 марта 1975
Вчера – первая преждеосвященная Литургия. А до этого – полтора часа исповедей. Все это приводит действительно в "благодатное состояние", и мелкими, ненужными начинают казаться все дрязги и вся мышиная суета…
Вчера также пытался написать что-то о Вейдле для "Русской мысли". Думал о том, какую, в сущности, большую и по-своему решающую роль сыграл он в моей жизни – начиная с того лета в Англии, где мы вместе с ним гостили. Помню, как он заставил меня читать "Le Grand Meaulnes" Founier
[390], читал мне вслух свою статью, оттиск которой до сих пор сохранился у меня ("Саше Шмеману в надежде славы и добра"). Потом целый год преподавал он мне историю философии в русской гимназии. Потом – в Институте. Потом эти лекции о русской поэзии и искусстве в годы оккупации, меня, помню, приводившие в полный восторг. Наши ужины с ним вдвоем на его квартире… За все это, вдруг, горячая волна благодарности, которую и хочу "воплотить".
Пятница, 21 марта 1975
Только что вернулся с аэродрома: провожал Льяну, Машу и Веру на Мартиник, куда они едут на неделю каникул. Первый день весны, и после трех дней дождя и бури абсолютно прозрачное, лучезарное утро.
Вчера купил и уже наполовину прочел воспоминания Danielou ("Et qui est mon prochain?")
[391]. Те благородство, широта, а вместе с тем твердость, христо- и церковь-центричность, от которых мы постепенно отвыкаем в удушающей атмосфере современного христианства. Впечатление кислородной маски…
Вчера звонок от Максимова. Сговорились встретиться сегодня вечером. На пути с аэродрома обдумываю, как и что ему сказать – в ответ на то, что он говорит, на упреки и обвинения. Выходит приблизительно так:
"Дорогой Владимир Емельянович. Прежде чем перейти к ответу на Ваши обвинения, позвольте сказать следующее. Больше всего меня поражает в Вас и почти во всех выехавших в последнее время из России – это то, что Вы никогда и ни о чем нас не спрашиваете, что у Вас нет, очевидно, ни малейшего интереса к тому, кто мы, к нашему опыту, нашим мнениям, да и просто к нашей жизни. Вы приехали нас учить и о наших делах судить и рядить. Вы все знаете, знаете, кто прав, кто виноват, имеете готовое мнение обо всем на Западе. Мы с жадностью слушаем Вас, вчитываемся в каждую написанную Вами строчку, и вот Вы принимаете как должное этот интерес без всякой взаимности. А так как Вы имеете главным образом с людьми, Вам поддакивающими (что, между прочим, совсем не означает, что они Вас понимают или думают так же, как Вы), то Вы очень быстро и легко приходите к заключению, что учить, судить и рядить – не только Ваше право, но и священный долг. На самом же деле Вы, конечно, очень мало что знаете о сложной истории и "ситуации" русской эмиграции, не говоря уже о Западе как целом. И вот, простите откровенность, – Вы попадаете впросак. Но так как Вас носят на руках и на Ваши выступления, вопросы и ответы собираются толпы людей, "просака" этого Вы не осознаете, а когда осознаете, боюсь, будет поздно… В России Вам очевидна была сложность, невозможность рубить сплеча и т.д. Заграницей Вы делаете Ваши выборы моментально. Вы выбираете, конечно, тот лагерь, те группы, которые Вам кажутся наиболее "стойкими", "прямолинейными", "морально твердыми", "бескомпромиссными" и т.д. Все остальные тем самым оказываются слабыми, половинчатыми, подозрительными, изменническими… Вы убеждены, что Вы нашли "своих" людей, ибо они бурно и восторженно выражают свое согласие с каждым Вашим словом. На деле же, конечно, это недоразумение, в котором Вы, увы, нескоро разберетесь. На деле – они даже не слушают Вас или же слушают ровно сколько нужно, чтобы зачислить Вас в свои ряды, убедиться в том, что Вы согласны с ними. Но настоящей трагедии русской эмиграции Вы не знаете и не чувствуете и, наверное, нескоро еще почувствуете. Вы не знаете, как все эти "стойкие", "непримиримые", "утробно русские" на протяжении всех пятидесяти эмигрантских лет душили, замалчивали, ненавидели и проклинали то одно, чем эмиграция по-настоящему нужна России, останется в ней как сила и цельность: свободу духа, свободу творчества, простую правду. Вы не знаете, как травили русских мыслителей и богословов, как всю церковную жизнь свели к ура-патриотическому и ностальгическому фольклору, к узости и фанатизму, русскую литературу – к генералу Краснову, как, по существу, не интересовались совершенно живой, настоящей Россией, а жили только своими маленькими эмигрантскими мифами и спорами, гордыней и фарисейством… Вы не знаете, да и не можете знать, каких трудов стоило нам, эмигрантским детям, пробиться сквозь всю эту мифологию к подлинной культуре, перестать видеть в Церкви осколок старой России и тоску по быту, начать вслушиваться в жизнь самой России, искать встречи с ней. Как нас в свою очередь тоже стали проклинать и отлучать во имя здорового "национально-религиозного мировоззрения". Я не осуждаю Вас. Вам нужна среда – и Вы естественно находите ее в этой эмигрантской массе. Мне только бесконечно горько, что, попав в эмиграцию в ее несомненно одиннадцатый час, когда она умирает – как от старости, так и от собственного своего безвоздушья, Вы сами попались на удочку этих бесплодных эмигрантских страстишек.
Но все это было бы не столь уж важным, если бы Вы не взяли на себя вдобавок суда над Церковью, о которой Вы ничего не знаете…"
Суббота, 22 марта 1975
Вчера – длинный разговор с Максимовым. Почему-то только наше участие в Национальном Совете Церквей приводит его в бешенство: как можно иметь хоть какое-либо дело с людьми, которые обсуждают права гомосексуалистов. Этого в России никогда не поймут… В остальном – искренний, горячий, симпатичный, но, конечно, и ограниченный своей перспективой: "правые", "левые", своим советским манихейством… Неспособен понять, что в каком-то смысле за все "левое" всегда несут ответственность "правые" и за "правое" – "левые", что сама эта диалектика безнадежна и что дело христиан – поднять ее и тем самым разрешить, экзорцировать, сублимировать…
Сегодня – первая великопостная Литургия: их как-то особенно любила бабушка Шишкова. После нее – крестины.
На "сон грядущий" вчера – несколько страничек из "Анны Карениной". Божественно! Чувство такое, что после массы подделок и мишуры вдруг видишь чистое золото. Это настоящее утешение. Пытаюсь тоже что-то написать о В.В.Вейдле в связи с его юбилеем.
Понедельник, 24 марта 1975
Вчера – после Литургии с массой причастников (первое воскресенье Великого Поста) – в Филадельфии на "торжестве Православия". Владыка Киприан, шестнадцать священников, проповедь, потом бесконечное чаепитие с "вопросами и ответами". Вернулся около часу ночи, бесконечно усталый, так что даже не мог заснуть и пришлось принимать "Soneryl"
[392].
Ужасные новости из Камбоджи, Вьетнама… Ежедневно по телевидению: лица убитых и умирающих, бегущих, бездонная глубина человеческого страдания. А в Европе Португалия катится к коммунизму. Бешенство в душе на либералов, на всю эту западную гниль, бессильную, фанфаронную, на все это "левенькое"… А в промежутках между картинами этого страдания, ужаса, предательства – рекламы об "appliances values…"
[393], о никому не нужных gadgets
[394] … Давно уже я не испытывал такого отвращения к глупости и низости "мира сего".
В сущности "Запад" страшен. Страшен своим фарисейством, своим отождествлением свободы с наживой (на днях какой-то правый сенатор: "Мы должны помнить, что начала свободного рынка, наживы и свободы неразделимы" – и все это с нравственной, героической ноткой в голосе; также лица фермеров, заявляющих о своем решении уменьшить посевы – это когда по всему миру идет вопль о голоде! – лица, озаренные опять-таки нравственным пафосом…), ужасен своей низостью решительно во всем. Где, когда началось это падение? Где, когда он отрекся от себя? От того огня в себе, что
"…просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет – уходя…"
[395]Когда такой нестерпимой, дьявольской фальшью стали звучать его разглагольствования (и христианская в нем риторика) – о "свободе", "справедливости", "равенстве" и т.д.? Дьявол на лице защитников "law and order", дьявол на лице революционеров.
Вторник, 25 марта 1975
Благовещение. "Архангельский глас".
Кончил заметку о Вейдле. Пиша ее, вспоминал не только его, но и всю ту пору моей жизни, в сущности бесконечно счастливую. "Ты дал мне юность без печали…"
Длинный разговор с Давидом Дриллоком о семинарии, об ее будущем, о "личных" проблемах. Маленький мирок, а сколько в нем подводных течений, потенциальных конфликтов, несовместимых теорий. И все это опять надвигается на меня, и, хотя я по малодушию откладываю и откладываю the moment of truth
[396] , где-то на глубине знакомое паршивенькое чувство нежелания во все это "врезываться". Снова и снова и поражаюсь, и умиляюсь простоте, честности и открытости Давида.
Новости по телевизии – одна хуже, одна гаже другой. Кровавая баня во Вьетнаме и Камбодже. Коррупция в полиции. Бомбы – в Аргентине, в Ирландии, по всему миру. И либеральные советы преступных американских либералов всему миру. А потом пошлейшие рекламы. Пир во время чумы, но пир даже не грешных людей, а клоунов, мелких жуликов и пошляков. В мире не остается воздуха…
Только три дня одиночества – и вот уже чувствую его бремя, и понятными становятся обычно раздражающие меня, кажущиеся мне беспредметными "драмы" одиноких кругом меня.
Среда, 26 марта 1975
У Кабачников с Александром Галичем. У Галича огромный человеческий шарм. Я его до сих пор читал или же слушал с ленты. Но совсем другое слушать его живьем. Огромное впечатление от этой лирики, эмоции – очевидно абсолютно подлинных. Широта, благожелательство, элегантность. Короткий разговор наедине – об о.Александре Мене, об эмиграции. "Я ведь неофит. Только знаю Евангелие, Библию…" У Кабачников толпа "новых" – Коржавин, Вероника Штейн и какие-то мне незнакомые. Водка, колбаса, тучи дыма… Сидел, смотрел, слушал, думал: такая же, приблизительно, начиналась, наверное, и первая, и вторая эмиграция. С таких сидений и бдений, безбытности, напряженности, обмена слухами и новостями, эмоциональной настроенности.
Новости: убийство короля Фейслла. Страхи, гадания в связи с этим. Рост безработицы. Португалия. Трещит Запад… Еще о вчерашнем вечере. Сидя у Кабачников в некотором отчуждении (с половиной – не знаком и никто не знакомит), "со стороны" думал: "Что бы я им сказал "на глубине" и от души, если бы мне сказали: "Скажите самое главное, что Вы имеете нам сказать"?" Ведь в последнем счете "Россия", "изгнание", "большевизм", "Запад", "прав ли Литвинов" и т.д. – все это не только преломляется в сугубо личной судьбе каждого, но и изнутри, подсознательно этой личной судьбе подчинено. В последнем счете каждый занят и живет собою – не обязательно эгоистически, но потому, что нет никакой жизни, кроме личной и всякий вопрос есть вопрос о том, как мне жить, для чего я живу. Сейчас они жмутся друг к другу не потому, что у них общее дело, а потому, что нельзя в одиночестве, страшно и темно. Легче всего тем, у кого есть творчество как содержание личной жизни: Солженицыну, писателям. Остальные инстинктивно ищут "дела", в каком-то смысле выдумывают его…
Думая об этом, сначала вспомнил чьи-то стихи (не помню):
"О том, что мы живем,
О том, что мы умрем,
О том, как страшно все
И как непоправимо…"
[397]А потом сказал бы, что имеет смысл на земле только то, что побеждает смерть, и не что, а Кто – Христос. Что есть только одна несомненная радость: это знать Его и Им "делиться" друг с другом. Что в последнем смысле все остальное неважно. Вера, надежда, любовь… Но если бы я сказал это, то вышла бы "проповедь", и притом банальная. А вместе с тем к этому сводится для меня вся "несомненность", и вне ее все – "постольку, поскольку…".
Днем – часок у Сережи и Мани. Яркое солнце и ледяной холод…
Пятница, 28 марта 1975
После утрени читал "Нью-Йорк Таймс" и не удержался – написал письмо в редакцию, которое эта последняя, конечно, не напечатает. Сил нет больше выносить эту "левацкую" подлость и слепоту западной интеллигенции.
Ужасы в Индокитае – по телевидению. Холодное бешенство.
Сегодня вечером жду Льяну, Машу и Веру с Мартиника. И радуюсь, как молодожен. "Нехорошо быть человеку одному"
[398] : сияющая, Божественная правда этих слов…
Только что телефон от бедной Манюши: ее матери – Мане старшей – гораздо хуже. Завтра – операция мозга…
Суббота, 29 марта 1975
Возвращение вчера вечером Л. с Мартиника. Все три загорелые и очень довольные своими каникулами.
Длинный разговор сегодня с Марьей Васильевной Олсуфьевой, итальянской переводчицей Солженицына, из Флоренции. Ее привезла ко мне Patricia Blake. Эта последняя говорит: "Солженицын ненавидит культуру, искусство, поэзию… Больше всего меня удивляют размеры ущерба, нанесенного русским людям советским обществом".
Понедельник, 31 марта 1975
Тихое, спокойное воскресенье вдвоем дома. После обеда прогулка до вокзала, потом сравнительно благополучное занятие подоходным налогом, ужин в ресторане. Перечитывал свои статьи и доклады за последние пятнадцать лет для сборника, о котором размечтался Давид. Удивляло (хотя не должно бы, в сущности) – при различии тем и аудиторий единство "вдохновения", единство все эти статьи так или иначе пронизывающего видения. На сборник согласился, чтобы, в каком-то смысле, отделаться, а выходит так, что он отражает некое "целостное мироощущение". Удивляет же меня это потому, должно быть, что подсознательно я знаю, что почти всегда писал тоже, чтобы отделаться, наспех, из-под палки и даже небрежно.
Вторник, 1 апреля 1975
С 7.30 утра по 4.30 – в семинарии. Лекции и "заседания", телефоны и свидания со студентами. А на дворе – ослепительный теплый весенний день после целой недели холодов.
Всегда после такого дня думаю: как должен я быть благодарен Богу за атмосферу, окружающую меня в семинарии: Давид, о.Кирилл Ставревский, Анна, атмосфера дружбы, внутреннего понимания и "без лести преданности".
Среда, 2 апреля 1975
Вчера праздновали с Л. ее назначение Dean of the Faculty
[399] в La Cremaillere
[400]. Уже совсем весенний закат, и эти изумительные имения! Л., обычно стремящаяся в Италию, Грецию и т.д., говорит мне: "Знаешь, где по-настоящему, совершенно
красиво ? В Новой Англии". И в сущности она, конечно, права. Чудный дружный вечер.
Утро в семинарии. Лекция о пасхальной ночи и о Великой Субботе, наполняющая меня самого радостью, о которой говорю. Исповеди. Диктование писем. Потом дома – очередной скрипт для радио "Свобода". И теперь – в два часа дня – отъезд в Yale
[401], где у меня лекция. Все это не считая телефонов. Как не идти голове кругом. Но чувство такое, что в апреле(!) – все выносимо!
Четверг, 3 апреля 1975
Сегодня с утра тьма и проливной дождь. Хотелось бы засесть за стол и писать свою "Иерархию ценностей". А вместо этого нужно ехать в Нью-Йорк (радио) и затем в Syosset на малый синод.
Суббота, 5 апреля 1975
В четверг – короткое, но очень милое письмо от Солженицына и более длинное от Наташи Солженицыной]. Чувство, что человеческий контакт не нарушен. Хочу заехать к ним на пути из Мюнхена, куда еду через десять дней по делам радио "Свобода".
Сегодня утром – на похоронах Sarah Lutge, в Гарлеме. Весь день вчера – за работой над "Intercommunion". Буря, холода. Сегодня снова – солнце. Но все еще мороз.
Воскресенье, 6 апреля 1975
Salt Lake City, Utah!…
[402] Пишу это в отеле, куда только что привез меня греческий священник. Перед прилетом – огромное Соленое озеро, а справа и слева – снежные горы. Издалека виден мормонский "Tabernacle"
[403] – вдруг почувствовал тот ужас, что испытывал Leon Bloy в Дании, среди протестантов. Ужас от этой такой успех имеющей религии. В отеле на столе – Book of the Mormon
[404]…
В аэроплане (а я летел с пересадкой в Чикаго, шесть часов) читал] Nouveau Bloc-Notes (1965-1967) Francois Mauriac
[405]. Читал с наслаждением. Почти на каждой странице хочешь что-то записать, отметить. Понятный мне "строй души".
В Salt Lake City – на два дня (лекции), и, как всегда, тоска, чувство плена.
Вчера – чудная всенощная, вынос Креста.
Понедельник, 7 апреля 2003
Salt Lake City. Вчера вечером – собрание в греческой церкви, неожиданно приятное. Умные вопросы, огромная жажда узнать больше о вере, Церкви и т.д. И как мало жажде этой Церковь отвечает, как мало ее удовлетворяет.
Перелистывал Book of the Mormon, в газете читал об их только что закончившейся здесь мировой конвенции. Удивительно: мормонство цветет, распространяется, все речи пронизаны убежденностью, радостью. В чем дело? Что привлекает? Очевидно, не эта странная, неудобоваримая книга и не легенды о Смите и каких-то золотых таблицах. Но тогда что же? Вечная загадка религии, никогда не перестающая не только удивлять, но и пугать меня…
Странный город – с этими широчайшими улицами, с этим уродливым мормонским храмом, видимым отовсюду, со снегом покрытыми горами кругом.
Вторник, 8 апреля 1975
Вчера весь день и весь вечер – на конференции. Внезапная радость – сколько хороших людей! Особенное впечатление производит здесь всеобщее раздражение, даже злоба на мормонов. Это так отлично от обычной американской атмосферы – добродушного благожелательства, свойственного "плюрализму".
Среда, 9 апреля 1975
Вернулся домой в два часа утра после бесконечного полета – с пересадками – из Salt Lake City. До отъезда успел посетить Мормонский центр. Стиль богатого американского отеля, то есть чудовищно безвкусный и роскошный.
По стенам картины из жизни Христа и мормонской истории в стиле слащавых религиозных картин 19-го века. Ужас упрощения! (Чего стоит один фильм – в десять минут – "Christ in America"
[406]!). Упрощение, энтузиазм и фанатизм.
Полет над скалистыми горами, сплошь покрытыми снегом, над Соленым озером. Величие этой природы, особенно после торжествующего мормонского безвкусия. Точно из подделки попадаешь в настоящий храм. Невероятная громадность Америки…
Дорогой кончил толщенный том Мориака. Почти каждая страница наводит на размышление. Действительно, один из последних больших христианских голосов нашего времени. Если не вполне убеждает его страстная защита де Голля, то его столь же страстное обличение его врагов бьет прямо в цель, вскрывает какую-то метафизическую, демоническую ложь всего "левого". "Правое" – капитализм, культ государства, шовинизм – может быть и часто бывает бесконечно омерзительным. Но даже и тогда мы остаемся в категориях греха и праведности, гибели и спасения, то есть в категориях, созданных, явленных христианством. "Левое" основано на ненависти к самим этим категориям, к этому видению мира и человека. Оно есть "спекуляция на понижение" в чистом виде. Оно всю ставку ставит на то, что "снизу", и ненавидит все, что "свыше", и это – с таким ясновидением – показывает Мориак. Поэтому теперешний крен влево – явление духовное. Оно есть, прежде всего, отказ от "высшего этажа". Та "справедливость", которой "левое" будто бы вдохновлено, по сути дела есть уравнение всего на самом низшем этаже с отрицанием верхнего. Отсюда любовь к чудовищному понятию "масс". При капитализме можно быть антикапиталистом, при социализме антисоциалист становится немедленно "врагом народа" и "антиисторическим" явлением и потому подлежит уничтожению (во имя "масс").
Принцип частной собственности, сколь бы он ни извращался (а он извращен первородным грехом), есть действительно христианский принцип. Ибо сам мир, сама жизнь – даны нам Богом именно в "собственность" ("владейте и обладайте"
[407]). Поэтому христианство зовет опять-таки к
личному отказу от "частной собственности" как к исцелению и восстановлению того обладания миром (личного, не коллективного!), которое извратил и предал человек. Но оно не зовет совсем к "уничтожению" частной собственности с заменой ее "коллективной". В мире все лично, сам принцип коллективного дьявольский. Призыв "раздать все" есть не "социальная программа", а эсхатологический принцип, способ перейти в "иной мир".
Пятница, 11 апреля 1975
Без голоса! Вчера и позавчера служил преждеосвященные литургии – в среду в семинарии, вчера в Сайоссете на говении нью-йоркского духовенства. Радость от молитвы и общения с этими двенадцатью священниками: духовное здоровье этого нарождающегося американского Православия.
Воскресенье, 13 апреля 1975
В пятницу – около 450миль в автомобиле. Сначала с Давидом Дриллоком] и Томом Хопко] в Albany
[408] в State Education Department
[409]. Оттуда – в Worcester, Mass.
[410], преждеосвященная в албанской церкви; поздно ночью – домой. Лучезарный весенний день, красота природы, радость от целодневного общения с Дриллоком, которого чем больше узнаю, тем больше люблю. И страшная усталость.
Вчера днем – лекция OISM
[411] в семинарии. Но от усталости ничего другого: читал Claude Bourdet "De la Resistance a la Restauration"
[412]. Интересно, как пример истолкования всего с "левой" точки зрения (особенно после книги Мориака). Мне все очевиднее, что "правое" и "левое" – это именно des etats d'ame
[413], на глубине своей подсознательные и иррациональные и потому страшные, каждое, именно в своей слепоте.
Вчера "Нью-Йорк Таймс" напечатала мое письмо в редакцию от 28марта. Телефонные звонки от неизвестных, выражающих свое согласие и благодарность…
Вчера Сереже – тридцать лет! Как незаметно для меня наступила моя старость. В лучшие минуты ее это, по слову Ходасевича: "и невозбранно небом дышит почти свободная душа"
[414]. В худшие – брюзжание и раздражение на все "новое". И вот ведь знаешь этот закон природы и все же подчиняешься ему.
Вторник, 15 апреля 1975
Перед отъездом в Мюнхен на конференцию по религиозному радиовещанию (в "Свободе").
Письмо за письмом в ответ на мое в "Нью-Йорк Таймс". Благодарят так, словно я что-то открыл! В какой же степени свобода хотя бы мысли вещь, по-видимому, трудная.
Вчера новозаветный семинар Кесича и Верховского с моим докладом "Holy Scripture in Worship"
[415]. Наслушавшись про этот семинар, об "инквизиторском" поведении на нем В., был удивлен тем, как хорошо, дружно и даже радостно все прошло. Докладом своим в сущности доволен, теперь хотелось бы побольше над ним поработать.
Breakfast
[416] вчера утром – случайный! – с Сережей на Madison Avenue невероятно ветреным, лучезарным, солнечным утром. Великолепие – в этом солнце, в этом утре – небоскребов, да и вообще Нью-Йорка.
Вторник, 22 апреля 1975
Вчера в час дня вернулся из Европы. Хочу привести краткую сводку того, что происходило там.
Во вторник 15-го отлет на Lufthansa в Кельн и Мюнхен. Аэроплан полупустой, так что удалось лежать, но, увы, не спать. Часовая остановка в Кельне: дождь, серо. В девять часов опускаемся в Мюнхене. Буся и Сережа Франк встречают. Едем в Arabella Hotel, новый, "шикарный", но чудовищно безвкусный. Рядом со "Свободой" новый квартал – точно ходишь по Чикаго. Небоскребы, коробки. Иду на "симпозиум". Человек двадцать пять – "экспертов" по радиовещанию: русских, мусульман, евреев. Атмосфера серьезная и деловая. Вообще конференцией остался доволен. Самолюбие щекотали массивные "хвалы" оттуда – Е.Барабанов и др. ("Fr. Alexander is
the man…"
[417]).
В четверг 17-го – breakfast с Варшавскими и, как всегда, радость от встречи с В.С. Весь день – симпозиум, завтракали снова с Варшавскими и их другом – очень милым Ю.Шлиппе. Приезжает Никита Струве] – у него доклад в два часа дня. Рассказывает про триумф Солженицына в Париже – на пресс-конференции и по телевидению. В ужасе от его канадских планов. Вечером банкет в отеле, с которого мы с Никитой удираем к Т.С.Франк, вдове философа. На два часа погружаемся в атмосферу прошлого: что Бердяев сказал Франку и П.Б.Струве в 1910году, и все в этом роде… Уже полная глухота к настоящему, к действительности. Мир теней. Т.С. дарит мне книгу сына Виктора и книгу о нем…
Пятница 18-го. Весь день – симпозиум. Завтрак с Красновым-Левитиным. Милый человек, но тон сельского учителя, дидактический и всезнайный: он мне авторитетно разъясняет американское церковное положение.
После двух дней в Париже 21 апреля отлет в Нью-Йорк.] В двачаса дня в Нью-Йорке. Сегодня с утра – суматоха семинарии…
Милое письмо от Вейдле: благодарность за мою ему "благодарность" в "Русской мысли".
Среда, 23 апреля 1975
С самого возвращения из Европы – головная боль, усталость, раздражение: особенно при соприкосновении с маленькими семинарскими "делишками" и страстишками: о программе, о квартирах, о комнатах, о стипендиях…
Кормил вчера Мишу Аксенова в ресторане, рассказывал про мюнхенский симпозиум.
От усталости и раздражения спасаюсь, как всегда, в чтение "абсолютно иного" – шестнадцатый том (единственный, мною еще не читанный) дневника Leautaud. Это – август 1944 года, "освобождение" Парижа, несусветная грязь и жестокость epuration[418]… Читал об этом только что в книге Claude Bourdet – с обратными знаками… Но насколько же непосредственная, человеческая реакция Leautaud мне ближе и понятнее. Даже когда он ошибается,
то это от неведения, незнания. А у Bourdet – всегда parti-pris[419], ужасающее клеймо идеологизма. Читаю и думаю – только бы никогда вере, христианству не стать "идеологией".
Пятница, 25 апреля 1975
Раннее, солнечное утро в этом квартале около Бюро подоходного налога], среди небоскребов, среди кишащей толпы. И так как было еще рано ехать на радио "Свобода", прошелся по улицам вокруг City Hall[420] с почти животной joie de vivre
[421].
И вот, наконец, "душеполезную совершивше четыредесятницу", подъем к Страстной – через предпасхальный свет Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. И так как весна поздняя – все в семинарском саду в цвету: ярко-желтые форситии, лиловые азалии, прозрачная зелень деревьев. С детства – любимейшие дни.
А фон всего этого – кошмарный, кровавый конец Индокитая и Камбоджи, аресты в России, выборы – сегодня – в Португалии, разгул торжествующего зла и лжи при подлом поддакивании либералов всех мастей. ВчеравLe Monde – Francois Mitterand: "Pour nous l'Union sovietique est un facteur de paix…"[422]).
Великий Понедельник, 28 апреля 1975
Лазарева суббота и Вербное воскресенье – два дня беспримесной радости. Изумительные солнечные дни, чудные службы, до отказа переполненная церковь. В субботу после обедни ездили с Л. на кладбище в Roslyn, устраивали могилу родителей Л.]. Вчера днем, между службами, в Wappingers с внуками. Только пробивающаяся еще, "сквозящая" зелень. Вечером – "Чертог…".
Но вечером – и часто посещающее меня, немного мучительное чувство: как будто все то, что так радует, поражает, вдохновляет меня в Православии, и особенно в эти два, любимейших мною, дня, – не то, что ищут от Православия, видят в нем другие. Вчерашний Апостол: "Радуйтесь, и паки реку – радуйтесь!" И дальше: "Все, что достохвально, что честно…"[423]. Все – о Царствии Божьем и о радостной свободе, через него воссиявшей в мире. Свобода – прежде всего – от самой "религии", от удручающего религиозного "копошения". Об этом , о "религии" – весь сон вчера ночью. Что-то кому-то я мучительно разъяснял, а самому было так это просто. Мучительные исповеди, мучительный "оборот на себя" религиозных людей, мучительная похоть на "священное". А мне все думается, что, если бы увидели люди, что – на глубине, предвечно и на все века – совершалось тогда в Иерусалиме, они прежде всего освободились бы от этого своего "я", так мучительно разрастающегося в "религиозности".
Кончил 16-й том Leautaud. Liberation, epuration[424] – ужасные годы. Вопрос: почему безбожник может быть так свободен и правдив, честен и по-своему милостив и почему именно этих качеств так трагически не хватает "религиозным" людям?
Великий Вторник, 29 апреля 1975
Вчера в 6 ч. вечера Солженицын прилетел incognito в Монреаль и поселился у Маши и Вани
[425]! Все это, по обычаю, было сугубо "засекречено" (на горе бедному Сереже, подходящему к этому с точки зрения журналистской…). К чему все это приведет – неизвестно…
Переписка Bremond-Blondel, третий том. Всего каких-нибудь сорок лет прошло с тех пор, а впечатление такое, что скрылась под водою целая Атлантида, целая цивилизация, поразительная по своей тонкости. Меня больше всего поражает способность тогдашних людей (Bremond, Blondel, Laberthonniere)
свободно подчиняться . Подумать только, что Laberthonniere не писал, замолчал, на протяжении десятилетий! В наши дни все это бушевало бы, протестовало, защищало бы какие-нибудь "права"! Отсюда – отсутствие в наши дни подлинного
трагизма , и это значит – настоящей, внутренней победы (определяемой "логикой Креста"). "В борьбе обретешь ты право свое"
[426] : это теперь заменило собою: "послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя…"
[427]. Сейчас человек думает, что выражает и исполняет себя "гневным воплем", тогда как этот последний, будучи в сущности сродни злу, как раз ничего и не побеждает. Свободен только тот, кто "послушлив": этого совсем не знает, не понимает наше время, несмотря на весь свой пафос свободы. Эпоха бунтующих рабов, сменившая эпоху высокого "послушания" свободных людей.
Письма маме, Андрею и, в связи с ними, воспоминания о Страстной в детстве. Распускающиеся каштаны на Bd. de Courcelles в Париже].
Bremond-Blondel III, 45: "…apres tout, on peut, sans tomber dans l'heresie, vous savoir bon gre de montrer a tous qu'il n'est pas obligatoire d'etre bete ou ennuuyeux pour etre orthodoxe et pieux…"
[428].
Великая Среда, 30 апреля 1975
Мне как-то очевидно, что после Христа – и это значит: в "цивилизации", Им отмеченной, из христианства так или иначе выросшей, – отношение ко Христу составляет абсолютное внутреннее мерило. Именно поэтому мы можем различать пошлость, мелочность, недоброкачественность
внутри культуры (и только, пожалуй, внутри
нашей христианской культуры). "Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам да вниду в онь"
[429] – вот, в сущности, единственная трагедия
после Христа, и все то, что ей непричастно, –
пошло в глубочайшем смысле этого слова, то есть заражено чем-то бесовским. Потому что пошлость – это "аура" дьявола, это противоположно "святыне". Пошлость – явление сугубо "христианское", невозможное, мне кажется, вне христианства. "Отче праведный! И мир Тебя не познал!"
[430] – вот единственное "отчаяние" Самого Христа.
Великий Четверг, 1 мая 1975
Вчера утром – разговор по телефону с Солженицыным. Как всегда, слушая его голос, все ему прощаешь – то есть растворяются, исчезают все сомнения, несогласия, недоумения. Он так весь во всем том, что говорит и что делает… Еду к нему на Пасху вечером, а в понедельник – в Labelle…
Вечером – любимая моя утреня со "Странствия владычна…". "And I appoint unto you a Kingdom…"
[431]. Снова и снова чувство, что все в мире существует и решается
по отношению к этому.
Великая Пятница, 2 мая 1975
Великий Четверг: в его двойном воплощении – "красная"
[432] Литургия утром, двенадцать евангелий вечером. Снова и снова, каждый год, воплощение того же дня, абсолютно надвременного в своей сущности. Величайшая, глубочайшая правда традиции – эта возможность, данная нам, погружаться
опять в неизменное. И кроме этого погружения, смиренного, благодарного и радостного, от нас
ничего не требуется.
Чувствую это тем более сильно, что до Литургии – полтора часа исповедей, и очевидность греха, падения, измены как, прежде всего, "отсебятины", нарушения уже явленной, дарованной, "царствующей" и "жительствующей" жизни своей маленькой рабской "свободой", которая и есть "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская"
[433].
Закон Церкви: отдаться тому, что дано, действительно не искать "своего". Ибо в том-то и все дело, что все уже "совершилось", все исполнено и все дано. И единственное назначение Церкви в мире: это "совершенство" и эту "данность" являть и давать нам… Все остальное – "от лукавого"…
Опасность: полюбить Церковь как бы "помимо" Христа. Этой любви больше, чем думают. Но Церковь – это только Христос, Его жизнь и Его дар. Искать в Церкви чего-либо кроме Христа (а это значит – опять искать себя и своего) – неизбежно "впасть в прелесть", в извращение и в пределе – в саморазрушение.
Светлый Вторник, 6 мая 1975
Ompha, Ontario!.. В малюсеньком отельчике, в канадской глуши с Солженицыным!.. Все это так нереально, так "словно сон", что не знаю, как записывать. Запишу только hard facts
[434], обо всем остальном потом, когда вернется способность рефлексировать. Приехал в Монреаль на Пасху в 10.30вечера – после чудных дней пасхальных, Великой Субботы и самой Пасхи. Солженицына застал уже в кровати – сговорились выехать в Labelle в семь утра. Sure enough
[435] – в семь выехали… Дождь, туман. И как странно ехать с Солженицыным по
этой дороге, среди
этих гор, сквозь эти города… Он в чудном настроении, бесконечно дружественен… Длинный день в Labelle, прогулки. Озеро подо льдом. Ему очень нравится Labelle. После обеда – солнце, синева. Приезд Сережи… Отъезд сегодня в 8.45. Сцена с репортерами. По Route
[436] 57 – ему страшно нравящейся: "кусок Франции", – в Оттаву. Чудное, солнечное утро. Разговоры обо всем. Завтрак в Оттаве. Отъезд в три. Блуждание в лесу. Он за рулем. В семьвечера находим эту деревушку Ompha, in the center of nowhere
[437]. Ужин. Прогулка на озеро. Красный закат…
Его пометки на моей главе о Литургии ("Таинство верных") в 114№ "Вестника".
Светлая Среда, 7 мая 1975
Bancroft, Ontario
Встали в 6.30. Выехали в семь: изумительным утром, по пустым узким дорогам, мимо озер, лесов. Солженицын восторгается, потом тут же критикует: жидкий лес. Чудное Онтарио. Все-таки не Россия и т.д. Все то же внутреннее метание: с одной стороны – желание устроиться, с другой – нетерпение, все не то, все не Россия… Настроение падает и поднимается, как у ребенка: почему не нашли еще имения? Хочет быть страшно практичным – на деле путаник, все осложняет, все по-своему, все неисполнимые планы. И вдруг все та же улыбка… Дружественен, почти нежен…
К 8.30 доехали до городишка Mados, Ontario. Восторг от него С.: все в нем нашел – и традицию, и консерватизм, и правильную жизнь. Все сразу и безоговорочно. Кофе в деревенском "дайнере"
[438]. Осмотр двух имений. Все страшно быстро… В 12.30 выезжаем в Торонто, куда приезжаем в три. Свиданье с какой-то старушкой и еще какой-то женщиной ("важное дело, нужно было проверить – не провокаторша ли…"). Для меня – передышка до 4.30. Прочел газету, выпил в греческом joint'e
[439] кофе, погулял по шумной, уродливой Queens Street. Все то же чувство приснившегося сна: мы с Солженицыным в Торонто! Вдруг на припеке, среди безличной толпы простых людей, – чувство – мимолетное – невероятного счастья, bliss'a
[440], чувство несказанной радости жизни. В 4.30 снова за руль. Оставляем за собой Торонто. На Peterboro и на север – в Bancroft, где и пишу это в отельной комнате в одиннадцать часов вечера! Он спит в соседней.
Разговоры – о писательстве (генезис "Августа 14-го", "Круга первого" и т.д.). О семье. Об его планах. Сейчас записать все это неспособен.
И весь день – ни одного облачка. Неподвижный, лучезарный, подлинно пасхальный день, весь в вышину и весь как бы отражающийся в бессчисленных озерах… Какое-то стихийное погружение в стихию Солженицына. И с нею вместе – в Божественную стихию жизни жительствующей.
Понедельник, 12 мая 1975
Вчера в Syracuse, N.Y.
[441], служба, банкет, речь о семинарии и опять – пять часов в автомобиле. Чудовищная усталость от нагруженности всех этих недель – почти подряд: поездка в Европу, Страстная, Солженицын и вот теперь – последнее усилие перед концом учебного года…
Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей. Почти ровно через год после "горной встречи". Эту можно было бы назвать "озерной", столько озер мы видели и "пережили". Постепенно мысли и впечатления приходят в порядок. На днях "на досуге" постараюсь "систематизировать". Сейчас (8.30 утра) нужно опять уезжать – в New Jersey
[442] на собрание духовенства. Но спрашиваю себя – если бы все выразить формулой, то как? Думаю, что на этот раз сильнее, острее ощутил коренное
различие между нами, различие между "сокровищами", владеющими сердцем ("где сокровище ваше…"
[443]). Его сокровище – Россия и
только Россия, мое –
Церковь . Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, – нет. И все же остается эта "отчужденность ценностей".
Продолжаю после обеда. Какой же все-таки остается "образ" от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна?
Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности – несомненно. Из него действительно исходит сила ("мана"). Когда вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поражаешься. Но (вот начинается "но") – за эти дни меня поразили:
1) Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.
2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.
3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование in malem partem
[444].
4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.
5) Невероятная скрытность.
Я мог бы продолжать, но не буду. Для меня несомненно, что ни один из этих – для меня очень чувствительных – недостатков не противоречит обязательно "величию", литературному гению, что "качества" (даже чисто человеческие) могут быть в художественном творчестве, что писатель в жизни совсем не обязательно соответствует писателю в творчестве. Что напротив – одной из причин, одним из двигателей творчества и бывает как раз напряженное противоречие между жизнью и тем, что писатель творит. Меня волнует, тревожит, страшит не трудность его в жизни, не особенности его личности, а тот "последний замысел", на который он весь, целиком направлен и которому он действительно служит "без остатка".
В эти дни с ним у меня все время было чувство, что я "старший", имею дело с ребенком, капризным и даже избалованным, которому все равно "всего не объяснишь" и потому лучше уступить ("ты старший, ты уступи…") во имя мира, согласия и с надеждой – "подрастет – поймет…". Чувство, что я – ученик старшего класса, имеющий дело с учеником младшего класса, для которого нужно все упрощать, с которым нужно говорить "на его уровне".
Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое ("весь герой моих романов – Россия…"). У нее было свое "выражение", с которого ее сбил Петр Великий. Существует некий "русский дух", неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладевания ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой "миссии", никакого особого "призвания" у России нет – кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к "росту", развитию и технике). Есть, следовательно, идеальная Россия, которой все русские призваны служить… "Да тихое и безмолвное житие поживем". По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к "другому" – к Западу, например, – является соблазном. Это не нужно, это "роскошь". Каждый народ ("нация") живет в себе, не вмешиваясь в дела и "призвания" других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, чужд , чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю "русского духа". Ее исцеление в возвращении к двум китам "русского духа" – к природе как "среде" и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности ("раскаяние и самоограничение"). На пути этого исцеления главное препятствие – "образованщина", то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что еще хуже, "еврейству". Наконец, роль его – Солженицына – восстановить правду о России, раскрыть ее самой России и тем самым вернуть Россию на ее изначальный путь. Отсюда напряженная борьба с двумя кровными врагами России – марксизмом (квинтэссенция Запада) и "образованщиной".
Отсюда "дихотомия" Солженицына: "органичность" против всякого "распада", а также против техники и технологии. Не столько "добро" и "зло", сколько "здоровое" и "больное", "простое" и "сложное" и т.д. Петербургская Россия плоха своей сложностью, утонченностью, отрывом от "природы" и "народа".
В эту схему, однако, не вмещаются, ей как бы чужды: утверждение какого-то "внутреннего развития" (взамен внешнего – политического, экономического и т.д.), таким образом – некий пиетет по отношению к "культуре" и, что гораздо важнее, утверждение христианства как единоспасающей силы. Меня поразили его примечания к моей статье "Таинство верных": "Это для меня совершенно новый подход…" Тут он сам еще, следовательно, в искании
Из запомнившихся разговоров:
– нелюбовь к Тургеневу (о других писателях не говорили, о чем теперь жалею: так хотелось узнать об его отношении к Достоевскому и Толстому);
– "я сейчас Америку наказываю …";
– Израиль сейчас наш союзник. Насколько нужно бороться с "еврейским" духом нашей интеллигенции, настолько же важно поддержать Израиль;
– страшно понравилась Франция. Никогда не думал, что это такая пустая (в смысле – безлюдная) и тихая страна и всюду в ней хорошо;
– "платоновщина" (синоним неправильного, ложного подхода к России – Андрей Платонов);
– про отдельных людей в России: "Это мои , те не мои …";
– в свободной России я буду в стороне от дел, но руководить ими "направляющими статьями". В этом – то есть в призвании руководить и направлять – ни малейшего сомнения;
– семья, дети не должны мешать . "Что это вы все женам звоните?";
– с эмиграцией – каши не сваришь;
– Николая Второй – преступник (отречение). "Ну да, его расстреляли, но разве его одного расстреляли?";
– Солидаристы – "провинциальны";
– нужно крепить "Вестник" (я его укрепил финансово…");
– план русского университета в Канаде – до слез наивно: "агрономы" и вообще всякие деятели для будущей России… Париж 20-х годов!..
Вторник, 13 мая 1975
Усталость. Желание – лишь бы дотянуть до конца учебного года, а эти полторы недели до конца кажутся бесконечными. Сколько еще заседаний! Споров, церемоний, ответственности. "Покоя сердце просит"
[445].
Великое утешение – длящаяся Пасха в церкви…
8.20 утра: "il faut tenter de vivre" – лекции, заседания, малый синод, и так – до вечера…
Среда, 14 мая 1975
Весь день вчера – заседания ("внешние сношения", малый синод, правление…). Эмпирия церковной жизни, все ее мелочи, дрязги, трудности. Пишу это безо всякого "уныния", ибо мне давным-давно стало ясно, что
человечность Церкви – меньший соблазн, чем "псевдодуховность", чем все попытки развоплотить ее. Вот именно этим бесконечным трением друг о друга, как камешки у берега, этим смирением перед буднями, этим приятием повседневности и bose Arbeit
[446] в конце концов сохраняется Церковь в истории, и подлинная церковность состоит в том, чтобы не соблазниться о ней. "И блажен иже не соблазнится о Мне"
[447].
Вечером ужинают у нас владыка] Сильвестр и С.Трубецкой. Сильвестр еще весь полон своей "солженицынской" авантюрой в Монреале.
Сегодня за утреней – опять как бы "укол" счастья, полноты жизни и одновременно мысль: "И нужно будет умирать". Но поразительно то, что в этом, таком мимолетном, дуновении счастья неизменно "собирается время", то есть одновременно не то что вспоминаются, а присутствуют, живут все такие "дуновения" – та Великая Суббота на Clichy и множество таких же "прорывов". Не означает ли это, что "вечность" – не прекращение времени, а как раз его воскресение и собирание, что "время" – это фрагментация, дробление, падение "вечности" и что к нему тоже, и, может быть, прежде всего, относятся слова Христа: "чтобы ничего не погубить, но все воскресить в последний день"
[448]. В каком-то смысле это и есть воскресение "плоти".
Правда Пруста: искусство призвано к восстановлению времени. Трагический тупик Пруста: совершая это, искусство свидетельствует о Боге, о возможном "прорыве". А у него нет этого прорыва и воскрешенное искусством temps perdu
[449] есть свидетельство о смерти и пропитано тлением. Нету этого удивительного бунинского прозрения:
"Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья…"
[450].
Жажда одиночества, тишины, свободы – это и есть жажда "освободить" время от загромождающих его мертвых тел, сделать его тем, чем оно должно быть, – вместилищем, чашей вечности. Литургия: претворение времени, наполнение его до конца вечностью. Несовместимость двух "духовностей": той, что стремится к освобождению от времени (буддизм и всяческая ориентальщина – индуизм, нирвана и т.д.), и той, что хочет освободить время. Пафос неподвижност. Но в "подлинной" вечности все живет . Предел и полнота: в каждом моменте все время и вся жизнь… Но тут вечная проблема: а "злые" моменты? "Злое" время? Предсмертный страшный ужас тонущего, убиваемого, летящего с десятого этажа, чтобы через секунду разбиться о мостовую? "Слезинка" мучимого ребенка?
Четверг, 15 мая 1975
После обеда вчера, вернувшись из семинарии, пытался засесть за работу, кончить статью "Об общении в таинствах" для "Вестника". Полная невозможность. Перечитал и эту статью, и "Иерархию ценностей", и переднюю главу из Литургии ("Таинство приношения") и ощутил полную неспособность работать. Это знакомое чувство, когда все кажется ненужным, поверхностным, когда нет внутренней убежденности в том, что пишешь, и в самой нужде писать. Чувство – a quoi bon?
[451] Когда сразу видны все возможные возражения и невозможность все равно по-настоящему сказать то, что хочешь ("мысль изреченная есть ложь"
[452]). Всегда в такие минуты поражаюсь людям, которые пишут себе и пишут, "ничтоже сумняшеся". Это бессилие у меня происходит, кроме всего прочего, из внутреннего убеждения, что последняя правда по любому вопросу, в конечном итоге, состоит в coincidentia oppositorum
[453]… Эфемерность "статеек". Вот кончил вчера третий том переписки Bremond-Blondel. Какие бури! Споры, волнения – и что от всего этого осталось? Подстрочные примечания каких-то "бремондистов"… Все – membra disjecta
[454], но тогда нужно писать так, чтобы каждый "фрагмент" светился отражением "целого", а это-то и составляет трудность, перед которой опускаются руки…
Пятница, 16 мая 1975
Вечером ужин со студентами] в семинарии, а потом два часа по TV старый, когда-то очень мне понравившийся детективный] фильм. На письменный стол даже не смотрю и ложусь спать такой усталый, как если бы весь день колол дрова…
Кончилась уже короткая нью-йоркская весна – все распустилось, все заполнилось "luxuriant"-ной
[455] зеленью, и, в сущности, наступило мокрое и душное лето.
Понедельник, 19 мая 1975
Все та же занятость, та же суета. В субботу посвящение в диаконы Сережи Бутенева. Действительно светлое и радостное торжество – и он сам, такой простой, серьезный, светлый, сосредоточенный… Потом прием у Бутеневых, всеми так очевидно ощущаемый свет этого дня. "Слава" у Кесича. Всенощная.
Вчера, в воскресенье, длинная поездка с Л. сначала в Wappingers к дочери Ане] (где мы наслаждаемся маленькой Александрой), потом – маленькими дорогами, наперекос – в Kent. Солнечный весенний вечер, красота цветущих деревьев, цветов, совсем еще молодой – "сквозящей" – зелени… Длинный разговор с Л. о Солженицыне, о Виноградовых, об его мечте "русской общины". Как ни переворачиваю все это в своем сознании, вся эта мечта продолжает казаться мне "ложной", ненужной. Это подчинение творчества "русской жизни", искусственно насаждаемой, я ощущаю как какой-то порок в солженицынском мироощущении. Рассказ об его ответе кому-то в Монреале: "Вам нравится наша Канада?" – "Мне нравится
только Россия…" Вот это "только" и есть ограниченность, "червоточина" солженицынского величия, его отрицание, пожалуй, лучшего в России – ее "всемирности", ее – "нам внятно все…"
[456]. А теперь на страницах "Вестника" ему вторит Вейдле (по поводу "Глыб") – "
только в Россию можно верить…". Мое внутреннее отталкивание от всех этих
только . Противоречие: если каждому свойственно жить
только своим, то не за что бранить Запад в его равнодушии к русской трагедии… Говорят (Никита): "Да, но он – С. –
почвенен, народен …" Что же, тем хуже для него, ибо от "почвы" и от "народа" как таковых – свету не воссиять…
Последняя неделя семинарии – начинаю ее, как страшное усилие и бремя…
Вторник, 20 мая 1975
Вот она – тяжелая, сырая нью-йоркская жара. Почти весь день за чтением кандидатских сочинений, часовая запись на ленту – для греческого священника – мыслей о "духовном возрождении", диктовка Ане и т.д. Но хотя бы чувство такое, что "взял быка за рога", начал ликвидацию бременем на совести лежавшей кипы дел.
Сегодня рано утром моя последняя утреня этого учебного года: двадцать четвертого в семинарии! Еще год, и будет четверть столетия в Америке… Думал вчера по пути из Патерсона – не пора ли подводить итоги, уступать место молодым (как этого "требует" Солженицын)?
Вся культура и все в культуре – в конце концов – о Царствии Божием, за или против . Ибо культура состоит из "реализаций" сокровищ сердца ("где сокровище ваше…"). Только "секулярист" выпадает из культуры, и с секуляризма начинается ее распад. И еще неизвестно – что хуже и страшнее: секуляризм религиозный или безбожный… Один приводит к другому, порождает другой. Религиозный секуляризм – это отрицание мира как таинства, это превращение Бога в идола. Но идолопоклонство всегда политеистично. Если Бог – идол, то и все остальное постепенно становится идолопоклонством. В том-то и все дело, однако, что Бог не "идол", а полнота наполняющего все во всем, жизни Податель и Сокровище благих, что "трансцендентное" – не нечто "в себе", а метафизическая основа, корень и цель всего сущего. Секуляризм состоит в отрицании не Бога (напротив, он целиком идолопоклоннический), а твари . И борьба с ним состоит не в проповеди "религии" (которая при секуляризме сама становится идолопоклонством, даже когда она облечена в христианские одежды), а в раскрытии "твари" как творения. Современная "апокалиптика", современная "духовность" – лучшая услуга секуляризму… "Всю тварь хочу радости исполнити".
Среда, 21 мая 1975
Чудовищное количество книг, прочитанных мною либо более или менее случайно, или по необходимости (в школе, для лекций, для книг как "материал" и т.д.), или же просто для развлечения и "баланса".
В русской литературе: 1) Толстой , причем читал и перечитывал всегда с наслаждением, во-первых, "Анну Каренину" и, во-вторых, "Войну и мир". Остальное не перечитывал. 2) Достоевского прочел, но за исключением "Братьев Карамазовых" не перечитывал, не тянуло никогда. 3) Чехова могу и хочется перечитывать почти всегда. 4) Тургенева – кое-что перечитал, но с ленцой и случайно. 5) Пушкина – перечитывал, особенно "Капитанскую дочку" и "Повести Белкина". 6) Гоголя – перечитываю всегда с новым наслаждением. 7) Набокова тоже (ради именно почти физического наслаждения). 8) Бунина и т.д. Лермонтов, Розанов, поэты – почти все (не люблю Гумилева и всех "народников", все отдающее "люли, люли…").
Во французской литературе: Мориак, Жюльен Грин, Жид, Пруст.
Английскую и немецкую не знаю совсем.
Ужасно люблю биографии, дневники (Paul Leautaud).
Вот и весь мой "багаж", в сущности.
"Психоанализируя" себя в этой плоскости, прихожу к следующим выводам:
Я не люблю "идейной" литературы: философии, богословия и т.д. Не люблю потому, думаю, что ощущаю ее ненужной мне, моему видению жизни и религиозному опыту. Идеям и идеологиям предпочитаю конкретное, живое, единичное. Так, всю жизнь читал о французских модернистах, но интересуют меня они как люди, а не их идеи. Что означало для Loisy, с его идеями, служение мессы? Ношение сутаны? Убеждение, что никакие "общие идеи" не объясняют реальности и потому, в сущности, не нужны…
Воскресенье, 25 мая 1975
Вчера: commencement
[457] , окончание учебного года (двадцать четвертого в семинарии, тридцатого, считая шесть лет в Богословском институте!). Все эти дни – суматоха, без передышки и, наконец… все прошло хорошо. Очень радостная Литургия вчера, с владыкой] Cильвестром. Посвящение в диаконы одного студента]. Жара. Солнце. Церемонии сошли благополучно… Еще три недели и – в Labelle! Страстное желание не столько отдыха, сколько – именно работы (мечта закончить летом книгу о Евхаристии).
Вторник, 27 мая 1975
В Тихоновском монастыре вчера на Memorial Day
[458]. Поездка рано утром, в одиночестве, по очень любимой мной дороге. В монастыре обычная толпа. Проповедовал о патриархе Тихоне. На обратном пути – страшные заторы на дорогах.
Письмо сегодня от Н.икиты] Струве. "А.И. нужен Европе, и ему нужна Европа… где идет духовная борьба". Насчет последнего пункта – не знаю (где там борьба?). А насчет того, что Н.икита] называет "реставрационно-пасторальными" планами, согласен.
Семинария кончилась, но все тот же "завал дел". Солнце, жара, желание отдыха и безработности.
Среда, 28 мая 1975
Преполовение. Ранняя Литургия. Чудный солнечный день.
Ровно год тому назад я сегодня вечером улетал в Цюрих на "горную встречу" с А.И.
Пишу это перед уходом на заседание Orthodox Theological Society
[459]. С тоской и скукой. Все очевиднее становится тщета такого рода обществ и деятельности. Если у человека есть что сказать, он скажет это лучше без всяких "обсуждений". Если нет – то все равно ничего нужного и важного не скажет. Творчество возможно только в одиночестве, а мы живем в эпоху ужасающей болтовни, в том числе и религиозной. Как хорошо сказано, "молчание – тайна будущего века…".
Четверг, 29 мая 1975
Опять день, который страшно начинать из-за наполняющих его забот – богословское общество, потом лекция, потом финансовые заседания с В. и снова общество, и так – до вечера. Счастливы люди, умеющие "себя поставить". Что до меня, то я живу в настоящей паутине – обещанных звонков, встреч, разговоров, да еще окруженный безостановочными обидами. Все это где-то камнем лежит на сознании. И просыпаешься уже от всего этого с отвращением…
Вчера после такого дня – "вырвались" с Сережей, Ваней и Машей в Нью-Йорк. В лучах заката the city is glorious
[460]. Ужин в уютном армянском ресторане] Dardanelles.
Пятница, 30 мая 1975
Поездка в Chappaqua, лекция группе священников]. Удовольствие, как всегда, от поездки, от одиночества, от солнца.
С утра сегодня – один за другим – студенты со своими проблемами… как у дантиста. Все это приводит в такое состояние, что, когда наконец освобождаешься, как вот сейчас, – уже не знаешь, что делать и за что браться…
Суббота, 31 мая 1975
Сегодня утром длинный разговор с Л. о Солженицыне. Попытка уяснить, чем была бы моя "третья" статья о Солженицыне, теперь уже с учетом опыта, вынесенного из личных встреч с ним.
Первые две ("О Солженицыне" и "Зрячая любовь") заключали в себе определенное
чтение солженицынского мировоззрения, основной направленности и также и вдохновения солженицынского творчества. Основное утверждение: христианский писатель (триединая интуиция сотворенности, падшести, возрожденности), русский писатель (обращенность к России – "зрячей любовью", и это значит – правдой, ниспровержением мифов) и, наконец, в "Архипелаге", пророческий разрушитель "идеологизма" как основоположного идола и, ergo
[461],
зла современного мира.
Вопрос: остается ли все это в силе в свете "опыта" после годичного общения с ним? Было ли это "чтение" ошибкой?
Прежде всего, для меня несомненно, что если в целом мое первое "чтение" остается верным – по отношению к последней глубине солженицынского творчества, то внутри этого "целого" лежат непереваренными "опухолями" довольно-таки страшные соблазны, так что вопрос может быть поставлен так: что возобладает в Солженицыне – та "глубина", что и вызвала восхищение и внутреннее согласие и сделала его чем-то очень "судьбоносным" как в духовной истории России, так и в мире at large
[462], или же "соблазны", глубину эту, именно как рак, разлагающие и "метастазирующие"? Это, еще раз, столкновение творца, "пророка" с очень сильной, очень яркой личностью, которой именно из-за ее силы и яркости оказывается невыносимым "дар тайнослышанья тяжелый"
[463].
Ясно, что человек-Солженицын и Солженицын-творец не только не в ладу друг с другом, но второй просто опасен для первого. Мне кажется, что до сего времени "человек" смирялся перед "творцом", находил в себе силы для этого смирения, которое одно и делает возможным "пророчество". Но мне также кажется, что сейчас творчество С. на перепутье, и именно потому, что в нем все очевиднее проступает "человек" со своими соблазнами. Я так воспринял уже "Теленка" и многое в "Из-под глыб". Что-то здесь уже не "перегорает", не претворяется, не отделяется от творца и потому не становится "ценностью в себе".
Поэтому так важно, я убежден, разобраться в "соблазнах", определить опухоли.
Первая и, наверное, самая важная из них – это его отношение к России, качество его "национализма". Это не "мессианизм" Достоевского ("призвание России"), увенчивающий всю русскую диалектику 19-го века. Это не народничество Толстого, хотя "толстовство" Солженицыну ближе, чем Достоевский с его метафизикой. И у Достоевского, и у Толстого их "национализм" имеет какое-то религиозное и, следовательно, "универсальное" значение, они его так или иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или правдой: мессианское призвание России в истории у Достоевского, "правда жизни" у Толстого и т.д. У Солженицына все эти "ценности" заменяются одной: русскостью . Эта русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех "ценностей", созданных, выношенных в России и, даже при своем противоречии, составляющих "Россию". Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к "русскости". Так отвергаются во имя ее – Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря уже о всей современности: Платонов, например, и т.д. Цель, задача Солженицына, по его словам, – восстановить историческую память русского народа. Но, парадоксальным образом, эта историческая задача ("Хочу, – говорит он мне в Париже, – написать русскую революцию так, как описал 12-й год Толстой, чтоб моя правда о ней была окончательной…") исходит из какого-то радикального антиисторизма и также упирается в него. Символ здесь: влюбленность – иначе не назовешь – в старообрядчество . При этом теоретическая суть спора между старообрядцами и Никоном его не занимает. Старообрядчество есть одновременно и символ, и воплощение "русскости" в ее, как раз, неизменности . Пафос старообрядчества в отрицании перемены, то есть "истории", и именно этот пафос и пленяет Солженицына. Нравственное содержание, ценность, критерий этой "русскости" Солженицына не интересует. Для него важным и решающим оказывается то, что, начиная с Петра, нарастает в России измена русскости – достигающая своего апогея в большевизме. Спасение России – в возврате к русскости, ради чего нужно и отгородиться от Запада, и отречься от "имперскости" русской истории и русской культуры, от "нам внятно все…". В чем же тут соблазн? В том, что С. совсем не ощущает старообрядчества как тупика и кризиса русского сознания, как национального соблазна, а Петра, скажем, как – при всех его трагических недостатках – спасителя России от этого тупика. "Русскость" как самозамыкание в жизни только собою и своим – то есть, в итоге, самоудушение… В примате национального над личным. В "ипостазировании" России в одном из ее "воплощений". В антиисторизме, отрицающем возможность развития самого "национального", оказывающегося какой-то сверхвременной "данностью".
Вторая "опухоль" – все возрастающий, как мне кажется, идеологизм Солженицына. Для меня – потрясающей и глубочайшей правдой "Архипелага" было (и остается) обличение и изобличение идеологизма как основного, дьявольского зла современного мира. Марксизм есть, в этом смысле, завершение всех идеологий, идеологии как таковой, ибо всякая идеология отрицает свободу, личность, всякая приносит человека в жертву утопии, истине, оторвавшейся от жизни. Идеология – это христианство, оторвавшеееся от Христа, и потому она возникла и царствует именно в "христианском мире". "Пророк" в С. показал, явил это с окончательной силой. Человек в нем все больше и больше "идеологизируется". Идеология – это отрицание настоящего во имя будущего, это "инструментализация" человека (какова польза его для моего или нашего дела). Это переход с "соборования" на полемику. Это – определение от обратного, от отталкивания. Это решетка отвлеченных истин, наброшенная на мир и на жизнь и делающая невозможным общение , ибо все становится тактикой и стратегией. "Идеологизм" Солженицына – это торжество в нем "борца", каковым он является как "человек" (в отличие от творца). Это ленинское начало в нем: разрыв, окрик, использование людей. Это – "средство", отделенное от "цели" (в отличие от Христа, снимающего как страшную сущность демонизма различение "средства" и "цели", ибо во Христе – цель, то есть Царство Божие, раскрывается в "средстве": Он Сам, Его жизнь…). Солженицыну, как Ленину, нужна в сущности партия , то есть коллектив, безоговорочно подчиненный его руководству и лично ему лояльный… Ленин всю жизнь "рвет связи", лишь бы не быть отождествленным с чем-либо чуждым его цели и его средствам. Лояльность достигается устрашением, опасностью быть отлученным от "дела" и его вождя. И это не "личное", не для себя, только для дела, только для абсолютной истины цели…
Третья "опухоль" – в области религиозного сознания. Творец приемлет "триединую интуицию"
[464]. Человек сопротивляется ей, сопротивляется, в сущности, Христу. Ему легче с Богом, чем с Христом. К Богу можно так или иначе возвести наши "ценности", Христос требует их "переоценки". Всякая иерархия ценностей может быть "санкционирована" упоминанием Бога, только одна – абсолютно отличная от всех – возможна со Христом. Религия Бога, религия вообще может даже питать
гордость и
гордыню ("Мы русские, с нами Бог"). Религия Христа и Бога, в Нем открытого, несовместима с гордыней. С Богом можно все "оправдать", во Христе – то, что не умрет, не оживет
[465]. Все христианство: "Если любите Меня, заповеди Мои соблюдете…"
[466]. И дальше: "Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге…"
[467].
Среда, 11 июня 1975
Отдание Пасхи. Чудная обедня в солнечной церкви.
Сегодня в журнале] Newsweek заметка о том, что "по слухам" Солженицын поступает в монастырь!
Просто не верится, что завтра мы уезжаем в Labelle!
Labelle, вторник, 17 июня 1975
Уже пятый день в Labelle. В четверг Вознесения выехали из Crestwood'a. Почти всю дорогу под дождем. Ночевали у Ткачуков в Монреале. В Labelle приехали около 11.30 ночи. В субботу убирали дом, я приводил в порядок церковь. В воскресенье – обедня, пять человек. Днем – страшнейшая гроза. Вчера полдня за покупками. Только к вечеру все вошло в норму. Гуляли на закате по дороге, в чудном освещении: первая "встреча" с Labelle…
Со вчерашнего дня засел за работу.
Разговор вчера с Л. о Православии, почему оно – истина. Потому что в нем не предано ни одно из основных "измерений" творения: ни мир (космос), ни человек в его единственности (антропология), ни история , ни эсхатология . Все сходится в целом, но так, что не повреждена ни одна из частей. В Православии не меньше отступничества и измен, чем в католичестве и протестантизме, но ни одна из них не "догматизирована", не провозглашена истиной.
Понедельник, 23 июня1975
Longue suite de journees radieuses
[468], как написал бы Andre Gide. Но сегодня – уже почти невыносимая жара. На прошлое неделе – в среду и четверг – в Нью-Йорке, в суматохе заседаний, встреч, трепки нервов.
Пятидесятницу отпраздновали хорошо и солнечно…
Страшное желание засесть за работу: только что подсчитал, что на программе (летней) у меня не больше и не меньше, чем девять заседаний!
Воскресенье, 29 июня 1975
Целая неделя солнца, жары, света, блаженства! Кончил главы для юбилейной книги OCA
[469] (о времени митрополита Леонтия, о начале Иринея), теперь с радостью засел за "Евхаристию". Сегодня воскресенье всех святых. Обедня и длинное кофепитие на веранде Апраксиных. Потом – на веслах – через озеро с Л. Озеро – прекраснее, чем когда бы то ни было…
Среда, 9 июля 1975
Дни за днями – все то же солнце, то же счастье от озера, гор, зелени, света… Записывать, собственно, нечего. Утром – до двенадцати – работа, не сегодня-завтра кончу главу о приношении (третий draft!
[470]). После обеда длинные прогулки с Л., каждый день новая, и безостановочное наслаждение. Вечером почти всегда "что-то" у "кого-то": Трубецкие, Апраксины, Мортоны, Мейендорфы…
Правда, совесть почти всегда скребет что-то недоделанное: неотвеченные письма и т.д. Но это стало уже привычным состоянием. Но лета такого как будто никогда еще не было!
Воскресенье, 13 июля 1975
Письмо от владыки Александра (Семенова-Тянь-Шанского) от 3.VII.75:
"Дорогой о. Александр! Это письмо будет длинным. Ваш брат только на днях принес мне Вашу книгу "Of Water and Spirit". Может быть, напишу о ней для
Вестника , а пока что хочу Вам сказать, что я давно так не просто читал, а всем нутром
переживал и
переживаю эту книгу. Начал со Spirit
[471], а Water
[472] еще буду понемногу читать. Читая, прежде всего представил Вас как некое целое – духовно.
Понял , что с ранних Ваших лет Вы переживали антиномию отвержения и приятия мира, антиномию, которую Вы так и оставили как антиномию. Я также, может быть, уже долго, если не с юности, это переживаю. Вот почему Ваша книга так уязвила меня. Беда,
да это все же не беда , в том, что очень трудно, а может быть и невозможно, до конца разделить мир падший, отверженный и мир принимаемый, благословляемый. Одновременно с Вашей книгой читаю Исаака Сирина – очередную аскетическую книгу (какую-либо из таких книг по очереди читаю постоянно и думаю: это и
надо всем отрывками читать как часть молитвенного правила). Вот одновременное чтение этих двух книг еще больше обострило антиномию. У Вас проблема особенно обострена там, где Вы говорите о sex'e. Это, конечно, особенно задевает меня, так как здесь я знал и всю озаренную светом высоту, и, к сожалению, и темную сторону. В общем от Вашей книги, в которой указанная антиномия обнаруживает, что она есть действительно нечто важное для Вас, остается впечатление, что какая-то боль, вероятно, у Вас не изжита, есть она и у меня. Так легко, отсекая недолжное, задеть и прекрасное, и, наоборот, прославляя мир Божий, прекрасный, прихватить и прославить недолжное…
У меня это всегда может случиться, так как я не только монах (полуфиктивный, ибо не жил в монастыре), но все же и поэт, и художник. "Отцы-пустынники" иногда (так кажется) отсекают слишком многое, а мы многие, и, пожалуй, частично и Вы (уже вряд ли сейчас), как будто склонялись к принятию больше, чем нужно. Было время, в других книгах казалось, Вы несколько больше, чем нужно отталкивались от многого монашеского. В новой книге… Вы, может быть, и приблизились к золотой середине, которая все же остается антиномией, что для нас, тварных существ, драматично.
Но этот явленный Вами драматизм и есть то, что делает Вашу книгу живой, в конце концов прекрасной . Некоторые ее страницы восхищают, то есть возносят. А почему слова могут возносить? Потому что само Воплощенное Слово вознеслось на небо, чтобы и нас возносить.
Все, что пишу, хотя и конкретно, но недостаточно конкретно. Как я понимаю Ваше желание, жажду оживить литургическую жизнь! Конечно, эта жизнь и есть жизнь настоящая…
…я привык хвалить Ваши книги, а эту хвалить не хочется, потому что переживаю ее внутри себя. Она стала частью моего духовного содержания или выразила многое, что во мне было всегда, и, конечно, лучшего, но и драматического…"
Письмо от Никиты Струве (8.VII.75):
"Спасибо за обстоятельное письмо. Что же, эмпирический облик А.И., вероятно, не раз заставит нас страдать и недоумевать. После декабрьского визита я ведь тогда вроде как бы заболел от его непонимания ситуации в целом и обостренного его страха быть "использованным". В этом отношении с ним нужно быть сугубо осторожным. Тяжка его манера писать "неприятные" письма. Такие письма я получал, а особенно – телефонные звонки…
Его непонимание сути карловчан меня огорчает. Я думаю, нам нужно продолжать его медленно, но упорно просвещать – прямо или через Вестник , который он читает. Что людей он часто не понимает, вернее, ошибается в них, я тоже неоднократно замечал. Но что он "мечется", мне понятно: увы, выкорчевать такую глыбу из почвы не могло остаться без последствий. Вот он и ищет, где "найти почву", и мечется… За него страшно, ему бы теперь где-то осесть и опять засесть за писание, там, "где он неуязвим". Ведь он в путешествии с апреля месяца, не понимаю, как он выдерживает… И все же он – у России единственный, и рядом с ним от Шрагина до Максимова все – пигмеи…
Очень радуюсь Вашему пристрастию к Вестнику и жду продолжения Литургии… Благодаря, в частности, Вам, А.И., нашим московским друзьям, Вестник как будто действительно приобрел некое значение… Только что приехавший один Мишин друг из Москвы, К.Великанов, очень милый молодой математик и церковник, подтвердил, что Вестник читают не только церковные круги, но и шире вся демократическая интеллигенция и он как бы выполняет миссионерскую функцию…"
Понедельник, 14 июля 1975
Кончил в пятницу свою главу "Евхаристии"] о приношении . Как всегда, при переписывании и перечитывании – кажется "не тем"… Теперь пускай рукопись поспит в ящике.
В субботу 12-го храмовый праздник в Монреале. Архиерейская служба, "трапеза", чудный хор… С детства люблю храмовые праздники. Еще думал во время Литургии: что в жизни давало мне самую чистую радость – косые лучи солнца в церкви во время богослужения.
С сегодняшнего дня засел за сборник своих статей. Перечитывал, выбирал.
Послезавтра – приезд Андрея.
В Монреале накупил книг. Читаю (в связи с размышлениями о "правом" и "левом")
Le Grain et la Paille Francois Mutterand
[473]. Хотел проверить, пересмотреть свою, как мне казалось, "правую" нелюбовь к его "левизне". Нет, не нравится и не убеждает, хотя и несомненная "личная искренность". Но в книге и искренность кажется пронизанной насквозь расчетом.
Понедельник, 21 июля 1975
Для памяти:
В среду 16-го: солнечное, жаркое утро, наполненное ожиданием Андрея. Как я люблю эти счастливые ожидания , эту наполненность времени приближающимся. Смотрим из здания аэропорта, как садится его аэроплан. Радость свидания. Радость – с тех пор – его присутствия, его поразительной доброты, такта и тоже его очевидной радости быть с нами…
Вчера: храмовый праздник, с обычной суетой, но хорошей и радостной. Обедня в тесном алтаре с архиереем, крестный ход, общая трапеза. Вечером – очень удачный ужин вшестером с владыкой Сильвестром и Трубецкими.
Сегодня, после недели перерыва, засел о статью о Hartford'e (к 1августа).
Солнце. Счастье.
Среда, 23 июля 1975
Чудные дни с Андреем. И все то же изумительное, в солнце и свете "плавящееся" лето.
Смешно, но в сущности – всегда тот же единственный вопрос: что нужно?
Суббота, 26 июля 1975
"Северный день": ослепительно ясный, ветреный, весь – изнутри – праздничный. Один из тех дней, когда от этой красоты, от этого солнца, света, блеска делается почти больно: "о чем это?" и "как этим пользоваться?".
А. и Л. уехали за покупками в соседний город]. Я один, несколько часов тишины. Все эти дни – чудные прогулки втроем, но работать не успеваю, и это создает фон некоторого недовольства собой. Очень веселые ужины – вчера с Трубецкими, позавчера – с Мейендорфами и т.д. Веселье, радость Андрея, так очевидно наслаждающегося всем этим.
Сегодня ночью – странный, мучительный сон о Солженицыне. В этом сне С. совсем другой, поверхностный, властный. И почему-то – попытка В.Рудинского(!) убить нас обоих…
Чтение
Espaces Imaginaires Claude Mauriac'a
[474]. С одной стороны, раздражает этот французский эгоцентризм, придавание мирового значения разговорам в парижских барах и салонах. С другой – подлинность этой сосредоточенности на внутренней жизни: одной, неповторимой у каждого человека, этой попытки – всегда! – вернуть время, зафиксировать счастье, этой печали о текучести, об уходе всего…
Воскресенье, 10 августа 1975
Все эти дни грусть об отъезде Андрея (в прошлое воскресенье, 3-го). Поездка втроем в Нью-Йорк чудовищной, неслыханной жарой. Прогулка по раскаленному, расплавленному Нью-Йорку. Прощанье в аэропорту] Kennedy. Потом после трех очень занятых дней в семинарии – возвращение вдвоем сюда. Дождь. Поломка автомобиля. Ночевка в Saratoga. Вечером – прогулка по этому городу.
Тут все то же солнце, тот же свет и жара. Освещенные солнцем белые березы на фоне синего-синего озера. Дети… Все время в какой-то "лирической волне", в светлой печали, точно в созерцании всего того, "что было и прошло…". И не уходит, а живет, наполняя сердце все более и более блаженной тяжестью…
Все это сегодня утром пережил особенно сильно, идя в церковь, а потом – исповедуя на воздухе, за алтарем с этим удивительным видом на озеро, леса, холмы. Август – "как желтое пламя"… Прочел J.Francois Kahn "Chacun son tour"
[475], продолжаю Claude Mauriac'a, удивляясь "созвучности".
Перечитал вчера, по фотокопии, главу "Таинство приношения". Совсем не знаю, совсем, совсем – хорошо ли это или же плохо, нужно или не нужно. Одно знаю – это то, что я чувствую и думаю. Простая, по-своему освобождающая мысль: если то, что я чувствую и думаю, не нужно, или же уже давно всем известно, или слабо, поверхностно – ну что ж, тогда все это писание канет в небытие, и дело с концом. Писать, однако, стоит только свое ….
Желание вернуться к "Иерархии ценностей": это, в сущности, внутренний диалог с Солженицыным, да и с другими… Если каждое воскресенье лежит на моей ладони причастие жизни вечной, то рассуждать о проблемах, о Росии, о чем угодно так, как если бы этого не было, невозможно, или же тогда с нашей верой произошло что-то чудовищное.
Все это лето: "царство радостных грез"
[476].
"Опиум для народа":
– А. после смерти жены. Разговоры на "религиозные темы". Но "интересует" его в религии только смерть. Если про Бога – ему скучно, это его не интересует. И вот от священника требуется, чтобы он немедленно "давал ответы" и "утешал". В церкви – свечка на "заупокойный" столик, записка с именем жены. Что это – я чего-то так и не смогу никогда почувствовать в этой "религии" или же и впрямь все это не имеет никакого отношения к христианству…
– В гостиной у Трубецких слышу разговор старушки Т.Л. с Мариной Апраксиной. Обсуждают какую-то "очень интересную книгу о загробном мире и покойниках". Старушка с возмущением: "Это совсем не православная книга. Он (автор) пишет, что покойники с нами всегда, а ведь Церковь учит, что только сорок дней…" Сижу и думаю о том, что все это вообще значит и каков смысл в подобных разговорах…
– Летом в Labelle всегда острее чувствую ужасное несоответствие между "собою" и тем, чего от меня ждут, хотят, требуют как от священника. В общем – чтобы все было, как привыкли. Тоска от всего этого.
Воскресенье, 17 августа 1975
Книги, прочитанные за лето:
Lionel Groulx. Memoires, volume IV.
Claude Mauriac. Les espaces imaginaries (Le temps immobile, II).
Francois Mitterand. La paille et le grain.
Roger Garaudy. Paroles d'homme.
Jean Francois Kahn. Chacun son tour.
Simon Leys. Ombres chinoises.
Andre Glucksmann. La cuisiniere et le mangeur d'hommes
[477].
Сейчас дочитываю книгу Leys о Китае. Невероятно, уму непостижимо. Главное то, конечно, что из этого "маоизма" – тупого, ужасного – и то ухитрились сделать мечту, надежду, откровение.
Сегодня освящение озера – уже в двадцать четвертый раз!
Ужин с Анюшей в лабельском ресторанчике. Прелесть летнего, душного вечера в этом Богом забытом городишке. Радость от этого контакта с самой бесхитростной жизнью после стольких сложных рассуждений о ней. Иногда чувство: "…et j'ai lu tous les livres"
[478].
Все эти дни – работа: статья о Хартфорде, которую, запутавшись, отложил на время, "Иерархия ценностей", тезисы о литургическом богословии, письма.
Письмо маме по случаю ее восьмидесятилетия, заставившее вдруг снова остро пережить ее присутствие, ее огромное место и значение в моей жизни. Писал действительно "от души"…
Вторник, 19 августа. Преображение
Преображение. Ясно и холодно. Чудная служба. До Литургии много исповедников. И такое ясное чувство: что все – и грехи, и сомнения наши – от измены внутри себя свету и радости, тому, что составляет всю суть этого удивительного праздника. "Земля вострепета…" Чувствовать этот "трепет" во всем: в словах, в вещах, в природе, в себе – вот и вся христианская жизнь, или, вернее, сама жизнь, христианством дарованная и даруемая.
Как всегда в этот день, так отчетливо "поминались" на проскомидии: митр. Евлогий, о.Киприан, о.С.Булгаков, о.В. Зеньковский, о.М. Осоргин, о.С. Четвериков, все те, кто, так или иначе, дали мне этот "трепет" почувствовать – "о нем же" все "мое" богословие. О радости, "которой никто не отнимет от вас"
[479] …
Пятница, 22 августа 1975
Все эти дни – за писанием "Иерархии ценностей". Как всегда, то, что кажется простым в замысле, оказывается бесконечно трудным в исполнении. Мне кажется, что я всегда испытываю то же самое: а именно, что трудность от того, что статья, в сущности, уже
готова (tout est pret, il ne reste qu'a ecrire
[480], как говорил Расин о "Федре"), но "воплотить" ее, разгадать – трудно, почти невозможно.
Суббота, 23 августа 1975
Длинный разговор с Алешей Виноградовым о Солженицыне. Разговор полезный, потому что пришедший как раз тогда, когда я впал в уныние от невозможности "выразить" "иерархию ценностей" и уже готов был бросить ее, как на прошлой неделе бросил Hartford. Теперь буду снова пытаться.
На дорожке в лесу], после обеда ("весь день стоит как бы хрустальный"
[481]) – разговор с Л. о… старости и смерти. Я говорю ей, что мне иногда кажется, что я уже получил от жизни все, что хотел от нее получить, узнал то, что хотел узнать, и т.д. Начало старости – и вот думается, что это должно было бы быть временем подготовления к смерти. Но не в смысле сосредоточивания на ней внимания, а, наоборот, в смысле очищения сознанием, мыслью, сердцем, созерцанием – "квинтэссенции" жизни, той "тайной радости", из-за которой душе уже "ничего не надо, когда
оттуда ринутся лучи. "
[482].
Молодость не знает о смерти, а если знает, то это "нервоз", как было у меня в пятнадцать лет. Смерть не имеет ко мне отношения, а если вдруг получает его, то это возмутительно, и в этом возмущении затемняется вся жизнь. Но вот постепенно – уже не извне, а изнутри – приходит это знание. И тут возможны два пути. Один – все время заглушать это знание, "цепляться за жизнь" ("еще могу быть полезным"), жить так – мужественно. Как если бы смерть продолжала не иметь ко мне отношения. И другой, по-моему – единственно верный, единственно подлинно христианский: знание о смерти сделать, вернее, все время претворять в знание о жизни, а знание о жизни – в знание о смерти. Этому двуединому знанию мешают заботы, сосредоточенность жизни на жизни…
Современная "геронтология" целиком сосредоточена на первом пути: сделать так, чтобы старики и старухи чувствовали себя "нужными" и "полезными". Но это одновременно и обман (на деле они не нужны), и самообман – ибо они знают, что не нужны. В другом плане, однако, они действительно нужны , только не для тех же "забот", в которых раздробляется и уходит вся жизнь. Нужна их свобода, нужна красота старости, нужен этот отсвет "лучей оттуда", в них совершающееся умирание душевного тела и восстания духовного…
Поэтому аскезу старости, это собирание жизни нестареющей нужно начинать рано. И мне все кажется, что мой срок настал. Но сразу же встает столько "забот" и "проблем"…
Прибавлю еще: потому, что молодость не знает о смерти, не знает она и жизни. Это знание тоже приходит "видевше свет вечерний…". И был вечер, и было утро – день первый
[483] … Молодость "живет", но не благодарит. А только тот, кто благодарит, знает жизнь.
"Ce doux royaume de la terre…"
[484].
Воскресенье, 24 августа 1975
Сегодняшний апостол (1 Кор.3:10-15):
"Каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня…"
Это прямо об "иерархии ценностей".
Тетрадь III
АВГУСТ 1975 – МАЙ 1976
Labelle, 27 августа 1975
Увлекательная книжечка Maurice Clavel'a (Qui est aliene)
[485], которую два года тому назад я начал и не кончил и которую теперь прочел с огромным интересом (потому что в связи с размышлениями этого лета о "правом" и "левом" и со статьей об "иерархии ценностей").
28 августа 1975 , Успение
Вчера с Л. [в соседней деревушке] La Minerve, на кладбище. Тишина, солнце, вечность…
Успенская всенощная, вся удивительная, ни с чем не сравнимая радость именно этого праздника, смысл которого, конечно, в том, что он светится "зарей таинственного дня".
Сегодня служили втроем – с о.И.Мейендорфом и о.Леонидом Кишковским. После обедни "заседание" вчетвером (с Томом) у Мейендорфов. Впервые за лето, в Labelle, погружение в "церковные дела". Чувствовал почти физически, как от этого "убывает праздник".
Разговор вчера за ужином у Лопухиных о старости (Зишка служит в Nursing Home
[486] на Reed Farm). Ужас этих nursing homes, куда сгоняют стариков и где они в полной власти social workers
[487] с их теориями.
Последние дни Labelle – и уже "отрешенность" от него. Уже он переживается, как прошлое. Ясность и красота этих – здесь уже первых осенних – дней, ярко-красных кленов. Очевидная для меня "одушевленность" природы, только совсем не "пантеистическая", а вся целиком состоящая в откровении именно Лица, Личности. И это так потому как раз, что природы нет "самой по себе". Она "становится" каждый раз, когда из-за нее, в ней, благодаря ей происходит встреча личности с Лицом, совершается "епифания".
Crestwood. Среда, 3 сентября 1975
Вчера весь день под проливным дождем за рулем – вдвоем с И.М.. Возвращение из Labelle домой. И сразу же – шумный, энергичный визит Давида
[Дриллока]. Лава проблем, дел, забот – лава, словно уже захлестывающая сознание и жизнь.
Сейчас утро: 8.30. Только что кончил скрипт для радио "Свобода". Впереди семинария, а потом – заседание церковной администрации. Слава Богу, солнечно и прохладно. Тут, в отличие от Labelle, все еще зелено, все по-летнему.
В последние дни в Labelle прочел любопытный роман Michel Tournier "Vendredi ou les limbes du Pacifique"
[488]: попытка написать Робинзона Крузо в "перспективе" нашего времени и наших "проблем".
Также четвертый выпуск "Континента": в нем сто пятьдесятстраниц Виктора Некрасова, которого я никогда не читал, – "литература", то есть то, что – говоря парадоксально – с такой силой отсутствует у Солженицына.
9 часов. "Le vent se leve, il faut tenter de vivre…"
[489].
Четверг, 4 сентября 1975
Семинария. Syosset. Все утро вчера в суматохе, всегда предшествующей началу учебного года, привычной и даже радостной.
Пятница, 5 сентября 1975
Вчера в "Свободе" В.Р. слушает мой "скрипт", потом говорит: "Прекрасно, о.А., прекрасно, но почему Вы говорите о "библейских", а не просто "христианских" истоках учения о личности?.." Наши "бытовики" и защитники "истинного Православия" не подозревают о подспудном сопротивлении в нашей Церкви – Ветхому Завету…
Воскресенье, 7 сентября 1975
Два дня в Hartford'e, на втором собрании "хартфордской группы"
[490]. Сегодня утром месса, которую служит о.Avery Dulles и на которой все (восемнадцать) участников, кроме одного меня, – причащаются, хотя большинство из них – "консервативные" христиане других исповеданий. Но если так, в чем же тогда разделение Церкви и какого единства еще искать? Вообще, несмотря на дружественную атмосферу, сильно чувствовал свое внутреннее "православное" отчуждение от всех этих дебатов, от самого их духа. Православие очень часто в плену у зла и греха. Христианский Запад действительно в плену у ересей – из коих ни одна in the long run
[491] не проходит безнаказанно.
За чтением сильной и увлекательной книги Maurice Clavel "Ce que je crois"
[492].
Среда, 10 сентября 1975
Начало учебного года. Суматоха. Новые студенты (до сорока!), заседания и – сегодня – первые лекции. И хотя я начинаю тридцатый год преподавания (или даже тридцать первый – с осени 1945 года!), знакомое и радостное чувство подъема, надежды, что из всего этого выйдет что-то хорошее, веяния духовного "присутствия".
Работа (довольно мучительная из-за срочности) над "хартфордской" статьей. Беседы для "Свободы"… уже ни минуты времени, но пока что без уныния и отчаяния от этого пленения "делами".
Четверг, 11 сентября 1975
Вчера вечером у Ани в Wappingers Falls – [ее] именины. Маленькая Александра, ощущение ее теплого тельца на коленях…
Через два дня – пятьдесят четыре года!
Пятница, 12 сентября 1975
Пасмурно, сыро, дождь. Опять осень. Льяна начала работать – и, слава Богу, с успехом – в ее новой должности (dean of the faculty). Опять будильник в 6.30; утреня – в уже полутемном храме. Я всегда любил "порядок" и "ритм", через которые только и можно воспринять "дары, которых мы не ценим за неприглядность их одежд"
[493], то есть в сущности – саму жизнь. "Освобождение от…" совершается только через "приятие"…
Воскресенье, 14 сентября 1975
Вчера – день рождения: пятьдесят четыре года. Разговор по телефону с Андреем. В Париже опять трагедия: гибель в автомобильной катастрофе старшего мальчика Рунге.
Вечером – торжественная, радостная всенощная: Воздвижение Креста. Сегодня – такая же Литургия с огромным числом причастников. Масса исповедников. Проповедовал о Кресте. После обедни у нас – Трубецкие, Алексей Шидловский, Алеша Виноградов, Сережа и Маня с детьми. Изумительный прохладно-солнечный день…
Письмо от Никиты [Струве] с "церковной" статьей А.И.С.[олженицына] – которая, по словам Никиты, "вся рядом, нецерковная и в итоге – бессмысленная…". Много думал об этом и о том, как на это реагировать.
Вторник, 16 сентября 1975
Из-за отъезда в пятницу – в Париж и затем в Финляндию – ужасно суматошные дни в семинарии и дома, где только сегодня, встав в пятьчасов утра, закончил, наконец, несчастную статью о Хартфорде.
Запомнить: в воскресенье вечером с Сережей и Маней на Mulberry Street
[494] на празднике San Gennaro
[495]. Лучше чем в Италии! Какой удивительный город Нью-Йорк!
Визит вчера некоего Харитонова – диссидента из России, желающего поступить к нам в семинарию. Очень светлое впечатление. На мое сомнение – не учиться ли ему лучше в Париже, где преподавание хотя бы отчасти по-русски, его ответ: "Да нет, у нас там молва-то о Вашей академии…" Но вот, все впопыхах, ни на что не хватает времени.
Пятница, 19 сентября 1975
За несколько минут до отъезда на аэродром – в Париж и в Финляндию. Весь день впопыхах – лекции, трехчасовой совет профессоров, последние письма, напоминания…
Вчера Алеша В.[иноградов] показал письмо от А.И.[Солженицына]: упреки, что "в телефонном разговоре упомянул Вермонт! – Теперь КГБ все знает и будет там до нас… Надо годами учиться конспирации…". Господи Боже мой! Что это – ребячество или психоз? В обоих случаях за него страшно… Как будто, если он переедет в Вермонт, КГБ не узнает этого, как и мы, грешные, просто из газет!
Новые студенты, новые лица. Всегда тот же вопрос, та же надежда: сколько из них окажутся "настоящими"?
И опять, в который раз, тот же опыт: читаешь лекции самому себе, прежде всего учишь себя – и потому только они и могут быть чем-то…
Париж. Суббота, 20 сентября 1975
Ночной полет через океан, на полупустом аэроплане Finnair. Пересадка в Амстердаме. В десятьутра в Париже. Солнце, совсем тепло. Завтрак с мамой, Андреем и всей его семьей. В пять часов дня – чудным, совсем летним вечером – [племянница] Елена подбрасывает меня на St. Germain des Pres – мой вечный парижский "исходный пункт". Тихая двухчасовая прогулка по любимейшим во всем мире местам – Rue de Seine, Pont Royale, Tuileries… Деревья чуть-чуть тронуты ржавчиной осени. Удивительное освещение, словно все блаженствует в этом теплом свете. Удивительное, высокое парижское небо. Perfect bliss
[496].
Потом захожу за Андреем и вместе едем ко всенощной. Вечером ужинаем вдвоем в "Le Colisee" на Champs Elysees
[497] – дружно, близко.
Воскресенье, 21 сентября 1975
Литургия на Olivier de Serres. Кофе на углу в cafe с Никитой Струве, но серьезные разговоры – о "письме в редакцию" Солженицына – откладываем на завтра…
Днем на подворье
[498] свадьба двух братьев Ребиндеров на Соне Лопухиной и Наташе Розеншильд. Первое "свиданье" с подворьем. Все разворочено, растет трехэтажное здание. Но если встать к этому спиной – все тот же дряхлый профессорский домик: окно о.Киприана, окно о.Сергия Булгакова. Чувство совсем такое, как в "Соррентинских фотографиях" Ходасевича: все просвечивает прошлым, для меня – сквозь толпу молодых – реальны наполняющие это место дорогие тени… Одиннадцать лет жизни!
Вечером втроем: мама, Андрей и я – по [нашей улице] Lecourte. И каждый раз мысль: не в последний ли раз?
Понедельник, 22 сентября 1975
Рано утром – в восемь часов утра – прогулка с Андреем и [его дочерью] Наташей по Булонскому лесу. Чудное солнечное утро. И снова тот же свет, в котором я блаженствую весь день. Андрей довозит нас до rue Jacob
[499]. Наташа идет на службу. А я начинаю опять свое "приобщение" Парижу, ставшее для меня настоящей потребностью, – погружение в это медленное движение по городу, который каждый раз мне что-то открывает – не внешне, нет, а именно внутренне. Словно встреча с самим собой на глубине.
По rue Bonaparte до Сены и направо по набережной. Все больше и больше разгорается солнечный день. Уже "ритуально", не думая, захожу в Notre Dame
[500]. Торжественная месса – с органом – какого-то немецкого паломничества. Оттуда – на ile St. Louis
[501] и по Quai de Bourbon до Pont Marie, Quai Henri Quatre – до Gare de Lyon
[502], где в 10ч. у меня свидание с Mother Mary из Bussy
[503]… В одиннадцать часов, кончив разговор с ней, опять пешком к Сорбонне, где у меня завтрак с Никитой и Машей Струве.
Никита дает мне письмо Солженицына. Гораздо хуже, чем я думал. Долго обсуждаем с Никитой – как быть? Решаем так: он будет ждать ответа на свое письмо, в котором он умоляет Исаича взять письмо обратно. Если не возьмет – писать ответ "начистоту" в том же номере.
Гельсингфорс. Вторник, 23 сентября 1975
Весь день путешествую… Выехал в 7:30 утра, после кофепития с Андреем. Бесконечное ожидание на Bourget
[504]. Затем – полет в Амстердам и там – новое ожидание, полета в Гельсингфорс, с получасовой остановкой в Гамбурге. Но я в сущности люблю эти "пустые" аэропланные дни, это совершенное одиночество в толпе.
Весь день солнце, но в Гельсингфорс спускаемся через тучи и на земле – пасмурно, ветрено, темно. Меня встречают оо. Veikko Purmonen (учившийся у нас в семинарии) и Мстислав Могилянский. "Закуска" у Purmonen'a, с обеими женами. Но я так устал, что, несмотря на чувство дружбы, простоты, чувство "дома", мечтаю остаться один. Везут меня в guesthouse
[505] университета. И, наконец, один… Завтра начало очень загруженной финской недели.
Странное чувство: я сижу на расстоянии получасового полета от места, где я родился: от Ревеля, могилы [сестры] Елены. И так близко от России…
С годами – все труднее, все мучительнее каждая разлука с Льяной.
Еще забыл: посещение вчера St. Etienne de Monts: могилы (вернее, места могил) Паскаля и Расина.
Среда, 24 сентября 1975
Утром – короткая прогулка в одиночку по ближайшим кварталам. Но это новые кварталы – все чисто, все обычного скандинавского типа. Чудная погода, солнечно, но не жарко.
В 10.30 заезжает за мной о.Вейкко Пурмонен, и мы едем в приходской дом. Первая встреча со старым Гельсингфорсом. Желто-белые с колоннами здания, петербургский ампир, памятник Александру II-му. Огромный безвкусный Успенский собор "имперского" стиля, Троицкая церковь (1850-х годов) – все снова кругом того же ампирного стиля. Как будто прикосновение к невиданному мною, "папиному" Петербургу.
Завтрак в ресторане с настоятелем прихода о.Александром Корелиным и о.Вейкко. Их рассказ о своей церкви, о религиозном положении здесь.
Русские кладбища. В три часадня чай и лекция в лютеранском миссионерском центре. Встреча с переводчицей на финский язык моего "For the Life of the World".
В [газете] "Herald Tribune",купленной на вокзале, – новое покушение на президента Форда!
Сейчас еду в университет – на лекцию.
Завтра – отъезд в Kuopio.
10.30 вечера. После лекции в университете и ужина в необычайно роскошном ресторане с канцлером и тремя профессорами. Некая европейская торжественность, но и море добродушия и благожелательства. Сердечно приглашают сюда на год или на полгода – "visiting lecturer"
[506] …
Всегда после такого вечера спрашиваю себя: что есть в Европе, чего определенно нет в Америке, что есть в Америке, чего определенно нет в Европе? Или, по-другому, более лично и экзистенциально: что из Америки меня тянет в Европу, а из Европы – в Америку? Я чувствую, что обычный, ходячий ответ: Европа – это культура, корни, традиции, а Америка – это свобода, но и некультурность, и беспочвенность, и т.д., – неполный, односторонний, упрощенный, а потому, в сущности, и неверный. Я бы сказал – неуверенно! – так: в Америке есть все, что есть в Европе, а в Европе нет почти ничего из того, что
есть Америка. И тянет, собственно, не столько в Европу, сколько
из Америки, потому что в Европе
духовно легче, есть всегда к чему прислониться почти физически, а Америка духовно
трудна . Люди веками бегут в Америку для более легкой жизни, не зная, что жизнь там – на глубине – гораздо более трудная. Во-первых, потому, что Америка – это страна великого одиночества. Каждый – наедине со своей судьбой, под огромным небом, среди необъятной страны. Любая "культура", "традиция", "корни" кажутся маленькими, и люди, истерически держась за них, где-то на глубине сознания, подспудно знают их иллюзорность. Во-вторых, потому, что это одиночество требует от каждого экзистенциального ответа на вопрос "to be or not to be"
[507] , и это значит – усилия. Отсюда столько личных крушений. Здесь даже падающий падает на какую-то почву, там – летит в бездну. И потому – такой страх, такой Angst
[508] …
Но именно это – встреча с личной судьбой – и тянет в Америку. Вкусив этого, уже кажется невозможным быть только "финном" или даже только "французом", быть, иными словами, раз и навсегда детерминированным. Уже совершилось болезненное освобождение от этого. Но и "освободившегося" рано или поздно тянет в иллюзорную устойчивость Европы, в сон и мечтание. И тянет тем более, что сон приходит к концу, что почва распадается, что Европа превращается постепенно в карикатуру Америки (острое чувство этого на аэродромах: Charles de Gaulle, Hamburg, Amsterdam…), никогда не смогущую стать "оригиналом", а тем самым – и карикатурой на саму себя с отречением от своего собственного "оригинала". Ходя по Парижу, чувствую, что Notre Dame, перспектива rue de Seine, place de Vosges, то есть все то, что я так болезненно люблю, – иллюзорно, ненужно, не имеет никакого отношения к Франции Жискара, Миттерана и "Le Monde", то есть к реальной Франции. Она
хочет стать Америкой, но так же, как Америка не может стать Францией, так и Европа не может стать Америкой (кроме как карикатурой)… Только вот Америка и не хочет стать Европой, и потому она подлинна, а Европа с каждым днем теряет свою подлинность. И потому, что Америка подлинна, – она есть постепенное рождение традиции. А потому, что Европа отреклась от своей "подлинности", в ней распадается традиция… "Аще не умрет, не оживет"
[509]. Европа "родила" Америку из своей мечты и в ней умирает как Европа, тогда как Америка из этого умирания и родилась, и развивается…
Kuopio. Четверг, 25 сентября 1975
В университетской "guesthouse", где я прожил эти полтора дня в ожидании отъезда в Куопио. Все эти разговоры о Православии и Западе, о Православии на Западе, разговоры, раздумья, в которых я буквально прожил всю жизнь, неизменно приводят к вопросу, обращенному уже к самому себе: что же за всеми словами, за "незабудками, здесь помещенными для шутки"
[510], что остается за вычетом всего того, огромного, что так очевидно мешает Православию и его искажает? Что несомненно, вечно и составляет сущность того, о чем, в сущности, я говорю, что проповедую и что защищаю всю жизнь? Иными словами, что не относительно, а
абсолютно ? И всегда тот же вывод: во-первых, некое
видение, опыт Бога, мира и человека – о которых лучшее в православном богословии, но с которыми оно не совпадает просто ("Отцы" об этом, но сами "Отцы" превращаются в объект какого-то мелкого, интеллектуального и скучного культа). Богослужение об этом, но опять-таки если оно само не есть предмет нездорового любопытства. Духовная традиция об этом, но только если не делается pars pro toto
[511], рецептом для безнадежных искателей "духовности". И, во-вторых,
Таинство – в самом глубоком и всеобъемлющем смысле этого слова, ключ и критерий которого в Евхаристии. Все остальное не только относительно, но и по самой своей природе – преходяще. Но любят православные и потому абсолютизируют почти только "преходящее". Отсюда – все растущая православная "шизофрения"… И только
пророчество и неизбежно связанное с ним "мученичество" (отвержение, одиночество, осуждение) могут, должны эту шизофрению исцелить. А этого никому (мне, во всяком случае) ужасно не хочется. А надо сказать в сущности приблизительно так: православный "традиционализм" обратно пропорционален сегодня верности Преданию, и это без всякого парадокса и преувеличения. Православие запуталось в прошлом, обожествленном как предание, оно буквально задыхается под его грузом. А так как подлинное, живое и животворящее Предание приходит к нам
из прошлого,
через него, в нем действительно заключено и потому что "жаждущие и алчущие" находят все время куски хлеба, подлинной пищи в нем, то и задача бесконечно усложняется. И решить ее можно, по-моему, только при полной укорененности в
настоящем , тогда как первый соблазн православного – бежать из него, идти
обратно . Именно тогда, однако, прошлое, переставая быть Преданием – передачей в настоящее, делается мертвым грузом и умиранием… "Всякий, положивший руку на плуг и озирающийся назад…"
[512] – эти слова можно отнести к эмпирическому православию: все оно – либо ностальгическое и романтическое, либо паническое и истерическое "озирание назад". Все православные какие-то "эмигранты" в современности, какое-то "харьковское землячество", суетящееся в случайной парижской или нью-йоркской зале. Развесили портреты, расставили флаги – ну совсем "уголок России". Так и все православие в современном мире какой-то "уголок"… А вот с кафедры лютеранского университета утверждаешь – искренне! – что без православного
видения не исцелить миру своих страшных ран и не выйти из тупика…
Одиннадцать часов вечера, в резиденции архиепископа Павла в Куопио. Весь день – то есть пять с половиной часов – вчетвером в машине. Оо. Пурмонен, Могилянский и Кирилл Гундяев, утром приехавший из Ленинграда. Осенний, ясный, но с облаками день. Сосны, березы, озера, пустынно – необыкновенно похоже на наши [холмы] Laurentides в Квебеке.
Центр Финской Церкви: архиепископия, правление, семинария – ультрамодерная постройка. Все блещет чистотой, все вылизано. Архиепископ Павел, которого я уже знаю по Аляске, – то же светлое впечатление. Ужин с ним и о.К.Гундяевым. Потом всенощная под Иоанна Богослова в семинарской церкви. Классическая "русская" всенощная, только по-фински. Но этот язык, в котором гласные доминируют над согласными, – красив и удивительно хорошо подходит к нашим мелодиям. После всенощной – прием и чаепитие в семинарии, ректор которой "наш" Матти Сидоров, переводчик моих книг… Все очень дружно и трогательно: студент играет на флейте, другой поет. Все красавцы-блондины…
Под конец прогулка по мокрой, пустой улице с о.Кириллом. Разговор о Церкви в России, о диссидентах. Гундяев – "никодимит" (ему двадцать девять лет, и он уже архимандрит и ректор Академии!), то есть умница и "clever"
[513]. Но то, что он говорит и
как , кажется мне и искренним, и правильным.
Пятница, 26 сентября 1975
Утром архиерейская Литургия, чинная, строгая, вся несущая на себе отпечаток архиеп. Павла. Все "тайные молитвы" читает вслух, во всем смысл, продуманность. Чудная служба.
Потом весь день лекции, так что совсем выдохся. За окнами дождь и туман. Атмосфера – очень дружная, не замечаю никаких подводных течений. Духовенство – почти сплошь молодое и чем-то похожее на наше, в его положительном выражении. Нет "игры в православность", надрыва. Они у себя дома, на своей почве, им не нужно себе и друг другу все время что-то доказывать, как в эмиграции и ее беспочвенной тоске по почве. Насколько мне это ближе всякого показного "духопосничества"…
Вечером, после ужина, часовой визит к лютеранскому епископу. Все очень "цирлих-манирлих". Лютеранство тут – массивное присутствие…
Потом финская баня с Владыкой и о.Кириллом. Когда мы втроем сидели голые и парились, я подумал: вот бы снять эту фотографию и послать кому-нибудь. То-то был бы фурор… Удивительно, как такой человек, как арх. Павел, который весь светел, весь светится миром и святостью, продолжает так же светиться и голым. То, что грубо, смешно, неприлично в "плотяном человеке", в "духовном" – преображено! Я был потрясен этим настоящим для себя откровением…
Конец вечера у милейшего о. Матти. Легко и радостно.
Суббота, 27 сентября 1975
А все-таки пресловутая "финляндизация" чувствуется. При слове "Солженицын" наступает мгновенное молчание и переводят разговор. Гундяева явно пригласили для того, чтобы "уравновесить" меня, и это не то что подчеркивается, но очевидно для каждого – "правила игры"… Сам архиепископ очень твердо держит эту линию. Финская Церковь, как и сама Финляндия, мужественно отстояла свою свободу, но и платит за это постоянным "самоограничением".
11.30 вечера. Не знаю, как выдержал! Целый день лекций и дискуссий, разговоров, напряжения. Вечерня в соборе. Чай в приходе – с… моей речью. И, наконец, вечер с православной молодежью в каком-то ресторанном подземелье…
Вечерню служит архиепископ с четырнадцатью священниками в дореволюционных, парчевых, с Валаама вывезенных облачениях! Храм маленький, построенный в начале века для какого-то русского полка, здесь почему-то стоявшего. Русская Империя, русское владычество, о котором стараются делать вид, что его вообще не было! Тщета всех этих потуг.
Вечером молодежь поет карельские песни. Они уже все родились на "чужбине", после исхода 1940г., – но рана жива и кровоточит… Безумие нашего мира и несмываемый позор для России.
Мне поднесли за чаем – подарок (карельскую скатерть) и наговорили массу милых слов…
Речь сегодня о.Типани Репо – полуюродивого, двенадцать детей, но с таким удивительным лицом; видно, как он изранен окружающей его духовной грубостью. Явный неудачник. Он говорит, все смеются. А это – единственное живое слово! И талантливое, и тонкое. Как несколько нот Моцарта под шум барабанов. И сразу чувствуешь всю красоту, подлинность – единственную подлинность – такой неудачи.
Завтра: архиерейская служба в соборе, банкет и еще какой-то "экуменический" вечер. Мне нравится Финляндия, мне хорошо в Финской Церкви, но вот уже тянет неудержимо домой…
Воскресенье, 28 сентября 1975
Литургия в Соборе – и опять то же впечатление большой литургической культуры и подлинности, исходящих, очевидно, от арх. Павла. Пение прекрасное – выдержанное, цельное от начала до конца, без "номеров". Без всякого преувеличения: лучшая архиерейская служба, на которой мне довелось быть. В какой-то момент службы – блаженный прорыв вечности: наслаждения "странствием владычным". Белый владыко, возносящий молитву, десять иереев, а за алтарем – золотые, осенние березы. Остановка времени, прикосновение к высшему, вечному, над чем время безвластно.
Потом чай у настоятеля, потом бесконечный, трехчасовой банкет (пятидесятилетие союза священников). Речь архиепископа Павла – о моих лекциях: христоцентричны, пастырски практичны и эсхатологичны. Комплимент от него мне особенно радостен.
Совсем осень: низкие тучи, летящие листья, воскресная пустота улиц и площадей. Близкий моему сердцу север.
Понедельник, 29 сентября 1975
Совсем особенный день. В 7 утра выезжаем с вл. Павлом на Новый Валаам. Погода, бывшая все эти дни дождливой и серой, проясняется: холодное, солнечное утро, пустынная дорога, золото осенних берез и изумительные, высокие сосны. Через полтора часа въезжаем в монастырские ворота, и вот – словно
возврат на сто лет назад! Древние, древние монахи. Игумен о.Симфориан(!) – копия преп. Серафима на известной картине, где он изображен маленьким, сгорбленным стариком с посохом. Валаамский.монах с 1906г.! Его рассказ о своей судьбе, его тон, выражения, весь его облик абсолютно непередаваемы. Это явление из другого, безвозвратно ушедшего мира. Молебен перед Коневской иконой Божией Матери. Трапеза с монахами. Осмотр монастыря. Все это вызывает целую бурю мыслей, которых сейчас записывать не буду, ибо в них нужно разобраться.
Потом, все тем же золотым днем, мимо сосен, берез и озер, едем в женскую обитель, а оттуда – в "келлию" вл. Павла, на острове среди озера… Какой удивительный человек!
В 4.30 снова уже в Куопио. Осмотр – быстрый – города с о.Матти. Русские казармы, русская уездная площадь (ампирные одноэтажные дома, "присутственные"…) – вперемежку с американскими department stores
[514].
Осмотр с Владыкой церковного музея, совершенно невероятных сокровищ, вывезенных со старого Валаама, от которых пестрит в глазах. Какое же это было чудовищное (во всех смыслах!) богатство…
Опять sauna
[515], опять мы втроем голышом – и все тот же свет льется из этого хрупкого, прозрачного, светозарного человека, память о котором останется в сердце такой чистой радостью, таким праздничным подарком!
Но ко всему этому нужно будет вернуться. А сейчас нужно укладываться: завтра отлет в Гельсингфорс, послезавтра – домой… Думая об этих днях, особенно же о вл. Павле, хочется закончить эту запись стереотипной формулой: "Слава Богу за все…"
Crestwood. Четверг, 2 октября 1975
Дома, перед уходом в семинарию. Летел вчера весь день и порядком устал.
Во вторник рано утром вл. Павел отвез нас – о.К.Г.[ундяева] и меня – на аэродром, и уже в 8.30 мы были в Гельсингфорсе. Чудный солнечный день. Утром же заехал в славянский отдел библиотеки университета, где, как и в музее в Куопио, глаза разбегаются от хранящихся в ней богатств. Потом с о.Мстиславом [Могилянским] по городу… В двенадцать часов на молебне (Вере, Надежде, Любви) – в русском приходике, сверхтипично эмигрантском. Завтрак у настоятеля с кучей стареющих русских дам. Затем прогулка, опять с о.Мстиславом, по взморью, по площадям этого маленького Петербурга. В пять часов у В.А.Зайцева – одного из последних в мире "кадровых" семеновцев – по просьбе [брата] Андрея. В шесть часов – всенощная в Успенском соборе, поразившая меня своим имперским великолепием: хором, облачениями и т.д. Но после подлинности служб в Куопио все это кажется уже искусственно сохраняемым, музейным, неоправданным. После всенощной – прием у митр. Иоанна, ужин у Могилянских, и все это приводит меня в состояние уже крайней усталости…
И вот опять дома, и финский опыт уже претворяется в прошлое и требует осмысления, включения в целостное восприятие судьбы Православия. Сейчас, однако, нужно погружаться в свои devoir d'etat
[516]. Чувствую всегда неслучайность всех этих, на поверхности раздробленных, опытов: эмиграция, Америка, Греция, Солженицын, теперь – Финляндия, неслучайность в том смысле, что все это так или иначе ставит вопрос о "синтезе", о преодолении страшной фрагментарности, раздробленности Православия в пространстве и времени, в уходе его во множество ручейков, в исчезновении общего потока. Чего стоит одно посещение Валаама, это погружение в другой мир! И эта всенощная в Успенском соборе, и т.д. "И лишь порой сквозь это тленье…"
[517]. Трагедия в том, что каждый фрагмент выдает себя за целое, за православное
все и отрицает – страстно! – другие. Каждый только своим опытом, своим видением воспринимает Христа, а не наоборот – в Христе осознает свою ограниченность, свою относительность… И свое призвание я вижу в том, чтобы опрокинуть этот подход, все эти фрагменты соединить и тем самым – претворить из тления в жизнь в "опыте" Христа. Надо без устали повторять себе: "Греми лишь именем Христа, мое восторженное слово…"
[518]. Я
должен – потому что это Истина, и я
могу – потому что изнутри и нутром понимаю эти фрагменты и могу себя отождествить буквально с каждым из них.
Пятница, 3 октября 1975
На Валааме, как я уже писал, правит и царствует игумен Симфориан, восемьдесят шесть лет, в монастыре с тринадцатилетнего возраста. Ревностно, почти фанатически и уж во всяком случае героически "хранит предание". Что же это за предание: общий стиль – та мешанина благочестивых, но и безвкусных олеографий, плохих и хороших икон, что присуща русскому православию второй половины XIXв. Семь часов богослужения подряд, начиная в три часа утра с молебна(!). Убежденный "мужицкий стиль". Разговаривая с о.Симфорианом, чувствуешь, что этот стиль для него (как и для десятков тысяч валаамских монахов до него) – органичен, спасителен, что он действительно давал святых. Но столь же очевидно, что продолжать его невозможно, что с исчезновением "последних могикан" он делается искусственным, "реставраторским", какой-то надрывной игрой, – и именно эту трагедию я особенно ясно ощущал на Валааме. Обрыв традиции внешней (революция, иссякновение этого "мужицкого" монашества и т.д.) породил в Православии вот именно этот надрывный, "реставраторский" пафос – им с самого начала была пронизана эмиграция, он – на Валааме, на Афоне, всюду… То, что было органическим стилем, становится стилизацией, духовно бессильной, калечащей людей (самоубийство молодого монаха на Валааме, брак другого…). Тут сейчас главная проблема Православия: его скованность "стилем", неспособность этот стиль пересмотреть. Трагическое отсутствие в Православии самокритики, проверки "преданий старцев" Преданием, в конце концов – любви к Истине. Усиливающееся идолопоклонство.
Понедельник, 6 октября 1975
В субботу – Education Day Огромное скопление народа. Чудная погода, удача. На ногах одиннадцать часов, но зато радостное чувство реальной церковной жизни, единства. Вчера – Литургия в переполненном храме, крестины маленькой А.Д. Днем писал скрипты, а потом занимался уборкой страшных завалов в письменном столе. Вхождение в зимний рабочий ритм, в который, из-за поездки в Финляндию, все еще не удавалось войти.
Острое желание засесть за работу. Особенно после нескольких разговоров на Education Day. Одна молодая женщина, абсолютно мне незнакомая: "Я хотела Вам написать по прочтении Of Water and the Spirit чтобы сказать, что Ваша книга ответила на все мои вопросы…" Это моя мечта – писать для людей, а не для богословов. И когда узнаешь, что это удается, – большая радость.
Сегодня Льяне – пятьдесят два года. Все еще совсем зелено. И стоит прозрачное "бабье лето".
Вторник, 7 октября 1975
Только что получил от Никиты "Письмо из Америки" Солженицына и ответ самого Никиты. Еще раз поражаюсь, прежде всего, ограниченности (отчасти – "толстовской") этого письма. Ответ Никиты очень достойный и спокойный.
Четверг, 9 октября 1975
Вчера почти весь день в Syosset – празднование преп. Сергия, малый синод и т.д. Вечер с о.Кириллом Фотиевым и Л. в ресторане. Утомительный день, когда физически ощущаешь les ravages
[519] внешней суеты, "деятельности". Разговор по телефону с Никитой о том, как реагировать на "Письмо из Америки" Солженицына. Во мне все время идет "парасознательный" процесс разработки или, вернее, созревания такого ответа – на глубине. Основные (уже созревшие) части этой "симфонии":
– если бы автором "Письма из Америки" не был автор "ГУЛага" и "Августа 14-го", на это письмо можно было бы вообще не отвечать;
– но автор – Солженицын, и это требует разбора;
– русские писатели и Церковь (Гоголь, Толстой…); Церковь – какой "кризис" их творчества…
– "Православие выше нации"… Да нет, не в этом дело – иноприродно…
– в чем настоящая трагедия старообрядчества… и "украинства".
Пятница, 10 октября 1975
Нобелевская премия мира Сахарову. Вчера вечером лекция о Солж.[еницыне] в Wappingers Falls. Думал, что после его несчастного "Письма из Америки" будет трудно говорить о нем. Но было легко и даже как-то вдохновенно. Много народу. Какие-то старенькие русские.
Вчера днем – прием, одного за другим, новых студентов. Впечатление хорошее, но вместе с тем и чувство огромной ответственности: вся опасность "религии" и "религиозности". Подлинность зова и легкость идолопоклонства, с одной стороны, чистой эмоциональности – с другой…
Вторник, 14 октября 1975
Работа эти дни, урывками, над ответом на письмо Солженицына. Пиша, сомневаюсь – стоит ли? А потом сомневаюсь о сомнениях – не от малодушия ли, даже страха? Нужно ли это, полезно ли? Решил все-таки написать и отправить Никите – пусть он решает…
Прочел присланные мне воспоминания Зинаиды Шаховской. Прочел потому, что тема – литература, Париж 30-х годов – меня всегда интересует. Бунин, Штейгер, Адамович, Ходасевич. Книга, однако, "маленькая" и потому неинтересная
"Новый Журнал" (120): решительно читать нечего, книга валится из рук.
Четверг, 16 октября 1975
Кончина вчера вечером Сони Лопухиной.
Работа над Солженицыным. Удивительно, как, по мере писания, у меня всегда мучительно медленного, углубляется, да и попросту меняется та первоначальная "интуиция", с которой все началось. Казалось, хотел написать одно, а пишешь если не совсем другое, то все же что-то неизмеримо – для себя хотя бы – более глубокое и – опять-таки для себя – удовлетворительное…
Мне [прислали] только что вышедшего солженицынского "Ленина в Цюрихе". Вспоминаю мой разговор с С.[олженицыным] – "Я сам – Ленин…".
Статья, которую я пишу, привела меня к убеждению, что в старообрядчестве или, вернее, в странной одержимости С.[олженицына] старообрядчеством нужно искать ключ если не ко всему его творчеству, то во всяком случае ко многому в нем – и прежде всего к интуиции и восприятию его главного "героя", то есть России.
Но это не просто увлечение "стариной", не романтическое притяжение к "древности". Тут все гораздо глубже и, может быть, даже духовно страшнее. Солженицын, мне кажется, предельно одинокий человек. Каждая связь, каждое сближение его очень быстро начинает тяготить, раздражать, он рвет их с какой-то злой радостью. Он один – с Россией, но потому и Россия, с которой он наедине, не может быть ничьей . Он выбирает ту, которой в буквальном смысле нет , которая, как и он, была изгнана из России, отчуждена от нее, но которая, поэтому, может быть всецело его , солженицынской Россией, которую он один – без никого – может и должен воскресить . Россия оборвалась в крови и "гарях" старообрядчества и Россия начинается снова с него, Солженицына. Это предельное, небывалое сочетание радикального "антиисторизма" со столь же радикальной верой в собственную "историчность"… Толстой переписывал Евангелие, Солженицын "переписывает" Россию.
Пятница, 17 октября 1975
Читаю с захватывающим интересом солженицынского "Ленина в Цюрихе". Напор, ритм, бесконечный, какой-то торжествующий талант в каждой строчке, действительно нельзя оторваться. Но тут же почти с каким-то мистическим ужасом вспоминаю слова Солженицына – мне, в прошлом году, в Цюрихе – о том, что он, Солженицын, в романе – не только Саня, не только Воротынцев, но прежде всего – сам Ленин. Это описание изнутри потому так потрясающе живо, что это "изнутри" – самого Солженицына. Читая, отмечаю карандашом места – об отношении к людям (и как они должны выпадать из жизни, когда исполнили свою функцию), о времени, о целеустремленности и буквально ахаю… Эта книга написана "близнецом", и написана с каким-то трагическим восхищением. Одиночество и "ярость" Ленина. Одиночество и "ярость" Солженицына. Борьба как содержание – единственное! – всей жизни. Безостановочное обращение к врагу. Безбытность. Порабощенность своей судьбой, своим делом. Подчиненность тактики – стратегии. Тональность души… Повторяю – страшно…
Вчера вечером – на панихиде по Соне Лопухиной в Наяке. Может быть, потому, что я всегда чувствую себя не по себе, self-conscious
[520], отчужденно – в карловацкой церкви (священник и диакон даже не кланяются…), но отчуждение чувствую по отношению ко всему типично русскому "уюту" храма, к русскому благочестию, в котором мне всегда чудится какое-то тупое самодовольство, полное отсутствие какого бы то ни было беспокойства, вопрошания, сомнения. И служат, и поют хорошо, ничего не скажешь. Но чувство такое, что так же хорошо, с такой же твердокаменной уверенностью и убежденностью в своей "правоте" пели бы что угодно, только бы было это "традиционно". Вынь одно слово, один жест – и
рухнет все , не останется ничего. Русский либо принимает, как раб, либо, как раб же, отвергает. Слепо, тупо и потому "идолопоклоннически". После панихиды священник объявляет: "Завтра вечером – заупокойная вечерня(?), заупокойная утреня(?) и после,
конечно , панихида…" Вот поди спроси его – в чем смысл этого нагромождения, чем панихида отличается от "заупокойной" утрени и что такое "заупокойная вечерня", и он не поймет, в чем вопрос, и, главное, в нем увидит сразу же "ниспровержение" устоев. Нет – все должно быть массивно, слепо, "по чину", в этом успокоительное действие религии. Стоишь в каком-то одиночестве с чувством: если бы "раскрылось" в своем смысле хоть одно слово всего этого, "все это" эти же люди с ужасом отвергли бы. Вот почему так боялись старообрядцы "книжной справы": в сущности, от безверия. В расколе – меньше всего Христа. Чтобы найти Христа, русский человек выходит из Церкви в "секту", но очень скоро и ее превращает в "старообрядчество"… Скажут: но это от неустранимого "социального" характера религии. Конечно – и неустранимого, и в глубине своем и положительного. Однако именно для того, чтобы это "социальное" не утопило в себе религии, в центре Церкви оставлена
Евхаристия , весь смысл которой в том, чтобы все время все изнутри
взрывать – относя не просто к "трансцендентному", его-то сколько угодно и в "социальном", а ко Христу и Его Царству. А потому не случайно, конечно, и то, что для того, чтобы ее
обезвредить , ее сначала свели к личному освящению и подчинили личному благочестию, а потом
отделили даже и от этого благочестия.
Понедельник, 20 октября 1975
Кончил в субботу "Ленина в Цюрихе" и не могу отделаться от впечатления, что Солженицын захвачен – не ленинизмом, конечно, а ленинством, то есть целостностью и эффективностью ленинского "метода"…
В пятницу вечером у Трубецких в Syosset'e с Губяками – уютно, семейно и весело.
В субботу – отпевание Сони [Лопухиной]. Мучительная длина службы, мучительная именно "буквоедством" и аритмичностью… Все без исключения "паки и паки"…, все "выпеванье" и "вычитыванье". Очень светлая проповедь о.Виктора Потапова.
Потом тревога по поводу Миши Бутенева: в госпиталь Lawrence, опасение инфаркта. Но все обходится благополучно.
Вечером в субботу же ужин у Peter'a Berger'a, в Бруклине. Robert Nesbith… Знакомая уже мне атмосфера американской интеллектуальной элиты, только на этот раз – "консервативной".
Вчера весь день дома: скрипты, а потом "антистарообрядческая" статья о солженицынском "Письме из Америки".
Три дня бури, проливных дождей, низкого серого неба.
Washington. Вторник, 21 октября 1975
Пишу в 12 ч. ночи в [гостинице] Shoreham Americana Hotel, после ухода Мити Григорьева. Прилетел в Вашингтон в одиннадцать часов утра и большую часть после-обеда провел у Поливановых, с которыми так давно не общался "по-человечески". В них обоих, особенно же, конечно, в Оле, ценю совершенно бескорыстную и потому глубокую, действительно "навеки" – дружбу, основной признак и выражение которой всегда вижу в том, что просто
хорошо с людьми, что-то от "добро нам здесь быти"
[521]… В 5.30 с ними же еду к Григорьевым. Ужин – скорый, ибо нужно ехать на лекцию в греческий собор. Лекция прошла – несмотря на усталость и сильную простуду – очень хорошо, горячая "реакция" (это – о крещении..). Наконец, уже около одиннадцати часов, сюда – в отель с о.Д., дал ему прочитать "Письмо из Америки" Солженицына и свой ответ…
Crestwood. Среда, 22 октября 1975
Breakfast в отеле с о.B.S. – хотел обсудить со мной какие-то личные "проблемы". После breakfast'a B.S. везет меня на аэродром. Изумительное солнечное утро. Деревья все ярко-желтые, ярко-красные – и на фоне них ослепительно белые вашингтонские памятники.
А на глубине сознания, почти в подсознании – непрекращающийся спор с Солженицыным, словно весь смысл того, что с ним происходит, – в нашем с ним "единоборстве", что именно нам – мне и ему – суждено столкнуться на "узкой дорожке". Словно для меня это вопрос "экзистенциальный" – ошибся ли я в том, что я в нем услышал ("триединая интуиция", "зрячая любовь"…"), или нет…
Пятница, 24 октября 1975
Сегодня утром – ранняя Литургия, лекции – и опять встречи, разговоры, чужие заботы, чужие дела, груда писем. При этом – дичайшая простуда. И действительно золотая, солнечно застывшая осень кругом.
Понедельник, 27 октября 1975
Вся суббота – в тяжелых беседах: с N., пойманном на наркотиках, с Е., "ненавидящей" своего мужа, и т.д. Уныние от всего этого, от той "постыдной лужи", в которой "Твой День Четвертый отражен"
[522]… И снова и снова убеждение в страшной, демонической двусмысленности религии и так называемого "религиозного опыта". Мне иногда кажется до ужаса очевидным, что все то в "религии", что не от Христа, не в Нем, не через Него и не к Нему, – все от дьявола. По Евангелию от Иоанна, Дух Святой "егда приидет, известит мир о
грехе …"
[523]. Грех же в том, что не веруют во Христа. Поэтому греховно грехом называть что-либо иное: грех – это не "претворить" религию в знание, любовь и жизнь Христовы…
И вдруг – среди этих тяжелых разговоров – утешение: маленькая девочка, 10лет, из России, которую я крестил вчера после Литургии и которую видел несколько минут в субботу. Прикосновение Святого Духа – Его красоты, чистоты, любви, опыт любви Божьей. Даже как-то страшно стало от этого опыта: словно прикоснулся к чему-то избранному.
После крестин – завтрак у Рожанковских. Старые друзья: Катя Лодыженская, Таня Терентьева – наше "нью-йоркское" прошлое…
Все после-обеда над статьей о Солженицыне, точнее – об его "старообрядческом соблазне".
Чувствую какую-то нехорошую, недобрую усталость. Нехорошую потому, что от уныния, от желания убежать от всех этих страстишек, от всего этого бурления мутной воды, в котором плаваю столько лет. "Давно, усталый раб, замыслил я побег…"
[524]. А от этого замысла, от соблазна и искушения им – усталость…
Вторник, 28 октября 1975
Завтрак сегодня (в испанском ресторане Segovia) с двумя советскими искусствоведами Владимиром и Натальей Тетерятниковыми (она из музея Андрея Рублева в Андрониковском монастыре в Москве). Впечатление очень симпатичное и светлое. С нами завтракал и о.К.Фотиев.
Весь день вчера в мучительном разборе "дела наркотиков" в семинарии. Предельное омерзение и усталость от этих разговоров, не столько от самого "греха" или "преступления", сколько от ханжеской и липкой жижи, которой все это неизменно покрыто в "религиозном" учреждении. Идя сегодня утром на станцию, играл с мыслью написать книгу – "Письма о религии", что значит, конечно, о торжествующей кругом, для меня все более и более невыносимой "псевдорелигии". Вся эта восторженная и пустозвонная возня с "духовностью", "умным деланием", "православием", "паламизмом", вся игра в религию, начиная с самого богословия, – наступает момент, когда все это просто давит унынием. Моя интуиция в "For the Life of the World" правильная – Христа отвергла и распяла именно "религия", которая есть единственный настоящий грех, единственное настоящее зло – "отец ваш дьявол…"
[525].
Длинный разговор с Тетерятниковым о старообрядчестве, о культуре которого он написал книгу. Замечание его жены: "У нас в Москве все – такие славянофилы!" И все это опять выдается за "религиозное возрождение".
Четверг, 30 октября 1975
Мучительно суетные дни в семинарии. Кризис достиг своего предела. Вчера – двухчасовой разговор с С.М. Что делать с таким отчаянием? И что тут может "академическое богословие"? Я убежден, что глубокая причина нашего кризиса именно тут: в несоответствии между тем,
о чем и
в чем христианство, и этой гладкой, немецкой, самодовольной "академичностью". Реакция о.И.М.: "Не нужно преувеличивать…" Реакция К.: "Нужно снова завести student council
[526]…". И главное, главное – болтать и обсуждать…
Удивительно, однако, то, что – несмотря на этот кризис, возню и разговоры – чувствую спокойствие. Может быть, потому, что такой кризис волей-неволей выбивает из той липкой фальши, в которой большей частью живешь и которая одна по-настоящему и выматывает душу.
Только что пришел Том, принес первое "покаяние". N. пишет: "Да, педераст, да, наркотики, но хочу каяться…"
Утешение: звонок от Алеши Виноградова: "Хочешь, я приеду сидеть, отвечать на телефоны и оберегать твой покой…"
После влажной жары этих дней – ясная, холодная осень.
"И радости вашей никто не отнимет от вас…"
[527].
Пятница, 31 октября 1975
Вчера весь день почти дома один. Но… с одиннадцати до часу – М.М., а с десяти до часуночи – С.М. И здесь, и там мучительно длинные разговоры с людьми, единственная трагедия и страдание которых – в их страшной заключенности в себе…
В шесть часов – отвез Л. на [аэропорт] La Guardia, она едет на weekend в Монреаль [к дочери Маше].
Писал статью о Солженицыне и скрипты. Слушал "рапорты" о семинарской буре (Том, Давид, о.К.С.).
Суббота, 1 ноября 1975
Ноябрь, и сразу же другой становится "окраска" зрения, другим – чувство жизни. Эти ощущения месяцев, конечно, из детства. Ноябрь – в парижском детстве – начинается с Toussaint (мое "первое" и чуть ли не единственное стихотворение, написанное за партой Lycee Carnot, было о Toussaint: "Сегодня на кладбище много цветов", дальше, хоть убей, ничего не помню), потом движется к Armistice
[528] и, наконец, начинает подъем к уже предрождественскому декабрю. Ноябрь я ощущаю черно-серебряным, горестным, тихим. За осенью-праздником (октябрь) – это "поздняя" осень, но со своей совсем особой "тайной радостью", своими дарами – душе.
Пишу это, сидя один за только что и не без труда убранным и разобранным письменным столом. Л. в Монреале, сам я через два часа улетаю в Торонто. А это как бы передышка. Вчера почти весь день в семинарии, где после взрыва среды психологически нужно быстро начинать "реконструкцию". Мучительные, сумасшедшие телефоны от матушки Х. – теперь в ней "воплотилась" Церковь!
"Проблема" М., "проблема" С., "проблема" А., "проблема" С.М., "проблема" матушки Х.: как им дать понять, что никаких "рецептов" и "решений" у меня нет, что это мучительное искание "помощи" есть вид бегства от себя, от жизни, от совести, от решения.
Думая вчера о длиннейшем последнем разговоре с С.М., мне показалось, что, может быть, схему "внутреннего устроения" можно было бы представить в некоей опять-таки "триединой" интуиции, в постоянном хранении даже не сознанием, а именно нутром, душой следующих "отнесенностей":
"Космическая" – это само чувство
жизни hinc et nun
[529], это хранение душой общения с космосом: природа, "это" время, свет, сам во всем этом. Это обратное – отделению, отчужденности, изоляции. Мир – как постоянно даруемый и постоянно принимаемый дар. Благодарность. Радость. И в этом смысле – сама жизнь как молитва.
"Историческая". Это – внутренняя отнесенность к своему
делу, месту, призванию ; это послушание, смирение, готовность, знание опасности, искушений, борьбы, "блюдите како опасно ходите"
[530]. Тут молитва о помощи, молитва-экзорцизм, молитва-прояснение ("дай силу принять…").
И, наконец, "эсхатологическая". Отнесенность к последнему, к взыскуемому и ожидаемому: "Да приидет Царствие Твое…"
Мне думается, что если суметь действительно жить этим "триединством", то в нем и разрешение "проблем", которые все – либо от выпадения одной из "отнесенностей", либо от их "извращения". Но если вера наша – космична, исторична и эсхатологична, то таковой же должна быть и наша "духовность". Соединяет же эти три в одно Христос , ибо "отнесенность" и есть "узнавание" в каждом из этих даров Христа, "модуса" Его явления нам и пребывания с нами. Все почувствовать, принять и пережить как Его икону (символ, знак). "Удостоверяется" же это все Евхаристией (то есть Церковью).
Все же это возможно потому, что так оно и есть.
Понедельник, 3 ноября 1975
Два дня в Торонто. В гостях у Г.П. Игнатьева, бывшего канадского посланника в ООН (во время "шестидневной войны"). Лекция англиканам, всенощная в нашей церкви, вечер у камина с Игнатьевыми (maximum англо-саксонского, старомодного уюта). Вчера, в воскресенье, – обедня и лекция о патриархе Тихоне. Встречи, разговоры, усталость…
Эти дни читал и кончил Edgar Morin "Journal de Californie"
[531]. Трудно было, ввиду нашего семинарского кризиса, попасть на более revealing book
[532]. Интеллигент (западный, левый и т.д.) en extase
[533] перед hippies
[534], наркотиками, communes
[535] и т.п. Ужас от этого легкомыслия и вместе с тем – страстной жажды поверить во
что-нибудь , отдаться
чему-нибудь , а также от этого parti-pris: "все что угодно, но только не христианство".
Страшная усталость от всего этого, от борьбы – с чем? – с какой-то дьявольской мутью, заволакивающей мир и – это страшнее всего – религию.
Вторник, 4 ноября 1975
Длинный, длинный день в семинарии. Но вечером – лекция о чеховском "Архиерее", как какое-то внутреннее освобождение и очищение: поразительная музыка этого рассказа, которую я и пытался дать почувствовать; эти темы – матери и детства, Страстной – на фоне оо. Сысоев и Демьянов Змеевадцев, все это такое высокое, такое чистое искусство, и в нем больше о какой-то внутренней сущности христианства и Православия, чем в богословских триумфалистических определениях. Тайна христианства: красота поражения, освобождение от успеха. "Скрыл сие от премудрых…"
[536]. Все в этом рассказе – поражение, и весь он светится необъяснимой, таинственной победой: "Ныне прославился Сын Человеческий…"
[537].
Вот почему богословие в отрыве от культуры, которая это (красоту поражения, свет победы в ней) одна может явить – ибо это неопределимо, так часто теряет свою соль и становится пустыми словами…
Плохо спал. Странные сны. Нервная усталость. Но на пути в семинарию рано утром: такое высокое, бледно-бледно-голубое небо. И все становится на свои места.
Среда, 5 ноября 1975
Сегодня приезжает мама. Андрей по телефону сказал вчера, что она в "неважном виде". Как хотелось бы, чтобы ее прощальное пребывание здесь было благополучным и светлым.
Заседание вчера faculty о нашем кризисе. Неожиданная поддержка. Причина, однако, простая: студентам "понравилось" то, что я говорил в прошлую среду, и они это "приняли"… Значит, и я был прав! А вот что было бы, если бы студенты были "недовольны"? Тогда, очевидно, неверным оказалось бы и то, что я говорил. Это и есть либерализм американских "академиков". Критерий – не моральный, критерий – как принимают это студенты! Осадок от всего этого.
Вечером вчера ужин у Кишковских в Sea-Cliff'e с Шуматовой, Трубецкими, К.Фотиевым и Клеонскими – художник из России, написавший, по-моему, довольно замечательный портрет Митрополита. Уже знакомая "тональность" разговора с интеллигентами (евреями) "оттуда". Как правило, женщины мне больше нравятся, чем мужчины. Что-то в них – в женщинах – есть от легендарных "русских женщин", тогда как мужчины все же предельно эгоцентричны, "пыжатся" – драма мира всякий раз, между советским режимом и каждым из них. И каждый об этой драме должен написать свою книгу…
На пути в Sea-Cliff заехал исполнить свой "гражданский долг" – проголосовать.
Четверг, 6 ноября 1975
Приезд вчера мамы. Аэроплан опаздывал, и мы с [дочерью] Анюшей провели часа полтора, гуляя по полупустым просторам Arrivals Building на Kennedy Airport
[538]. Я всегда особенно сильно ощущаю и переживаю эти часы ожидания, часы, которые, с одной стороны, как бы выпадают из жизни и ее ритма ("потеря времени"), а с другой стороны – лучше, чем что-либо другое, являющие тайную сущность времени: времени, отмеряемого вперед (ожидание), а не назад, времени, уже озаренного предвосхищением, освещенного спереди…
Весь вечер с мамой, которая приехала, по-моему, в лучшем виде, чем можно было ожидать со слов Андрея. Но, конечно, старость сказывается: забывает слова, повторяется и т.д. Все радуется на действительно изумительную погоду, на золото листвы, блаженствующей в солнечном свете.
Суббота, 8 ноября 1975
Смешно, как эта тетрадка, то есть "общение" с нею, становится постепенно потребностью. Мне, в сущности, нечего записывать сейчас: волнения: болезнь Сережиных детей, привычные и обычные трудности с мамой и с ее характером; семинарские дела, деловой завтрак вчера с Lutge, разговор с влад.[ыкой] Димитрием, все то, что буквально "съело" эти дни, все это записывать не только не стоит, а и невозможно. Поэтому тетрадка на деле есть, конечно,
бегство от всего этого, необходимость хоть немного "отрешиться" и прикоснуться к чему-то более глубокому в самом себе. Однако и прикосновение это не опишешь: оно все из "прорывов-прикосновений" – к времени, к тому мимолетному, незаметному, молчаливому, в чем одном по-настоящему и ощущаешь дыхание вечности в "мире сем". Нельзя же каждый день писать о соотношении обнажающихся золотых деревьев с небом, о падающих листьях, обо всем том, что дано нам, я убежден, как призыв к отрешению и как его возможность. "Rien n'est vrai que le balancement des branches noires dans le ciel d'hiver"
[539] – так или почти так это же выразил Julien Green. L'exteriorite des choses operant l'interiorite de la vie
[540]… Записанное превращается в ненужную и дешевую "лирику". Но речь не о ней и не в ней дело…
Завтра отъезд в Cleveland на Собор. Пугающая перспектива четырех дней напряжения, растворенности в этом огромном, бесформенном теле и ответственности за "форму", за то, чтобы еще раз "удалось".
Набираться глубины, вот этой самой отрешенности, отнесенности, молитвы не словами и поклонами, а вниманием всего существа: зрением, слухом, подспудным знанием присутствия.
Cleveland. Понедельник, 10 ноября 1975
В отеле Sheraton в 7.30 утра, перед открытием Собора. Приехал вчера днем и сразу же попал в привычную атмосферу, которую и определить-то по-настоящему трудно, но которая, в той или иной степени, всегда налицо. Атмосфера, составляющая гегельянский "тезис" моего отношения к Церкви – то есть некое отчаяние . Бездарный, трусливый епископат, чувствующий себя, в сущности, чужим на соборе своей собственной Церкви. Столь же [растерянный] митрополичий совет: уже вчера же вечером я сцепился с его членами, которые дальше "обсуждения финансов" ничего не видят. Я знаю, что это "тезис", что будет "антитезис" и "синтез", но сейчас – за час до открытия Собора – со всей силой ощущаю "тезис".
Вторник, 11 ноября 1975
Второй день чудовищного "соборного" напряжения. Но сегодняшняя Литургия (которую я служил с 6священниками) была одной сплошной радостью и светом, подлинным "Господи, хорошо нам здесь быти…"
[541]. Буквально сотни причастников, весь Собор… Боже мой, как далеки мы от моего первого Собора в 1975г.: на Литургии присутствовало пять-шестьчеловек, остальные двести сплетничали в подвале собора на 2-й улице. Какая изумительная перемена!
Только что завтракал с проф. Т. из Сеаттла, нашим guest speaker'ом
[542] сегодня вечером. Милый, умный и тонкий человек.
Все же твердо решил не баллотироваться в митрополичий совет и сделать un bain d'opposition
[543]. Владыки слишком привыкли к тому, что я своего рода rubber stamp
[544] на их решениях…
Среда, 12 ноября 1975
Весь день вчера в заседаниях, разговорах, встречах. Вечером бесконечный банкет с речью в конце (около 11.30!) бедного Т. – очень глубокой и удачной: о призвании Православия в post-Christian America
[545].
Очень уютно живем с Сережей, вполне вошедшим в атмосферу Собора.
Наверное, постарел и помудрел: внутри – невозмутимое спокойствие, тишина и отрешенность. Даже когда "ору".
Прошелся опять по городу: утренняя будничная городская суета. Огромное озеро. Осеннее небо.
Четверг, 13 ноября 1975
Перед "началом конца", то есть последнего заседания Собора. После этих четырех дней непрерывной суматохи – все же радостное чувство жизни и жизненности Церкви и, главное, способности ее от рассуждений почти исключительно о форме (администрация, устав, деньги) перейти – что она и сделала на этом Соборе – к
содержанию . Удивительна серьезность, с которой эти люди говорили о "моральных проблемах". Три "мира" внутри Собора – безнадежно отчужденный епископат, безнадежно устаревшая группа "крикунов", разыгрывающая из себя "оппозицию", и творческое и церковное большинство, выражающее – плохо ли, хорошо ли – именно саму Церковь. Никогда не оставляющее меня удивление перед Америкой: вчера в десять минут ex promptu
[546] собрали шестнадцать тысяч долларов! И с каким энтузиазмом!
И все же твердо решил сам переходить в некую оппозицию, то есть уйти и из митрополичьего совета, и из администрации, ибо убежден в спешной необходимости прояснения тупика, в который зашел и все больше заходит наш епископат – в своем недоверии к Церкви. А быть вечной "заплатой" на этой подспудной трагедии я считаю не только ненужным, но и вредным.
Crestwood. Пятница, 14 ноября 1975
Уф! Самому еще не верится – но, действительно, отказался от номинации и – в принципе – свободен ! Сначала была даже какая-то грусть от освобождения, о котором я так мечтал, особенно пока вокруг была еще атмосфера
Собора, – так я привык быть "в сферах", "у власти", "в центре". Все это проклинал, а вот вдруг оказаться вне всего этого и ехать домой "рядовым" показалось даже трудным. Но эта грусть (может быть, укол самолюбия – что не удерживали, не просили…) была все же мимолетной. Уже в аэроплане, во время полета в Нью-Йорк, с Давидом Д.[риллоком] и Эриксоном, пришла радость от этого нового, именно "рядового" положения… Вечером звонок от Губяка: на митрополичьем совете забаллотировали в качестве второго представителя в церковной администрации о.И. Сквира… Иными словами – начало того, чего я хотел… Увидим, как все это повернется.
Приехал домой вчера страшно усталым. Рассказы мамы о посещении ею Шишковых. Рассказ Л. о событиях в ее школе: поразителен ее такт, благородство, "правда" того, как она поступает. Вечером в десять часов – из последних сил: общая исповедь…
Сегодня (св. Филиппа, преддверие Рождественского поста) – ранняя Литургия. Мама приобщалась. Служа, урывками думал: в церкви мама, то есть все мое детство, и все заключено в некий круг…
Случайно нашел сегодня в парижском "Круге" (III) стихи Ставрова, которые почему-то так часто "сверлят" мое сознание:
Нет, не о том… стучали поезда,
В дрожащей синеве коростели свистели,
Высоким полднем плавились года
И месяцы скользили, как недели…
Думаю, что вот этот "высокий полдень" и живет в моей памяти, ибо соответствует самому глубокому и невыразимому в моем ощущении жизни, времени, мира.
Там же, в "Круге", цитата из св. Терезы: "…et pourtant l'ame semble reellement dans un etat ou elle ne recoit aucune consolation, ni du ciel qu'elle n'habite pas encore, ni de la terre qu'elle n'habite plus et d'ou elle ne veut pas en recevoir…"
[547].
Понедельник, 17 ноября 1975
Вчера и в субботу в Монреале: панихида по патр. Тихону и лекция о нем в субботу после всенощной. Две проповеди вчера – на ранней, английской Литургии и на поздней, архиерейской. В Монреале уже снег и мороз. Вернулся домой в 4.30 и весь вечер стучал письмо архиереям, объясняющее мою отставку. Поздно вечером звонок из Виннипега от несчастного митрополита Владимира. Вот и попробуй уйди от всей этой "эмпирии" церковной жизни.
Как всегда, отдохновительные и радостные "пробелы" одиночества – на аэродромах, в аэроплане.
В пятницу днем, сидя с мамой вдвоем дома, ставил ей пластинку Christmas carols: "Joy to the World", "O Little Town of Bethlehem"
[548] и др. Почему всякий раз, что слушаю это, – почти слезы? Сентиментальность, эмоции или же один из тех push buttons
[549], через которые совершаются "прикосновения мирам иным"
[550]?
Читаю Malraux, "Hotes de Passage"
[551]. И сколь ни чужд мне этот ключ "героизма", этот культ Истории в истории, эта непрерывно нажатая педаль, читая – как бы очищаюсь от суеты и мелочности "церковных интриг", в которых приходится жить и которым и вольно, и невольно все время уступаешь душу.
Пишу все это в семинарии, в мой обычный "тихий час" – от восьми до девяти утра. И физически ощущаю, как наваливается тяжесть длинной, суетной и мутной недели. Мутной потому, что все дела, которыми придется заниматься, – не совсем ясные, двусмысленные, почти безнадежно неразрешимые…
Вторник, 18 ноября 1975
Как я и предполагал, вышел сумбурный и беспорядочный день, сотрясаемый и разрушаемый телефонами (из Сан-Франциско, из Виннипега, из Монреаля и сколько еще!), встречами, разговорами… Вечером лекция о "Письме" Чехова ("наказующие найдутся, ты бы милующих поискал…") – как маленькая отдушина. Страшная от всего этого душевная усталость и "разоренность".
"Tout ce qui se montre est une vision de l'invisible" (Anaxagore)
[552].
"Quand il s'agit de la pensee, constater la betise de la gauche n'est pas une raison pour trouver la droite intelligente". Malraux, p.167[
[553]].
Понедельник, 24 ноября 1975
Почти неделю не брался за эту тетрадку: присутствие мамы дома создает напряженную атмосферу, которую нужно все время "разряжать", и на это уходит масса душевных сил.
Урывками пишу свою статью о Солженицыне, которой, в основном, доволен. Написал письмо "владыкам". Но все именно урывками, и как-то не знаешь, куда собственно утекает время. Завал неотвеченных писем, еще более мучительный завал планов: "Литургия", к которой не прикасался уже много недель, и т.д. На этой неделе – перерыв Thanksgiving, и уже кажутся бесконечными два оставшихся рабочих дня.
Четверг, 27 ноября 1975
Thanksgiving Day. С утра дождь, темно – и так хорошо дома в тишине. Днем family reunion
[554] у Ани. Индюшка. Потом – по традиции – короткий заезд к Рузвельту, в Hyde Park. Красный закат за черными ветками над огромным Гудзоном.
Pittsfield, Mass. Суббота, 29 ноября 1975
У Бобровских в Питсфильде, куда приехал служить завтра и "беседовать" с заснувшим, полумертвым приходом. Длинная одинокая поездка по зимнему, совсем пустому [шоссе] Taconic Parkway. Уютный ужин, две чудные девочки. Как часто можно любоваться людьми!
Понедельник, 1 декабря 1975
Возвращаясь вчера из Питсфильда, после Литургии и "беседы" с прихожанами, думал о той "псевдоморфозе" Православия, трагическим примером и выражением которой является питсфильдский приход. Основан в 1905г. – галичанами и карпатороссами. На старых фотографиях – огромные хоры в кокошниках и запястьях, грамоты от архиереев по стенам и т.д. Но при этом всем очевидно, что никто ни разу за эти семьдесят лет не подумал о душах этих людей, о содержании веры. Им говорили и говорили: "Храните и оберегайте". И вот они сохранили: Литургию поют шесть престарелых людей, поют по-славянски, с ужасным выговором, явно не понимая
ни слова (но сохранили!). Апостол по-славянски, а вернее – только одно рычание basso profundo до конечного, сотрясающего стекла вопля. Потом на собрании – явление такого потрясающего, убийственного невежества! Пустая форма, верность – чему? Детству, родине, identity
[555] в пустыне американского плюрализма? Какая-то сравнительно молодая женщина яростно, с пеной у рта защищает старый стиль: опять "верность". И Бобровские, умилительно старающиеся что-то сделать в этом стропроцентном одичании. Но вопрос, сверлящий в голове, –
что можно сделать? Можно ли в эти старые меха влить новое вино? И все же такое чувство, что не зря стояла семьдесят лет эта беленькая церковь с куполом, что она как бы ждет чего-то… Сколько литургий было отслужено на этом престоле, сколько, пускай и слепой, верности вложено в "сохранение" этого. Словно, сами того не зная, люди сохранили то Таинство, и это значит – Присутствие…
Все это думал, катясь через пустынные "холмы и долы" пасмурным, сухим, печальным воскресным днем. Думал и о том, что вся жизнь в Церкви – одно сплошное "выучивание" в себе веры в благодать, "всегда немощная врачующей и оскудевающая восполняющей…".
Сегодня в семинарии – dean's conference
[556]. Отвечая на вопросы, еще раз так ясно осознал две главные опасности: богословие, искушаемое рационализмом, словесностью, гладкими схемами, и благочестие, искушаемое эмоциональностью и сентиментализмом.
Вторник, 2 декабря 1975
Разговор вчера по телефону с Машей Струве. Никита в Цюрихе. Говорим о Ленине, она: "Никита считает, что слишком много списал с себя". Говорит, что Никита будет рад статье, что они оба "съежились" от первого – с апреля – телефона из Цюриха.
Статья вчера в New York Times – Солженицын о Киссинджере и Шлезингере. Все так и все не так… А вот поди объясни…
Письмо от вл. Сильвестра: "Недоразумение… просим Вас продолжать…" Не могу же я ему написать, что главное за всем этим – "покоя сердце просит".
Последние желтые листья. "Мороз и солнце"
[557]. Любимый мой серебряно-святочный, праздничный, торжественный декабрь.
Среда, 3 декабря 1975
Вчера после ужина у Сережи и Мани прочел им (и маме) свой ответ Солженицыну. В основном доволен, хотя всегда после такого усилия мелькает – стоило ли?
Сегодня с утра с мамой же, в Нью-Йорке, ясным, солнечным, почти морозным днем. Breakfast – по уже установившемуся обычаю – в [гостинице] Biltmore, где она меня ждет, пока я наговариваю скрипты в "Свободе". Потом в [больницу] Hospital for Special Surgery, где мне делают кардиограмму. Оттуда на такси – на Plaza и затем пешком до [ресторана]. Радость от ее удовольствия от всего этого. Все время мысль – все это в последний раз…
Пятница, 5 декабря 1975
Вчера вечером после крайне утомительного и тяжелого дня в семинарии, тяжелых разговоров и лекций – звонок Н.: нужно меня видеть спешно по поводу одного студента. Приходит. Разговариваем целый час. Мучительный осадок от этого бесконечного копания в грязи, невозможности из нее выбраться. Но главное в этом осадке – это все более пугающая меня двусмыслица той "любви к Церкви" и к "Православию", что приводит всех этих людей в семинарию. Мы действительно любим разные религии, или, вернее, они любят в Православии квинтэссенцию (может быть, последнюю в мире) именно – религии , то есть обряда, типикона, священности во всех ее проявлениях. Тогда как я с годами именно в "религии" вижу главную опасность для веры . Вера в Бога и в Христа – с одной стороны, "в религию" – с другой: совершенно разные опыты; поэтому современное "возвращение к религии" так и пугает меня, а именно оно – в основе наплыва к нам студентов, в двусмысленном "успехе" Православия. И хочется выйти на свежий воздух, увидеть небо и звезды, прикоснуться к живой жизни и в ней почувствовать Бога, а не в наркотической "священности".
Вчера послал Никите статью "Ответ Солженицыну".
Дома – напряжение от присутствия мамы. Не глубокое, не важное, но ввиду постоянной усталости Л. все же ощутимое. Сегодня месяц с ее приезда. Я понимаю и жалею обеих, чувствую, как вообще трудно жить в мире сем.
Ночью мороз. Огромное солнце. Евангелие: "Кто постыдится…"
[558].
Понедельник, 8 декабря 1975
Остался дома – пытаться разобраться в уже нестерпимой куче неотвеченных писем. Сегодня, моя голову, думал: ритм падшего мира –
Закон : это то, чем общество ограждает себя от разрушительного хаоса, созданного грехом и падением. В эпоху
закона все – и культура, и религия, и политика – в каком-то смысле служит закону и выражает его. Это "стиль" в искусстве, мораль в религии, иерархизм в обществе. Под "законом", таким образом, идет строительство, но потому, что он все-таки в основе своей "оградителен", он неизбежно вызывает противодействие не только "зла" и "греха" (преступления), но и неистребимой в человеке жажды "благодати": свободы, безграничности, духа… Закон (по ап. Павлу) вызывает неизбежно стремление преодолеть себя… Тогда начинается
кризис , опять-таки очевидный, прежде всего в религии, культуре, "политике". Это значит, что те самые силы, что порождены законом как
ограда и
ограждение от хаоса, они-то и начинают эту ограду отрицать и разрушать во имя того, что выше закона. Однако, потому что мир остается падшим, силам этим не дано ничего "создать", они остаются безблагодатными, двусмысленными и, даже направленные на
добро , оказываются разрушительными (социализм, Фрейд, "новое искусство" и т.д.). Поэтому кризис неизбежно приводит к царству нового (а вместе с тем и очень старого) закона, ибо как "закон", так и "противозаконие" при бесконечной изменчивости форм неизменны по существу. В "падшем" мире выхода из этого ритма, сублимации и преодоления его – нет и быть не может. Закон, таким образом, выражает правду "падшести", то есть правду о ней, и этим самым
прав . Кризис выражает правду искания, жажды свободы – и в этом его
правда . Правда
консерватизма (но этого-то как раз и не знают и не чувствуют консерваторы) – грустная, пессимистическая правда. Ибо это – знание греха, его разрушительности, его силы, знание того хаоса, что
за всякой оградой. Но к еще большей печали и трагедии приводит "радость" кризиса, ибо это ложная радость, которая принимает за "благодать" и "свободу" – лжеблагодать и лжесвободу. Консерватизм печален и тяжел, "революция" – ужасна и страшна, есть всегда Пятидесятница дьявола. Есть только
один кризис – благой и спасительный. Это – Христос, потому что только из этого кризиса льется благодать и свобода. В Нем исполнен Закон, но исполнена и Революция… Однако потому-то и так ужасно, когда само христианство отяжелевает в закон или претворяется в революцию. Ибо в том-то и весь смысл его, что оно выход ввысь из самого этого ритма. Оно есть возможность жить правдой революции внутри закона (то есть "падшего мира") и правдой закона (отражающего в падшем мире
строй бытия) внутри революции. Ибо как закон – "во имя" той правды, которой живет революция, так и революция – "во имя" той правды, которой бессильно живет закон… Христианство, таким образом, – их совпадение, coincidentia oppositorum
[559], и этот "синтез" закона и революции, исполненность их друг в друге – это и есть Царство Божие,
сама правда,
сама истина,
сама красота, ибо Жизнь и Дух…
Мне кажется, что тут ключ к христианскому восприятию культуры, политики, да, конечно, и самой "религии" – христианского "держания вместе", а потому и свободы от консерватизма и "революционизма". Отсюда – ужас и от
"правого" христианина, и от "левого" (в их обособленности друг от друга). А для меня – объяснение того, почему с "правыми" я так остро чувствую себя "левым", а с "левыми" – "правым".
Еще об этом же – в области искусства: в красоте всякого подлинного произведения искусства всегда можно найти закон . Однако рождается оно не от закона, а от "исполнения" его, от благодати; исполняя закон, красота преодолевает его. А когда остается "под законом" и хочет родиться "у закона" (современные иконописцы, все копирующие) – то умирает, становится стилизацией, так что закон оказывается смертью искусства. И не "закон", а красоту мы ищем и воспринимаем в искусстве…
Ненавистная всем революционерам полиция и "икона полицейского" в детективном фильме или романе. Полиция – "закон" и полиция – борьба со злом и торжество уже не "закона", а правды.
Ненависть к государству ("левое") и комок в горле при пении национального гимна ("правое"). Государство – закон и государство – строй, общность, даже красота.
"Обрядоверие" и опыт обряда как иконы и дара благодати…
"Права человека" (закон) и благодатная, радостная свобода от всяких прав: уничижение Христа…
Вторник, 9 декабря 1975
Опять все утро – с восьми до двенадцати – в семинарии, за разбором и обсуждением "кризиса". Возвращаюсь домой опустошенный и разоренный… Завтракают кроме мамы Том, только что вернувшийся из Найроби (Всемирный Совет Церквей), и Миша Аксенов. Том рассказывает об Африке и о конференции Совета Церквей. Последний вечер с мамой!
Среда, 10 декабря 1975
По возвращении с Kennedy Airport, куда я провожал маму. Эти пять недель с ней были трудными, а вот – в свете расставанья – остается только и именно свет, а также острая жалость к старости, одиночеству, беспомощности. Ехал домой, вспоминал изумительные стихи Baudelaire'a: "ange plein de bonheur, de joie et de lumieres…"
[560]. Что-то есть бесконечно важное в этом убывании жизни и в борьбе – беспомощной и безнадежной – за свое место в ней, за то, чтобы еще
быть кем-то и чем-то, а не просто epave
[561]. И становится стыдно, что раздражался, что она "мешала" нашей жизни и т.д. Остается только то, что она дала нам "детство без печали". И что – по сравнению с этим медленным нисхождением в смерть – вся суета, окружающая нас и к этому торжественнейшему из всех возрастов жизни равнодушная? До сих пор – пятьдесят четыре года! – я неизменно жил в мире, в котором у меня была
мать . А сегодня утром, когда она уходила от меня в коридорчик, ведущий к аэроплану, я так остро почувствовал, что скоро-скоро будет мир без мамы и что с этого момента начнется и мое собственное "нисхождение".
Четверг, 11 декабря 1975
Объяснение вчера с вл. Сильвестром – "по душам". Я не мог бы быть "политиком", так как мне всегда ясна правота почти каждой точки зрения. Как это у Георгия Иванова: "Чем связаны мы все? Взаимностью непониманья…"
[562]. Потом, после разговора, особенно дружный и веселый ужин у Трубецких.
Вчера в [газете] International Herald Tribune разгром Солженицына за его статью в Times о Киссинджере. Громит его крайне правый William Buckley.
Вчера несколько часов над "Литургией" – и сразу хорошо и бодро на душе.
Пятница, 12 декабря 1975
Последний день лекций. Вчерашние заседания прошли благополучно, но измотали в конец. Однако, сидя с этими двадцатью очень простыми людьми, еще раз "умилялся" на Америку. Эта всегдашняя готовность отдать время, работать…
Несколько часов в Нью-Йорке. Темный, холодный, почти морозный и сухой день. И всюду огни елок, всюду предпраздничное возбуждение… Моя неистребимая любовь к городу , к его оживлению. Сейчас уже предвкушаю зимний, декабрьский Париж… Изумительная елка на Rockefeller Center. Когда смотрел на нее, укололо печалью: в прошлую пятницу, ровно неделю тому назад, привез смотреть на нее маму…
Понедельник, 15 декабря 1975
С восьми часов утра в моем кабинете. Сейчас двенадцать часов дня: все эти четыре часа без перерыва разговоры, телефоны, "проблемы": голова готова лопнуть, хотя и совершенно опустошенная. Чувство такое, что на меня льется какая-то лавина, от которой спасенья нет. Все люди от меня чего-то требуют – и мгновенно…
Вчера Литургия, обед и лекция (о патр. Тихоне) в храме Христа Спасителя на 71-йулице. Погружение, после нескольких лет, в русскую эмиграцию. Слушая хор – такой типично эмигрантский, с уже стареющими голосами, чувствовал, что возвращаюсь в детство. Все "концертное", все до боли знакомое – и потому все это родное и чувство хорошее. Много народу. После Литургии – тоже привычная "благодушная" атмосфера приходских обедов. Лекция. На лекции – Коряков, Слава Завалишин, несколько "диссидентов", приведенным Мишей Аксеновым и о.Кириллом Фотиевым.
В 3 часа едем на благочинническую вечерню. Теперь – погружение в другой мир. Вечер с восемью молодыми священниками.
"Нам внятно все…"
[563]. Но сама эта "внятность" становится невыносимым крестом.
Вторник, 16 декабря 1975
Теплынь такая, что, кажется, вернулось лето. Вчера все после-обеда в скучнейшем "оформлении" нового автомобиля, который мы, наконец, получаем.
Четверг, 18 декабря 1975
Часовая встреча, вчера, в Biltmore'e с Иваском. Хотя и постарел, но держится: какая-то рубашечка fantaisie и еще что-то вроде бус. Через десять минут становится ясно, что, в сущности, особенно разговаривать нам не о чем – разве что об общих знакомых. Его мировоззрение сложилось, даже, по-моему, окаменело: это все то же "Не люблю Ветхого Завета", "Мандельштама нужно причислить к лику святых", все, что я от него слышал годами. Доброжелателен, ценит дружбу, "приятен во всех отношениях", но "непромокаем" ни к чему, кроме того что уже стало его миром. Что меня всегда пугает в этих людях, это то, что – сознательно или подсознательно – их мировоззрение укоренено в желании "оправдать" себя.
Вчера, во время party у маленького Саши (три года!), с Л. прошлись по Пятой авеню, поглядели на елку у Рокфеллера. Все в огнях, все звучит Christmas carols, все вливает в сердце праздник.
Пятница, 19 декабря 1975
Последний день семестра, большинство студентов уже разъехалось, на утрени сегодня – горсточка. Как всегда, особенно ощущаю и люблю эту атмосферу кануна, предпразднества.
Забыл записать: на днях после одиннадцати вечера звонок от Николы Арсеньева: "Дорогой друг, я только что написал стихотворение и хочу прочитать его…" Самого стихотворения не помню: как всегда у него – воспоминания, небо, вода, солнце. Но остро почувствовал его одиночество, сознание ненужности – и вот этот звонок ночью. Жалость.
Вчера за ужином в [ресторане], где мы праздновали начало ее каникул, Л. меня спросила: "Что ты больше всего любишь в своей профессии?" Я думаю (и сказал): право и обязанность быть свидетелем (плохим, слабым, это уже другой вопрос) – главного ("единого на потребу"), того, значит, что не может быть ограничено ни эмиграцией, ни Америкой, ничем. Отсюда мое вечное удивление перед людьми, эту ограниченность даже не чувствующими, внутри ее живущими.
Суббота, 20 декабря 1975
Письмо от Солженицына:
"С Новым Годом! и с Рождеством Христовым!
Я, конечно, живо помню наши с Вами чудесные прогулки по Парижу под прошлый Новый Год и замечательные Ваши объяснения о Париже. Остается жалеть, что их было мало и большая часть осталась нерассказанной и непоказанной.
Благодарю Вас за поздравления и память, хотя сам вижу высшую удачу дня рождения – чтобы он не отличался от рядового, рабочего.
Что Вы читали в амер. прессе по поводу "Из-под глыб"? Если с какой статейки можно снять копию или ее саму – пришлите когда-нибудь.
Хотел бы, чтоб о Киссинджере статья моя повлияла, но есть ли надежда?
Жаль, что моя статья в Вестнике 116 Вас огорчила, но… так я увидел.
Шевелится ли в Вас мой "лабельский" совет: отдаться писанию книг? Ах, как мало русских перьев! Ах, как нужны такие блестящие и сильные, как Ваше!
Обнимаю Вас.
Мы с Н.Д. шлем самые добрые пожелания У.С. и Вам. Ваш А. Солженицын".
Вчера, окончив семинарские дела (каникулы!), изумительным, морозно-солнечным днем – у Ани с [внуками] Сашей и Анютой, подброшенными нам родителями (сами на балу "Петрушка"). Атмосфера Аниного дома. Счастье от маленькой Александры!
Чтение письменных работ. Я не знаю ничего скучнее этого занятия и нечестно увиливаю от него как могу.
Чтение двухтомной биографии Симоны Вайль. Всегда удивляющая меня одержимость мыслью, да и вообще всякая "одержимость". Сознание, жизнь – как бы без воздуха. Конечно, только такие люди выходят, пожалуй, в великие и святые , и я не без некоей печали сознаю свою полнейшую неспособность к этому абсолютизму сознания. Не знаю…
Слова одного из ее (Симоны Вайль) друзей, убитого на войне: "Pour moi, plus je reflechis, dans mes moments de decouragement, et plus je sens que mon ideal n'est qu'un moyen pour faire arriver les autres, qui sont ma fin"
[564] (I,11
1 ).
Первый настоящий снег. Кончив чтение экзаменов, убрал свой кабинет. За окнами – деревья в снегу. Абсолютная тишина. Тиканье часов. Полное блаженство. И – в свете только что записанного – вопрос: блаженство это, полнота эта, счастье – от Бога ("воздух") или же от слабости (лень, farniente
[565] …)?
Вторник, 23 декабря 1975
После двух дней снегопада – "мороз и солнце". В воскресенье днем, в ожидании приезда из Монреаля Ткачуков, ездили с Л. в Нью-Йорк "включиться" в праздничную толпу и атмосферу. Толпа в St. Patrick
[566], толпа и музыка у рокфеллеровской елки. Освещенные громады небоскребов.
Вчера – последние четыре скрипта в "Свободе" и заседание департамента внешних сношений: все это уже "из-под палки". Зато и в воскресенье, и вчера – чудные службы предпразднества…
Продолжаю чтение биографии Симоны Вайль, с несомненной духовной пользой.
Вчера же – украшение елки впятером (с маленькой [внучкой] Верой).
Париж. Четверг, 1 января 1976
Как всегда, уехали из Нью-Йорка прямо с елки в день Рождества, наполненные радостью чудных служб (огромный хор, масса людей, полнота!) и радостью семейного сборища. На аэродром нас вез Том [Хопко] в сумерки, падал снег, горели во всех окнах елки. Минуты, которыми потом подлинно живешь. И сразу – пустота и тишина аэродрома… В Париже встречали Наташа и Елена. Радостный завтрак на Parent de Rosan [у брата]. Вечером по традиции зашел за Андреем на службу – подышав Парижем.
Пятница, 2 января 1976
Утром в субботу 27-го кофепитие на pl. St. Sulpice с "девочками": Маги, Ирина, Буся и Мара…
[567] Затем с Л. через quais
[568] к Андрею. Завтрак с ним в нашем любимом [ресторане] "Boutelle d'Or" с видом на Notre Dame (тут в прошлом году завтракал с Алей Солженицыной). В 2.30 – долгое сидение с Никитой Струве в [кафе] "Balzar". Un vaste tour d'horizon
[569]. В воскресенье 28-го – служба на Olivier de Serres. Как всегда, чувство, что это мой "дом" в Париже. Кофе у о.Игоря Верника. Днем – свадебный прием в Р.[усской]Консерватории: Маша Струве, вышедшая замуж за молодого, некрещеного еврея.
В понедельник 29-го – dejeuner de cousins
[570]. Жорж Доливо представляет свою невесту.
Вторник 30-го – длинная прогулка с Льяной через зимний пустой Jardin des Plantes. Завтрак с И.В.Морозовым в [ресторане] "Mediterannee" на pl. de l'Odeon.
Среда 31-го. Заболевает по обычаю Л. и остается в отеле. Пешком на традиционный предновогодний завтрак с Никитой и Машей Струве. Новогодний молебен на Exelmans с уже совсем стареньким, сгорбленным вл. Александром Семеновым-Тянь-Шанским. Встреча Нового Года у Андрея с Ликой.
Четверг 1 января: темный, дождливый. Толпа в сумрачном Notre Dame. Месса – толпа причастников, почти чужая в толпе туристов (сотни японцев, обвешанных фотографическими аппаратами). Днем – с мамой и Андреем.
В пятницу 2-го – семейная панихида на [кладбище] Ste. Genevieve de Bois, haut lieu
[571] русской эмиграции. Вечером – ужин у Соллогубов.
В среду 3-го – второе заболевание Льяны. Поездка к Струве.
Воскресенье, 4 января 1976
Обедня на Olivier de Serres. Потом завтрак с мамой, Андреем и Л в "Taverne Alsacienne" на r.de Vaugirard. Заезжаем проститься с "девочками" на St. Sulpice. Оттуда – прогулка с Л. по r.de Seine, ile St. Louis – до pl. des Vosges.
Понедельник, 5 января 1976
Завтрак у милейшей Шуры Габрилович на St. Sulpice. Вечером в Ste. Marie
[572]. Ужин с дюжиной filles de St. Francois
[573]. Очень интересный разговор – о Церкви, о месте женщин в ней и т.д. Знакомлюсь с Асей Дуровой, о которой столько слышал все эти годы как о главной "связи" с подпольной Москвой. Говорит о безнадежности тамошнего положения.
Вторник, 6 января 1976
Сочельник по старому стилю. Трудно во второй раз "разогревать" в себе Рождество. Пока Л. у парикмахера, устраиваю себе "pelerinage aux sources"
[574]: маленьким поездом из Anteuil на Pont Cardinet. Оттуда – через Square des Batignolles, по rue Brochant (где разрушен старый рынок!) мимо дома, в котором в последний раз видел папу живым (жаркое лето 1975 года), до Av. de Clichy. Вверх по ней мимо нашего дома (1930-1944) и затем на Dautancourt в eglise St. Michel
[575]. Идет messe basse
[576]: один священник, одна женщина в абсолютно темной церкви, в которой освещен только этот – боковой – алтарь. Темно, накрапывает дождь. По Av. de Clichy – до Pl. Clichy и по rue Amsterdam до [вокзала] St. Lazare, где спускаюсь в метро. Завтрак с Л. в маленьком ресторане. Днем до всенощной – у мамы. Вечером ужин и елка у Андрея.
Среда, 7 января 1976
Рождество по старому стилю. Exelmans. Настроение праздничное, главным образом от Андрея, сияющего и все – в своей церкви – на себе несущего. После завтрака едем с Л. на pl. Vendome. Она абсолютно совершенна в этих пасмурных парижских сумерках – своими фонарями, окнами… Вообще Париж в этот раз ощутил как совершеннейшую симфонию и гармонию окон. Вечер – все вместе – у мамы…
Четверг, 8 января 1976
Последний день в Париже. Завтрак с [моей переводчицей] М.Ф., которая открывает мне, что она… ушла из Церкви! "Exigeance interieure…" – "necessite d'un desert", "authenticite"
[577] и т.д. Что на все это ответить? "Il faut que je suis moi meme"
[578]. Все та же гордыня сознания, толкающая человека в одиночество во имя какой-то мифической authenticite.
Днем заседание в Passy нашей "литургической группы" – Бобринский, Андроников, Чеснаков, Максим Ковалевский. Немножко – переливание из пустого в порожнее, как и почти все в призрачной парижской церковной "реальности", в которой реально только – потепенное угасание и исчезновение русской эмиграции. Реальна – всенощная на Lecourte
[579], но что ж тут говорить о "литургической" жизни? И все же хорошо среди этих друзей, в этой chaleur humaine
[580]… И как бы в подтверждение сказанному – едем оттуда с Петей Чеснаковым и Максимом в какую-то больницу, где лежит Петя Ковалевский. Старенький, маленький, какой-то "гоголевский старичок". La grande pitie de tout cela
[581].
Потом – в семь часов – короткое свидание с Репниным, это всегдашнее "прикосновение к детству", своего рода chanson sans parole
[582], ибо говорим, за столиком в кафе, о пустяках, а смысл только в самой этой встрече, ставшей уже почти "ритуальной". Несколько минут – и вот Репа исчезает в темном бульваре, в
свою , для меня совершенно неизвестную, жизнь, а я в свою, словно все дело было в том, чтобы прикоснуться друг к другу, внутренне сказать друг другу: "Помнишь?" – "Помню".
И уже из последних сил – "Братство" на Exelmans.
Пятница, 9 января 1976
Отъезд. Ранним утром, еще в полной тьме – кофе с Андреем в отеле. Прощание с ним – всегда веселое и бодрое, а на глубине – мучительный отрыв, ибо близость с ним и для меня, и для него "превосходит всякое разумение". Мама. [Аэродром] Charles de Gaulle. Пронзительная грусть – видеть ее, с высоты уносящего нас "магического ковра", старенькую, несчастную, одинокую, действительно – утопающую в этом распаде, отливе жизни.
И вот – мороз и солнце Америки. Солнце, которого мы не видели четырнадцать дней. Веселый, бодрый Том [Хопко]. Теплый дом. Еще раз – "le vent se leve, il faut tenter de vivre…".
Crestwood. Суббота, 10 января 1976
Все утро – в залитом солнцем доме, bien au chaud
[583], в радости "встречи" со своей жизнью, "остраненной" Парижем, памятью музыкального совершенства pl. Vendome и Tuileries… Днем – у Ани, которой исполнилось сегодня тридцать два года! Невероятно прекрасный красный закат за ветвями черных деревьев.
Вторник, 13 января 1976
Погружение в обычную жизнь, состоящую из безостановочной траты другими моего времени. Но, может быть, это так и нужно. Может быть, в этом, на поверхности, абсурде – "смысл" моей жизни? Тогда я несомненно проваливаюсь на экзамене, ибо все это приводит меня в злобное раздражение.
В воскресенье и вчера – снегопад. Невероятная красота белых садов, заснеженных деревьев…
Читаю биографию abbe Marcel Jousse
[584], основателя "антропологии жеста". Как и в Симоне Вайль, поражает в нем эта "стопроцентность", убежденность в том, что его дело, его открытие, его тема – самые главные, неспособность к компромиссу, релятивизму. Поражает потому, что в себе я этого совсем не нахожу, никакого "мессианского" комплекса. Мне все кажется, что, если бы люди чуть-чуть уступили в своих "идеях" и "убеждениях", было бы лучше, светлее в мире. Однако, пожалуй, не было бы тогда "величия". Я помню, как когда-то на [Сергиевском] подворье мы с о.Киприаном [Керном] издевались над строкой из стихотворения Иоанна Шаховского: "Есть люди – клинья и есть люди – звенья". А, кажется, в этом есть правда.
Мои радости – всегда между делами, почти никогда не в них. Вечное чувство: "tout est ailleurs"
[585].
В Жуссе, однако (после биографии займусь его двумя томами), убеждает основная мысль – в извращении христианства "греко-латинизмом", то есть письменной культурой, в отличие от "словесной" (style orale). Думается, что тут что-то очень важное для литургики. Роднит с ним – подозрительность по отношению к "текстам", этим "богам" богословской "науки". "И Слово стало плотию"
[586]. Плотью, а не "текстом" – с примечаниями, разночтениями и аппаратами. По Жуссу, человек ест и пьет слово… Поразительна тайна "явления" нам нужного: нужной книги, нужного человека… Я никогда не слышал о Жуссе. Набрел на него случайно, рассматривая книги в [парижском книжном магазине] Librairie du Divan. Это было в прошлом году. Прочел несколько страниц, оставил. В этом году – его биография и второй том (La Manducation de la Parole
[587]). Словно кто-то настойчиво "включает" его в мою жизнь. "Кто верит в случай, не верит в Бога"
[588]. Если кто-нибудь когда-нибудь будет "изучать" "источники" моего богословия(!), он вряд ли догадается, что на меня всегда неимоверную тоску нагоняли, например, Кавасила, Дионисий Ареопагит и т.п., а что в "cheminement obscur"
[589] моего мироощущения и, следовательно, мысли и убеждений сыграли странную, но несомненную роль: прислуживание в церкви (корпус, rue Daru
[590]), русская и французская поэзия, Андре Жид, дневник Жюльена Грина и дневник же Поля Леото (прочел все восемнадцать томов! – как они оба этому удивились бы!) и бесконечное число самых разнообразных биографий (например, Талейран и Де Голль). Как объяснить самому себе, прежде всего, что я
люблю Православие и все больше и больше убежден в его истине и все больше и больше
не люблю Византии, Древней Руси, Афона, то есть всего того, что для всех – синоним Православия. Я бы умер со скуки на "конгрессе византинистов". Только самому себе я могу признаться в том, что мой интерес к Православию обратно пропорционален тому, что интересует – и так страстно! – православных.
Среда, 14 января 1976
Ужасная мигрень, "слопавшая" вчера все после-обеда. Проливной дождь, смывший за ночь весь снег. А сегодня – снова солнечно и ветрено. Пишу скрипты под ощущение остатков головной боли.
Кончил вчера биографию Жусса. Читая о его смерти (умирал три года в мучениях), о его сверхчеловеческих усилиях служить мессу, об этой верности, смирении, послушании – прослезился. Всегда чувствую, что тут – самая важная и потому самая трудная тайна христианства: спасительность страдания . Не "искупительность", а именно "спасительность". Единственное, чего "природный" человек хочет на глубине, это – не страдать. Единственное, что христианство ему предлагает, – это страдание. Почему? Потому что в духовной победе над ним, в духовном "претворении" страданья – совершается духовный рост человека, вхожденье его в другое измерение.
Перешел к Philippe Aries "L'histoire de la mort en Occident"
[591]. Странная сосредоточенность современного интереса на смерти (J.Ziegler "Les vivants et la mort", E.Morin "L'homme et la mort"
[592] и т.д.). Словно "мир сей" обращает к нам снова вопрос, ответом на который и было христианство. Когда-то! Ибо теперь оно занято "миром сим" и будущей "российской государственностью" (Солженицын…). Вот уж правда: "Если соль потеряет свою силу, чем осолить ее…"
[593].
Пятница, 16 января 1976
Перед отъездом в Тихоновский монастырь на заседание Department of External Affairs
[594] … Вчера – двадцатиминутный визит митрополита, умоляющего "от имени всего нашего епископата – вернуться". Вечером – "staff party"
[595] в Bronxville, необычайно уютная и дружеская. Comme quoi il est vrai
[596], что мы сами не знаем (из-за затемненности сознания мелочностью и унынием), как нам хорошо. Почти все участники! Ted Bazil, Миша Рошак, Paul Garrett, Алеша Виноградов и их жены родились в 1946-1975-1975гг., то есть уже после моего рукоположения! Каким стариком я должен им казаться. Неожиданно хорошее, то есть "положительное" слово Верховского.
Суббота, 17 января 1976
Вчера – почти весь день в Тихоновском монастыре, сегодня все утро – заседание совета профессоров.
Телефон от С. Трубецкого – о кончине в Торонто о.Иоанна Дьячины. Еще в ноябре служил с ним. Уход еще одного из "миссионеров".
Писание статьи для нашего церковного "Ежегодника" о Православии в Америке в свете "bicentennial"
[597].
Сильный мороз, но солнечно и ясно.
Понедельник, 19 января 1976
Письмо от Никиты с просьбой (или вопросительным предложением?) смягчить обличительную часть моего ответа Солженицыну… А также приглашение на съезд 1-2мая ("Обряд и свобода").
Вчера у Ксаны Хлебниковой в [госпитале]. Сорок шесть лет – и чудовищный рак, внезапно обнаруженный. Ей вырезали прямую кишку и часть кишечника. Лежит бодрая, смеется. Ехал обратно, думал: как бы я вел себя, если бы это случилось со мною или Л.?
Сильный мороз и яркое солнце. Все утро суматоха в семинарии, лава дел, делишек, решений… Плюс – "личные проблемы". Почти радуюсь поэтому отъезду на четыре дня в Техас.
Austin, Texas. Вторник, 20 января 1976
В мотеле, в далеком Техасе, куда приехал на три дня прочесть "интенсивный" курс о "sacramental theology"
[598] в епископальной семинарии.
Длинный полет вчера, во время которого кончил книге Ариеса о смерти. Очень интересно, особенно то, что он пишет об эволюции восприятия смерти начиная со Средних Веков. Его схема: приятие смерти каждым и обществом – отсюда: "публичное умирание" и "привычка" к покойникам (базары на кладбищах), погребение ad sanctos
[599]. Отсутствие культа могил (очевидно, что покойники, будучи в Церкви и с Церковью, ощущаются как часть жизни, как с нами…). Затем – "индивидуализация" смерти (15-16 века): личный суд и т.д. Затем в 18-м веке – смерть как rupture
[600], сближение ее с эросом. В 19-м веке – культ могил, идея нации, преемства. И только в 20-мвеке полное убрание смерти из жизни (госпиталь и т.д.). Все это нужно будет перечитать и передумать.
Сегодня с утра "социальная" жизнь. Встреча с деканом и другими профессорами. Первая лекция – из пяти, которой я более или менее доволен. Завтрак с одним из профессоров и двумя англиканскими священниками, очень уютный и интересный. В таких разговорах проверяешь,
что в Православии нужно
всем , а что – пережиток, требующий Entmythologizierung
[601]… Два часа отдыха в мотеле. Начал книгу Hendrick Smith'a (три года корреспондент "Нью-Йорк Таймс" в Москве) "The Russians"
[602]. В 4.30 "sherry party"
[603] в семинарии. Неизбежный разговор о посвящении женщин. Везя меня обратно, декан провез меня около знаменитой башни U. of Texas
[604], с которой несколько лет тому назад какой-то параноик, стреляя, убил что-то около 20 людей.
Солнечно. Тепло. Замечательно красивы специально техасские вечнозеленые дубы.
Среда, 21 января 1976
За окном яркое южное солнце и пальмы над swimming pool
[605], а только что звонила Л. из Нью-Йорка, где холод, снег и слякоть. Вчера вечером ужин с тремя профессорами и их женами. Мне всегда кажется, что основная черта американского профессора (и, может быть, богослова особенно) – это боязливость, некий разлитый во всей окружающей их атмосфере страх. Благополучие и разъедающий благополучие страх…
Утром – вторая лекция. Меня больше чем удивляет – поражает интерес и страстное внимание слушателей. "Вы, может быть, не знаете, – сказал мне потом один из них, – что Ваши писания спасли эту семинарию" (она была центром "секуляризма"). Вот уж подлинно – несть пророка в своем отечестве… Завтрак с шестью студентами в ресторане – невероятно дружный и радостный…
Потом – в два часа – при какой-то совершенно райской погоде – осмотр с проф. С. библиотеки-музея президента Джонсона. Очень импозантно. Во всем – техасская безмерность и грандиозность. Три часа одиночества и спокойствия в мотеле, чтение H.Smith. Умно и даже не без глубины. Всегда поражающее меня качество американского журнализма…
Четверг, 22 января 1976
Суматошный день. Вчера – вечерняя лекция, потом вечер у милейшего Perry с Green'ом и Bellamy. Сегодня утром – проповедь и лекция, затем разговор с юношей, перешедшим в Православие. Разговор, вогнавший меня в тоску! Почему обращению в Православие сопутствует немедленно этот мелочный интерес к "карловатству", подозрительность, какая-то мучительная запутанность сознания? Казалось бы – нашел истину, пришел в Отчий Дом…
Пятница, 23 января 1976
Последний день в Техасе. Вчера ужин с деканом и его женой, проф. С. и его женой в уютном и очень "подлинном" ресторане "Old Vienna"
[606]. Размышления о западном христианстве, об его "этосе" и о том, что нам – православным - делать… Вчера же, до ужина, провел полтора часа с классом, изучавшим Православие… Все пытаюсь для самого себя "уловить" – в чем разница подхода, основной интуиции. Все все время возвращается к вопросу о посвящении женщин, и тут, при самом большом благожелательстве, при всей "открытости", – полная стена непонимания. In the last count
[607] "Запад" – это, все-таки, смесь гордыни и мазохизма ("guilt complex"
[608]). Посвящая женщин, он что-то "исправляет", в чем-то "кается". Но он горделив и в своем раскаянии. Поняв свой грех, он
сам моментально должен "репарировать" с такой же самоуверенностью, с какой "грешил". Каждая стадия ему кажется окончательной. Мы же плохо отвечаем, потому что, в сущности, мы не знаем, в чем невозможность женского священства. Мы только чувствуем. Когда же мы, лепеча, пытаемся объяснить, выходит так, что "гордые" – мы, а не они! А так как при этом православные в основном (не Православие!) действительно горды ("православием") и дешево триумфалистичны (сами-то хороши!) – то получается несусветная тройная путаница… Все это мучительно, все это – чувствую – требует какого-то радикального внутреннего прояснения.
Crestwood. Понедельник, 26 января 1976
Сегодня – начало регистрации на второй семестр. Масса шумных семинаристов, объятия и поцелуи. Чувствую себя среди всего этого бурления стариком. Страстное желание одиночества, уже застаревшая усталость от толпы.
Оттепель. Туман. Грязный снег.
После книги Смита, после разговора в субботу с Андреем О., после лекции вчера в Wilmington'e – вопрос в голове: что такое подлинная свобода ? Как быть свободным?
Среда, 28 января 1976
Два дня ливня, смывшего весь снег, а сегодня снова солнечно, морозно, ветрено. С утра в Нью-Йорке: скрипт в "Свободе", визит к Веронике Штейн, завтрак с о.Кириллом Фотиевым. Впечатление от разговора с В.Ш. грустное: маразм и свары в "диссидентской" среде. В сущности ничего подлинно нового они с собою не привезли, но старую эмигрантскую традицию – ссориться и лично, и "принципиально" – восприняли и даже оживили. О Солженицыне она говорит: он бунтует, всегда бунтует – также и против Бога…
Получил 6-ю книгу "Континента". Общее впечатление, прежде всего, – скуки, отсутствия настоящего дара, искры. Эти последние только в удивительной поэме Бродского. Во всем остальном – какая-то органическая пришибленность. Теперь, говорит Вероника, должен выйти сборник Литвинова-Шрагина-Аксенова… Посмотрим. Но что-то не чувствую священного нетерпения.
Вчера вечером – у Дриллоков – помолвка Кати Т. с Васей Л. Чувствовал себя старым-старым, прожившим целое столетие, но и благодарным за разнообразие моей жизни, сделавшее меня хоть в какой-то мере свободным, давшее то detachment
[609], которое я всегда в себе радостно ощущаю.
Четверг, 29 января 1976
Сегодня – начал чтение лекций. Удивительно, но и после тридцати лет – испытываешь это чувство новизны. Думаю, это верный признак, что тут, более чем в чем-либо ином, мое подлинное призвание. Ибо все остальное (кроме, конечно, служения) – всегда как-то из-под палки, особенно же "духовные" разговоры.
Перед отосланием Никите своего ответа Солж.[еницыну] дал прочитать корректуру Мише Аксенову. Нашел на столе его "ремарки":
"Статья блестящая и является, вероятно, наиболее умным и глубоким ответом из возможных. Совершенно справедливо разговор переведен на подлинный уровень: уведен от юрисдикционных трений и клевет на уровень мировоззренческий и церковный. Очень хорошо сказано о пороке "интеллигентского" подхода к Церкви. И совершенно правильно увидено все значение "старообрядческого прельщения", не как случайного эстетического элемента, а именно как глубинного внеисторизма, желание выпасть из истории, уйти самому и увести за собой и всю Россию в "отстойник" русской нации, то есть в отстойник от самой истории… Очень хорошо сказано о пороке "идеологизма", начавшегося со старообрядчества.. Ваша статья, вероятно, самая серьезная и глубинная критика его позиции, которая на сегодняшний день существует… По отношению же к самому С. это, пожалуй, наиболее резкая и обличающая статья и должна задеть его за живое, ибо трогает в нем самом его главное. Но я думаю, что пастырски это тактичная статья, и если он христианин, то поймет, что, написав ее, как она есть, Вы просто выполнили пастырский долг перед ним же. В общем она очень современна и актуальна и должна войти клином в тот спор о Церкви, который начался и ведется в России".
Пятница, 30 января 1976
"Трех Святителей". Чудная ранняя Литургия, а потом – освящение академических помещений и комнат студентов. В семинарии и на лекциях чувствую себя бодро, а дома меня одолевает какая-то лень и неспособность к работе. Сажусь за стол, но через полчаса все буквально "валится из рук". И это без всякого уныния или плохого настроения. Скорее – "упадок творчества".
Все утро – в деловых разговорах, кроме полутарочасовой лекции. Дома же после завтрака – заснул! Может быть, и это – признак старости или хотя бы старения?
Почти весенняя теплынь на дворе.
Понедельник, 2 февраля 1976
Сретение. Вчера служил второй раз на 71-йулице, потом "угощение" и моя лекция. Разговор за завтраком с М.М. Коряковым и Вяч. Завалишиным. На лекции ("О русской религиозной мысли за рубежом") довольно много народа. Все четыре Штейна, с которыми, после лекции, мы идем в кафе на полчаса. Юра рассказывает со страстью о диссидентских сварах, взаимных проклятиях, интригах. Как все это грустно!
В субботу – тридцать три года со дня свадьбы! Чудный тихий день дома, а под вечер – у Ани.
Вчера – три исповеди, две – утром, одна – после всенощной. Реальность несчастья, в смысле "не-счастья", то есть отсутствия счастья, того, чего хочешь, невозможность им обладать. Пожалуй, только сейчас, под старость, начинаю это понимать – не умом, а нутром. Не понимал потому, что сам всю жизнь был очень счастлив, опять-таки в смысле имения того, что хотелось. Мне даже страшно как-то становится при мысли, что Бог никогда меня не "лишал". Ничего, ни капельки от судьбы Иова. Может быть, это так потому, что Он знает степень моей слабости. Но как же трудно тогда других "учить" быть сильными, призывать к этому.
Ледяная метель на дворе.
Вторник, 3 февраля 1976
Провел вчера около шести часов на [аэродромах] La Guardia и Kennedy в тщетной попытке улететь в Колорадо, куда я должен был ехать на три дня. Из-за погоды (чудовищная гололедица) так и не удалось…
За эти часы делал наблюдения над американской толпой и все не могу их в самом себе "сформулировать". Пожалуй, главное впечатление – или ощущение? – это чего-то "безличного". Конечно, толпа, "средний человек" всегда и всюду безличны, но в Европе за каждым человеком чувствуется "тайна", она как бы просвечивает в выражении его лица, в походке, во всем. И вот именно этой тайны не чувствуется в американце. Мне кажется, что он ее панически боится, не хочет ее, убивает в себе. И что вся американская цивилизация направлена на то, чтобы помочь человеку в этом. Она вся построена и действует так, чтобы человек никогда, по возможности, с этой тайной не встретился лицом к лицу. Это совсем не значит, что американец "стаден". Напротив, та же цивилизация построена на индивидуализме. Она как бы обращена к каждому, но каждому она говорит: смотри, как тебе хорошо и удобно, как все сделано для
тебя . И каждый ее принимает индивидуально,
для себя , хотя принимает совершенно то же самое, что предлагается любому другому "каждому". Это цивилизация a l'echelle humaine
[610], только l'humain
[611] -то тут "асептическое". И вот, ведомо или неведомо для себя, каждый репрессирует в себе
тайну , и от этой репрессии – американский невроз. Успех психологии, психоанализа в Америке – от страстного желания "тайну" свести к закону природы, к таблице умножения, классифицировать и тем самым "разрядить" ее. Он, американец, ее "научно выбалтывает". Науке он благодарен, прежде всего, за то, что она дает ему готовое объяснение, освобождение от
искания (которое и есть в человеке выражение его соотношения с заключенной, живущей в нем "тайной"). Неверно говорить: американец "не глубок". Он так же глубок, как и все люди, только, в отличие от других, он
не хочет глубины, боится ее и ненавидит ее. Настоящий вопрос:
почему ? Где, в чем корни этого
отказа от "тайны", глубины, от "личного"? Не знаю, прав ли я, но мне сдается, что это оттого, что в Америке повторился опыт "примитивного" человека: встреча с чуждостью, громадностью, таинственностью природы, страх перед нею и желание страх этот преодолеть – "обрядом", повторяемостью, закономерностью… Религия родилась из страха – говорят нам, и это, в основном, верно. И Америка родилась из того же страха. Религия страха преодолевает страх
обрядом , то есть такой сакральной символизацией мира, природы, жизни, которая "снимает" тайну, "разряжает" ее, освобождает ее от того, что самое страшное и невыносимое для человека:
единственность и
неповторимость всего. Обряд, священность – это сведение всего к "архетипу", к закономерности. В этом смысле и как это ни покажется странным, но Америка предельно сакральна и религиозна (а совсем не "секулярна", если под секуляризмом понимать отвержение сакрального, свободу от него). Именно "обрядность" американской жизни я почувствовал с особой силой, приехав из Европы. Во всем, решительно во всем американец хочет reassurance
[612] обряда: в еде, в том, Б
что он ест и
как он ест, в том, как он одевается, ходит, смеется, чистит зубы. Иначе – все
страшно . Между собою и "тайной" жизни, то есть единственным и неповторимым, он полагает
обряд ; так, например, "восстания" молодежи в 60-х годах, отказ от "конформизма", провозглашение права каждого на one's own thing
[613] – вылилось моментально в до мелочей разработанный обряд: одежды, поведения, языка.
Все это совсем не противоречит тому, что обычно воспринимается как квинтэссенция американизма: культ
новизны , перемены, рекламы, целиком построенной на принципе "it's different…"
[614], культ, казалось бы, открытости, экспериментации и т.д. Не противоречит потому, что сам этот культ является частью
обряда , может быть, даже его питательной силой. Ибо в том как раз и функция этой почти френетической
[615] "новизны", постоянного
обновления , что оно защищает человека от встречи с тайной жизни, с самим собой, с сущностью. Эта встреча возможна только при
остановке жизни, при освобождении внутреннего внимания, освобождении его от внешнего, что и возможно в традиционных цивилизациях, выросших как бы вокруг "тайны"… Я всегда себя спрашивал – почему всякая американская фирма должна не только все время изменять свою продукцию, но и видоизменять саму себя – перестановкой мебели, изменением внешнего вида своих контор, формы своих служащих и т.д. А теперь мне ясно, что эта "изменяемость" и есть основной обряд, суть которого всегда в повторяемости неповторяемого. Изменение, новизна
страшны, пока они "тайна" и сущность тайны ("что день грядущий мне готовит?"). Поэтому единственный способ сделать их "не страшными" – это ввести их в обряд, сделать их "повторяемостью": все все время "ново" и все – то же самое, ибо на то же самое направленное: на пользу, на приятность и удобство и т.д.
Француз постепенно, медленно открыл, что сыр, запиваемый красным вином, – вкусно. И, открыв, ест сыр, запивая вином, и наслаждается. Тут – никакого обряда, а сама "правда жизни". Американец едет во Францию, "узнает", что французы едят сыр с красным вином, и по возвращении в Америку устанавливает новый
обряд : "wine and cheese party"
[616]. И в этом вся – огромная! – разница. Но француз, которому – вкусно, делает это совершенно так же, как делал это его предок при Людовиках, ибо тогда было вкусно и теперь – вкусно. А американец, потому что ищет он не вкуса, а исполняет обряд, обязательно введет в этот обряд какую-нибудь новизну: положит на сыр кусок груши или изюм или еще что-нибудь. Почему? Потому что обряд требует постоянного обновления, потому что и сыр с вином он привез в Америку как свидетельство о том, что все все время в жизни улучшается. "То же самое", предлагаемое всегда как "новое" и "улучшенное", удовлетворяет его потребности не
встретиться с самой тайной жизни…
Странно, но так: американская цивилизация, американская жизнь насквозь религиозны, но только это совсем не post-Christian world
[617], как они любят говорить, а, в очень глубоком смысле,
pre-Christian world
[618], то есть мир, не освобожденный от природной "сакральности" (противоположной христианскому "сакраментализму"). Ибо сакральность – это совсем не ощущение
божественности мира, а наоборот – его
демоничности , не радости, а страха, не приятия, а бегства. Это система "табу", при помощи которой человек полагает между собой и жизнью (и это значит – между собой и своей "тайной") некую непроницаемую преграду, фильтр, фильтрующий жизнь и не допускающий "тайну". И в этом смысле – пуританское прошлое Америки и ее антипуританское настоящее на глубине – явления того же порядка. Отвержение, снятие одного "табу" есть всего лишь замена его другим "табу".
Перечитал за эти два-три дня два толщенных топа Paul Leautaud (Journal Litteraire, X, XI)
[619]. И вот мне кажется, что этого "воинствующего" (на словах) атеиста Бог, так сказать, не может не любить. Именно за правдивость, за беспощадность в изображении, пересказе самого себя, за "смирение" без какого бы то ни было знания о нем… Не знаю, не знаю: слова все эти как-то не подходят, однако я читаю Леото всегда именно с духовной пользой, с какой, увы, почти никогда не читаю так называемой "духовной литературы". Он обличает во мне всякую духовную дешевку, ненужное возбуждение, пристрастие к красивым словам, как-то внутренне освобождает. И 18 томов дневника этого человека без биографии оказываются нужнее, чем все рассказы о ростах, кризисах, распутьях, озарениях…
Среда, 4 февраля 1976
Книга Богдана Худоба "Of Light…"
[620]. Беспорядочная, но интересная:
о времени . Мне очень близко его основное утверждение о времени как о "модусе" человеческого восхождения к Богу. Лишний пример того, как книги приходят "вовремя". Эта, например, стояла у меня на столе целый год.
Вчера – весь день дома и, так как все думают, что я в Колорадо, без телефонных звонков. Блаженство. Я думаю, что, если бы я имел два таких дня в неделю, моя жизнь была бы совсем другой, не "раздробленной".
Попытки писать главу о Символе веры в "Литургии". Всегда то же самое: сначала – до того, что начал писать, кажется, что уж этот параграф – пустяки. Затем начинаешь писать – почти сразу же чувствуешь – не то, тупик. Бросаешь, думая, что "не в настроении". Однако скоро ясным становится, что и тупик был нужен, ибо он развенчивает первоначальную ошибку – чувство "пустяка" – и ставит настоящий вопрос: что такое единство веры ? Дойдя до этого, уже знаешь, что нужно начинать сначала , то есть удивиться этому как бы самоочевидному понятию, открыть его для себя заново. И пустяковая глава превращается в многонедельное мучение: вынашивание, раздумье, беременность, роды…
Понедельник, 9 февраля 1976
Читая Леото, я вдруг понял, что – помимо всего прочего или, может быть, до всего прочего – правдивость его и укоренена, и выражается в языке. Он – последний французский писатель, болезненно чувствовавший фальшь и ложь того языка, что постепенно изнутри разлагал французский язык, соотношение в нем слова, предложения со смыслом, торжество в нем исподволь отвлеченности, "идеологизма". Он пишет "les jeunes"
[621] в кавычках, потому что это слово стало означать что-то новое, какую-то собирательную "молодежь", что-то – и в этом все дело – чего в действительности нет. "Non, vraiment, – пишет он, – la langue francaise, c'est ne pas cela. Tout peut s'exprimer clairement, et ne pas savoir etre clair est une inferiorite ou s'appliquer a ne pas l'etre ou s'en faire un merite, est pure sottise…"
[622] (XII, 86). Однако так теперь пишут все, и не только по-французски. Наша эпоха создала постепенно не только новый язык, но новое "чувство языка". Причина этого двойная: идеологизм (утверждение как конкретного, реального того, чего на деле нет: "les jeunes", "рабочий класс", "История", "l'humain"
[623] и т.д.) и, более банально, отрыв культуры от жизни, превращение ее в нечто самодостаточное: творчество из ничего, но потому из "ничего" и состоящее, безответственная игра "форм" и "структур".
Все эти дни по телевизии – зимние Олимпийские игры в Иннсбруке. Невозможно оторваться. Изумительная красота человеческого тела, претворяемого в усилие, движение, на глазах становящегося невесомым, "воплощенным духом", освобождающего собственную свою тяжесть, эмпиричность, утилитарность ("органы"). Нет, не "темница души", а ее жизнь, порыв, свобода и красота. Конечно, в спорте победа эта в глубочайшем смысле слова – символична. Эти тела состарятся, отяжелеют. Это – только прорыв и потому символ. Но сущность символа в том, что он являет и к чему, поэтому, зовет … Христос ходил по воде не потому, что был бестелесным, а потому, что тело Его было до конца Им , Его свободой, Его жизнью… Все в спорте – аскеза, целеустремленность, присущее ему целомудрие, органическая, а не искусственная красота, являемая в нем – все указывает, доказывает, являет возможность преображения. Это не значит, наверное, что все должны заниматься спортом. Это раскрывает, однако, как нужно относиться к телу, раскрывает и являет само тело. Предел спорта – не удовольствие, а радость, и в этом вся разница.
Вчера – девяностолетие(!) А.А. Боголепова. Удивительная – по ясности, краткости, внутренней дисциплине – ответная речь его. Другое "явление" – той же победы. Человек без распущенности.
Вторник, 10 февраля 1976
Разговор вчера с Л., а сегодня, втроем, с Томом [Хопко] о "counseling"
[624]. С Л. в связи с [двумя молодыми людьми], с Томом – по поводу англиканского священника-психотерапевта, желающего перейти в Православие и "помочь" нам в "терапевтике". Надо было бы сесть и хорошенько продумать мое инстинктивное отвращение ко всей этой области, превращающейся постепенно в настоящую одержимость. Что стоит за всем этим? Что привлекает к этому? Tentatively
[625] (но вдруг я не прав), мне кажется, что вся эта "терапевтика" несовместима с христианством, потому что она основана на чудовищном эгоцентризме, на занятости
собою , есть предельное выражение и плод "яйности", то есть как раз того греха, от которого нужно быть спасенным. Тогда как "терапевтика" усиливает эту "яйность", исходит из нее как из своего основоположного принципа. Поэтому эта "психотерапия", проникая в религиозное сознание, изнутри извращает его. Плод этого извращения – современные поиски "духовности" как какой-то особой эссенции. Слова остаются те же, но "коэффициент" их и "контекст" радикально меняются. Отсюда – темнота, узость всех этих современных "духоносцев", отсюда смешение учительства, пастырства, "душепопечения" – с чудовищным "психологизмом". Принципу "спасает, возрождает, исцеляет Христос" здесь противопоставляется: спасает и исцеляет "самопонимание". "Увидеть себя в свете Божием и раскаяться" – заменено другим: "понять себя и исцелиться…".
Среда, 11 февраля 1976
Почему женщина не может быть священником? Длинный разговор об этом вчера с Томом, на которого, за его статью в последнем Quarterly
[626], восстают, по слухам, и православные женщины. С тех пор, что началась эта буря (в связи с англиканами), меня все больше удивляет не сама тема спора, а то, что в нем раскрывается о богословии. Невозможность найти решающие аргументы ни за, ни против – решающие в смысле объективной убедительности их для обеих сторон. Каждый оказывается правым для себя, то есть внутри своей перспективы, "причинной связи" своей аргументации. "Наша" сторона порой напоминает мне обличения о.Иоанном Кронштадтским Льва Толстого: "О неистовый граф! Как же не веришь ты св. апостолам…" Однако не в том-то ли и все дело, что все началось – у Л.[ьва] Т.[олстого] – с "неверия" св. апостолам. Поэтому аргументация ex traditione
[627] просто бьет мимо цели. "Ересь" всегда нечто очень цельное, не надуманное, она действительно прежде всего выбор на глубине, а не поправимая ошибка в частностях. Отсюда – безнадежность всех "богословских диалогов", как если бы речь всегда шла о "диалектике", об аргументах. Все аргументы в богословии post factum, все укоренены в опыте; если же опыт другой, то они и не применимы, что и становится – в который раз! – очевидным в этом споре о "священстве женщин". Том: "Как объяснить, например, что женщина может быть президентом США и не может быть священником?" Мне кажется, – отвечаю я, – что она не должна бы быть и президентом США. Но этого-то как раз сейчас никто и не говорит, и сказать это означало бы немедленно вызвать
обиду . А обижать тоже нельзя, и вот мы внутри порочного круга. Этот порочный круг неизбежен, если нарушен некий органический, изначальный и вечный
опыт . Между тем, наша культура, в основном, и состоит в его отвержении и нарушении, так что сама ее суть, собственно, из этого отвержения и состоит, оно составляет ее
опыт . Это опыт только негативности, восстания, протеста, и само понятие "освобождения" (liberation) тоже всецело негативно. На наше сознание, на наш "изначальный" опыт современная культура набрасывает аркан принципов, которые, хотя они кажутся "положительными", на деле отрицательны, ни из какого опыта не вытекают. "Все люди
равны ": вот один из корней, самая ложная из всех apriori. Все люди
свободны . Любовь всегда
положительна (отсюда, например, оправдание гомосексуализма и т.д.). Всякое ограничение –
опрессивно[628]. Пока сами христиане признают все эти "принципы", пока они, иными словами, признают культуру, на этих принципах построенную, никакие рассуждения о невозможности для женщин быть священниками просто не звучат, отдают, в сущности, и лицемерием, и самообманом. Короче говоря, если мы начинаем с какого-то отвлеченного, несуществующего, навязанного природе
равенства между мужчинами и женщинами, то никакая аргументация невозможна. А это значит, что начинать нужно с разоблачения самих этих принципов как ложных – свободы, равенства и т.д., ложных именно своей отвлеченностью, "выдуманностью". Нужно отвергнуть всю современную культуру в ее духовных – ложных, даже демонических – предпосылках. Глубочайшая ложность принципа "сравнения", лежащего в основе пафоса равенства. Сравнением никогда и ничего не достигается, оно источник зла, то есть
зависти (почему я не как он), далее –
злобы и, наконец,
восстания и
разделения . Но это и есть точная генеалогия дьявола. Тут ни в одном пункте, ни в одной стадии – нет положительного, все отрицательно от начала до конца. И в этом смысле наша культура "демонична", ибо в основе ее лежит сравнение. А так как сравнение всегда, математически приводит к опыту, знанию
неравенства , то оно всегда приводит и к протесту. Равенство утверждается как
недолжность никаких различий, а поскольку они есть – к борьбе с ними, то есть к насильственному уравнению и, что еще страшнее, к отрицанию их как самой сущности жизни; та "личность", мужская или женская, неважно, – которая жаждет равенства, уже, в сущности, опустошена и безлична, ибо "личное" в ней составляло как раз то, что "отлично" от всех других и что не подчинено абсурдному закону "равенства".
Демоническому принципу "сравнения" христианство противопоставляет любовь , вся сущность которой как раз в полном отсутствии в ней и как "источника", и как "сущности" – сравнения. Потому в мире и нет, и не может быть равенства, что он создан любовью , а не принципами. И жаждет мир любви, а не равенства, и ничто – мы знаем это – не убивает так любви, не заменяет ее так ненавистью, как именно это постоянно навязываемое миру как цель и "ценность" равенство.
А именно в любви , и ни в чем другом, укоренена двойственность человека как мужчины и женщины. Это не ошибка, которую человечество исправит "равенством", не изъян, не случайность – это первое и самое онтологическое выражение самой сущности жизни . Тут исполнение личности осуществляется в самоотдаче, тут преодолевается "закон", тут умирает самоутверждение мужчины как мужчины и женщины как женщины и т.д.
Но все это и означает как раз, что никакого равенства нет, а есть онтологическое различие, делающее возможным любовь, то есть единство , а не "равенство". Равенство всегда предполагает множественность "равных", никогда не претворяемую в единство, потому что вся суть равенства в его ревнивом оберегании. В единстве различие не уничтожается, а само становится единством, жизнью, творчеством…
"Мужское" и "женское" начала соприродны миру, но только человек претворяет их в семью . Ненависть нашей культуры к семье за то, что эта последняя обличает зло "равенства".
Пятница, 13 февраля 1976
Два дня лекций и интенсивной работы в семинарии – письма, свидания, разговоры. Сегодня завтрак с [о.]Ив.[аном] Мейенд.[орфом] и о.Леонидом Кишковским: обсуждение вопроса о приеме англикан. Всегдашняя оскомина от разговоров о Церкви и ее "эмпирической ситуации". Внутренняя отчужденность от всего, эту ситуацию составляющего. Всегда то же самое: я люблю Православие, я не люблю, не могу любить Православной Церкви, торжествующих в ней номинализма, инерции, триумфализма, властолюбия, обожествления прошлого, псевдодуховности и бабьего благочестия.
Получил сегодня сборник о Хартфорде: Against the World for the World
[629]. В общем доволен своей статьей.
Все эти дни – наслаждение от зимних Олимпийских игр в Иннсбруке по телевизии. Пропорциональное отвращение от commercials
[630] и новостей.
В связи с написанным выше (11 февраля) мысли о культуре грешной и культуре еретической . Мы живем в культуре (или цивилизации) именно еретической. Думать, развить это во второй серии скриптов для "Свободы", обещанных мне в начале лета. Внести туда все размышления о "правом" и "левом", об утопизме и т.д. О современной "духовности" как реакции, то есть об определенности ее тем, на что она реагирует…
Странное состояние: масса мыслей и потому – увиливание от работы…
Суббота, 14 февраля 1976
Пакет от Андрея: оставленные мною в Париже книги и детские наши письма, отданные мне мамой. Первые открытки из [корпуса] Villiers le Bel: ноябрь 1930года! Из лагерей, из Англии (1937-1938гг.) и т.д. За в сущности совершенно неинтересным содержанием ("как вы поживаете, мы хорошо") одно: какая у нас была счастливая семья! Думая об этом, перечитывая эти письма, – вся "драма" [многих молодых] только тут, только в том, что чего-то не хватало, недоставало, недостает в семье. Дело именно в "недостаче" чего-то, а не в "трагедиях". Трагедий у нас было сколько угодно: смерть [сестры] Еленушки, всегдашняя (и по письмам вижу – острая) бедность, папино питье и т.д. Но была реальность семьи, дома – именно то, чего не хватает моим теперешним "клиентам". Семья "трансцендирует" "взаимоотношения", она – ее реальность – к ним не сводится. Наоборот, пожалуй, "взаимоотношения" в ней укоренены и ею определяются. Семья – не цель, а источник, питающий жизнь, и сила жизни. Семья распадается, когда она становится целью (то есть опять-таки идолом).
О памяти : в этих письмах я пишу о людях, событиях, встречах, которых в моей памяти абсолютно нет.
Сегодня в первый раз – дуновение весны.
Письмо от мамы, бодрое, с ответом на мое – du bon usage de la vieillesse
[631]…
Месяц годовщин: смерти папы, Сергея Михайловича [Осоргина], о.Киприана, тети Лины. Иногда чувствуешь, как "жизнь" кусками отрывается в смерть, как песочная крепость, построенная детьми на пляже, постепенно, кусками смывается приливом.
Тоже в письмах: каким я был "церковником"! Все о батюшках да говениях. С какой неудержимой силой все это меня притягивало. И как трудно в этом притягивании теперь разобраться.
У Леото я нахожу слово, которое, пожалуй, точнее всего определяет мое основное состояние: reverie
[632]. И этой reverie мешают "дела" и "обязательства". И, может быть, только поэтому я так и люблю Леото, только из-за общности этого опыта: reverie, которой все время все мешает…
Все нужно для того, чтобы ничего не было нужным.
Понедельник, 16 февраля 1976
Детские письма – мои, Андрея, которые мы с Л. читаем с наслаждением. Одно из них, как раз не очень детское, меня поразило. Из Англии – тете Лине и тете Вере в июле 1937г., то есть когда мне было пятнадцать лет! Впечатления от первой англо-православной конференции (Fellowship of St. Alban and St. Sergius), на которую я попал в то лето. Вот эта часть письма:
"На конференции было очень интересно, и я очень рад, что попал на нее, но во многом я никак не могу согласиться ни с русскими, участвующими в этом "ecumenical movement"
[633] , ни с англичанами. Писать было бы очень бесконечно об этом; в двух словах – русские невольно поддаются "американизации и социализации" Православия, англичане все – "социалисты-христиане", соединение мне ужасно неприятное и непонятное. Американизация Церкви состоит в том, что люди начинают бегать и суетиться, устраивать бесконечные конференции, митинги, поездки, начинают больше говорить о христианстве, и все это пахнет какой-то нездоровой возбужденностью. Вы себе не можете представить, сколько в Англии всяких комитетов, обществ, лиг и партий, сколько конференций, журналов – все "христианские"… Вспоминаешь Серафима Саровского или Тихона Задонского и никак не можешь согласовать то "тихое и безмолвное" христианство с этим. Не знаю, хорошо ли я написал все это, но у меня это чувство очень сильно – чувство какого-то разрыва – между нашим Православием и этим новым Православием дешевых брошюр, популярных толкований и т.д. Люди столько говорят
о Церкви,
о Литургии,
о христианстве, что для меня снижает как будто, обедняет все это…"
Такое чувство, что mutatis mutandis я мог бы это написать сейчас. И все же, я думаю, не будь тогдашней поездки, встречи с мыслью, спором, с людьми прежде всего: о.С.Булгаков, о.Г.Флоровский, Г.П.Федотов и др., остался бы я в отношении Церкви на позициях "национально мыслящей" русской эмиграции.
Окончание вчера вечером зимней Олимпиады в Иннсбруке. Я думаю, что за эту неделю мы провели у телевизора не менее двенадцати-четырнадцати часов, в восхищении этой красотой, легкостью, чистотой и силой духа.
Вторник, 17 февраля 1976
Мучительная, духовно изнурительная работа над передней главой "Литургии" ("Таинство единства"). Мучительная потому, что весь смысл ее только в том, чтобы прежде всего самому открыть то, что хочешь написать… Мучительные поиски оправданности каждого слова.
Мучительная и потому еще, что всегда на фоне суеты и дел и ими "размываемая".
Совсем весенний, лучезарный, теплый день.
Среда, 18 февраля 1976
После вчерашнего – солнечного – дня сегодня – мокрый, серенький, промозглый. Но то же дуновение весны в воздухе. Работа – до обалдения – над своей главой. Головная боль от курения. Странная, таинственная вещь – работа мысли, точно прислушивание в себе к кому-то, чему-то другому, узнавание, а потом – попытка это сказать, выразить адекватно. Но всегда ощущение какой-то подспудной работы, совершающейся помимо меня. То , что говоришь, – не от себя, от себя лишь то, как говоришь. И все творчество, в конце концов, только в том, чтобы как соответствовало что . Не будет как , не выраженным, не явленным останется что . Таково "сотрудничество" человека с Богом, тайна человеческой свободы.
Спал сегодня в одной комнате с маленькой Александрой. Рано утром она проснулась и в полной темноте минут десять пела. Поразительно: настоящее "творчество".
Писал о вере (в отличие от "религиозного чувства"). Писал с вдохновением, радостью. А в сущности – суд над собою.
Вопрос Христа: когда Он придет, найдет ли Он веру на земле? В одном, однако, можно быть уверенным: Он найдет сколько угодно "религии" и "религиозных чувств". Страшный суд: суд, прежде всего, над религией.
"От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься"
[634]. Язык дан человеку, чтобы исповедовать, хвалить, свидетельствовать, молиться. Не для "разговоров". Все, что так или иначе не входит в эти категории, – не только не нужно, но страшно вредно.
Написал все это, "отдыхая" от работы перед тем, как приступить к последнему "воплощению".
Пятница, 20 февраля 1976
Настоящая весна. Два дня бесконечной занятости: лекции, appointments
[635] со студентами и т.д.
Чикаго. Понедельник, 23 февраля 1976
Пишу поздно вечером в Чикаго, куда прилетел на шесть дней читать лекции в лютеранской семинарии (богословие таинств). Всегда грусть перед долгой разлукой с Л., внутреннее обещание не принимать таких приглашений… Завтра начнется работа, станет легче.
Вчера после обедни поездка в Sea Cliff (крестины маленького Сережи Бутенева), потом – в госпиталь к Т.Лехман, у которой рак… Наслаждались красотой парков и деревьев.
В аэроплане начал книгу R.Kaisera "Russia"
[636]. Увы, все то же, что и в книге Хендрика Смита.
Вторник, 24 февраля 1976
С восьми до двух часов в лютеранской семинарии: лекции (три каждый день: немножко множко…), завтрак с тремя православными священниками: русским (о.С.Гарклавс), сербом (Велемир Ковачевич) и молодым, очень милым греком. Shop talk
[637] о "церковных делах". Меня всегда поражает, как в такого рода разговорах все, оказывается, во всем согласны: о кризисе Православия, об этницизме
[638] и т.д. При этом так ясно, однако, что никто "пальцем не двинет". Тут бытие не определяет сознание, а они просто сосуществуют. Страшный, уже в плоть и кровь вошедший номинализм Православия…
Днем заснул и спал почти два часа! А вечером в ABC
[639], где – получасовое интервью о Православии. Невероятно ясный вечер, совершенно удивительная панорама Чикаго. До студии – ужин в уютном немецком ресторанчике с [англиканами] Jack London и Bob Tobias. У обоих очень искренний интерес к Православию, но, увы, с прослойкой все той же экзотики.
Такое чувство, что, несмотря на занятость, отдохну здесь от семинарской суеты.
Старомодный клуб. Старомодный комфорт. У меня – две комнаты, с почтенными массивными дверями, с деревянными ставнями; спальня и гостиная и даже камин. Англосаксонское добротное удобство. Клуб в самом сердце университета, так что из окон видны главным образом всевозможные псевдоготические башни. Размах, богатство – которые мы еще застали в Америке в благословенные "Fifties"
[640]. Только теперь все это пронизано смесью страха (университет окружен черным гетто) и печали: что-то треснуло в этом западном благополучии, в этой устойчивости. Что-то изнутри их грызет…
Среда, 25 февраля 1976
Снова совсем весенний день. Сейчас – в пять часов дня – сидел читал, а за окном гриновские ветки на фоне заката ("tout est ailleurs…") и приглушенные звуки музыки откуда-то. Тот же "прорыв" в какое-то нестерпимое блаженство, в присутствие во всем тайного знания, света.
Разговоры – за столом в перерывах между лекциями – с протестантами. Поражает степень их, пожалуй, бессознательного следования за модой, потребность в успехе. Они, как Стива Облонский, надевают на себя то, что все носят, почти уже не сознавая этого. Так и в богословии…
Я давно знаю профессора Т., знаю "урывками". И вот удивительно: сейчас он – в мои годы! – одет, как "пижон". Какие-то клетчатые панталоны, необозримые яркие галстуки. Откуда, как это "прорвалось" в них?
На фоне этого – завтрак с православными. Говорили, как могли бы говорить и, наверное, говорили в 1975г. и будем в 1985-м. Там, у западных,
перемена – самоочевидная суть и форма жизни. Здесь – абсолютный иммобилизм
[641]. И то, и другое приводит меня в некое уныние.
Вечером – в 5.30 – за мной заезжает о.George Scoulas c женой. Ужин в греческом ресторане – необычайно "подлинном". Лекция в греческой церкви. Человек десять греческих священников. Большая толпа. Такого сердечного приема, такой овации я давно не встречал. Добрых полчаса подписывал книги… Вот уж, действительно, "несть пророка в своем отечестве". Молчание, равнодушие "своих", русских…
Четверг, 26 февраля 1976
Поездка в Valparaiso, Indiana, где я читал заключительный доклад на Liturgical Institute
[642]. Чудная поездка с о.С.Гарклавсом, чудным весенним утром: выехали в 7.30 утра. Минуем страшный мир сталелитейных заводов. Грандиозное апокалиптическое зрелище. А потом скромная, деревенская Индиана с маленькими городками и селами. Огромная толпа в Valparaiso. Речь удалась ("Евхаристия и молитва"), судя по длиннейшей овации. Завтракали с о.С. в стареньком отеле, где я когда-то ночевал (участвовал в таком же "институте"). Всегда действующий на меня шарм этой провинциальной Америки, этих городков. О.С.Гарклавс – милейший, скромнейший, подлинный. С ним легко и хорошо: сияние подлинного Православия – светлого, смиренного, любовного, открытого – необычайно отдохновительного после типичного для Америки напряженного "ортодоксализма", в котором мне приходится жить. Радость от всего этого усиливается благодаря действительно удивительной погоде (даже статья о ней в New York Times), апофеозу солнца, прозрачности, света… Однако ужасно хочется домой. По нескольку раз в день считаю на пальцах дни…
Понедельник, 1 марта 1976
Америка: вчера – в воскресенье – я встал в Portland, Oregon, в шесть часов утра; в десять часов я начал Литургию в Seattle, Washington; в восемь часов вечера я – на блины в Сан-Франциско; в 5.38 утра я был в Чикаго… Все вместе – меньше чем за двадцать три часа!
Бесконечно напряженный week-end. В пятницу в 6.30 вечера вылетел из Чикаго в Портленд. На пути на аэродром (меня вез греческий священник о.Скулас) – в который раз -поражался количеству
громадных церквей в Чикаго. Буквально в каждом квартале! Барокко, готика, все что угодно… Все это было, очевидно, построено в конце прошлого – начале нынешнего века всевозможными "иммигрантами". И сколько в это строительство вложено было жертвенности, "религиозного чувства" и еще чего-то, что трудно определить, но что осталось доминирующим в американском "воздухе": почти патологическая религиозность при почти полной секуляризации сознания. И какие церкви, с какими выкрутасами, башенками, узорами! Своего рода status symbol
[643] - перед самим собой, другими "иммигрантами" (такими же бедными и потому чувствительными к этим символам), Америкой…
Пятичасовой полет в Портленд. На аэродроме: Сима Гизетти, Anthony Scott, Elias Stephanopoulos – с "матушками". Ночевка у Гизетти. Бедность дома. Но и серьезность, горение – в "служении". Все это так меня всегда трогает: неумирание в мире "огня".
В субботу 28-го весь день в докладах – до хрипоты. Удивительное внимание этих греков, русских, арабов – годами, по-видимому, заброшенных. Ночевка у Скоттов. Весь день дождь, тут – холод, после чикагской весны.
В 6 утра выезжаем, вернее – вылетаем в Сиэтл. Литургия в Спиридоновском храме. Погружение в "русское благочестие" (хор, ритм, атмосфера) – в благочестие моего детства и потому всегда меня волнующее.
После Литургии, под храмом – "трапеза" и наши доклады. Как и в Портленде, просто удивительное отношение, радость – так что еще немного и я начну верить в собственную знаменитость!
Два часа у Дерюгиных – в доме с поразительным видом на залив. Нечто вроде "rap session"
[644] – с молодежью, взрослыми…Все время чувство: "жатвы много"
[645]…
В 5.30 – аэропланом в Сан-Франциско, где ждут Чекины и Глаголевы. Вскоре приезжает и Том [Хопко] из Нью-Йорка. Блины у Чекиных в их brand-new
[646] доме. Чувство близости, братства, единства.
Оттуда – обратно на аэродром и в двенадцать часов ночи – полет в Чикаго, куда прилетаю еще совсем ночью (5.30 утра). Оставил его в пятницу весенним, с весенним закатом на крышах, с чем-то неуловимо весенним в освещении, в воздухе. Возвращаюсь – в зиму, ветер, слякоть. Такси везет меня грязным рассветом через весь город. И в этом грязном свете, дожде, тусклом снеге – Чикаго страшен. Такое чувство, что это западня для миллионов людей…
После этого свою уютную двухкомнатную "сиюту"
[647] [в клубе] ощущаю как дом! Тепло, убрано, тихо. Как скоро мы вживаемся, как быстро на все ложится "мое дыхание, мое тепло"
[648]… Два часа сна – после бессонной ночи – и в семинарию на лекции, до трех часов дня…
В три уже из последних сил возвращаюсь с твердым намерением больше никуда не вылезать, благо на дворе дождь и холод. И в этих снова зимних сумерках делается так уютно! За окном на сером небе – переплет черных, мокрых веток. Почему-то долго-долго, часами перезванивают колокола. Тепло. Уютно. Телефон Льяны из Нью-Йорка – все благополучно, и потому становится еще уютней. В семь ужинаю в клубе же. Профессора, "интеллектуалы" с женами. Вспомнился колумбийский Faculty Club
[649], куда мы часто ходили с Л. ужинать, когда жили в Нью-Йорке.
После двух дней непрерывного разговора, общения, лекций – блаженные часы, когда "приходишь в себя" в самом буквальном смысле этих слов.
Остается еще три дня Чикаго. Все это время считал часы до возвращения домой. Но знаю, что, как всегда, потом и эти дни, и вот этот вечер – останутся в памяти, войдут в нее навсегда – светом …
Вторник, 2 марта 1976
Говорят об интервью Солженицына в Лондоне, но в сегодняшней "Нью-Йорк Таймс" – ни слова. Будто бы он снова "обличил" Запад и предсказал его "конец". Задержал
[650] себе место на аэроплане в четверг. Еще одна страница…
Среда, 3 марта 1976
Канун [отъезда]. И, как всегда, порядок, ритм, установившиеся за эту – всего лишь! – неделю, начинают как бы растворяться, слабеть, просвечивать своим собственным концом и присущей всякому концу печалью. Встреча, разлука. Начало, конец. Невозможность в "мире сем" чего бы то ни было окончательного, исполнения того обещания, что заложено во всем, но никогда в полноте не исполняющегося… Только что эти двадцать человек, которым я прочел за эту чикагскую неделю столько лекций, перестали быть анонимами, только что стала проясняться подлинная
встреча , осознание единственности каждого, как вот уже – разлука. Именно потому сказано: "Крепка, как смерть, любовь"
[651]. Обо всем этом думал, возвращаясь белым ветреным днем по ставшей уже "своей" улице. Я страшно устал от этих лекций, я давно уже считаю часы до возвращения, даже до отъезда на аэродром, но вот и эта печаль – разлуки, все тот же опыт непоправимой раздробленности жизни…
Западный Ash Wednesday
[652]. В десять часов утра короткая служба в семинарской chapel
[653]. Все в этой службе
хорошо : много молодых, пение, умная проповедь (о молитве как "Авва", "Аминь" и "Аллилуйя"). Слова молитв доходят и гимны (я всегда любил западные гимны – с первой поездки в Англию в 1937г.). А все же вопрос: почему же все-таки все это наше христианство оборачивается такой слабостью, таким бессилием и жизнь идет кругом нас так, как если бы никогда никакого христианства не было?
Вчера вечером ужин у Гарклавсов. Радостный опыт семьи , ее реальности, ее красоты, ее "доброты". Ни о чем важном и серьезном не говорили. Шутили. Дети играли на рояле. А вот всем хорошо . И это "хорошо" совершенно бескорыстно. Семья не имеет "цели", она не "прагматична". Она источник, она – та жизнь, из которой вырастают цели. Возвращаешься домой после такого вечера – как бы омытый этой радостью, этим "хорошо".
Взял у Гарклавсов советский альбом, посвященный Блоку. Фотографии – от рождения до смерти и похорон – его, его жены, друзей, домов и т.д. Все это в свою очередь "иллюстрировано" его стихами. Я давно не возвращался к Блоку. Пожалуй, с острого увлечения им в шестнадцать-восемнадцать лет (мечтал даже книгу о Блоке писать тогда: читал о нем доклады!). И вот, вглядываясь в эти фотографии, перечитывая эти стихи, которые знаю наизусть, чувствую, чего не чувствовал тогда: присущую Блоку "пошлинку". Ее нет или, может быть, она преодолена в его "взлетах", но она присуща всему, что не "взлет". Все эти "королевы ночных фиалок", увлечение декламацией(!), тон писем, дневников, статей – заставляют постоянно внутренне морщиться. Этой "пошлинки" абсолютно нет у Мандельштама, у Ахматовой. Но она есть у Пастернака и в еще большей степени у Блока. И это, мне кажется, неслучайно. Это – тайный, духовный порок "символизма", его органическая неполноценность, червоточинка в нем. Интеллигент, приобщившийся "эстетике", но не освободившийся от "интеллигентщины". Это не умаляет ни великого дара Блока, ни его "правдивости", ни даже исключительного места его в русской поэзии. Остается и то, что все прощаешь Блоку, когда доходишь до:
"Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!"
[654]" Тайную свободу " подчеркнуто в рукописи, воспроизведенной в альбоме. Этот призыв, это рукопожатье – обращенные к Пушкину перед уходом в ночную тьму – это возносит Блока, делает его слова – словами гибнущей России (об этом хорошо писал Ходасевич в "Некрополе").
Только что под мелким дождем и низким небом – прогулка по университетскому campus'у
[655]. Готика, простор, великолепие. И куда ни посмотришь – шпили церквей, башни, готические окна храмов. Все, буквально все создано богатой, уверенной в себе, торжествующей религией. И это же
все от нее отреклось, ее отбросило и насаждает и разрабатывает под сводами этих cloisters
[656], в тени этих храмов, в лучах, отраженных этими витражами, – культуру, весь пафос которой, сознательно или бессознательно, направлен против христианского
видения мира.
Вечерня в Троицком соборе. После вечерни – лекция… Я уже как в тумане их читаю, словно не я, а кто-то другой. Много народу, почти все духовенство Чикаго во главе с влад. Иоанном.
После этого – ужин у молодого греческого архимандрита, необыкновенно умного и открытого (о.Феохарис Хронис).
Crestwood. Пятница, 5 марта 1976
Вчера бесконечно трогательный финал в Чикаго. Даже приводить всех похвал и хороших слов не хочу. За ними, однако, – радостный опыт встречи.
Вечер с Л. – в ресторане, потом дома. Радость, но и страх от завтрашнего (то есть сегодняшнего) погружения в эту все более и более невыносимую суету.
Дома нашел: третий том "Архипелага" – еще толще, чем первые два… А сегодня получил "с приветом от автора" книжечку Вейдле "Зимнее солнце": о его детстве. За завтраком начал читать. Книга вся в тональности счастья и благодарности и этим сразу – близкая мне…
Понедельник, 8 марта 1976
Великий Пост. И, как всегда в эти дни, – в памяти длинная, в самое детство уходящая гряда "прощеных воскресений".
Эти дни, в субботу и воскресенье, читал по очереди и вперемежку – третий том "Архипелага" и "Зимнее солнце" Вейдле. "Архипелаг" снова потрясает силой, объемом, каким-то "половодьем" солженицынского таланта. Поражает буквально каждая страница. Точность и гибкость языка, богатство интонации, напор "воплощения". Казалось – после двух томов пресыщение, невозможность снова погружаться в тот кошмарный мир. Но вот – так же захватывает, так же несет эта могучая волна…
А из книги Вейдле льется, другого слова не сыщешь, свет. Это книга о свете, собирание жизни, памяти – светом. Та "тональность", которую я больше всего люблю и в которой больше всего нуждаюсь – как в воздухе и пище.
Вторник, 9 марта 1976
Вчера – почти весь день в церкви: пять служб! Погружение в великопостную стихию. Как-то по-новому слушал и слышал псалмы, поразительное столкновение в них человеческого отчаяния и веры. Ничто с такой силой не доказывает условность, призрачность всех "эволюций" человека. Вот он – на поверхности. Все основное – вечно и потому по-настоящему "современно". Устарел – хотя бы отчасти – "византинизм". Чувствую это, читая канон Андрея Критского. Но не псалмы, на тысячелетия опередившие "византинизм".
Кончил "Зимнее солнце" Вейдле. "Религия без искусства немеет", – пишет он. Книга, родившаяся из радости. "Ныне отпущаеши", снова повторенное. Собираюсь писать ему.
Вчитываюсь в третий том "Архипелага", который начал с конца, а теперь читаю с начала. Поразительная – не просто сила, а именно "силища".
Разговор вчера – с Томом и Л. – о гомосексуализме. (в связи с рассказом Тома о P.H., о его защите гомосексуализма и расхождении с женой. Почему так слабы тут (в безоговорочном осуждении гомосексуализма, осуждении для меня самоочевидном, как, скажем, и невозможность рукоположения женщин) – все "доказательства"? Не потому ли, что все самоочевидное (религиозно) не доказуемо? Ибо самоочевидность укоренена в "светлом знании", в причастии "уму Христову". А доказательства, чтобы быть доказательствами, должны развертываться в темном знании , в логике "мира сего". А в этой логике "мир сей" всегда сильнее, ибо он и логику-то эту изобрел для самооправдания. Христос извещает нас о грехе. Без Христа грех есть всего лишь
"проблема", и ее с упоением решает мир сей, причем решение это всегда "либерально", "терпимо", "любовно", "положительно"… Ужас современного христианства поэтому только в том и состоит, что оно эту логику приняло и ею измеряет и судит веру… И получается, что "свет, который в нас, – тьма"
[657]…
Среда, 10 марта 1976
Вчера после обеда весь вечер и всю ночь – снежная буря. А сегодня утром – яркое солнце и ослепительная белизна.
Разговор с Л. о Мортоне, о том, в чем бы я мог (и, по мнению многих, должен) его "обличить"; три пункта, общих, увы, в разных степенях всей нашей и особенно американской – культуре:
1) в отвержении самой возможности аксиологических суждений, наличия в мире "черного" и "белого", не только Бога, но и дьявола. Отсюда – одержимость "встречами", "диалогами", взаимными "углублениями", отсюда – глубочайший релятивизм;
2) в типичном для Америки, особенно для американских либералов, дешевом самоотождествлении со "страждущими". Дешевый культ Шавеза, индейцев, мексиканцев. Поза "праведного гнева", направленного всегда, догматически, априорно, "направо", никогда – "налево". Зуд "самобичевания";
3) в смешении "религиозности" с "верой". Псевдодуховность, псевдомистика, псевдоаскетизм. Присущее всякой "религиозности" – идолопоклонство.
Исповедь вчера Н. Совершенно счастлив, благополучен. "Что мне "делать"?" Христос, может быть, ответил бы: "Отдай все…" Но я не могу. У меня, в сущности, то же счастье и то же благополучие, только "прикрываемое", "оправдываемое" церковной "деятельностью" (которую я тут же постоянно проклинаю и которой тягочусь). Я сам ничего не "отдал". Я сказал: будь счастлив, благодари за это счастье Бога и, главное, стой перед Ним, так чтобы услышать Его, когда Он позовет …
Исповеди студентов – вечный "sex"…Я начинаю думать, что этот грех "полезен" – иначе все они возомнили бы себя святыми и бросились бы в "старчество"! Они и так в этом наполовину убеждены. Отсюда – спасительность этого "жала в плоть". Оно одно, пожалуй, не даем нам погибнуть в гордыне, cuts us down to size
[658]…
Канон Андрея Критского: ужасающая мертвенность его в английском переводе. Исчезло то, что "оправдывает" его, – рыдание души. Остался какой-то суконный, безжизненный, искусственный аллегоризм.
Вчера до двенадцати часов ночи следил по телевидению за результатами primaries
[659] во Флориде. Победа Форда над Рейганом, Картера – над Уоллесом и Джексоном. Пустяки как будто. Что же меня, в сущности, так в этом занимает? Думаю – ненависть к демагогии, которую так ощущаю у людей типа Рейгана и почти у всех демократов. И потому желание, чтобы им "намазали на бутерброд". Ужас от всех этих "спасителей". Форд – говорят – "прозаичен". Но государство должно быть прозаично, иначе оно становится идолом и рано или поздно "тоталитаризируется". Демократия – необычайно
скучная вещь, но в принятии "скуки", "правил игры", в отталкивании от всякого "вождизма" – ее единственное
величие . "Величие" мотора – когда можно о нем не думать, когда, будучи необходимым, он освобождает нас от себя…
Четверг, 11 марта 1976
Все утро вчера писал письма, главным образом отказы от всевозможных предложений и приглашений. Только одно писал с радостью – Вейдле, благодарность за его "Зимнее солнце". Все это время мне бы писать свою "Литургию"…
С трех до пяти исповеди, потом первая Преждеосвященная.
В 6.30 ужин с Philipp Potter, главным секретарем Всемирного Совета Церквей, которого я знаю с 1975г., с Амстердама. Сделал "экуменическую карьеру". Весь разговор – о "дипломатических ходах") (М.[осковская] Патриархия, греки, Константинополь и т.д.). Так что с радостью возвращаюсь к восьми в церковь на канон Андрея Критского.
Очередной кризис в Spence
[660], в обсуждении которого проводим поздний вечер. Радость от полного, моментального, самоочевидного согласия – поступать по совести, не задумываясь о последствиях…
"Архипелаг" III: удивительно! Потрясающая книга.
Пятница, 12 марта 1976
Вчера закончили Великий Канон, литургическую "массивность" первых дней Поста, и он вступил в то, что – внутри себя – я называю его "легкостью" и в чем вижу и чувствую его главное и содержание, и цель. Сегодня утром – вот именно такая "облегченная" утреня, вся как бы в полутонах, вся светящаяся и звучащая "светлой печалью".
В Нью-Йорке вчера, в "Свободе". Опять солнце, и, хотя и холодно, все наполнено обещанием весны. Двадцать блоков пешком, в пять часов дня. Всегдашнее удовольствие от этой городской суматохи (все бегут домой!), от оживления, от жизни – и от всего этого в ярких лучах вечернего солнца.
Понедельник, 15 марта 1976
Длинное воскресенье! Утром служил в храме Христа Спасителя на 71-й улице, потом – трапеза, потом – лекция. Это последний кусок, лучше – лоскуток "русской эмиграции" первой волны. На нем можно проверить тот закон ее, о котором я не раз думал: закон ее вневременности и иммобилизма. Это даже удивляет! Прежде всего – сама Литургия. Отвыкнув от этого русского эмигрантского стиля, сильнее замечаешь то, что не замечал в детстве. А именно тот "закон", согласно которому в служении тщательно
скрыто все то, что могло бы дойти до сознания верующих, всякое подобие
смысла , не говоря уже о молитвах, полная бессмысленность пения (сплошь "концертного"), чтения – абсолютно невнятного, включая Евангелие, и т.д. Но по этому же закону все зато "разукрашено", завешано всяческой "душевностью" и "сентиментальностью". На сугубой ектении – имена хористов! На заупокойной – просто поток уже не только имен (Государя и т.д.), но и всяких категорий – "за веру, царя и Отечество убиенных"… Перед причастием мирян (два человека в первое воскресенье Великого Поста!) старенький дьякон, очевидная душа и "хранитель преданий" этого прихода, минут десять делает объявления: тут и концерт какой-то "одаренной пианистки", и призыв оказать "моральную поддержку" приходу, записавшись в него и внося 1доллар в месяц(!), целая "устная газета". И чувствуется, что для этих десяти минут задушевных оповещений и живет этот дьякон. Можно сказать так: бессознательно, подсознательно, но стиль этот
скрывает , замазывает
смысл Литургии, Церкви, веры и заменяет его неким общим "чувством". От вас ничего, так сказать, не требуется, кроме вот этого общего "переживания", которое действительно, наверное, "помогает жить". Подлинно "rite de la tribu"
[661]. Но сколько это объясняет в сложных взаимоотношениях Православия и "русской души". И какая во всем этом разлита тонкая гордыня – собою, "русскостью", душевностью, сердечностью, как не подвержено никакому сомнению! Вот "мы сохранили" и "мы сохраняем". Нас мало, но мы все такие же… Даже десятки изумительных "постных пирогов", о которых дьякон извещает (перед причастием), что они "к нашим услугам после Б.[ожественной] Литургии", даже они становятся героизмом, исповедничеством, свидетельством. И ужас перед намеком на какое-нибудь изменение. Я убежден, что тронь что-нибудь – и они просто уйдут. Это будет уже не тем, к чему они "привыкли", и потому им совершенно ненужным. Панический, хотя и бессознательный страх перед
смыслом.
Оттуда – солнечным, весенним днем – еду к Н.С.Арсеньеву. Другой "шок": восемьдесят семь лет! Один! Почти слепой! В этом полуразваливающемся доме, сплошь завешанном какими-то "дагерротипами", заставленном книгами, в грязи… Полтора часа слушаю – что? Поток судорожно изливающегося на меня тонущего мира, того, который один признает Н.С. Не понимая, что он его так любит потому, что это
его мир: эта идеализированная, утонченная дворянская усадьба его дедов и прадедов! И как и на 71-йулице – никаких
антенн , ни малейшего интереса, внимания к другим мирам, да и просто к реальности. Ее не существует. "Только зеркало зеркалу снится…"
[662]. Уезжаю с чувством болезненной жалости – дядя Никола провожает меня до автомобиля: несчастный, слепой, неуклюжий старичок, зачарованный своим "градом Китежем". Уезжая, цитирую себе: "…но жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем и в ночь идет, и плачет, уходя…"
[663].
Ужин у Трубецких в Syossete. От них заезжаю к Месснерам. Еще один "мирок", но уже сил не хватает в него вживаться. И так за один день путешествие по целым континентам, герметически друг от друга изолированным и, что гораздо для меня страшнее, – хотящим этой изоляции , живущих только собою, своим , превращенным в "единое на потребу".
Иногда такое чувство, что большинство людей действительно, хотя и неведомо для себя, живут скрываньем от себя –
реальности (не только смерти) и что именно в этом скрывании – основная для них функция религии. "В его дремоте не тревожь…"
[664]. Именно такая "дремота", навевание ее – вся эта Литургия, да и вся эта церковь, в которой среди непонятно сладких слышатся иногда "душевно нужные" слова – "за веру, Царя и Отечество", "не откладывайте говения до конца Поста"… Слышу, чувствую возражение (слышал его с шестнадцати лет): что же в этом плохого? Ведь вот, действительно, помогает жить… Отвечаю: плохо то, что эта "дремота" так страшно легко оборачивается
ненавистью и
кровью . Ирландия, Ливан…
Отсюда, мне кажется, и внутренняя раздробленность Солженицына. Страшная "реальность", увиденная им и так беспощадно выраженная ("Архипелаг"!), – внутренне, утробно исцеления ищет от хоть какой-нибудь "дремоты": пусть Аввакум, староверы, "русское нутро". И не видит, что это "нутро" соткано из дремоты и оборачивается припадком ненависти всякий раз, что кто-нибудь прикасается к ней…
Что это мне все сегодня лезут в голову стихи? Перечитал написанное и отчетливо "услышал":
"Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним…"
[665].
Вторник, 16 марта 1976
Дома с желудочным заболеванием, которым, в сущности, воспользовался, чтобы не ехать в Syosset (синод) и не идти в семинарию. Мокрый снег. Л. лежит наверху. Уютно. Только что звонок от Андрея из Парижа: о здоровье Л. Рассказывает о встрече с Солженицыным, о его похвалах Наташе. Работается с трудом: все не удается, как хотелось бы, "единство веры". Знакомое мне с детства – состояние внутреннего оцепенения…
Среда, 17 марта 1976
Очередной "церковный кризис", мною же и вызванный, то есть письмом моим вл. Сильвестру в связи с назначением меня "консультантом" св. синода, письмом, в котором я "излил душу" о власти – из власти в Церкви все время превращающейся во власть над Церковью, в "начальствование", о недоверии, подозрительности и т.д., о невозможности в этой атмосфере работать. Вл. С. возьми да и прочти его вчера синоду! Сегодня меня вызвали. "Благорастворение воздухов". Приказали сниматься с владыками. О.Д.Губяк говорит, что хоть немного, но "подействовало"… Все это мне бесконечно тягостно и вгоняет в уныние, и все же, проверяя свою совесть, я думаю, что эти мои периодические "вопли" оправданы, ибо другого способа нет, ибо иначе со дна поднимается "тьма египетская", в которой задыхается наша Церковь…
Голландский перевод моего "Великого Поста". И еще письма – простые и благодарные: от какой-то католической монашки в Филадельфии, от какой-то беременной женщины из [штата] Мэн. Радость от этих свидетельств – "доходит". Мне всегда казались ненужными богословские книги для богословов. Критерий богословия: написать без упрощения и, однако, так, чтобы дошло до обыкновенного верующего (или неверующего).
Один из тех дней, когда, несмотря на мороз (вчера падал снег), все ликует весной… Ехал из Syosset вдоль залива. Вода синяя-синяя и далеко голубая дымка берега. И праздничные, торжествующие облака. И неистребимая, несмотря ни на что, joie de vivre
[666]…
Пятница, 19 марта 1976
Вчера – письмо от Никиты: "Ваша статья А.И. кольнула, но он ее перенес…" Ответил ему длинным письмом.
Понедельник, 22 марта 1976
Воскресенье в Campbell, Ohio, в приходе о.Иоанна Псинки. Торжественная Литургия, чудный хор, банкет с лекцией, вечером – вторая лекция. В промежутках – бесконечные разговоры о Церкви, о епископах, ужин в лесном ресторане. Все привычно, знакомо до мельчайших подробностей, так что словно по нотам разыгрываешь! Ведь двадцать пять лет всего этого… Едешь с неохотой, как лямку тянуть, но вот всегда в результате – и подбодрение, и радость. Когда поворачиваешься от престола и видишь еще одну толпу, и молодежь, и массу детей, оживает вера и в Церковь, и в Православие, и в осмысленность всех этих усилий.
Вылетели сегодня утром в 6часов, в темноте, под падающим снегом. Когда приземлились в Питтсбурге – весна и солнце. В 9.30 – дома. Маша и Вера
[667].
Вторник, 23 марта 1976
Вчера писал скрипты для "Свободы" – о Вербном Воскресенье. В сущности хотелось бы до смерти написать: "Страстная. Пасха. Пятидесятница". "Богородица", "Литургия смерти", "Рождество и Богоявление". Так был бы обнят, покрыт весь круг. Я знаю цену писаниям, но знаю и то, что мой подход к литургическому преданию сейчас, во всяком случае, только мой и, следовательно, я должен "исповедать" его.
Вопрос всякой жизни: как с достоверностью разобраться, что в ней – от Бога, как послушание Ему ("чего хочет от меня Бог…") и что – от "мира сего" (и того, кто за ним). Вопрос о призвании . Моя жизнь сложилась как жизнь "церковного деятеля". Но именно этой жизнью я всегда бесконечно тяготился и с каждым годом тягочусь все больше. От слабости это или же от того, что подлинное "призвание" мое в другом? Только в постоянном присутствии во мне этого вопроса – мое мучение . Я живу действительно двойной жизнью , причем одна как бы все время съедает другую. Так вот – хочет ли этого Бог? В этом ли "условия" моего спасения? Всякий раз, что я ставлю себе этот вопрос, – ответ не приходит . И это на 55-м году жизни!
Среда, 24 марта 1976
Вчера поездка в [колледж] Bryn Mawr: лекция о Достоевском. Ослепительный весенний день – радость от этих, уже готовых к весне, но еще прозрачных перелесков, от прикосновения к миру Божиему. Сто тридцать миль в каждую сторону, а возвращаюсь поздно ночью не усталым, а отдохнувшим.
Сегодня все утро в Нью-Йорке: "Свобода", потом в passport bureau
[668]. Чтение L'Express и L'Observateur, всегда с тем же удивлением от идеологизации решительно всей жизни. Я всегда думаю при этом чтении: как хорошо, что мы уехали в Америку. Как часто она меня раздражает, злит, даже бесит – и все же нет в ней "идеологии" (есть моды, увлечения, снобизм, глупость, но не "идеология") и потому в чем-то главном не искривлено сознание…
Пятница, 26 марта 1976
Утром вчера в St. John the Divine
[669], на дебате о рукоположении женщин. Масса народа – англиканских женщин, священников, мирян. Некоторые женщины в collars
[670]. Для меня – тяжелая атмосфера, ибо мне очевидно, что в плане доказательств как раз ничего и не доказуемо. Так и сказал: тут две "музыки", и выбор совершается не умом, а сердцем и уже потом под этот выбор подгоняются доказательства…
В двенадцать часов благовещенская вечерня и Литургия, особенно насущная и вдохновительная после глупости, упрощения и полной неразберихи утреннего заседания.
Больше всего удивил меня гнев в ответ на мое замечание, что Христос был мужчиной! Это лишний раз подтверждает мое убеждение, что слово "Христос" употребляется в наши дни как символическое имя того, что мы считаем главным, "ценностью"…
Днем – многочасовая разборка писем 1975-1976гг. Перечитывал письма Никиты Струве, Солженицына, Варшавского, Иваска и т.д. Буря автокефалии. Как быстро минуют все эти бури, как действительно "проходит образ мира сего".
Суббота, 27 марта 1976
Письмо от В.В.Вейдле: "Дорогой отец Александр и Саша, юный мой друг, о котором я всегда думаю с любовью. Очень Вы меня тронули откликом Вашим милым на мою книгу и более чем тронули глубиной восприятия ее. Вероятно, никто кроме Вас и не увидит ту благодарность , что в ней сквозит и которую действительно можно, да и следует назвать религиозной. Ни о чем я этом не думал ни когда замышлял ее, ни когда писал, совсем простодушно писал, без малейшей "задней мысли", но с Вашим впечатлением соглашаюсь. Церковного христианина во мне только о.Сергий [Булгаков] пробудил, а потом он уснул во мне опять. Но все же я внутренне всегда в христианстве жил и продолжаю жить, с ужасом взирая на то, как мир и даже "исповедальный" церковный мир не только багателлизирует христианскую веру, но и расстается с христианской совестью. Может быть, Вы захотите написать о "Зимнем солнце" в Вестнике ? Буду этому очень, очень рад, но отнюдь Вас к этому – даже любовно – не понуждаю. Ваше письмо мне дороже любых отзывов и нашу дружбу хранит Тот, Кто не читает даже православнейших журналов. Обнимаю Вас, дорогой друг. Ваш В.Вейдле".
Сегодня все утро писал письма, лежавшие у меня камнем на совести. Писал предисловие к брошюре о Великой cубботе для Connie [Tarasar]… Сейчас три часа – иду в семинарию. Всенощная.
Завтра после обедни – отъезд с Л. в Homestead, Va., куда мы "спасаемся" на три дня.
Смерть в Роттердаме епископа Дионисия (Лукина) – лежал с ним (молодой иеромонах) в одной комнате[в госпитале] летом 1936г. Смерть Ю.С. Сречинского: встречался с ним в Париже в 1941-1942гг., во время немецкой оккупации.
Четверг, 1 апреля 1976
Три дня с Л. в The Homestead, старом, огромном, "аристократическом" отеле в Hot Springs, Virginia. Отель почти пустой, и мы бесконечно наслаждаемся его салонами, залами, всем этим остатком и пережитком старой жизни. Уехали в воскресенье, после Литургии, вернулись вчера к вечеру.
Пятница, 2 апреля 1976
Два предельно "суматошных" дня – главным образом из-за трудностей с City Hall
[671] (новая семинарская постройка) и завтрашней поездки на два дня в Вашингтон.
Сегодня (конечно, тайно от всех и вся) переезжает в Америку Солженицын! "Каково будет целование сие?". Эта страна никого не оставляет таким, каким он приехал сюда. Какова будет "химическая реакция": Увидит ли он за деревьями (раздражительный "американизм") – лес, то есть саму Америку?
Письма от Андроникова, Вани Морозова, какой-то женщины, читающей Кавасилу. Почему я органически не способен отвечать на письма понемногу, а должен ждать, чтобы их набралась гора, чтобы с отчаянием ухлопать на ответы целый день? Потому, наверное, что каждое письмо требует частицы сердца, а на это все мы скупы.
Размышления все эти дни – в связи с новой серией скриптов для "Свободы" – об идеологии, религии, вере. Ошибка – при всех заслугах – Мирча Элиаде и всей этой школы в том, что они и христианство сводят к религии, так же как другие (И.А. Ильин, книжечку о котором Н.П. Полторацкого я только что просматривал) видят в нем если не идеологию, то хотя бы основу идеологии. Христианство "разлагается" и в религии ("священность"), и в идеологии. Религия и идеология совместимы. Христианство (вера) несовместимо ни с той, ни с другой.
Религия и идеология порабощают. Освобождает только вера. Религия и идеология говорят о "свободе". Вера говорит о послушании. Но только в ней свобода (послушание Богу есть единственная в этом мире свобода и источник свободы).
"Мир во зле лежит". Но сколько в этом злом мире добрых людей! Думал об этом, разговаривая сегодня с о.Марком Стивенсом и его женой и внутренне любуясь ими.
Понедельник, 5 апреля 1976
Два дня в Вашингтоне. В субботу – retreat в церкви св. Марка, до этого – Литургия. Целый день лекций, вопросов и ответов, исповедей; несмотря на усталость, радостное чувство, что делается все-таки что-то нужное, основное, подлинно "насущное". В пять часов вечера – с Сережей и Маней – прогулка по старым улицам, освещенным уже закатным, но ярким весенним солнцем. Чувствую счастье от всего этого. Ужин у Григорьевых с Гревскими и Поливановыми. Вечные разговоры о России, Православии, Солженицыне, но без раздражения – дружеские и веселые…
Утром в воскресенье в Николаевском храме – проповедь на английской Литургии, потом – служение славянской. Опять с проповедью, потом – "слово" за приходским обедом. После обеда небольшой отдых у милейших родственнейших Поливановых и – в Аннаполис, на лекцию в Naval Academy
[672].
Владимир Толстой-Милославский показывает мне старый город, порт. Америка эпохи провозглашения независимости, очень подлинная. Громада морской школы – 4.000 кадет! Роскошь и размеры зданий… Возвращение в Вашингтон. Ночевка в новом – изумительном – доме Владимира и, наконец, сегодня утром восьмичасовой shuttle
[673] на нью-йоркский [аэродром] La Guardia, где встречает меня Л. И опять лучезарный день, поднимающий дух et qui comble le coeur
[674]…
От всего этого, с одной стороны, – большая усталость, с другой – удовлетворение от того, что я делаю то, что умею и к чему призван, а не тяну скучнейшую административную лямку в семинарской канцелярии… И радость от общения с друзьями , с людьми, с которыми можно быть самим собой.
Среда, 7 апреля 1976
Поездка вчера в Amherst – к Иваскам и в Smith College с лекцией. Как всегда, главное удовольствие от самой поездки, от Новой Англии, от весны и отсутствия – в автомобиле – суеты и телефонов!
Иваски живут в запущенном, заросшем домике (вроде, наверное, домика старосветских помещиков) – прямо на сampus'e
[675]! Все тот же Иваск. Вспоминали, как встретились с ним летом 1975г. [в Германии] на съезде Движения и он мне читал Мандельштама. Люблю его за доброту и свет, ни в коей мере не растраченные в жизни, как, впрочем, и "жар души"…
В пять часов в Smith. Встречает меня Александр Воронцов – сын старого моего друга Илариона, умершего несколько лет тому назад в Лос-Анджелесе, с которым мы тоже читали стихи при коротких наших встречах в Калифорнии. Ужин в Faculty Club. Изумительный закат за окном, в парке college'a. Огромная толпа на лекции. Позднее ночное возвращение домой по совсем пустым дорогам…
Смотря вчера на все это множество глаз, устремленных на меня во время лекции, думал (а потом, на пути домой,передумывал): что такое "воспитание", "образование"? Чем наполнены и живут эти огромные, роскошные college'и, дышащие таким благообразием, благоустройством, мощью, окруженные парками, отражающиеся в водах прудов? "Мы учим думать", "мы учим
критике "… Разбор, анализ, критика, рефлексия… Но вот после лекции подошли ко мне девочки – Пущина и Шидловская. До критики и, может быть, даже
до фактов, сознательно или подсознательно, неважно – они ждут чего-то
другого . "Вдохновения"? "Правды"? "Смысла жизни"? Избитые словосочетания, но именно
то . Всего того, что отвергает с ужасом и презрением современная академическая психология и идеология. Она разрушает что-то, что еще даже не вошло в сознание студентов. Она отвергает всякое вдохновение, всякое "видение". И эти kids
[676] бросаются восторженно в первое попавшееся на пути: подделку религии, радикализм, transcendental meditation
[677], communes
[678]… Ничто и никто в школах их больше не "воспитывает" и не "образовывает" (
питание и
образ ). Отброшено все то, что создало эти college'и и что они внешне все еще отражают, а именно:
образ, видение . Эти молодые профессора, гордые своими Ph.D.
[679] (о запятых у Андрея Белого), дрожащие за свои места, дрожащие перед студентами, желающие, главное, быть "интеллектуалами" и чтобы приняли их статейку в научный "славяноведческий" журнал… По сравнению с ними наш глупенький и примитивный капитан Маевский был педагогическим гением, и, Боже мой, как я рад, что "на заре жизни" попал в их руки, а не к современным "интеллектуалам" и "educators"
[680]. Наш нищий [корпус] Villiers le Bel весь светился "образом" и "видением", все в нем было сосредоточено на "служении". Помню, как в пятнадцать-шестнадцатьлет я почти плакал от восторга, читая книгу Montherlant "Le Service inutile"
[681]. Жизнь просвечивала чем-то огромным, прекрасным, "важным" – и вот это просвечивание, непонятное, но ощутимое, и
воспитывал о и
образовывало . Несчастная молодежь, которой предлагают только "critical approach"
[682], фрейдианскую интроспекцию и мелочный "успех"…
Пятница, 9 апреля 1976
Захвачен, восхищен книгой Синявского "В тени Гоголя". Про нее действительно можно сказать, что она великолепна. И что-то самое главное он уловил несомненно и именно о всей "религиозной проблеме" Гоголя. Почему это – думал я, читая страницы о "Переписке", о космическом и светлом смысле смеха и т.д. и вспоминая "благочестивые" книги о Гоголе Зеньковского и Мочульского, – люди, как будто далеко стоящие от "церковности" и "богословия", обладают часто лучшей богословской интуицией? Не потому ли, что те уже скованы каким-то "заказом", из всего должны делать "апологетику" и "духовную пользу"? Ужас лжесмирения. Достаточно человеку усвоить ключ "благочестия", и для него уже необязательны – правда, честность, в нем отмирает чувство удивления и восхищения, критерий подлинности (чего угодно: красоты, искусства, добра…). Больше того – его начинает тянуть на все бездарное, серое, рабье, лишь бы оно было благочестивым. Страшный смысл возникновения "святой воды" в христианстве: что ни покропишь ею, то становится священным и святым. И самое смешное, что никто, даже немцы, не знает, как возникла эта "святая вода". Ибо в том-то и дело, что возникла она только и исключительно из благочестия , из религиозного (а не христианского) стремления не к Истине, не к Богу, а к "вещественной святыне". И это значит – из отрицания воды (ибо крестят нас не в "святой" воде, а в воде, которая потому и свята, что восстановлена как вода: жизнь и смерть, мир и небо, причастие и омовение, и именно в этом восстановлении смысл крещального и крещенского освящения воды…).
Суета и возня с новым домом: вчера все после-обеда у адвоката. Суета с непонятным "кризисом" о.К.С. Суета с письмами и телефонами, разговорами и собраниями…
Но вот и день
Похвалы , в моей жизни – один из "теофорных" дней: та пятница, тысячу лет назад, когда я шел к "Похвале"
[683] на rue Daru и… Звучит почти как паскалевская записка. Нет, не было ни "feu"
[684], ни "pleurs de joie"
[685]. Но
прикосновение , которое только потом, постепенно и чем дальше, тем больше – стало
светить сквозь всю жизнь. "Радуйся, заря таинственного дня…" Светить именно этой
зарей . Тут источник и средоточие
всего в моем "лучшем" богословском я.
Понедельник, 12 апреля 1976
В пятницу в Syosset на визите митр. Никодима к нашему митрополиту. Всегда то же мучительное чувство невозможности говорить друг другу
правду и потому натянутость, фальшивое добродушие, атмосфера – "все к лучшему в этом лучшем из миров"
[686]. От этого остается тяжелый осадок.
Вечером в тот же день Акафист . Почти все студенты в Питтсбурге, и потому поют главным образом наши девочки. От этого выходит как-то еще более богородично… Как "обратить" современный мир к этому ощущению жизни?
В субботу – Литургия в голубом, богородичном, тихая, которую не столько служишь, сколько только "являешь" – до такой степени она совершается там …
Днем – у Ани с детьми. Мне кажется, что я не знаю более счастливого дома, более счастливой семьи.
Вчера – последнее воскресенье Великого Поста. Исповеди, полная церковь, несмотря на отсутствие двух третей студентов.
У обедни Павел Литвинов и его belle-mere
[687], бывшая жена Копелева-Рубина.
Продолжаю все с тем же восторгом "Гоголя" Синявского. И все те же размышления – о плененности русского сознания
мифами , о неспособности – из-за этого – разобраться в "русской проблеме", о подспудной нелюбви к правде. Вчера, после обеда, за кофе в семинарии заговорили об этой книге. Харитонов (наш последний семинарский "диссидент", "русит"): "Это грубый пасквиль на Гоголя, на Россию…" И с какой злобой! (А сам добрейшая Божия коровка…) Типичная реакция: позволили себе затронуть "миф", критиковать, анализировать, сомневаться. Все то же – "в Россию можно только верить"
[688]…
И потому и солженицынский призыв к раскаянию звучит, в сущности, почти нестерпимой гордыней, звучит фальшиво. До раскаяния и биения себя в грудь нужно смириться и принять правду во всей ее беспощадности. Какие странные и неестественные отношения у русских с Россией…
Сегодня нашему Сереже тридцать один год! А как будто только вчера была эта весенняя ночь в Кламаре, когда, после очень быстрых и удачных родов, мы открыли окна и сидели, переживая радость рождения мальчика.
Разговор с Л. сегодня за кофе о "церковности". Мы выросли в ней. Но все сильнее чувствуем, что эта православная "эстетика" рассыхается, распадается, что она все-таки "культура" прошлого. И такой острый вопрос, поэтому: что же, собственно, передавать ? И как ? Передавать можно только жизнь, живое. А сейчас передается уже "архаика", не столько "вызывающая" мир, сколько из него уводящая. Уже мы слушали византийское и русское великолепие в "камерном" переложении, уже для нас это было романтикой. А теперь!
Скрипт, вчера, о Фоме Неверном, о "блаженни не видевшие и уверовавшие"
[689]. Вера в воскресение Христа начинается с веры во Христа, а не наоборот. Те, кто не верили в Него, не поверили, не узнали воскресшего. Воскресение Христа не чудо. В него невозможно поверить, если не сказать: "Никогда не говорил человек так, как Этот Человек"
[690], если не принять Христа. Принять же Христа – это
знать , что Он воскрес. Мы
верим во Христа, мы
знаем , что Он воскрес.
Вторник, 13 апреля 1976
Рано утром вчера – автомобильная катастрофа: двенадцать студентов, возвращавшихся из Питтсбурга. Каким-то чудом никто не убился, но двое в госпитале, остальные в печальном виде… Весь день из-за этого волнения. Как страшно близки мы всегда к какой-то страшной черте.
Вечером звонок от Зои Юрьевой: у мужа инфаркт, у сына сегодня операция. Просит помолиться…
Кончил Синявского. Продолжаю думать, что он ближе всех подошел к "тайне Гоголя", и подошел потому, что начал не с "априорности", не с того, что нужно доказать, а – с вслушивания, вдумывания, вчитывания… Заодно подошел и к мучившему русскую культуру вопросу об искусстве. Мне думается, что искусство (с "христианской точки зрения") не только возможно и, так сказать, оправдано, но что в плане христианского "едино же есть на потребу", может быть, только искусство и возможно, только оно и оправдано. Христа мы узнаем – в Евангелии (книга), в иконе (живопись), в богослужении (полнота искусства). Образ Его и присутствие только тут адекватны (не в "богословии" же с примечаниями и ссылками на немцев!). Но на глубине нет грани между искусством "религиозным" и "светским". Подлинное искусство все из "религиозной" глубины человека, "гений" и "злодейство" несовместимы. И т.д., и т.п. Все это, как будто, прописи, и, однако, нечувствие этих прописей губит искусство и "религию": Гоголь, Толстой, а с другой стороны – litterature engagee
[691]. В пределе же нужно не (еще оно) богословское оправдание искусства, отеческое и милостивое его допущение. Само богословие подсудно искусству, ибо должно им стать и его в себе "исполнить", но этого не делает, предпочитая выдавать себя за "науку".
Четверг, 15 апреля 1976
Занятость, занятость… Дни проходят в каком-то тумане: встречи, обсуждения, телефоны. Никакого ритма, одно сплошное упражнение в терпении.
Пятница, 16 апреля 1976
"Душеполезную совершивше четыредесятницу…" Душеполезную ли? В сущности столько из этих дней поста прошло в суете, в разъездах, в волнениях… И душа не облегчается, а как-то даже тяжелеет. Вчера в Syosset на малом синоде. Возвращаюсь домой совершенно "опустошенный" около 10вечера и – неожиданный подарок: Mattheus Passion
[692] Баха по телевизии.
Сегодня утром после утрени – другой "знак". Е.В. Толстая-Милославская дарит мне фотографический портрет митр. Владимира. Весь в белом, в саду, наверное – в [монастыре] Rosay en Brie. Словно напоминание, после вчерашнего уныния…
Забыл записать: во вторник вечером – в греческой семинарии в Brookline. Закат над Бостоном.
Лазарева суббота. 17 апреля 1976
Чудная служба и вчера, и, особенно, сегодня – в этот любимейший из любимейших праздников. Полная церковь. Детский крестный ход. Жаркое, совсем летнее солнце. Днем – не работалось, сидел – "созерцал", читал Вейдле "О поэтах и поэзии" (Блок, Мандельштам, Ходасевич, Цветаева). Читал, прерываемый телефонными звонками. У всех то же "высокое" настроение, и как радостно чувствовать, как все мы тут – без слов и дебатов – единодушны: тут сердце, тут центр всего, оправдание, жизнь всей "церковной деятельности". Тоже обдумывал и набрасывал мой доклад на съезде (РСХД) 1 мая ("Предание и свобода в Церкви").
Великий Понедельник. 19 апреля 1976
Все та же рекордная (95-100°) жара, уже с шести утра горячее солнце. И всенощная под Вербное, и Литургия в день праздника – "превзошли все ожидания". Праздник Царства Божьего, его "удостоверение" здесь на земле. Удостоверение словами Павла: "Радуйтесь, и паки реку радуйтесь…"
[693]. Днем - в два часа – последняя лекция на 71-й улице – о Страстной. Думал, что из-за жары никого не будет, но было около пятидесяти человек. И чувство такое, что слова мои "доходили". Западная Пасха, на улицах Нью-Йорка, расплавленных жарой, праздные, праздничные толпы. Вечером – первая страстная утреня, первый "Се Жених…", первый "Чертог"…
Конечно, все это с детства, все это жизнь самого детства в душе. Сращенность Страстной с расцветающими каштанами на Bl. De Courcelles, с парижской весной. Но разве только? Вчера пытался изобразить , дать образ Страстной – ее нарастания, ее ритма, ее "логики". Нет, выдерживает испытанье и раздумья, и анализа. Удовлетворяет и сердце, и душу, и разум. Ничего прекраснее человечество не создало, прекраснее в глубочайшем смысле этого слова, как совпадение всех "потребностей", как ответа, превосходящего вопрос. В тот-то и дело, однако, что это не столько "создано", сколько увидено, пережито – в ответ на дар и явление . Что создать это было бы невозможно. Что все из, скупых в своей абсолютной полноте, слов Евангелия, от самого Христа.
И вот грустное чувство: почему этого не видят, не принимают? "Всуе мятошася земнороднии…" Все им кажется, что еще что-то нужно. Тогда как если бы увидели все это изнутри Страстной Седмицы: эту борьбу света с тьмой, это нисхождение в смерть, это одновременно и явление зла во всей его силе, и разрушение его, нашли бы ответ , который с такой страстью ищут и все находят в жалких идолах (старообрядчество!). Мироотрицание и мироутверждение. Лазарь и вербное "радуйтесь и паки реку – радуйтесь" – в начале Страстной и потом поразительное одновременное нарастание тьмы (вплоть до "и начал ужасаться и тосковать", до "Или?, Или?…") и света ("Ныне прославился Сын Человеческий…" и до белой тишины Великой Субботы). Где же еще искать "разрешения проблем"? Где, прежде всего, понять сущность этих проклятых проблем? Где увидеть, ощутить, наконец, тот единственный луч , который и освещает, и разрешает все?..
Великий Вторник. 20 апреля 1976
Поездка вчера в Пенсильванию, в госпиталь к бедному Алеку Л., главной жертве автомобильной катастрофы. Неистовая жара. Вечером, перед утреней, известие о гибели в автомобильной катастрофе Donna Bobin, проведшей здесь год на службе OCEC
[694]. Хрупкость, уязвимость жизни…
Получил вчера 117 номер "Вестника". Номер – в религиозной своей части – посвящен монашеству, с предисловием Н.Струве. Прочтя эту часть, все думал: что "корежит" меня в ней? Может быть, какой-то "интеллигентский" осадок во всем этом подходе. Грубо говоря, чудится мне во всем этом некое "заговаривание зубов". Все выбираем себе в "предании", что нам по вкусу: кто Древнюю Русь (старообрядчество), кто Паламу, кто Афон. Не знаю, может быть, я коренным образом ошибаюсь, но я не вижу "пользы" от этой монашеской диеты, безостановочно преподносимой людям в качестве какой-то самодовлеющей "духовности". Мой опыт таков: как только люди решали эту "духовность" вводить в свою жизнь, они становились нетерпимыми, раздраженными фарисеями. Я ни секунды не отрицаю реальности, подлинности монашеского опыта (Добротолюбие, "старцы" и т.д.). Я только убежден, что, как и богослужение, как и почти все в церковной жизни в наши дни, он "транспозируется" и воспринимается в другом ключе, в ключе, прежде всего, того психологического эгоцентризма, что составляет основную тональность нашей эпохи.
От всего этого, от номера в его совокупности – страстное желание простоты, подлинного "смирения", отказа от той внутренней гордыни, что чудится мне почти на каждой странице.
Великая Среда. 21 апреля 1976
После ненормальной жары этих дней похолодало. Но все распустилось: сижу как бы в море "сквозящей зелени". Нарастание Страстной. Утром и вечером – полная церковь. Вчера – исповедь всей семьи Н.Н. Чувство бессилия: эта "прелесть", овладевающая уже ею, разрушающая семью и в которой каждое слово о Боге, о Христе и т.д. Плач М.М. в телефон: "ультиматумы" Богу… Какая – скажу снова и снова – страшная вещь – религия, на какой странной струне она играет. Вот почему все эти эмоциональные восхваления монашеской "духовности" в "Вестнике" я считаю столь опасными. Как часто все это оборачивается именно прелестью, демонической "гордыней" и кликушеством.
Вечером, до службы, группа шведов, лидеров какого-то revival
[695] в Швеции. Как все это "обсуждать"?
Письма от Андрея, Наташи. Андрей пишет, что владыка Александр С.[еменов]-Т.[янь]-Ш.[анский] "в восторге" от моего ответа Солженицыну. Наташа – о десяти днях Солженицына в Париже. Пишет, что все вспоминал нашу с ним прогулку по Парижу 31декабря 1975года! Все запомнил, все знал…
Перечитывал вчера эту тетрадку. С ужасом вижу, что за целые месяцы – никакой продукции! Жизнь проходит между пальцев, съедается суетой…
Чехов: "За обедом два брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бранили себя и искали смысла в слове "интеллигент"" ("Свистуны", III, 217).
Написал все это и подумал: я постоянно перечитываю и, значит, люблю – писателей, так сказать, "скромных", без нажатия педали: Чехова, Leautaud, конечно – Толстого, у которых – сама жизнь, и жизнь "живущая". И не перечитываю (без нужды) всех "громовержцев" – Достоевского, Bernanos'a и т.д. Может быть, это инстинктивная боязнь "глубины"? Самосохранение? Или чувство, подспудное, что там именно педаль нажата, и нажата, в конечном итоге, гордыней (страдание от гордыни).
Только что вернулся с последней Преждеосвященной. Не служил, стоял в храме и думал: вот, дал Бог жить в литургическом раю. Залитая солнцем церковь. Чудный хор. Чудная служба. Все то, без чего все объяснения Православия невозможны, неубедительны и беспредметны, ибо явление, "эпифания" его – только тут… А вечером – утреня Великого Четверга, "Странствия владычна…".
Великая Пятница. 23 апреля 1976
Великий Четверг: почти весь день в церкви, а в промежутке – подсознательное стремление: не дать полноте этого дня быть тронутой, испорченной суетой, разговорами… После Литургии – любимейшей моей "красной" Литургии – уехал в Нью-Йорк [по делам]. И эта внешняя "суета" не мешает внутренней сосредоточенности, как мешали бы "церковные разговоры".
На Двенадцати Евангелиях почувствовал, однако, и, может быть, в первый раз с такой очевидностью, несоответствие "антифонов" (Иуда, иудеи) евангельскому рассказу о Страстях. Великая Пятница есть явление Зла и Греха во всей их силе, во всем их "величии", а византийские "гимнографы" удовлетворяются бичеванием "виновных". Происходит как бы "отчуждение" Креста. Мы – свидетели. Мы – судьи! Мы "жалеем" Христа и обличаем виновных. Как они смели?! Как они дерзнули?! Наша совесть, однако, чиста, потому что мы знаем, "в чем дело", и стоим на правильной стороне… Нет, здесь – границы "Византии" или, может быть, лучше сказать – этой службы, выросшей из иерусалимского "историко-топографического" празднования и "воспоминания" Страстей… Пропадает, не чувствуется то, что, по моему убеждению, составляет весь смысл, всю "эпифанию" Великой Пятницы: Христу изменяют, Его предают все – вся тварь, начиная с апостолов ("тогда все, оставив Его, бежали…"
[696]). Его предают и распинают – слепота и тьма извращенной любви (Иуда), религия (первосвященники), власть (Пилат, воины), общество (народ). И, "обратившись", – все принимают Его – "воистину Божий есть сын…"
[697]: и сотник, и апостол у креста, и те, кто, бия себя в грудь, уходили с "позора сего". И вот обо всем этом – ни слова в гимнографии этого дня, сводящей все в нем к "виновным", исключающей из числа виновных как раз
всех , оставляющей "некоторых". Но потому и лишающей эту службу ее смысла как явления
Зла , суда над
ним , победы над
ним – сейчас, сегодня, в нас… Слава Богу, однако, что остается само Евангелие, которое и "доминирует" над этой "демагогической" риторикой.
После тяжелой грозовой погоды вчера прохладный светозарный весенний день. Пишу это рано утром, перед уходом на "Царские Часы". Только бы, на самой глубине, дал он прикоснуться к тому, что он "являет".
Вчера в поезде, возвращаясь из Нью-Йорка, думал: нужно было бы в виде "prolegomena"
[698] написать нечто на тему "Религия и Вера", причем нужно показать, что религия без веры – идолопоклонство. А вера без религии – очень часто: идеология, то есть то же идолопоклонство. Вот почему – "дети, храните себя от идолов…"
[699].
Париж. Четверг, 29 апреля 1976
Пишу рано утром, на Parent de Rosan, сидя за Андреиным столом, следя за разгорающимся во всей своей весенней славе майским утром.
Прежде чем записать все происходившее со дня приезда сюда в Светлый Вторник утром, хочу хотя бы отметить – благодарно! – полноту Пасхи, так незаслуженно приходящую даром, каждый год. Последняя запись была в Великую Пятницу, перед уходом на Царские Часы. И все шло потом в каком-то почти совершенстве – и Плащаница, и утреня, и "Кости", и потом Великая Суббота и пасхальная ночь. "Литургический пир", – заметил в алтаре Миша Аксенов.
В понедельник были все внуки. После обедни и крестного хода все это, и Виноградовы, и Алексей Шидловский – наполнило наш дом. Было очень шумно и очень радостно. В пять часов Л. отвезла меня на [аэродром] Kennedy. Бессонная, как всегда, ночь в аэроплане. В Париже встретил меня Андрей. Необычайно ясные, но и холодные дни. Андрей. Мама. Поспал после завтрака до 4.30. Потом на St. Germain des Pres – купил у Gallimard'a
[700] книги. Зашел, по обычаю, за Андреем. Ужин у Соллогубов. Разговоры о "третьей эмиграции". Опьянение спало, и все ее дружно ругают, как раньше превозносили до небес. "Первая" эмиграция выглядит как своего рода последнее carre
[701]: "la garde meurt mais ne se rend pas…"
[702]. Как всегда, чувствую себя посередине и одиноко. От "первых" отталкивает их самодовольство, от "третьих" – претензия…
Среда. Утром, по metro, к маме, у которой сижу часа два. Оттуда на St. Sulpice в "Procure"
[703] – ужас от этого книжного наводнения, но, главное, от "направления" – все какие-то "Lecture chretienne de la lutte des classes…"
[704]. Кажется, в первый раз в жизни никакой охоты что-либо купить. В 12.15 завтрак с Андреем у Lipp'a – наш "тайный" праздник вдвоем… Оттуда заходим к Наташе [на работу]. Затем "обряд" – по rue Dauphine (Leautaud!) до набережной, по набережной до Notre Dame. Ослепительное солнце, на parvis
[705] почему-то целый эскадрон gardes republicaines
[706]. Сверкающие трубы. Чувство какого-то непонятного праздника. В сущности это бездельное одиночество в любимом Париже и есть то, что я больше всего люблю, что мне почему-то до зареза нужно.
В 6.30 заезжает за мною на Parent de Rosan Никита Струве. Ужин [у него] в Villebon, всей семьей. Неизбежные разговоры о Солженицыне, о "Вестнике", о положении "здесь" и "там". Лишний раз – острое чувство призрачности всей нашей суеты. Нужно только над тем работать, что постоянно, что не за-
Из стихотворения А.С. Пушкина "…Вновь я посетил…".
висит от "злободневности". Как всегда, сожаление о пропущенных неделях, днях, часах…
Утром из соседней комнаты слышал, как молится – вслух, по-детски – Андрей. В такие минуты остро осознаю свое недостоинство, свою лень, свою половинчатость во всем.
Пятница, 30 апреля 1976
Утром вчера работал над докладом. В 11.30 у влад. Александра на Bd. Exelmans: традиционный его "рапорт" о себе и о церковном положении – безрадостном! – здесь. Завтрак у Андрониковых. Два часа у мамы. Вечером – ужин со всей семьей Андрея, очень уютный. Телефонировал Л. в Нью-Йорк, где все благополучно. Все та же ослепительная праздничная погода…
Воскресенье, 2 мая 1976
Вчера – день на съезде РСХД в Монжероне. Чувство некоторого отчуждения: "племя молодое, незнакомое…"
[707]. Чуждая "проблематика" – в докладе о.К.Аргенти "La liberte et la licence sexuelle"
[708](!). Я чувствую себя полным "видением", для которого еще (или уже?) нет органа восприятия, и все же чувствую очень глубоко правоту этого видения. Христианство, пока оно отвечает, хочет отвечать на "проблематику", навязанную миром сим и потом ab initio vitiosam
[709], – не звучит. Получаются прописи и идеология… Речь только об одном – где сокровище сердца нашего… Все остальное – болтовня… Доклад прошел как будто хорошо… Зато неожиданной, полной радостью была всенощная, совсем особая всенощная "Новой недели" с этим взлетом: "днесь весна благоухает и новая тварь ликует…" Чудное пение, полный храм. Уехал действительно просветленный.
Сегодня – Литургия на Olivier de Serres с о.Игорем Верником. Потом в кафе с Ириной Ровер. Завтрак [у Андрея] на Parent de Rosan. Читаю урывками "Dieu est Dieu, nom de Dieu" Maurice'a Clavel'a
[710] – с наслаждением. Все –
правда :
"La seule idee, vous m'entendez, la seule idee que la
fo puisse
repondre aux
problemes de notre temps est un monstre"
[711] (164).
Ужин у Львовых в Кламаре.
Вторник, 4 мая 1976
Рано утром, перед отъездом на [аэродром] Charles de Gaulle.Все та же longue suite de journees radieuses, все то же солнце на парижских крышах. Вечером вчера у Чеснаковых с Репниным и Траскиным. Как всегда, чувство завершенного круга. Приезд. Отъезд. И еще один кусок жизни, претворенный в воспоминание…
Писал это в Париже. А вот – дописываю в Крествуде. Сейчас иду к вечерне в семинарию – погружаться в свою собственную жизнь… Кучи писем на столе…
Тетрадь IV
МАЙ 1976 – МАЙ 1977
Среда, 5 мая 1976
Неприятности, отравляющие если не жизнь, то поверхность сознания: вызов на 19мая – проверка налогов; арест Н.О.; суета с постройкой дома в семинарии. Париж, по улицам которого я ехал вчера утром, уходит в даль, будто возвращает себе свое место. Но и – радость от пасхальной утрени, от поразительной красоты мая, солнце, цветущие азалии, легкость воздуха. Как сохранять и охранять эту радость, защищать ее от суеты, слов, дел?
Четверг, 6 мая 1976
Прочел "Journal d'un Innocent"
[712] (забыл имя автора) – своего рода исповедь педераста, книгу, которую очень хвалили во французских журналах. Чувство ужаса – не столько от совершенно отвратительного реализма описаний, сколько от своеобразного и страшного "мировоззрения", эту книгу пронизывающего. Преподносить эту унылую душную, абсолютно закрытую в себе одержимость как освобождение, этот зловонный тупик как какое-то торжество жизни – в этом есть что-то зловещее, дьявольское. А вместе с тем эта книга действительно символична – ибо она являет силу, степень одержимости в нашем теперешнем мире. Она пронизана ненавистью, каким-то экстатическим отрицанием.
Перелистывал в поезде два номера "Bulletin de St. Sulpice". В ответ на ту одержимость – серая скука рассуждений о "структурах" пастырского воспитания, невыносимого современного жаргона и полная растерянность, неуверенность, сомнение.
Наконец, вечером – проглядывал "Хранить вечно" Л.Копелева (солженицынского Рубина из "Круга первого"). После трех томов "Архипелага", в которых, кажется, сказано все, почти невозможно заставить себя вчитаться в эти 500 страниц, снова погружаться в этот мир произвола, арестов, искалеченных судеб, какого-то дьявольского, темного, бессмысленного "цирка".
От всего этого – усталость, раздробленность души и сознания, от которой спасаемся с Л. в прогулке по пустому, ночному городу.
Пятница, 7 мая 1976
"Grandparents Day"
[713] вчера в детском саду, куда ходит маленькая наша внучка] Анюта. Детский мир, радость от погружения в него.
"Прогулки с Пушкиным" Синявского. Книга, вызвавшая страшное возмущение у "старой эмиграции", как, впрочем, и его "В тени Гоголя". В Париже за ужином у Соллогубов только и было разговоров, что о Синявском и его преступном "развенчании" Гоголя и Пушкина. Читаю и думаю – чем вызвана эта бешеная реакция? Н.Струве сказал мне: "Он тронул нашего Гоголя". Теперь он "тронул" нашего Пушкина. Страшная потребность в иконе , в мифе , в незыблемом, окончательном каноне . Синявский ставит под вопрос икону, миф и канон, и это вызывает бешенство. Он очень талантлив и блестящ: но этого тоже не любят. Блеск у нас всегда под подозрением. Мы тяжеловесны и потому несвободны … Честно говоря, есть что-то несомненно ракитинское в Синявском, какая-то усмешка – циническая и самодовольная, какая-то распоясанность и отсутствие глубины…
Письмо от русского бенедиктинца о.Хризостома с восторженной благодарностью за "ответ Солженицыну".
Почти каждый день – исповеди.
Поразившая меня статья о Jimmy Carter:
"The other candidates speak to problems out of context; Carter deals with the context itself. And that context is nothing less than the Christian religion…"
[714].
По прочтении этой статьи – чувство: а вдруг?! А вдруг действительно в пустыне секуляризма что-то от Бога? И именно на это люди реагируют? Какая огромная, неожиданная радость, если это правда… На "гнилом" Западе, в "материалистической Америке"…
Воскресенье, 9 мая 1976
Все эти дни – настоящий паралич воли, полная неспособность за что-то взяться и, как спасение, – бегство с Л. в ресторан. Вчера перед Литургией – острое сознание, что все это распущенность, результат все разрастающихся поблажек себе. Как всегда, все время близки мы от такого вот распада, уныния… После обеда заставил себя написать два скрипта, буквально из-под палки. Понял один из источников "уныния" – отсутствие убежденности в том, что нужно писать. Ужас от разницы между
что и
как (что говорю и пишу и как говорю и пишу). Перечитывал свои главы о Литургии – в сущности то, очень немногое, что мне хотелось сказать, я уже, плохо ли, хорошо ли (скорее, по-видимому, плохо), сказал… A quoi bon
[715] повторяться? Я всегда с восхищением и непониманием смотрю на таких людей, как Солженицын, до конца уверенных в том, что они делают абсолютно нужное дело, пишут и т.д. Абсолютное наслаждение от книги Clavel'a "Dieu est Dieu, nom de Dieu"…
Понедельник, 10 мая 1976
Вчера после обеда в Бостоне: торжественная пасхальная вечерня в соборе, потом обычная программа доклад о семинарии].
Наслаждение от Нью-Йорка в весеннем ликовании. Чудесные улички, зашел в книжный магазин] Rizzoli, купил "Русскую мысль", в поезде читал. Читая, вспомнил, как уже лет 8-9-ти, читая в Париже "Возрождение" и "Последние новости", все выходило так, что большевики "висят на ниточке". (Дон Аминадо: "Папа, как это так много большевиков могут висеть на одной ниточке?"). Пятьдесят лет эмигрантского самоутешения: "Так долго продолжаться не может…" Периодически эта надежда обостряется – в 30-е годы Солоневич, в 40-е "власовцы" и СБОНРы
[716], теперь Солженицын. А "они все себе существуют" и "продолжаются".
Пятница, 14 мая 1976
Чудовищная суета, беспросветная, этих дней. Почему-то вдруг буквально десяткам людей что-то нужно от меня… В душе и сознании из-за этого какое-то каменное отупение. Чувство такое – только бы дожить до Labelle.
Пятница, 21 мая 1976
Вот уже неделю ничего не писал et pour cause
[717]… Последняя неделя учебного года. Экзамены, чтение бесчисленных сочинений, заседания и т.д. Для памяти перечислю главное. В субботу 15-го – торжественное празднование американского двухсотлетия в Филадельфии. Два архиерея, пятнадцатьсвященников, моя проповедь. Как всегда – удовольствие от поездки.
В воскресенье 16-го – свадьба [студентов] Кати Томан и Васи Лихваря. Переполненная церковь, чувство действительно "семейного" торжества…
В понедельник 17-го – поездка в Пенсильванию, лекции, ночевка в бенедиктинском монастыре.
Во вторник 18-го – из-за отмененного полета за рулем весь день под грозами.
В четверг 20-го – чтение до беспамятства студенческих сочинений. Прыжок в Нью-Йорк, на радиостанцию…
Четверг, 27 мая 1976
В этой тетрадке я часто жалуюсь на суматоху и раздавленность делами, Но, кажется, ни та, ни другая никогда еще не достигали такой напряженности, как в эти последние дни. Пишу это перед очередным отъездом – на два дня в Бостон, на заседание православного богословского общества… За эту неделю хочу отметить -
В субботу 22-го Commencement
[718], окончание учебного года. Чудный солнечный день. Две хиротонии за Литургией. Молебен. Акт. Все хорошо и без "затычек"… Сразу же после Акта, в пять часов дня, мы с Л. укатываем на море] в Easthampton, где проводим во всех смыслах изумительный weekend. Океан, под ярким, совершенно безоблачным небом. Завтрак в Seaside Restaurant в Sag Harbor. Пляж. Песок. Солнце. Блаженство. Вернулись в понедельник вечером.
Бостон. Пятница, 28 мая 1976
Пишу в доме Олега и Жени Померанцевых. Только что кончили заседание в греческой семинарии.
Ночевал у Померанцевых. Утром – кофе в саду. Само утро – одно сплошное ликование листвы и солнца.
Все эти дни читаю – как отдых, для равновесия – третий том "Les Cahiers de la Petite Dame"
[719].
Суббота, 5 июня 1976
Давно по-настоящему ничего не записывал. Но не потому, что "нечего писать", а потому, что в эти суматошные дни и недели все равно не удалось бы записать по-настоящему мысли, что приходили в голову, ту, никогда во мне, в сущности, не прекращающуюся reverie, в "рекордировании"
[720] которой единственный смысл этой тетрадки. А теперь, пожалуй, уже не нагнать.
На этой неделе – отдание Пасхи и Вознесение. Оба дня, все службы – прошли чудно, дали полную меру радости. Живу в литургическом раю… И еще раз за эти дни почувствовал, до какой степени это литургическое "инобытие" существенно для простого бытия, дает этому последнему его terms of reference
[721].
Кончил третий том Cahiers de la Petite Dame. Все с тем же одновременно и интересом, и раздражением. Эта утонченность, это умение всю жизнь, во всех ее мелочах, претворять в objet d'art
[722] и вместе с тем поверхностность и всех этих "исканий", "мучений", всей этой, в конце концов,
игры.
И то же чувство, хотя и с другим оттенком, при чтении теперь третьего тома "Le Temps Immobile" Claude Mauriac'a ("Et comme l'esperance est violente…")
[723]. "Александрийство". Иногда думаешь, что все это (современная французская литература) – одна сплошная, хотя, возможно, и бессознательная поза. И как легко они все и в себе, и друг у друга находят "la grandeur"
[724]. А именно grandeur-то никакого во всем этом и нет. И, однако, по-человечески рассуждая, насколько же все это "приятнее" читать, чем "Новый Журнал" (вчера получил №122).
Вчера утром в Evanston около Чикаго], где я был Commencement speaker в Seabury Western Seminary
[725]. Прилетел в Чикаго накануне вечером. Ужин с профессорами. Ночь в старомодном Orrington Hotel. Вечером, после ужина, пошел пройтись по местам, памятным с 1954года. Знакомое, любимое чувство depaysement
[726] – один, в незнакомом городе, прохладной летней ночью. "В такие вот часы…"
[727]. Ослепительное утро. Церемония в епископальной церкви тоже наполняет меня ностальгией, переносит в Англию 1937-1938гг., особенно знакомые с тех пор гимны и пение их с органом, всегда меня вдохновляющее. Следя за службой – очень хорошей, "традиционной", торжественной, думал о каком-то коренном, так сказать "безвыходном"
благополучии , присущем христианскому Западу, может быть, лучше сказать – неисправимой "буржуазности" западного христианства. Все слова, обряды, молитвы предполагают, являют, дают ощутить какую-то бесконечно высокую
трагедию , но именно
трагедию (в греческом смысле этого слова). То, что раскрывает Бог людям, – неслыханно, невозможно, и трагедия именно в этой неслыханности, которой уже не уместить без остатка, без некоего раздрания в жизнь. Ибо тут все превышает и потому раздирает жизнь – и
радость , которой "никто не отнимет от нас…"
[728], этот дар. Христианство подлинное не может не "отравить" души этим раздранием, и это и есть "эсхатология". Но, вот, не чувствуешь ее в этих гладких церемониях, где все "на месте", все "правильно", но из всего вынута эта эсхатологическая "запредельность". Может быть, это и есть основное духовное свойство всякой – в том числе и религиозной –
буржуазности : закрытость к "трагизму", на который обрекает, так сказать, само существование Бога.
Сначала, глядя на этих чистеньких, благополучных "буржуев", благочестиво, стройными рядами подходивших к причастию, я думал, что не хватает тут "бедных" и "страдающих". Потом почувствовал, что дело не в этом. В византийской Св. Софии, наверное, было в тысячу раз больше и золота, и богатства, и "душевного ожирения". Но вот не была Византия "буржуазной". Всегда оставалось (и в Православии остается) в ней это чувство абсолютной
несоизмеримости , это знание о том, что в конце концов – "il n'y a qu'une seule tristesse…"
[729], ощущение зова, дуновения, которых не свести ни к "социальным проблемам", ни к "месту Церкви в современном мире", ни к обсуждению "ministry"
[730]…
И, может быть, действительно "бедность" – центральный символ. Ибо не в экономическом факте "бедности", а в самом подходе к ней, к восприятию ее. Запад решил, что христианство призывает к борьбе с бедностью, то есть к замене ее хотя бы относительным "богатством" или хотя бы "экономическим равенством" и т.д. И на это уходят все силы души… А христианский призыв совсем, совсем другой: к бедности как свободе, к бедности как "знаку", что душа ощутила и восприняла невозможный (и потому для мира – трагический) призыв к Царствию Божьему…
Не знаю. Все это трудно выразить. Но так ясно чувствую, что тут другое восприятие самой жизни и что "буржуазность" во всех ее измерениях (а есть "буржуазность" религиозная, богословская, духовно-благочестивая, культурная и т.д.) слепа к чему-то главному в христианстве. И что об этом, в сущности, все споры, хотя спорящие этого как раз и не знают.
Понедельник, 7 июня 1976
В субботу после обеда звонок от Андрея: скончался в Лозанне дядя Игорь Троянов… Андрей сообщает, что он и Лика приедут в Labelle в июле.
Спокойный weekend: последние четыре скрипта для "Свободы"]! Уборка книг. В воскресенье вечером преуютнейший ужин вчетвером – с Сережей и Аней в ресторане] La Cremaillere.
Сегодня утром, после радио "Свобода", свидание в кафе] Biltmore с Владимиром Рифом и его женой. Не находят работы, пособие кончилось. Бодрятся, но в глазах паника и мольба. Но что я могу сделать? Жалость к этим "диссидентам", ждавшим столько от Америки!..
В "Русской мысли" разгром Синявского ("Прогулки с Пушкиным") Ю.Павловским. Там же некто П.Варсонофьев (не Коряков ли?) лукаво и с какими-то инсинуациями критикует мой "холодно блестящий" и "холодно умозрительный" "Ответ Солженицыну" в Вестнике 117.
В "Нью-Йорк Таймс" (Book Review) – разбор новых книг о Л. Джонсоне, Дж. Кеннеди, Рокфеллерах. Удивление от этого страстного желания развенчания, огрязнения, "спекуляции на понижение"…
Вторник, 8 июня 1976
Сегодня ровно четверть века тому назад, около 12ч. дня, мы уехали с парижского вокзала] Gare St. Lazare в Шербур, погрузились на пароход] Queen Mary и отбыли в Америку. Утром сегодня, проснувшись, думал: а почему же, собственно, мы уехали? Удивительно все-таки, как самые важные, самые "судьбоносные" решения принимаются не умом, не путем убедительной, логической аргументации, а каким-то иным путем… Вчера по случайному совпадению читал в радио "Свобода" свой скрипт об
откровении , пытался объяснить,
что именно произошло, например, с Авраамом. Какой зов он услышал (встань, иди) и
как ?.. Вся жизнь – на глубине – цепь вот такого рода "откровений". Да, конечно, были "веские" причины: трое детей, невозможность оставаться в разваливавшейся "избе" в L'Etang la Ville под Парижем]… Но ведь и ехали-то мы, в сущности, на почти полную неизвестность! Какой-то таинственный приход в Астории
[731]… Был "зов" – от Флоровского. Была удушающая атмосфера в Богословском институте. Все это, однако, вряд ли было бы "причиной", если бы не какая-то внутренняя "волна", не выбор, сделанный почти подсознательно, на глубине. Своего рода "встань, иди…".
Вчера после обеда – чтение экзаменов. Уныние от удручающего уровня и, главное, от этого "попугайного", риторического богословия. Формулы, слова, утверждения – за которые ничем не "заплачено", никаким усилием сознания, внутреннего слуха, внутреннего зрения. Православие – это какое-то сплошное "упоение" музыкой форм – богослужебных, словесных, духовных… Я всегда замечал: достаточно
то же самое попытаться оторвать от "формы", хотя бы для того, чтобы прорваться к "содержанию", и – ничего не остается. Оказывается, только форма-то и чаровала, и была нужна… Ненависть к вопросу: "Что же все это
значит ?", испуг перед этим вопросом (и сразу же злобные вопли – ересь! модернизм!). Вот уж действительно – "навеяли сон золотой…"
[732]. В субботу – молодая урожденная американка [не говорящая по-русски], обратившаяся в Православие, которую я когда-то венчал: "Мы ходим на
русскую службу, и это нас очень удовлетворяет…" Выходит так: лишь бы как можно более непонятно!
Среда, 9 июня 1976
Вчера начал "разговоры" ровно в девять утра и кончил в четыре дня! Весь день ! Потом, конечно, голова идет кругом и ни на что не остается сил…
Вечером у нас ужинают Миша и Анека, Сережа, Коля. До полуночи по телевизии – последний день primaries в Калифорнии, Охайо и Нью-Джерси. Всегдашнее удивление этому всеобщему принятию "правил игры". Бороться на смерть, а в минуту, когда голосование решило все, моментальное "смыкание рядов". Америка: столько раз за один день ругаешь ее и восхищаешься ею!
Жара: началось это тяжелое, мокрое нью-йоркское лето, и мы считаем часы до отъезда в Labelle.
Миша мне о моем "Ответе Солженицыну": "Ты пойми, ты подходишь к вопросу о старообрядчестве с церковной, а он – с русской точки зрения…" То-то вот оно и есть…
Три религиозные "реальности":
Религия закона – "нравственных устоев общества".
Религия "помощи" и "священности" – от духовной помощи до терапии.
Религия Царства Божьего.
Последняя может – преображая их – вместить две первые. Эти две, однако, отрицают (бессознательно – из-за общей "терминологии" и "символов") последнюю.
Пятница, 11 июня 1976
Вчера почти целодневное заседание совета профессоров. Несколько "подводных камней", которые удается удачно обойти. Из-за этого – напряжение, усиленное благодаря ужасающей жаре и сырости. Вода буквально висит в воздухе…
Читая "Le Temps Immobile" Claude Mauriac'a
[733], все спрашиваю себя: что меня так раздражает в его описании своего все усиливающегося перехода в gauchisme
[734], участия во всевозможных манифестациях, протестах и т.д.? Почему так омерзительно звучит для меня это самобичевание, это умиленное перечисление "des camarades fraternels"
[735], это возмущение судьбой алжирцев в парижском гетто? В чем столь явственно ощущаемая мною ложь? Стараюсь ответить себе на этот вопрос беспристрастно, не от подсознательной "правизны". Думаю, что первое и главное – это
mauvaise foi[736], это – типичное для западного и буржуазного интеллектуала – восторженное оплевание своего "класса", жажда дешевого самоосуждения и покаяния… Затем это какое-то странное принятие "левого" (а может быть, тоже и "правого") догмата, что всякая "проблема" человеческого общества обязательно решается
борьбой , и это значит – отождествлением кого-то (власти, класса и т.д.) – безоговорочным и абсолютным – с
врагом , то есть отвержение принципа компромисса, который до сих пор один оправдал себя в плоскости общественных проблем (Америки). Это, наконец, – именно сама эта "абсолютизация" проблем, по самой своей природе "относительных", неразрешимых в плане "абсолютизма" (например, проблема тюрьмы, проблема меньшинств в данном обществе и т.д.). Мориак и его "интеллектуальные" менторы – во "власти" и только в ней видят l'ennemi a abattre
[737] и как будто не замечают, что те пресловутые "массы", от имени которых они будто бы действуют, совершенно не разделяют их нравственного возмущения, да, попросту говоря, интереса к этим проблемам…Но, Боже мой, как зато они нравятся друг другу, умиляются друг другу, с каким детским удовольствием "сопротивляются" полиции и читают о своем геройском сопротивлении в газетах…
Суббота, 12 июня 1976
После двух чудовищно душных и мокрых дней – рай земной! Прохладно, солнечно, легко, светозарно… Утром – один в церкви, готовя ее к Троице, переоблачая престол, жертвенник из белого, пасхального – в зеленое, "пятидесятнее"… Всегда люблю это время в пустой церкви, это "приуготовление"…
Вчера, после дня, целиком проведенного в моем кабинете (десятки последних писем, англиканки из Джорджии, заседание отдела внешних сношений, исповеди и т.п.), ужин с [греческим] архиеп. Иаковосом. Длинный, довольно-таки "отвлеченный" разговор о судьбах Церкви, о Константинополе и т.д. Вечером, в ожидании Л., дочитывание, но уже не только с раздражением, но и со скукой, Мориака.
Labelle. Среда, 16 июня 1976
Вот мы и в Labelle, в который раз? Считаю: двадцать пятое лето! И впечатление такое, что с каждым годом промежуток между отъездом отсюда осенью и приездом летом все короче и короче. Словно вчера уехали. Старость? Не знаю. Знаю только, что с каждым годом – сильнее чувство благодарности за это озеро, за эти березы, тишину, счастье…
Троица прошла чудно, в свете изумительных, по свету и прохладе, дней. В понедельник, на Духов день, суета: до обедни причащал студента] Алека Лисенко в больнице] Yonkers General. Потом Литургия. За нею – стремглав в Нью-Йорк, наговаривать в "Свободе" последние скрипты. Так что выехали в четвертом часу. Всю дорогу – серенькая, туманная погода. В Монреале, куда приехали в десять часов, страшная жара и духота. Ночевали у Вани и Маши Ткачуков], у которых остались и весь вчерашний день, так как в восемь вечера приход праздновал день именин Вани и награждение его золотым крестом. Утром – в городе. Все та же жара, солнце и духота. На душе, однако, совсем особенное, неприкосновенно-праздничное чувство первого дня каникул, свободы. У Flammarion
[738] покупаю M.Foucault "Les Mots et les Choses"
[739]. Ничего о нем не знаю, но Клавель приравнивает его к Канту(!), а Клод Мориак влюбленно описывает его – на трехста страницах – в своем третьем "Temps Immobile"… Все то же любопытство: к gauchisme как освобождению от "идеологизма" и, в первую очередь, от Маркса и Фрейда… Новая "антропология": увидим…
Завтракаем втроем – с маленькой Верушей – в Altitude
[740]. Все тот же праздник. Вид на раскаленный, расплавленный город.
Вечером молебен, "трапеза", все "как полагается". Во время молебна, стоя в церкви, слушая хор, молитвы, глядя на иконостас, на вечерние лучи сквозь цветные стекла, думал: Церковь – это, прежде всего,
поток , непрерванность потока, звука, мелодии. Можно и нужно восставать против обессмысливания их в восприятии, сознании, благочестии, но – не будь этого потока и этой непрерванности, не было бы того, "во имя чего" можно и нужно восставать… Думал об этом, прочтя днем несколько страничек Foucault, на которых (как, впрочем, и у Morin "Le paradigme perdu"
[741], и у Levi-Strauss и др.) все как будто всегда начинается с какой-то tabula rasa. В том, следовательно, смысл этого "потока" Церкви, что в нем всегда можно найти "образ неизреченной славы", ту трансцендентную
реальность , вне которой человек все равно "разваливается", сколько бы Кантов ни появлялось… Пускай этот поток загрязняется – языческим благочестием, приходскими комитетами, узким "богословием", ни истина, ни сила потока от этого не уменьшаются. "Всякий, кто жаждет, да приидет ко Мне и да пиет…"
[742]. Чувство благодарности, радости и твердости от этого.
В Labelle приехали уже в первом часу ночи. Все время грозы, духота. Дом чистенький и бесконечно приветливый, каким мы его оставили. Сегодня с утра разложились, я расставил книги, "организовал" ящики стола и вот пишу. Льяна пошла спать в маленький дом. За окнами дождь и все время грохочущий то близко, то далеко гром. Перед глазами на стене: о.Киприан, читающий на фоне солнечной листвы, пасхальное евангелие у Кламарской церкви, о.М.Осоргин, бегущий по [улице] rue de l'Union, Карташев, о.Н.Афанасьев, милый Карпович.
Четверг, 17 июня 1976
С утра – райская, "северная" погода. Чувство огромного счастья просто от того, что здесь. Убирал церковь и, убрав, все как-то не мог уйти… Вот оно, настоящее temps immobile
[743], то есть проблеск вечности…
Вчера читал Сартра (Situations, II, где он говорит о себе). Вдруг ясная мысль: какой это был бы и христианин, и богослов, если бы не parti-pris
[744] против Бога! Как
все у него для этого есть, все было ему
дано : и щедрость, и равнодушие к благам земным, и сострадание, и жертвенность, и, last but not least
[745], – огромный ум. И все он направил сознательно
против Бога. Почему: Вопрос нашей "культуры"…
Суббота, 19 июня 1976
Читаю – с трудом и с увлечением – книгу М. Фуко "Слова и вещи". С трудом, потому что, увы, не привык к этому сложному языку, да и всегда был относительно слаб в отвлеченностях. С увлечением, потому что, читая, чувствую все время, что здесь что-то очень для меня важное, хотя бы часть ответа на центральный для меня вопрос – о символах, знаках, языке и их соотношении с
реальностью и с опытом этой реальности. О богословии как языке, речи… О природе этого языка. Все это очень своевременно – в связи с моим] докладом для Афин ("Witnessing the Dynamics of Salvation"
[746] – название странное, навязанное, но именно оно-то и направило меня на раздумья о "языке", о самом этом "witnessing"). Богословие предполагает некий общий язык с культурой, внутри которой оно witnesses
[747]. Но у современной культуры – и в том, мне кажется, ее особенность – нет общего языка. Все ее языки "идеологизированы" и в меру своей "идеологизации" непроницаемы друг для друга. Единство современной культуры не в языке (как всегда было раньше), а в чем-то другом. В чем? Может быть, можно сказать: в "символах"… Объяснить.
Воскресенье, 20 июня 1976
Первая вечерня, первая Литургия. Серо и душно.
Мексика. Суббота, 21 августа 1976
Пишу это перед окном с видом на главную площадь Мехико. Налево огромный собор барокко, напротив дворец. Восемь часов утра. Дождь.
Прилетел сюда вчера поздно вечером из Labelle. Как всегда, летом ничего не записывал; как всегда, в Labelle главное почти невыразимо и неописуемо – погружение, ежедневное, в лабельский "микрокосм": озеро, небо, леса, холмы, почти ежедневные прогулки с Л. по любимым дорожкам, в любимые деревушки.
Три недели присутствия Андрея и его жены] Лики.
Писание, сначала, доклада для Афин (куда не поехал: вдруг почувствовал, что десять дней на конференции православных богословов – просто невозможно !), потом очередной главы "Литургии".
В общем – чудное лето, несмотря на множество дождливых дней, две поездки в Нью-Йорк и мелкие [трудности].
Сюда приехал на три дня по приглашению вл. Димитрия и епископа Хозе. Что-то вроде "дружеского визита".
9.30 вечера. Длинный день "в Мексике". Утром за мной заехал еп. Хозе, и мы втроем – с еп. Димитрием – поехали сначала пить кофе. Погода серая и мокрая – нет-нет падает дождь. Город наполовину "американский" – и в ту же меру безобразный, наполовину "сам с усам", с европейским налетом. Среди новых, бесцветных зданий то тут, то там старые с выкрутасами здания, балконы, удивительные окна. Но больше всего удивляешься не городу и даже не бесчисленным церквям барокко, а людям, то есть самим мексиканцам…
Воскресенье, 22 августа 1976
Вчера одолела усталость. Сейчас 6.30 вечера, и я только что вернулся в свою гостиницу] "Majestic" после длиннейшего дня. Но вернусь сначала ко вчерашнему. Весь день – до "банкета", о котором ниже, – прошел в прогулке по городу с вл. Димитрием. Собор, церкви – с вызолоченной внутренностью, центр города, опера, бульвары. Как всегда, новое место рождает интерес: все то немногое, что знал об истории Мексики и что никогда не волновало, оживает: остатки храма ацтеков и тут же изумительный макет этого грандиозного сооружения, испанское владычество, революция, новая Мексика. Вдруг начинаешь жалеть, что так мало знаешь, ибо, ходя под этим низким небом, в этой толпе, вдруг чувствуешь вес всей этой истории, целого мира … Я плохой "турист" и равнодушен к достопримечательностям, но меня всегда волнует погружение в любой, за минуту до того] чужой и чуждый мир, желание понять и "пережить" его.
Город, скажу еще раз, безобразен в своем неряшливом, американском модернизме. Но за этим безобразием чувствуется еще совсем недавно оживлявшая его "душа". И ритм его, толпа, длинные улицы с lampadaires
[748] – не американские.
То, что больше всего "заметилось", удивило и потому осталось: невероятная молодость толпы. Словно 90% населения состоит из двадцатилетних.
Необычайная привлекательность этих людей: красота глаз, у каждого свое лицо, своя повадка, и у всех – благородство. Нет кошмарных стареющих завитых американок, нет чувства "одиночества в толпе", столь сильного в Нью-Йорке. Нет казенного смеха, напускного доброжелательства. Действительно chaleur humaine
[749] и прирожденное человеческое достоинство. Чудные, смуглые дети с такими черными глазами! Два дня любовался людьми. На этом фоне – туристы кажутся недопустимым явлением…
В 2.30 едем на "банкет" в честь вл. Димитрия и меня. "Банкет" у очень простых людей, в очень маленькой квартирке. Человек двадцать – все православные мексиканцы. Но такого радушия, такой простоты и всего этого – с таким достоинством и подлинным аристократизмом я даже и представить себе не мог. Тут же гремит "оркестр" из четырех человек, масса еды, масса питья, но все в каком-то удивительном "тоне". Молодой диакон читает поэму об Иисусе Христе, словно поэзия, как и музыка, – органическая часть жизни, а не "культура". Хозяин поет. Какая-то молодая женщина танцует изумительный по целомудрию, соединенному со страстью, мексиканский танец. И во всем подлинная и радость, и бессознательная глубина, и, самое главное, – доброта.
В 7 часов – вечерня в недостроенном соборе. Служат молодой священник и молодой диакон. Волнение от этого "мексиканского Православия", так наивно, по-детски, доверчиво и целостно принятого. Все бедно и все сияет, и всюду – эти черноглазые дети, отдающиеся тебе с какой-то ангельской легкостью и красотой.
Только в десятом часу попадаю обратно в отель, разбитый, но совершенно счастливый.
Сегодня утром – в первый раз солнце и голубое небо. Длинная архиерейская Литургия -с двумя архиереями… Стоя у престола, думал: во всей этой толпе я – единственный православный по рождению. А, смотря на лица старых женщин, прекрасные своей строгостью и человечностью, все мысленно повторял: "Скрыл от мудрых и открыл младенцам…"
[750]. Полнота радости.
В 3 часа – снова банкет, на этот раз в огромном "народном" ресторане. Мы прослушали четыре оркестра, игравших для нас… Поразительная атмосфера – толпа, шум, веселье, и ни йоты вульгарности. Опять пошел дождь. Опять прояснело – так что, возвращаясь в отель, видели цепь гор на горизонте, вулканы.
Сейчас сижу у окна с видом на "площадь Конституции" – огромную, строгую. Налево – иллюминированный собор. Огни фонарей расплываются в мокром асфальте. Еще одно прикосновение – к таинственной по своей глубине и божественности жизни…
Понедельник, 23 августа 1976
Начинаю мой третий и последний день в Мехико. Вчера вечером длинный разговор с вл. Димитрием – о Церкви, о Мексике и т.д. С ним легко и хорошо. Потом один – часов в 11 – гулял по площади и прилегающим улицам. Старался "нащупать" своеобразие атмосферы этого города по отношению к США. И тут, и там корни в Европе, а различие разительное. Думаю (tentatively
[751]), что различие это в последнем итоге "вероисповедное". У Мексики – корни католические, у США – протестантские. Это разница в самом подходе к жизни, в ее восприятии и ощущении.
Протестант знает грех , знает, что он изгнан из рая , но рая самого не знает и помнит. Католик (и православный) – знает грех, знает, что он изгнан из рая, но помнит рай. Поэтому протестанту ничего в мире не напоминает рая. Он "строит" полезную, удобную, комфортабельную и т.д. земную жизнь, но которая ни в одном своем "аспекте" не напоминает, не являет, не открывает рая. Он живет в "падшем" мире, но уже и не "отнесенном" к тому первозданному, радостному, божественному. Он связан с миром разумом, знанием, анализом, но не верой, не "сакраментальной" интуицией…
Католик, даже "секуляризированный", – помнит, ощущает. Все эти, даже безвкусные, раззолоченные, разукрашенные, храмы – и тоска по раю, и кусочки рая, радости, "добро зело". И все это продолжает "веять" над их культурой, городами, жизнью…
Коммунизм, утопизм торжествуют или хотя бы привлекают в "кафолических" странах – потому что в них есть "мечта". И он бессилен в протестантских странах потому, что в них никакой мечты нет, а есть прилежный, добротный "реформизм".
Протестантизм есть отрицание Церкви как
рая , в этом его грех и ересь. А теперь за ним тянется католицизм со своим нудным "message social" и "servir le monde"
[752].
Жить удобнее в протестантском мире. Только жизнь эта изнутри тяжела – и потому насквозь пронизана "душевными заболеваниями". Человек не может жить без памяти о рае. Он погружается в ужас, в страхование, в тоску. Он теряет себя. Ужас современного мира: поляризация между Швецией (гарантированное земное благополучие без мечты) и коммунизмом.
Начал писать в восемь утра, кончаю в десять вечера. Утром поездка на индейские пирамиды, 50км от города. Очень сильное впечатление от этого грандиозного – "космического" – замысла: пирамида солнца, пирамида луны, храм – и всюду были человеческие жертвы. Под этим впечатлением купил даже в лавочке историю Мексики по-английски.
На обратном пути "портик трех культур", на месте, где 13 августа 1521 года были разбиты Кортесом последние ацтеки. Удивительная надпись:
"No tu triumfo ni derrota
Fue el doloroso nacimento
Del pueblo mestizo qui es
И страстная "лекция" – в автомобиле – молодого диакона-мексиканца об испанском завоевании, о росте Мексики…
Завтрак – на совсем другом конце города – с еп. Хозе (еп. Димитрий уехал рано утром), двумя его диаконами и милейшим Петром Микуляком, весь день бывшим моим переводчиком.
Днем отдых в отеле – уже чувствую усталость от всех этих поездок, разговоров, напряжения. Поздняя прогулка по городу, кишащему народом, с П.Микуляком. Завтра рано утром – отлет в Нью-Йорк.
Crestwood. Вторник, 7 сентября 1976
Последний день лета! Завтра начинаем учебный год. Вернулись из Labelle неделю тому назад, и все эти дни – приведение в порядок дел, планы курсов, заседания в семинарии. Погода, слава Богу, изумительная – легкая, солнечная, прохладная…
Чтение за эти недели: "История Мексики" (Parkes, History of Mexico), и Albert Moutin "L'Americanisme"
[754] (1904). Размышления, в связи с обеими книгами, об ужасе христианской истории…
Радостное ожидание лекций, семинарской "рутины" – в июне все это казалось страшным…
Только бы сохранить мир на глубине, в душе, не дать победы суете…
Пятница, 10 сентября 1976
Смерть Мао. Реальная возможность, что Л. предложат место headmistress
[755] в школе] Spence. Письмо от Никиты. Суматоха и собрания в семинарии.
Смерть Мао. Несколько страниц в "Нью-Йорк Таймс". И, несмотря на весь этот поток информации, оценок, гаданий, – чувство: как трудно все понять по-настоящему, в каких потемках мы живем, какая на деле тайна – "история". Меня поразила одна подробность: John Service, знавший Мао в сороковых годах, пишет об оценке его успеха китайцами. Один ответ: "He saw far…"
[756]. Иными словами, побеждает тот, кто смотрит вдаль, не дает себе "раствориться" в "актуальности".
Местопребывание Солженицына в Вермонте "раскрыто" американской прессой. В "Нью-Йорк Таймс", однако, ни слова. Неужели они ему мстят? В своем письме Никита защищает "засекреченность" С. (которую как таковую я и не осуждаю, а только высказывал сожаление о его подозрительности).
Суббота, 11 сентября 1976
Прохладный солнечный день. Утром Литургия. Вчера почти весь день встречи, по очереди, с новыми студентами. Почти все на вопрос о религиозных "корнях", то есть о семье, родителях, говорят: никаких. Родители – вне религии… Религиозная "беспочвенность" современной Америки. Тем удивительнее эта cheminement de la grace
[757] в молодых.
Два – из русских эмигрантских семей. Страшное свидетельство о том, как старшее эмигрантское поколение в Церкви видело только что-то "для себя".
Из этих разговоров можно было бы сделать целую книгу.
Вчера, после бесконечного дня в семинарии, ужин с Сережей и Маней в ресторане] Le Biarritz. Удовольствие от общения с ними.
Читаю "Повесть о Сонечке" Марины Цветаевой. Утомляет эта все время нажатая педаль, нескончаемый восторг…
Среда, 15 сентября 1976
Вся неделя прошла в суете, и суете "аритмической", так что мечтаю пусть и о занятых, но буднях…
В воскресенье в Syosset, на серебряной свадьбе Губяков. Служил молебен, говорил слово. Вечером ужинали в Нью-Йорке с Таней Варшавской. В понедельник первые лекции, затем опять – прием новых студентов, вечером длинная архиерейская всенощная с выносом креста. Вчера, во вторник, Литургия с посвящением в дьяконы Васи Лихваря, а в три часа дня – первый совет профессоров. Постепенно "погружаюсь", иногда такое чувство: с головой – в это безостановочное напряжение, напор тысячи дел и делишек. Вечером – открытие вечерних курсов и заседание.
Погода жаркая и сырая.
Пятница, 17 сентября 1976
Перед отъездом в St. Louis и Kansas City (лекции). Вчера Епископальная конвенция приняла "канон" о допущении женщин к священству. Епископы голосовали 2/3 за и 1/3 против, духовенство и миряне: немного больше 51% за, остальные против. Звонок вечером от Rayburn'a: зовет на какой-то протест в Миннеаполис в понедельник вечером. Я должен был лететь в Миннесоту в воскресенье из Канзаса. Но вчера решил, что этого не нужно. Это огромная, в сущности – мистическая трагедия, и было бы отвратительно ее "эксплуатировать".
Если бы выразить все это одним словом, то я сказал бы: торжество чего-то, прежде всего,
пошлого . Низкопробной уравниловки, страха перед "современностью". Ничего глубокого и подлинного. И сам факт, что об этом
голосовали ! Однако противники этого "канона" кажутся мне столь же мелкотравчатыми, и почему я не хочу ехать… "Блажен муж…"
[758].
Вчера долго на малом синоде. Потом час у Арсеньева, который в воскресенье ложится на операцию. La vieillesse est une defaite (ou un debacle?)
[759]. Кто это сказал? Де Голль? La grande pitie de tout cela
[760]: этого запущенного дома, одиночества, этой почти истерии, с которой он объясняет десятки портретов – прабабушка, прадедушка… "Был целый мир, и нет его", только один несчастный старик, судорожно цепляющийся за обломки…
Мелочи церковной, мелочи архиерейской, мелочи семинарской жизни, сколько их… Пришел сегодня с лекции и два часа в этих мелочах, телефонах, суете. А когда на минуту выкарабкиваешься из них, нужно писать скрипты. Где тут – "прилежати о души ваши безсмертней…"?
Изнуряющая мокрая духота.
Понедельник, 20 сентября 1976
Длинная и довольно-таки изнурительная поездка на средний Запад. Пятница вечером и суббота – в Сент-Луис: retreat. Лекции, разговоры, вечерня в греческой церкви. Весь день на людях. В субботу вечером на автомобиле с о.Леко в Канзас-Сити, на торжество маленького нового прихода, составленного из бывших англикан. О. Джозеф Хирш. Боялся обращенческого "максимализма" и восторгов, но был радостно удивлен твердостью и спокойствием всего этого предприятия. Вообще, несмотря на усталость, радостное чувство – вот в этой дали, in the center of nowhere
[761], несколько молодых священников наши бывшие студенты] – о.Хомяк (Сент-Луис), о.Леко (Мэдисон), о.Мэдисон (Канзас), о.Форсберг (Сент-Луис) и теперь о.Хирш – борются, работают, и что-то начинает расти, зеленеть. Чудная обедня в маленьком, накануне построенном храме св. Феодора Тарситского… И как фон всего этого – ширь, размах Америки, полей, огромных рек, огромного неба.
В пятницу ночью разговор по телефону с другом] в Миннеаполисе, на Епископальной конвенции. Чувство такое, что, несмотря на шок, большинство так или иначе "примирится". Во всяком случае размеры кризиса значительные. Я рад, что мне не пришлось погружаться в эту атмосферу.
Среда, 22 сентября 1976
Вчера, в первый раз после многих недель, несколько часов за письменным столом: переписывая, заканчивая мою главу "Литургии"] для Вестника . И сразу совсем другое настроение, чувство внутренней "упорядоченности".
Пятница, 24 сентября 1976
Вчера вечером – дебат по телевизору между Картером и Фордом. Дебат не слишком интересный, хотя и хорошо вскрывающий сущность современной поляризации: Форд – за частную инициативу, Картер – за общественную "заботу". Правда – относительная – каждой из установок, неправда каждой – в полной изоляции от другой. Всегдашнее восхищение американской системой.
До этого утром в Нью-Йорке, в "Свободе", которая трещит по швам от интриг и превратилась в "корзинку с крабами"… Любимая пробежка по Пятой авеню до книжного магазина] Rizzoli. Купил биографию L.F.Celine. В поезде на обратном пути чтение французских еженедельников] L'Express и Le Nouvel Observateur.
В семинарии все, слава Богу, благополучно. Почти кончил личные встречи с новыми студентами (до сорока!). Удивительно: в 1950-е и даже 1960-е годы к нам поступали сыновья из "церковных семей". Теперь почти сплошь на вопрос о религии родителей ответ: никакой . Дети "потерянного поколения", ушедшего от всего во имя "американского успеха", махровым цветом расцветшего после войны.
Чудные прохладные, солнечные дни. Вчера шел от вечерни домой среди торжествующей красоты блестящих на солнце деревьев и думал: сколько незаслуженного счастья дал нам Бог.
Сегодня за утреней сказал маленькое слово о "hardening of heart"
[762] (евангелие об учениках, удивлявшихся Христу, идущему по воде) – "ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что
сердце их было окаменено " (Мк. 6:52). Основной грех, основное препятствие на пути к Богу именно это "окаменение сердца".
Суббота, 25 сентября 1976
Преп. Сергея Радонежского по новому стилю. Обедня в семинарии. За проскомидией поминая – вспоминал – в который раз! – одиннадцать лет моих на Сергиевском подворье. Вспоминал с радостью и благодарностью.
Письмо от мамы вчера – с волнением и беспокойством о том, что будет, если она уйдет со службы (денежно). Мучительная жалость к этой затравленности современной старости. Написал сегодня ей и Андрею о планах, как все устроить.
Хорошая полоса работы, и от этого бодро и светло на душе. Разочарование в Картере. Чем-то пахнуло дешевым и демагогическим. Начал биографию Сeline'a.
Понедельник, 27 сентября 1976
После обеда вчера организационное собрание "кружка РСХД", устроенного о.Кириллом Фотиевым из "третьей" молодежи. Человек восемь – от семнадцати до двадцати шести-двадцати семи лет. Впечатление очень хорошее. Что-то подлинное. Читал вводный доклад об истории и "воздухе" Движения, после чего – долгая беседа. Увидим, что из этого выйдет, но уезжал домой радостный и вдохновленный.
На исповеди вчера Н.Н. говорит, что сделала аборт. Как обухом по голове! Чувство такое, что вдруг – сквозь болтовню о религии, о Церкви, сквозь все это поверхностное возбуждение – наталкиваешься на царство диавола, на всю его силу. И только тут ощущаешь всю меру нашего бессилия, нашей теплохладности.
Среда, 29 сентября 1976
Ошибся тетрадью и перечитал несколько страниц из тетради 1973года. "Горная встреча" с Солженицыным, тогдашние чтения и волнения. А на глубине – "все об одном"… О том, что просвечивает в жизни, в мире все время, что одновременно и печаль (печаль по Боге), и радость , в их единственно чистом виде и потому – слиянии…
Много работал, писал эти дни, и, хотя из работы этой пока что ничего не вышло, сам факт ее – радостен и успокоителен.
Ужин вчера у президента Union Theological Seminary
[763] с деканами нью-йоркских богословских школ. Еще немного, и мы все заснули бы от мертвящей скуки всего того, что обсуждалось. Зато приятно было мимолетное погружение, в свете нью-йоркского заката, в квартал, где мы прожили одиннадцать лет.
Четверг, 30 сентября 1976
Разговор вчера перед вечерней лекцией с Андрюшей и Галей Трегубовыми, двадцати шести и двадцати семи лет, недавно из Москвы. Он еще даже не крещеный, но уже ходит на все наши вечерние лекции. Жадность к Церкви, знанию, истине, свету.
Читал книгу W.Stringfellow and A.Towne "The Death and Life of Bishop Pike"
[764] и ужасался… Я знал (немного) Пайка, когда он был в Колумбии
[765] и St. John the Divine
[766]. Страшная жизнь: два развода, самоубийство сына, самоубийство любовницы, алкоголизм, уход из Церкви – и все это в книге представлено как какой-то подвиг, свидетельство… Дело не в осуждении – один Бог судит; дело в какой-то патологической искривленности современного сознания, в трагическом выборе и утверждении черного как белого и белого как черного… И все это во имя какого-то "self-fulfillment"
[767], в ужасающей по своей слепоте ненависти ко всем "ценностям"…
Вторник, 5 октября 1976
В пятницу – ранняя Литургия (Покров). Полдня на аэродроме] Kennedy, встречая архиеп. Василия Кривошеина, "гостя" семинарии на три недели. В субботу – Education Day с привычной суматохой и напряжением: архиерейской
Литургией и целодневным погружением в толпу…В 2.30 несусь в Нью-Йорк на 57-ю улицу: доклад на конференции Конгресса русских американцев ("Русское Православие в Америке"). В 5.30 уже обратно в семинарию: вечерня и "благодарности…". В семьвечера – доклад о Православии на конференции "экуменистов". Дома в одиннадцать часов вечера (Льяна на weekend в Монреале). В воскресенье – в 6.30 утра пишу два скрипта. Литургия в храме Христа Спасителя. И там же в два часа доклад! Уф! Записываю все это, как пример… Чего?..
Продолжаю с волнением чтение книги о Пайке. Наряду все с тем же ужасом и раздражением на все это "духовное чтение" – некое восхищение верностью и любовью авторов. В конце концов Пайк перестает быть "символом", "носителем зла", становится объектом жалости. И еще чувство: "Блюдите, како опасно ходите…"
[768]. Как много в мире расставлено демонических, черных мышеловок, разложено сетей. И стоит только прикоснуться, заглянуть, "заинтересоваться" – и вот сразу же начинает затягивать… Признак этих черных пиров:
тусклость . В них все может казаться нормальным, но в них
не проникает свет . Как комната, в которой наглухо закрыты ставни и задернуты непроницаемые шторы в солнечный день. Узость и теснота. Страх и страхование. И все непроницаемо
свету … Между тем как "Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы"
[769].
Разговор с Томом Хопко] вчера о молитве, вернее о современной одержимости "проблемой молитвы". Я убежден, что и эта "современная" молитва – все та же гордыня, что в ней нет главного, то есть потери себя в Боге. Такой "молитвенник" и в молитве утверждает себя, ищет себя, любуется собой, доказывает себе что-то. И потому "интересуется" молитвой и все изучает ее "технику".
Среда, 6 октября 1976
Сегодня Льяне пятьдесят три года! Как, куда "ухнули" все эти годы с той всенощной под преп. Сергия Радонежского на Подворье, в октябре 1940г., когда мы по-настоящему встретились (до этого едва были знакомы, кроме разве солнечного дня в Сорбонне в июле 1939г.) и на следующий день вечером я сказал кому-то: "Я встретил мою будущую жену"?
Ужин, вчера, с Тихоном и Мариной Трояновыми. Как всегда, разговоры о Церкви, об их общине francophone
[770] в Женеве. Вечный вопрос: может ли что бы то ни было пробиться, "зазеленеть" сквозь мертвый пласт – этнического, языческого, номинального Православия? Думаю об этом, работая над предисловием к сборнику статей, на издании которого настоял Давид Дриллок. И другой "вечный" вопрос – о соотношении "пророчества", то есть обличения, "разрыва", – с Православием
[771]. С одной стороны, мне так очевидно, что новое вино просто не вливается в ветхие мехи. С другой же – только через это ветхое, и даже – обветшавшее, дошло до нас то, о чем, во имя чего – нужно до зарезу "пророчество".
Кончил вчера книгу о Пайке. Вот он выбрал "пророчество" и кончил трагическим обвалом, распадом, тьмой. Не легко, ибо личной тайны, тайны личного пути нам знать не дано. А церковно: уход из Церкви, уход из священства, в тупики спиритизма и поисков "исторического Иисуса".
В воскресенье на 71-й улице вл. Никон с пеной у рта говорит мне об о.П. нашем бывшем студенте]: он не умеет служить, отсебятина, открывает, когда не положено, царские врата и т.д. А я так хорошо помню, как в 1936-1937 году того же Никона, тогда молодого иеромонаха, перевели в Париж] на rue Daru из Братиславы и два наших "дореволюционных", "посольских" старца – о.Николай Сахаров и о.Иаков Смирнов – целый год не разговаривали с ним за его попытки "оживить" приход. Теперь же – в восемьдесят три года – та же ненависть ко всему живому, сведение всего прихода к панихидкам и "вкусной, дешевой и обильной трапезе", приготовленной "нашими дамами".
Сегодня вечером – второй дебат между Фордом и Картером.
Четверг, 7 октября 1976
Дебат Форда и Картера. Снова – очевидность относительной правоты и неправоты каждого, замутненная необходимостью для каждого отвергать как раз "относительность": "Я прав, ты не прав во всем…" Комментаторы после дебата хвалят: "This time he was more aggressive…"
[772], как если бы это было главным качеством. Система, в которой каждый все время должен хвалить и рекламировать самого себя… Конечно, все это лучше, чем что бы то ни было остальное в мире, и все же – печаль "падшести" даже лучшего, от отсутствия в нем подлинности, вздоха, глубины. "Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская"
[773] – именно в лучшем, а не в худшем раскрывается глубина "первородного греха". Вышеславцев: "Трагизм возвышенного и спекуляция на понижение".
Письмо от мамы: сама признает ускоряющийся темп старения, слабости, невозможности помнить, сосредотачиваться и т.д.
Пятница, 8 октября 1976
На приеме "Worldview" вчера днем. Еще раз – всегда удивляющая меня атмосфера "партийности". Тот, кто
за Форда, уже на все 100%
против Картера и vice versa
[774]… И то же всегда это, непонятное для меня, ожидание "новой эры", эта вера в политику как силу, способную "спасать", "возрождать", "обновлять"…
Интервью Андрея Амальрика в "Русской Мысли" и в "L'Express". Его несогласие с Солженицыным: С. сохранил марксистскую веру в "идеологию", только теперь, по мнению А.А., "романтически-православную" и славянофильскую.
Суббота, 9 октября 1976
Спокойное утро дома – при буре за окном! И, как часто бывает со мной, – почти полная невозможность сесть за работу. Все валится из рук, кажется ненужным. Чтобы "разогнаться", написал письмо Никите, теперь вот пишу это…
Ужин вчера у Трубецких в Syosset. До этого заседание департамента внешних сношений. Утром – длинная череда студентов, каждый со своей "проблемой". Может быть, именно поэтому, когда "отпускает", – ни на что не оказываешься способным.
"Религиозный опыт". Слушая других, стараясь их понять, убеждаешься в том, насколько этот "опыт" многообразен, насколько один отличен от другого – и это внутри одной и той же "веры", одного и того же "православия"… Что же говорить о других религиях!
Понедельник, 11 октября 1976
Мучительный разговор в субботу с Н.Н. о совершенном ею аборте. Что говорить? Ужас от непоправимости случившегося. Прикосновение к бездонной печали греха.
Чудная служба вчера. После обеда ездили к Ане – в апофеозе солнечного света и яркой осенней листвы.
Вторник, 12 октября 1976
Встречи, разговоры, звонки. Мне надоело жаловаться самому себе, но факт остается фактом. В этой постоянной спешке, в этом, сто раз в день, повторяемом вопросе секретарши: "Father, when can you see…?"
[775] – никакая работа невозможна. А все попытки найти выход – бесплодны. That's the way it is
[776]. Евангелие сегодня (Мученикам): "Терпением вашим спасайте души ваши"
[777].
Ясные, лучезарные, холодные осенние дни.
Начало "ложной религии" – неумение радоваться, вернее – отказ от радости. Между тем радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог
есть , и не радоваться. И только по отношению к ней – правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Вне этой радости – они легко становятся "демоническими", извращением на глубине самого религиозного опыта. Религия страха. Религия псевдосмирения. Религия вины: все это соблазны, все это "прелесть". Но до чего же она сильна не только в мире, но и внутри Церкви… И почему-то у "религиозных" людей радость всегда под подозрением. Первое, главное, источник всего: "Да возрадуется душа моя о Господе…"
[778]. Страх греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает.
Чувство вины, морализм не "освобождают" от мира и его соблазнов. Радость – основа свободы, в которой мы призваны "стоять"
[779]. Где, как, когда извратилась, замутилась эта "тональность" христианства или, лучше сказать, где, как и почему стали христиане "глохнуть" к ней? Как, когда и почему вместо того, чтобы отпускать измученных на свободу, Церковь стала садистически их запугивать и стращать?
И вот идут и идут за советом (сегодня – с 7.30 утра, а сейчас десять: исповедь, разговор, разговор, разговор – итого четыре человека с проблемами, не считая просьб о встречах на будущее). И какая-то слабость или ложный стыд мешают сказать каждому: "Никаких советов у меня нет. Есть только слабая, колеблющаяся, но для меня несомненная радость. Хотите?" Не хотят. Хотят разговоров о "проблемах" и болтовни о том, как их "разрешать". Нет, не было большей победы диавола в мире, чем эта "психологизация религии". Доказательство: все что угодно есть в психологии, одно в ней абсолютно невозможно, немыслимо и недопустимо: радость.
Среда, 13 октября 1976
Собрание профессоров с докладами наших "делегатов" – и архиеп. Василия Брюссельского – об афинской конференции православных богословов. Слушал и думал: какая странная эпоха, сколько "выдуманного" – редукция всего в Православии к "Отцам" и "духовности". Из них сделали каких-то идолов, какую-то панацею от всех зол. Торжество в наши дни сектантского только. Только Отцы, только "Добротолюбие", только Типикон… Убожество и какая-то глубочайшая несерьезность и бездарность всего этого.
Сегодня, идя к утрени, думал о
глупости . Думал, что она, в сущности, является несомненным и самым страшным плодом "первородного греха" и даже, еще раньше, падения "Денницы". Диавол
умен – говорят всегда. Нет, в том-то и все дело, что диавол бездонно
глуп и что именно в глупости источник и содержание его силы. Если он был бы умен, то он не был бы диаволом, он бы давно "во вретище и в пепле" покаялся бы. Ибо восставать против Бога – это, прежде всего, страшно глупо. В каком-то из своих романов Сименон устами Мегре замечает, что совершает преступления, убивает только
глупый : до чего же это верно… Все то, что составляет сущность зла: гордыня, зависть, ненависть, желание "свободы" ("будете, как боги"
[780]) – все от глупости. Сталин – глуп, Ленин – глуп, Мао – глуп. Ибо, действительно, только метафизический дурак может быть так стопроцентно одержим будь то одной идей, будь то одной страстью. Только вот глупость, потому что она – упрощение, потому и сильна, "голь на выдумки хитра". Весь "падший мир" – это "глупость, хитрая на выдумки". Глупость – это самообман и обман. Диавол "лжец есть искони"
[781]. Он извечно врет и себе, и другим. И это упоенное вранье кажется умным, потому, прежде всего, что оно быстро "удовлетворяет". Глупость всегда самодовольна, а самодовольство импонирует. Что, в конце концов,
смешнее сейчас, чем идиотское казенное самодовольство коммунизма? Но ведь, вот, действует. Можно сказать, что в падшем мире преуспевает глупость, раз и навсегда самодовольно и нагло заявившая, что она
умна , одевшаяся в "ум"…И именно потому и христианство, и Евангелие начинаются с "metanoia"
[782], "обращения", "транспозиции" ума, с поумнения в буквальном смысле этого слова. И потому, наконец, так страшно, когда "религия", возрожденная Христом, наполнившаяся снова "светом разума" и ставшая "словесной службой", снова и снова
выбирает глупость. В современной религии самое страшное – новое восстание против Логоса. Потому так много в ней – на руку диаволу.
Ум может "поглупеть". Глупость поумнеть не может. Ей нужен ум, но от ума она берет только его "механизм", его "хитрость", уменье (ведь даже застрелить человека нельзя без уменья). Этой роли, собственно, и подчинился современный ум, в этом его поглупение и падение. Он принял от глупости, что роль его только в как и никогда не в что , убедил себя сам в этом и стал с восторгом служить глупости. Стал ее "умом", ее "мотором", ее "успехом". Ум снабжает всякую глупость alibi, ибо он всегда готов, всегда умеет одеть ее в умное обличие. Он даже умеет (ибо в том-то и дело, что он все умеет ) подлинное умное представить "глупым".
Сущность веры не в отрицании "ума" (который-де от диавола). Отрицание ума есть высшая и последняя победа диавола, торжество глупости в чистом виде, ибо с "отрицания ума" начинается сам Диавол. Сущность веры в исцелении ума, в освобождении его от покорившей его себе глупости. Но если трагедия и грех ума состоят в его порабощении глупостью , то трагедия и грех религии в том, что только в ней и через нее сохранились и сохраняются, если так можно выразиться, чистые дураки , то есть те, кто со страху отождествляют диавола именно с умом и для того, чтобы отделаться от диавола и бороться с ним, начинают с того, что отказываются от ума , изгоняют его из веры . Бессознательно, конечно, но думают они, в сущности, так: если диавол умен , то вера должна быть глупа . А так как диавол глуп , то в этой глупой вере снова торжествует он. Подлинно торжество зла есть торжество глупости во всем: и в "уме", и в "религии". Как опытный шулер так смешал карты, что действительно "сам черт не разберет" – где ум, где глупость. Разум с восторгом отдает себя оправданию любой глупости, и, так сказать, "глупости как таковой", признает и санкционирует все, кроме веры, раз и навсегда отождествленной с "глупостью". Религия столь же восторженно соглашается на противопоставление веры и разума, упивается собственной "иррациональностью", чувствует себя хорошо где угодно, только не в "разуме" (и гордится и хвастается этим и со сладострастием повторяет: "Это понять нельзя, в это можно только верить…"). И вот в мире и над миром царствует "князь мира сего", а в переводе на более простой язык: Дурак, Лгун и Мошенник. Не пора ли ему это сказать открыто и перестать верить в то, чего у него нет : в его ум?
Четверг, 14 октября 1976
Разговор вчера, перед моей лекцией, с Виктором Осташковым, молодым "диссидентом", недавно из Москвы. Его привез ко мне Андрюша Трегубов, другой диссидент, уже слушающий в семинарии лекции. Осташков склоняется к буддизму. Короткий спор, восторженная реакция на лекцию (о крещении)… Удивительное – у обоих – горение, занятость главным, "единым на потребу".
Разговор с матерью Н.Н. (аборт). Что бы сказал Христос? "Иди и больше не согрешай"
[783]? Почему нам все так сложно? От малой любви, малой веры?
Понедельник, 18 октября 1976
Два дня в Ричмонде штат Виргиния]. В субботу retreat в новом "миссионерском" приходе. О. Де Трана. Присутствует много англикан, и в центре споров – вопрос о священстве женщин. Постепенно, очень постепенно начинаю "чувствовать" контуры подлинного ответа. О.Георгий и Мэри Энн Де Трана показывают мне город, когда-то столицу южан. Я уже был в Ричмонде и раньше. Но любуюсь снова осенью, садами, колоннами и пропорциями капитолия, построенного Джефферсоном.
Вчера вечером, почти сразу после возвращения с аэродрома, собрание – прием у нас семинарских девочек. Все тот же вопрос: Церковь "должна" найти для нас дело. Мы должны перевоспитать Церковь. Безнадежность, плоскость этого подхода. Слава Богу, многие из них это чувствуют… Но живут они в эпоху, где все определяется "борьбой". И это извращает всякую перспективу.
Читал в аэроплане и в своей комнате, вечером, в Ричмонде Eric Sevareid'a ("Not So Wild a Dream")
[784]. Думал: вот если бы Солженицын прочел несколько таких книг, прежде чем читать мораль "Западу" вообще и Америке в частности! Как все легко и просто издалека, с высоты птичьего полета.
Разгар действительно золотой, действительно багряной американской осени…
Вторник, 19 октября 1976
Ужин у нас вчера вечером с архиеп. Василием Кривошеиным. Несомненно порядочный человек, открытый, терпимый и т.д. Но странное чувство: вот он провел не то пятнадцать, не то двадцать лет на Афоне, простым монахом, но, в сущности, ужинал с нами вполне светский человек, живущий хотя и прилично, но "церковной кашей", ограниченной всей этой смутой, современной церковной перспективой и ситуацией. В этом нет ничего плохого, ничего низкого, напротив – он кажется почти идеалом "образованного архиерея". Мои мысли не о нем, а о том, в чем последний смысл этих ученых копаний в мистическом опыте Максима Исповедника или Симеона Нового Богослова.
Сегодня утром – мороз, неподвижность, в прозрачном воздухе, золотых деревьев. И в этом свете, в этой красоте – банальные новости и объявления по радио кажутся хулой, безобразием, дьявольщиной…
Среда, 20 октября 1976
Вчера вечером лекция о "молитве и богослужении". Лекция в конце концов
против псевдорелигии, псевдодуховности, разлив которых меня ужасает. "Глазами своими будете смотреть и не увидите, ушами – слушать и не услышите… И не обратитесь"
[785]. Это относится с абсолютной точностью к современным православным: подавляющее большинство их хочет другое, видит другое, слышит другое.
Другое по отношению к тому, что Церковь дает видеть, дает слышать, призывает любить. Особенно ясно видно это в наших студентах, в этой молодежи, зачарованной именно "религией".
Пятница, 22 октября 1976
Письмо от Никиты. В ответ на мои размышления об упадке православного богословия он пишет:
"…боюсь, что причины богословского упадка очень глубокие (и отчасти общие для всех религий). Большое творческое богословие как будто рождается от столкновения веры с крупными философскими сдвигами, так родилась (Ориген) и продолжалась патристика; возродилось богословие от встречи с немецкой философией, либо отталкиваясь от нее (славянофилы), либо претворяя ее (Булгаков). Сейчас нет оплодотворяющей системы. Господствующие течения – марксизм, фрейдизм, структурализм – все откровенно безбожны, а в итоге, как всякое безбожие, – бесчеловечны. Они только разъедают богословие. Отсюда те неизбежные редукции, о которых Вы так правильно пишете… Меня часто охватывает головокружение перед бездной между замыслом Бога о Православии и его малым значением в мире…"
Завтрак вчера с Сережей в ресторане напротив ООН. Всегдашнее удовольствие от общения с ним, любованье его умом, скромностью, добротой. И, вместе с тем, "уязвимостью".
Поездка в среду в Yale Divinity School
[786]. Удовольствие от общения с умными людьми – после утомления дешевым триумфализмом, свойственным большинству наших студентов.
Маленький фон уныния в душе, и, как всегда, поразительный, "в самую точку" ответ на него Апостола и Евангелия.
Суббота, 23 октября 1976
Первое – за много недель! – спокойное утро дома и даже некая растерянность от этого спокойствия. Привожу в порядок денежные дела. Только что позвонили Андрею в Париж. Радость от контакта с ним.
Среда, 27 октября 1976
Вечер у Трубецких с вл. Сильвестром. Чтение вечером в кровати "Современных записок" (1929-1930гг.). Как далек от нас этот золотой век эмиграции! Несколько строчек Г.Адамовича: так, в этом тоне никто не пишет. Violence
[787] и мелочность во всем, торжествующая в наши дни.
Четверг, 28 октября 1976
Отождествление веры, христианства, Церкви с "благочестием", с какой-то одновременно сентиментальной и фанатической "религиозностью" – как все это утомительно, так же как разговоры об "уставе", о "духовности", весь этот испуг, рабство. "Жизнь с избытком"
[788], Царство Божие – низведенные на степень благочестия. И за всем этим – этот страстный интерес к самому себе, к своей "духовности". Всегда занимающий меня вопрос – почему все это столь многих людей так неудержимо привлекает?
"Зато слова: цветок, ребенок, зверь…" (Ходасевич)
[789]. Думаю об этих словах, смотря на золотые, пронизанные послеобеденным солнцем деревья за окном, на кошку, на идущих из школы детей. Это меня в сто раз больше обращает к Богу, чем все богословские и религиозные разговоры вместе взятые. И еще приходит в голову: "Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre…"
[790]. Это эпиграф к книге H. de Montherlant "Le Service Inutile"
[791], которую я прочел лет тринадцати-четырнадцати и которая навсегда поразила меня.
По Евангелию так ясно: Бога любят святые и грешники. Его не любят и, когда могут, распинают "религиозные" люди.
Сегодня в радио "Свобода" перед лифтом В.Ф.Р. неожиданно мне: "Признаюсь Вам, как священнику, – под старость все больше боюсь смерти…"
Полтора часа в городе сегодня. Радио. Покупки. Нью-Йорк под ярко синим холодным небом. Человеческие лица: почти все озабоченные.
Пятница, 29 октября 1976
Вечером вчера у Алеши и Лизаньки В.[иноградовых] с Алей Солженицыной.
До этого на заключительном банкете епархиального съезда. Чувство как бы "уюта": столько уже своих! Чувство моей, нашей Церкви…
Сегодня после лекции студенты. Какие разные! Явно две тенденции: "охранительная" и "либеральная". Может быть, еще одна: серьезная … Исповеди.
Вторник, 2 ноября 1976
Election Day
[792]. Спрашиваю себя: почему я буду голосовать за Форда, а не Картера, за консерватора Бакли, а не либерала] Мойнихена, за какого-то Капуто (консерватора), а не за Мейера и т.д.? Все те, за кого я буду голосовать, вне всякого сомнения
глупее , в каком-то смысле
уже и, возможно, "несимпатичнее" тех, за кого я не буду голосовать. И, тем не менее, мой "инстинкт" и даже совесть говорят: голосуй за тех, а не за этих. Доказать другому (например Тому Хопко], с которым мы дружески спорили на эту тему в прошлую пятницу) я, в сущности, не могу: в споре я почти всегда теряю, и "инстинкт", и "совесть" трудно выразимы. И все же…
Всегда то же самое, самое трудное: "Испытывайте духов, от Бога ли они…"
[793], "Берегите себя от идолов"
[794], "Стойте в свободе"
[795]. Слова, тексты – игнорируемые подавляющим большинством "религиозных" людей…
Среда, 3 ноября 1976
Победа Картера. Весь вечер и полночи перед телевизором.
После часов, проведенных у телевизора, – восхищение этой системой, "вынимающей" из политики то, что делает ее злом: ненависть. Чудо Америки.
Это чудо Америки, а ложь, неправда, "первородный грех" ее в по-настоящему антихристианском культе богатства и отрицании бедности . Точнее: в утверждении, что счастье без богатства невозможно, в отождествлении счастья с благополучием. Поэтому, что бы ни говорила "риторика", – бедного Америка "не уважает", он для нее явление постыдное, страшное. Ее первым, основным мифом, поэтому, была вера в то, что каждый бедный может богатства достичь, "сделать себя богатым". Теперь, когда этот миф лопнул, его сменил другой: общество должно сделать бедных богатыми, "обеспечить" их, и спор республиканцев с демократами только в том, в сущности, как это сделать.
"Левые" всегда нападают на "собственность", в ней видят корень всех зол. Не понимая, что именно чувство собственности ограждает – одно! – людей от абсолютной, диавольской власти денег. Ибо в том-то и все дело, что деньги (в капитализме) не суть собственность. Не люди ими владеют, а они владеют людьми. На жаргоне американской way of life
[796],
дом не есть
мой дом , то есть моя жизнь, "мое дыхание, мое тепло"
[797]. Он есть отвлеченная ценность, "investment"
[798]. Если он поднимется в цене, его нужно продать, глупо не продать, как глупо и даже преступно не пускать денег в рост… Собственность – это "ближние" в мире материальных ценностей, это то, что можно любить. А любовь есть всегда и самоотдача, но и обладание (собственность). Человек отдает, чтобы больше и большим обладать: "Мы ничего не имеем и всем обладаем"
[799]. Но потому только тот, кто имеет "собственность", может постичь и глубину и силу "отдачи". Любовь
дарит . А подарить можно только то, что мне принадлежит, мою собственность. И подарок не уничтожает собственности, а ее безмерно, в сто крат увеличивает. Все это, однако, в равной мере чуждо и капитализму (уравнявшему собственность с деньгами, лишившему ее "ипостаси", ее одухотворенности своей принадлежностью мне как
моей жизни), и социализму, все превращающему в
ничье , в безличное и мертвое… Может быть, именно поэтому и сами деньги раньше были золотом и серебром, то есть чем-то, чем можно любоваться, что можно любить, а не только использовать, чем можно было действительно одарить человека.
Люди, и в том числе христиане, всего этого не видят, не чувствуют, потому что во всем видят "проблему", которую нужно решить. И это значит – не чувствуют попросту самой "реальности", еще проще –
жизни . Бог, творя мир, не "решал проблем" и не "ставил" их, а творил то, о чем мог сказать: "Добро зело". Вне этого ничего не понять, не увидеть, не почувствовать и не "разрешить". Бог сотворил мир, а диавол превратил и его – мир, и человека, и жизнь в "проблему". И миллион (лучше же сказать, "легион имя им"
[800]) "специалистов" ее решают. И только потому в мире так темно, так холодно, так "безотрадно".
Четверг, 4 ноября 1976
После почти морозных дней по-летнему тепло. Сегодня – по старому стилю праздник Казанской иконы Божией Матери: тридцатьлет со дня моего посвящения в диаконы на rue Daru митрополитом Владимиром. Теперь все это помню как в тумане, отрывками. Помню, что накануне был в каком-то каменном отчаянии, так не хотел , что уехали со всенощной [домой] в L'Etang la Ville до конца. Ни молитвы, ни радости, ничего, действительно пустота . Посвящение было в рабочий день, в церкви не слишком много народу. Самой Литургии, себя за ней совсем не помню: знаю, что вокруг престола водил меня о.Тихомиров, что служили с митрополитом о.Н.Сахаров, о.Киприан, о.Савва. Помню только, что до хиротонии стоял в углу, за столами со священническими облачениями, и снова был в каком-то внутреннем отчуждении. Чувство такое, что что-то случалось, происходило со мною, но в чем "я" оставался пассивным. Хиротонии не помню совсем. После Литургии мы сразу же уехали в L'Etang la Ville, и я помню, что спал несколько часов, а вечером поехал служить вечерню на Сергиевское подворье.
И вот сегодня в "Свободе" встретил случайно в коридоре человека, которого никогда не вижу и который был тогда студентом и присутствовал…
Думая обо всем этом, спрашиваю себя: не происходит ли все главное, Божественное с нами, нет – не помимо нас, а вот тогда, когда мы просто отдаемся, почти что умираем на время.
Чтение в поезде "Нью-Йорк Таймс". С какой важностью и глубиной, с почти мистико-философским вдохновением разбирает газета "смысл" победы Картера. Она что-то являет, что-то завершает, чему-то открывает дверь. Как если бы не было того простого факта, что, голосуй один незначительный штат по-другому, и победил бы Форд, и снова пришлось бы объяснять глубокий, "историософский" смысл этой победы. В мире какой беспардонной болтовни мы живем!.. Ибо уж если на то пошло, то, прибавив к тридцати восьмимиллионам людей, голосовавших за Картера, всех не голосовавших (а голосовало 53%), то очевидно необходимо признать: большинство не хотело Картера. Как и многие другие президенты до него, он избран меньшинством, случайно оказавшимся большинством. Я не говорю, что нарушены правила игры. Он избран совершенно законно, и дай ему Бог всяческого успеха… Но "историософия" тут абсолютно не причем, и остается вопрос], почему в стране, в которой огромное большинство жителей – демократы, Форд чуть не победил… И именно через два года после Watergate, вьетнамского краха и всего того, что "висит" на шее у республиканцев… Но вот "они" анализируют, и все с благоговением их слушают, как если бы никто ничего без этого анализа и приговора не смог понять…
Суббота, 6 ноября 1976
Проглотил новую книгу Andre Fossard "Il y a un autre monde"
[801]. Как и первая ("Dieu existe, je l'ai vu"
[802]), эта книга в той духовной тональности, которая одна мне близка, нужна и вне которой все в "религии" мне чуждо.
"…convaincu enfin qu'il n'etait en ce monde de tache plus digne, plus douce, plus necessaire et plus urgente que de louer Dieu, de le louer d'etre et d'etre ce qu'il est…" (24).
"L'amour c'est ce qui fait exister l'autre" (82).
"L'Eglise a ceci de commun avec l'armee que les talents ne l'impressionnent pas" (91).
L'Eucharistie "qui, depuis le premier partage du pain, le jeudi saint agit sur notre histoire et la modifie dans une mesure impossible a determiner. L'ignorance ou nous sommes de ce que nous devons a l'Eucharistie qui n'a tout de meme pas ete delivree a tant d'hommes, sous tant de cieux, devrait maintenir tout esprit en suspens devant elle…" (99).
Religion – "celle des recommencements radieux, par le bapteme, la confession, l'Eucharistie, le tournoiement lent des fetes de l'Esprit, qui faisait passer sur eux la lumiere du premier matin… Pouvoir leur etait confere de renaitre sans cesse par la reiteration des sacraments…" (103).
"La philosophie a rompu avec le reel, pour ne pas l'entendre lui parler de Dieu…" (116).
"Ces petits faits divers don't personne n'ecrira l'histoire et par ou s'entrevoitun instant la mysterieuse tendresse qui est au dela des choses…" (191)
[803].
Staten Island. Вторник, 9 ноября 1976
Пишу это в иезуитском retreat house
[804] на Staten Islan
[805], где в течение трех дней читаю лекции по богословию таинств мелькитскому
[806] духовенству. Сейчас двухчасовой перерыв – я поспал полчаса, теперь сижу в тишине и одиночестве и наслаждаюсь, ибо вылезаю из трудных, смутных и суетных дней.
Смутных потому, что как-то особенно ощущаю с начала этого учебного года страшную запутанность "религиозного положения". С одной стороны – книга Фоссара, "кружок" в прошлое воскресенье, Литургия – все как глотки воды живой, дающей внутреннюю радость и удовлетворение. А с другой – дурацкий конфликт в семинарии, обличения одних студентов другими в "ересях" (не целуют каждый раз всех икон!) и недостаточном благочестии, еще более дурацкие казусы – студента, жаждущего "экзорцировать" другого, и т.д. Эта мутная волна фальшивой псевдорелигиозности, пронизанность всей атмосферы демоническими самоутверждениями, "духовной враждой" – все это давит на психику… У всех "проблемы", все как-то "распалено", искажено, карикатурно, и во все тянут и впихивают "Бога" и "Православие". Чувство такое, что ни одного счастливого человека кругом, счастливого тем счастьем, которое, казалось бы, должно было бы источаться из богослужения, молитвы, богословия и т.д. Как если бы про религию нужно было бы сказать словами Толстого: "Все смешалось в доме Облонских…"
[807]. Мы все твердим себе и другим: "Человек несчастен без Бога". Но почему же тогда он так несчастен "с Богом"? Почему эта "религия" "амплифицирует"
[808] все мелкое и паршивое в человеке: гордыню, самопревозношение, страх? Вопросы, которые задаю себе годами. Как будто не осталось в мире спокойного, смиренного, радостного и свободного стояния перед Богом, "хождения перед Ним", как будто нигде нет: "Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом…". Вот и радуешься каждому часу одиночества, осеннего солнца на золотой листве, полного "затишья" и анонимата жизни.
Четверг, 11 ноября 1976
Три дня commuting
[809] на Staten Island, лекций моим мелкитам и бесед с ними. А по вечерам лекции в семинарии. Так что устал бешено. Пишу это в маленькой пиццерии (заехал оставить машину Льяне). Во время этих поездок особенно любовался Нью-Йорком. Громады небоскребов под солнечным, холодным, ветреным светом. Просторы, и эти удивительные мосты.
Воскресенье, 14 ноября 1976
В субботу – крещение за Литургией Андрея Трегубова. Радостное чувство победы благодати, света,
реальности Церкви, несмотря на ее "эмпирии". Вчера же – у митрополита Иринея в больнице, где его завтра будут оперировать. Жалость. Удовольствие от поездки с Л., от этого осеннего света, красоты de l'arriere-saison
[810], уже зимнего, холодного, желтого заката. Вечером Н.Н. рассказывает о "подоплеке" солженицынской жизни в Вермонте. Грусть и жалость. Когда думаю о нем, на ум приходит строчка: "и от судеб защиты нет…"
[811]. Как со стороны – все ясно, все видно, а изнутри – невидно, неясно, мучительно. И так почти в каждой жизни. А ведь именно он написал эти удивительные слова – о кусочке вечности, зароненном в каждом человеке. И о жизни как отображении, "актуализации" этого кусочка.
Среда, 17 ноября 1976
Снова на Staten Island, на этот раз в другом retreat house, на съезде лютеранских пасторов, с теми же лекциями о "сакраментальном принципе". Но какая разница в атмосфере! С мелкитами на прошлой неделе я, несмотря на все (главным образом на интерес многих из них к внешнему, клерикальному, ориентальному и т.д.), все же чувствовал себя дома, в воздухе Церкви. Здесь теперь именно этой атмосферы нет, и это несмотря на то, что люди-то, возможно, глубже, чем те… Поэтому говоришь, как в вату, без резонанса.
В понедельник – поездка в Charlottesville, лекция в University of Virginia
[812], ужин с "русским департаментом" в ресторане, остаток вечера и ночевка у Озеровых. Прелесть Виргинии, осенних полей, гор на горизонте. Прелесть университета, о котором так хорошо писал Жюльен Грин (эта avalanche de colonnes
[813] …). Лекция – "The Three Solzhenitzyns"
[814] – мне самому понравилась, но вряд ли "дошла", ибо разжевывать, объяснять не было времени…
За ужином – знакомая атмосфера Slavic Departments
[815], казенное благодушие, восторженные рассказы о том, кто больше и на дольше ездил в Россию, хвастовство, шпильки друг другу и страх…
Четверг, 18 ноября 1976
Только что (12.30) вернулся со Staten Island. Вчера вечером "беседа развязалась". И снова и снова убеждаешься в том, какие "шансы" были бы у Православия на Западе, если бы не сами православные, не их уровень, не их восприятие и переживание Православия. И словно в подтверждение этому нахожу дома в почтовом ящике "Православный Вестник" – журнальчик, время от времени получаемый мною из Австралии… Все та же безнадежная мешанина – "национально-мыслящего", и "пасхальной ночи", "не могущей не тронуть сердца…", и каких-то мелких писем в редакцию, и праведного гнева, и торжествующего невежества.
Чтение, в эти дни, сборника "Les deux visages de la theologie de la secularisation"
[816], в сущности – история современного богословского "вопрошания" о мире. Читаю с пользой, хотя думал, что буду читать только с отвращением.
Смертельная опасность "клерикализма".
Завтра отъезд на Аляску.
Пятница, 19 ноября 1976
Суматошное утро в семинарии – особенно из-за отъезда. Исповеди, разговоры, лекции, письма, звонки… Открываю эту тетрадь буквально как зеркало – чтобы убедиться, что я еще есть.
Seattle Airport Hilton
[817]. Суббота, 20 ноября 1976
Bain de solitude
[818]. Вчера – шестичасовой полет из Нью-Йорка. Фильм "The President's Men"
[819] – о том, как два молодых журналиста "сокрушили" президента] Никсона. Лучше, чем я думал (не желал смотреть его, когда все о нем говорили…). Нет сомнения, что эта законная борьба с законной властью, впадшей в беззаконие, войдет в американскую "легенду". В аэроплане – большая группа старообрядцев, по-видимому из Орегона. Солженицын в одном прав:
облик их, то есть лицо, выраженье глаз, "поступь", ни на что не похожи, кроме как на "сборный образ" русского мужика – у Тургенева, Толстого и т.д. Мужчины – с огромными бородами лопатой, женщины в платочках, и, хотя они (главное – мужчины) – в западной одежде, этой последней как бы не видно, она выглядит как армяки, зипуны и т.д. Держатся вместе, никто ничего не читает (шесть часов полета), да и разговаривают как будто мало. Извне впечатление такое, что все это – аэродром, американская толпа, ждущая отлета, сам полет и вообще все окружающее их – не имеет к ним ни малейшего отношения. Точно люди с луны, но без всякого интереса, без какой бы то ни было обращенности к земле. Вне времени и пространства. Они смотрят на все невидящими, светлыми, абсолютно равнодушными глазами. И то, на что они смотрят, – их не касается. Однако, следя за ними, заметил: кольцо с каким-то огромным красным камнем, часы на позолоченном браслете. Ясно – они "довлеют себе", они знают – не умом, а всем сознанием и еще глубже безличным подсознанием, что, оборви они в любой точке это кольцо равнодушия, отчужденности, будь то простым человеческим любопытством, и они – кончены. Это уже даже не
секта , поскольку сектанты хотя бы хотят других обращать в свою секту, тем самым спасая их от гибели. В ту меру, в какую сектант ненавидит мир или главенствующую Церковь и т.д., в нем все же есть интерес к ним. Тут же уже нет и интереса. Они "вышли", "ушли", и то, откуда они ушли, их уже просто не интересует. Я убежден, однако (да и история старообрядчества тому доказательство), что они отлично пользуются этим, их не интересующим, не занимающим, миром, его, так сказать, "эксплуатируют". Я убежден, что и ненависти к этому миру у них нет, как нет ненависти у человека, убивающего к обеду курицу. Убежден, наконец, что они ничего не ждут и ничего не хотят, ибо атрофировано у них само – бесконечно христианское! – чувство времени. Смотря на них, следя за ними – думал об основной правоте моего ответа Солженицыну. Всякий выход из "мира сего" без полноты эсхатологической веры извращает что-то самое основное в христианстве. И ничего не меняет тот факт, что на фоне расфуфыренной, суетной, шумной толпы они – словно видение "иного мира".
Чтение в аэроплане "Les deux visages de la theologie de la secularisation". Удивительно и страшно: эти "богословы", в подавляющем большинстве своем – священники, доминиканцы, доктора и профессора богословия, – рассуждают о христианстве и Церкви, ни разу не упомянув Бога. "Константиновская Церковь", "после-Константиновская Церковь"… И за всеми этими умными, тонкими и – внутри собственной своей логики и перспективы – верными рассуждениями просвечивает какое-то страшное, иррациональное желание –
добить христианство, без остатка растворить его в "l'emancipation de l'humain"
[820]. Словно нигде и никогда нет и не может быть
вертикали , одна сплошная горизонталь… Читаю и спрашиваю себя – откуда это, где корень этой настоящей ненависти к Церкви, ее истории, ее сущности? Думаю: не в боли ли, не в отчаянии и разочаровании ли обманутого любовника, сделавшего из объекта своей любви – идола, отождествившего "Церковь" с Богом, а теперь этого идола разрушающего и ненавидящего? То, что они называют "Константиновской Церковью" (ибо вернее говорить о западном христианстве), отождествило свое
присутствие в мире и свою миссию – c властью
над миром, строением земного христианского града. И когда эта власть лопнула, больше того – как всякая власть, оказалась порченной, ложной, страшной, все те, кто больше всего
верил в нее, больше всех возненавидели ее. И, однако, нет у них другой перспективы как
власти , то есть как "строение мира". И потому так же как раньше христианство должно было притязать на
всю власть , теперь оно так же должно отречься от
всякой власти , в пределе же от самого себя, ибо постольку, поскольку
есть Церковь,
есть вера, истина и т.д., остается "власть". Нет,
власть нужно передать миру или точнее – мир увидеть как власть над христианством, над самой его сущностью. Христианство остается только в ту меру, в какую можно доказать, что – "на глубине" – оно говорило раньше, говорит и теперь то, что говорит или чего хочет мир: "l'emancipation de l'humain". Оно даже не имеет права утверждать (как утверждают "богословы секуляризации"), что в нем, то есть в христианстве, – источник de l'humain et de son emancipation
[821]. Ибо это уже – "власть", уже – самоутверждение.
Писал это в отеле в Сиэтле, до отлета на Аляску. Теперь пишу в Ситке, старой столице русской Аляски, в доме епископа Григория. Три часа полета. В аэроплане оказываюсь рядом с католическим архиепископом из Anchorage, тоже едущим на ситкинские торжества. Спуск к Ситке. Снежные горы, низкое небо, ветер, и всюду – водные просторы. Встречает вл. Григорий. Еще ничего не видел, кроме нового Собора. Служил длинную всенощную. Масса народа. Много священников. Чувство большого подъема. Дети-индейцы прелестны – и мальчики, и девочки.
Уже устал от объятий, разговоров, привычного, но всегда утомляющего меня поповского "общения". Поет огромный Поет огромный хор – все молодежь…
Ситка. Воскресенье, 21 ноября 1976
Какой длинный и полный день! Встал в семь тридцать, вышел в церковь в восемьутра: еще черная ночь, дождь, пустые улицы. Прохожу мимо старого русского кладбища. Вниз по улице и Собор. К нему со всех сторон стекается народ. Служба начинается процессией духовенства – три архиерея, шестнадцать священников, среди них: алеуты, индейцы, эскимосы. Длится четыре с половиной часа! Иногда, особенно во время первой части – освящения храма и престола, всегда поражающей меня своей какой-то нарочитой сложностью, чувствовал раздражение: для чего все это, все эти бесчисленные малые ектении, сложности с обвязыванием престола веревкой, поливанием розовой водой и т.д.? А потом созерцал и думал: раздражение это от утери основного чувства времени. Куда торопиться? Не тут ли – в этом медленном, торжественном, несомненном исполнении всех этих деталей, этого действительно "священнодействия" какая-то удивительная победа над раздробленным, пустым временем, наполнение его до края "главным"? Это не значит, что служба эта – построение, создание, выявление "неба на земле" удачна. Дело не в этом. Дело в самой сути священнодействия, в участии в нем всего человека… И под конец, после четырех часов, смиряется ветхий Адам и принимает и радуется. Был удивительный момент: после освящения церкви, когда вот-вот начиналась Литургия, вдруг в окна ударило яркое солнце – сквозь, казалось бы, безнадежные тучи.
После Литургии – пятичасовой банкет. А за окнами – пролив и за ним – снежные горы. И эта малюсенькая рыбачья деревня, бывшая когда-то самой восточной границей Российской Империи. И, наконец, вечером – бесконечный, все еще длящийся open house
[822] у еп.Григория. Сейчас, пока я это пишу в комнате епископа, рядом в гостиной молодежь поет: тут и "Калинка", и "Да исправится молитва моя", и американская "Irene". Поют плохо, но с увлечением. В суматохе длинный разговор с B.Smith, профессором русской истории в Анкоридже. И сразу – о "главном"… Все куда-то тянется, все "жаждет".
Ситка. Понедельник, 22 ноября 1976
Дождь, дождь, бесконечный дождь. Утром в половине десятого еще почти совсем темно. Идем пить кофе с Михаилом Михаликом, бывшим моим студентом. В собор – где служит свою первую Литургию вчера посвященный индеец. Поют студенты – алеуты и эскимосы. Длинный разговор с еп. Григорием. Радостное чувство от этой очевидности жизни Церкви…
Сейчас отъезд в столицу Аляски] Анкоридж.
Пишу это поздно ночью, в постели, в Анкоридже. Только что вернулся с лекции в University of Alaska
[823] (о Солженицыне!). Остановился в доме милейшего о.Николая Харриса (чудная матушка, шесть детей, два сенбернара!). Полет из Ситки. Остановка в Джуно. Здесь, в Анкоридже, мороз и снег… До отъезда из Ситки сегодня поездка с влад. Григорием в старую Ситку, на террасу Баранова и т.д. Очень "впечатлительно".
‹›Crestwood. Среда, 24 ноября 1976
Дома после длинной ночи, проведенной в аэроплане: Кадьяк – Анкоридж – Сиэтл – Чикаго – Нью-Йорк! Вчера, во вторник, на острове Кадьяк у о.Креты. Мощи преп. Германа.] Осмотр пастырской школы преп. Германа и т.д. Эти четыре дня уже сейчас переживаю и ощущаю как "баню благодати"! Радость о Церкви "николиже стареющей, но вечно юнеющей…".
Теперь -Thanksgiving
[824] и три дня каникул.
Понедельник, 29 ноября 1976
Перед возвращением в семинарию и в "будни" после чудного четырехдневного "прорыва". В четверг 25-го – Thanksgiving. Провели этот день в Wappingers Falls у дочери Ани], начиная с Литургии. По традиции после Литургии совершили обычное "паломничество" – сначала на могилу Teilhard de Chardin, а потом – в Hyde Park, имение Рузвельта. Снова светлый, холодный ноябрьский день, последние золотые листья и эти ряды иезуитских, совершенно одинаковых могил. Как армия, как militia Christi
[825]. Нашел также могилу о.Николая Бок, который приезжал ко мне в 50-е годы в Нью-Йорк. Бывший русский дипломат в Японии, в семьдесятлет ставший иезуитом. Все та же "дворянская аллея" в Hyde Park. Потом обед, дети, совсем особенная радость этого дня.
В пятницу утром вдвоем уехали в Бостон "инкогнито". Два с половиной дня самого подлинного счастья. Жили в гостинице] Ritz Carlton. Гуляли по Beacon Hill, по историческому Бостону. Солнечные, почти летние дни. Непередаваемый шарм этих тихих улочек с красными кирпичными домами, такими же тротуарами. Аристократический пласт Америки. Поездка в Кембридж, прогулка по Гарварду. Вернулись вчера вечером, и вот надвигается неделя заседаний, встреч, поездок. Тяжесть суеты, в которой я всегда живу и которую ощущаю все сильнее… Все большая трудность возвращений, как сейчас – после недели перерыва, сначала на Аляске, потом в Бостоне. И самое трудное – это желанье "собраться с мыслями", которые толпятся в голове как бы в ожидании этого…
Путешествие из Бостона вчера: повсюду начинают зажигаться елки. Любимейшая мною пора в Америке: нарождение, нарастание праздника.
Вторник, 30 ноября 1976
Тридцать лет со дня рукоположения в священники митрополитом Владимиром, на Сергиевском подворье, в "братский" праздник преп. Никона Радонежского. Служил раннюю Литургию (Андрей Первозванный – по новому стилю) с И.Мейендорфом и Фомой Хопко]. Все та же мысль: как быстро проходит, как быстро прошла жизнь.
Вчера вечером у Мортонов. Несколько англиканских священников. Беседа о Солженицыне. Как трудно говорить о России, какое полное незнание ее и нечувствие… Но гости уходят в восторге: "What a lovely evening…"
[826].
Решающий день у Л.: interview с "Search Committee"
[827].
Среда, 1 декабря 1976
Сегодня утром А.В. сказал мне, что Солженицын хочет меня видеть завтра после утрени. "Каково будет целование сие?"
Утро в семинарии: Шнейрла, затем Мейендорф, Верховской, Дриллок, Лазор… Пешком на вокзал: чудный, солнечный мороз. Радио "Свобода". И вот уже темно за окнами, а через два часа – двухчасовая лекция в семинарии.
Четверг, 2 декабря 1976
Только что отвез Солженицына на станцию, проведя с ним, следовательно, немногим больше часа. Как и было решено, он приехал с Алешей Виноградовым] к утрени. Стоял в притворе, все в том же костюме, высокий, статный, благообразный. В конце утрени я сначала сказал студентам, что с нами сегодня молился Солженицын и т.д., потом приветствовал его самого. Потом мы провели с ним час дома. Два впечатления: очевидное желание быть очень милым со мной, почти нежным(!?), и столь же очевидный факт, что, в сущности, все это – семинария, я и пр. – его не интересует. Он весь, целиком в себе, в своих планах, в своем "деле", видит только его, одержим им… Хочет издавать ИНРИ – "Исследования по новейшей русской истории" (серию).
"…без Вас, конечно, ее не мыслю… Напишите книгу о Серебряном веке…"
"В Россию, конечно, скоро поедем… Мои мальчишки только этого и ждут…"
"Ведь американской школы вообще нет, одна скорлупа…"
"Практик". Вот, может быть, слово более подходящее, чем "активист". Ему нужно "спорить", "созидать"… И при этом абсолютный одиночка . Люди ему, в сущности, в тягость. Он несет в себе до предела наполненный и безостановочно кипящий, бурлящий, дымящий сосуд. Его мир, его Россия, его собственное дело. Может быть, сродни Бальзаку. Он мог бы, как Бальзак, сказать кому-то, кто сообщил о смерти близкого: "Ну а теперь вернемся к жизни", – и заговорить о собственном романе. Но только мне все больше кажется, что настоящих "антенн" у него нет. Он пишет "изнутри", описывает мир, что постоянно живет внутри его самого, и потому все в его творчестве в каком-то смысле "автобиографично".
Итак, четвертая встреча: Цюрих, май 1974; Париж, декабрь 1974; Канада, май 1975; Crestwood, декабрь 1976.
Пятница, 3 декабря 1976
Завтрак вчера с Б.С. (фамилию не запомнил), бывшим редактором "Науки и религии", "философом, религиозником и гуманитарием", как он сам себя рекомендует. Ужасно не понравился. Я не маниак "заговоров" и "провокаций", но, слушая слащавые речи этого человека, я невольно думал: не "посылают" ли таких? "Вся эта третья эмиграция, – сказал мне вчера Солженицын, – подозрительная и ненадежная". В этом, увы, есть доля правды.
Оттуда на такси еду на 42-ю улицу в City College
[828] на "этническую" русскую конференцию, в связи с Bicentennial
[829] , где я volens-nolens
[830] согласился читать короткий доклад о семинарии. Думая, что ошибся зданием, опять на такси, в жутком движении, еду в Hunter
[831]. Потом опять на 42-ю. Падает мокрый снег. Огни города. Наконец попадаю на эту конференцию. Когда кончится это эмигрантское убожество, самовосхваление, доклады на английском языке (а в зале тридцать пять человек – русских стариков и старух, не считая десяти-двенадцати "ораторов", вынужденных слушать друг друга) о наших "contributions"
[832] Америке? Я слышал (кроме своего) только один доклад – некоего Лукьянова – о школах Зарубежной Церкви в Америке. Убожество и глупость этого доклада не поддаются никакому описанию ("Для того, чтобы сделать нашу русскую contribution Америке, мы должны оставаться русскими… Ибо, если бы не остались русскими, мы не могли бы сделать нашей contribution"). Остается неясным только одно: в чем состоит эта "contribution"? Все это давит своей ничтожностью, пустотой, ненужностью. "Кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу"
[833]. Да, в сущности, и бала никакого нет (был раньше!), а есть один огромный старческий дом, в котором живут и "молодые" вроде Лукьянова и в котором читают друг другу никому не нужные доклады о собственной миссии…Уходя оттуда, я подумал: "Вот так день! Утром – Солженицын, в завтрак – бывший редактор "Науки и религии" и едва ли не чекист, днем – эмигрантщина a l'etat pur
[834]…".
Сегодня утром: утреня, исповеди, лекции, снова исповеди, "appointments"
[835]. По-моему, все простит Бог кроме "безрадостности", которая состоит в забвении того, что Бог
сотворил мир и
спас его… Радость эта – не одна из "составных частей" христианства, это его "тональность", пронизывающая собой все – и веру, и "мироощущение". Там, где нет радости, христианство, как и религия, становится "страхом" и потому – мучением. Но ведь даже о
падшести мира (срединный член моей "триединой интуиции": Творение – Падшесть – Спасение) мы знаем только из знания его
сотворенности и его "спасенности" Христом. И плач о падшести не убивает
радости , вымогающей в "мире сем" – всегда, все время -"светлую печаль".
"Мир сей" – веселится, но он как раз
безрадостен , ибо радость (в отличие от того, что американцы называют fun
[836]) может быть только от Бога, только – свыше. Но потому и христианство вошло в мир как
радость . Не только радость о спасении, но спасение
как радость. Только подумать – мы каждое воскресенье "трапезуем" со Христом, "за Его трапезой, в Его Царствии", а потом погружаемся в свои "проблемы", в страх и мученье… Бог спас мир радостью, "но печаль ваша в радость будет", "и радости вашей никто не отнимет от вас…"
[837].
Понедельник, 6 декабря 1976
Св. Николая, а по старому стилю – св. Александра Невского, день моих именин. В этот день почему-то всегда вспоминаются два "6декабря" – одно давно-давно в корпусе: это был "корпусной" праздник, а другое – на rue Daru, храмовый праздник, и посвящение покойного о.Сергия Мусина-Пушкина…
В субботу вечером – у Трубецких, в Сайоссете, на семидесятилетии Сережи. Вчера – весь день дома с Аней и пятью "Хопками". Невероятно уютно. Писал скрипты и статью об Аляске для русских газет. Начинается последняя неделя лекций, на следующей – экзамены, и потом каникулы!
Среда, 8 декабря 1976
Вчера кончил и послал статью об Аляске ("Праздник на Аляске"). Писал ее как "противоядие" суете, в которой живу. Через девять дней – каникулы! Повторяю это себе ежечасно.
Четверг, 9 декабря 1976
Вчера в городе купил, наконец, "La Chute Finale" Emmanuel Todd
[838] – о грядущем развале СССР. Умно, остроумно, проницательно, удивительно – но вот, поди же ты, – стоит этот кошмарный, бессмысленный и идиотский режим 60 лет! Боюсь, что чего-то не хватает в этом насладительно-картезианском доказательстве.
Вчера же под вечер – коптские епископ и диакон из Египта, проездом на какую-то конференцию о Ближнем Востоке. Удивляюсь, как "нас" хорошо знают "издалека". Диакон: "Я сам переводил Ваши книги на арабский язык". А я об этом ничего не знал.
Письмо от митр. Игнатия (Хазим). Антиохийской Церкви поручено Всеправославным Совещанием (только что кончившемся в Женеве) представить доклад о диаспоре, а он просит моих соображений. А вдруг что-нибудь двинется…
Пятница, 10 декабря 1976
Между суетой утренней (лекции, заседания и письма) и вечерней (Совет директоров) несколько часов вчера спокойствия дома. Солнечный, морозный день. Чудесное отсутствие телефонных звонков.
Среда, 15 декабря 1976
Получил из Парижа и все эти дни читаю "Записки об Анне Ахматовой" Лидии Чуковской. Сначала чувствовал – каюсь – некоторое раздражение, трудно объяснимое даже самому себе. Думал: в чем разница между, скажем, Пушкиным, с одной стороны, и "серебряными", с другой? В том (пришло очень в голову), что Пушкин жил в реальном мире, реальном обществе: его средой были гвардейские офицеры, "свет", в Михайловском – няня и "народ". "Серебряные" же живут и дышат, окруженные "литературоведами" и "литераторами", "специалистами" – кто по голландской живописи, кто – по запятым у Пушкина и т.д. Отсюда – впечатление искусственного мира, искусственного воздуха. Отсюда тоже – это оцеживанье комара, одержимость "вариантами", тем, "что кто сказал" и "написал" и т.д. Было что-то от блоковского балаганчика во всем этом Серебряном веке ("истекало клюквенным соком"). Однако по мере чтения раздражение это исчезало. Исчезало из-за удивительного образа самой Ахматовой, царственного, как бы "трансцендентного" по отношению ко всему и ко всем, всего наполненного "служением"… Чувство прикосновения к чему-то высокому и прекрасному. И также ужас: что это был за ад!
Вчера на лекции Амальрика в Колумбии. От самого Амальрика впечатление скорее "светлое". Симпатичный, открытый, с юмором даже по отношению к себе. Не корчит из себя Мессию… Доклад его, однако, ниже всякой критики. Марксизм и "русская национальная традиция" (то есть, по мнению Амальрика, теория третьего Рима, обернувшаяся экспансией и верой в силу). Что произошло? Из-за этой "национальной традиции" в России было принято "худшее" в марксизме – то есть тоже пафос насилия. "Марксизм в России попал, так сказать, на благодатную почву… и в каждом русском сидит империалист…" "Неосталинизм – тоска по хозяину, вера в силу…" "Нужна новая идеология, но такая, которая не превращалась бы во всеобъемлющую религию, ответ на все.." "Из споров и ссор диссидентов, может быть, и родится если не новая идеология, то новая программа…"
В понедельник – невероятно морозным, невероятно ветреным, солнечным днем – проехались с Л. по Нью-Йорку. Вид на него из Бруклина (подъезд к Brooklyn Tunnel
[839]) совершенно изумительный. На Пятой авеню все в рождественских огнях…
Уже много недель, как фактически не садился за свой стол. Все время утекает на заседания, разговоры, встречи, дела…
Вчера утром у старенькой матушки Телеп. Восемьдесят шестьлет. Родилась в Пенсильвании, всю жизнь на пенсильванских карпаторосских] приходах. Радостная. Умная. Хорошо говорит по-русски. Думал о том презрении, с которым относится русская эмиграция к этим "казнокрадам" и "дезертирам", как называет она "наших людей".
Завтрак у митр. Филиппа. Только что вернулся из России. Потрясен службами там, народом, верой…
Четверг, 16 декабря 1976
Разговор вчера с о.Павлом Лазором о "религиозной ситуации" (в связи с обретшимся у нас в семинарии студентом-экзорцистом(!)). Поляризация этой "религии" между терапевтикой и самоисполнением . В обоих случаях это нарциссизм, гордыня, поразительная сосредоточенность на самом себе. И потому – очень слабое чувство Церкви (в отличие от внешней "церковности", выбираемой каждым себе по своим "вкусам"…).
Пятница, 17 декабря 1976
Конец первого семестра! Вчера, читая пришедшую из Парижа "Русскую мысль", вдруг почувствовал (а может быть, оно уже давно подспудно нарастало) странное раздражение. Россия, эмиграция, все эти высокомерные рассуждения, риторика, болтовня – на фоне панихид, дешевых поездок в СССР, кабака "Распутин", ищущего "опытных балаганников",… Все это вдруг опротивело, как противным становится вид еды после обеда. Все это показалось мне убожеством, фальшью, самообманом и, главное, чем-то безнадежно мелким (доклад о.А.К. об "идеях Св. Руси в современной советской литературе"!). Но такое же раздражение я испытываю часто – слишком часто! – в семинарии, в "церковных делах", во всей "религиозной суете", в которой я прожил фактически всю мою жизнь. И вот, идя вчера к вечерне, я думал: а чего же я хочу? В чем же моя -то жизнь? Если все это суетливо и ненужно, то что же – сидеть дома в комфорте, с деньгами, пописывать и смотреть телевизию? А ведь я уже на пути к этому. Возвращаешься из семинарии "оглушенный" делишками, телефонами, вечными проблемами – и вот, как мертвое тело, сидишь и смотришь какую-нибудь Carol Burnett… Надо было бы спросить себя]: чего хочет от меня Христос? И делаю ли я хотя бы отчасти то, чего Он хочет? "Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre?" – кроме того, что сохранить "образ вечности, зароненный каждому"?
Среда, 22 декабря 1976
Для памяти:
– В субботу 18-го Литургия и крестины еще одного "диссидента" – Толи Бинштока и его годовалого сына Давида. Подъем и радость.
– В воскресенье 19-го ужин в Бруклине у Peter Berger с Norman Podhoretz ("Commentary") и Richard Milhaus. Ушли после 12-ти. Интересный разговор, но все то же всегдашнее удивление от этого почти беспримесного "индивидуализма", от удивительного дара говорить о политике, как если бы это была сфера платоновских идей. "Запад"! И, Боже мой, какое значение придается в этой среде двум сотням "интеллектуалов", ведущих эти споры…
– В понедельник 20-го – почти весь день в Syosset, на церковных заседаниях. Прием болгарского епископа Кирилла и его приходов в нашу Церковь… Вечером party
[840] у нас с Льяниными друзьями из Spence, учительницами и их мужьями.
– Вчера, во вторник, новый (119) номер "Вестника". Читал его со смешанным чувством. Чувство, что в мире слишком много произносится и печатается ничем не оправданных, ненужных слов. Все разбавлено, расслаблено привкусом болтовни, тем более мучительной, что она о Боге, религии, Церкви. Читая, спрашиваешь себя: что из всего этого способно
подействовать , что
останется и будет жить? И чувствуешь: почти ничего… Там на Западе, по отношению к воскресным разговорам у Бергеров] – оттачивание понятий, начинающих жить своей жизнью… Тут – "пророчество", даже когда говорят о простых вещах. Там – все о
словах , о семантике. Здесь – безразличие к слову, которое поэтому окрашено эмоционально и субъективно. Русские не понимают друг друга, потому что не договариваются о словах. Западные всю цель видят в clarification of terms
[841], которые в итоге этого "прояснения" перестают означать что бы то ни было реальное. И те, и другие, однако, вполне довольны собой, презирают "других" и придают своим разговорам "исключительное" значение… После всего этого украшение елки с маленькой Верой, морозное солнце за окном и тишина дома кажутся прикосновением к подлинному, к "единому на потребу"…
Четверг, 23 декабря 1976
Службы, исповеди, предпраздничная суета дома. Но в этом году почему-то мало "предпраздничного" чувства, и причиной этому неудовлетворение положением в семинарии, еще точнее – чувство, что "не так", "не туда", что что-то не так мы делаем. Сегодня – длинное, трехчасовое заседание Совета, говорили как раз об этом, но и тут нет согласия ни в оценке этого положения, ни в средствах к его улучшению. Упрощая, моя точка зрения в том, что добрая половина наших студентов просто
опасна для Церкви – по своей психологии, настроенности, какой-то даже "одержимости" чем-то. Православие преломляется в них как-то уродливо, чего-то главного они не чувствуют и не принимают, а то, что чувствуют и к чему – сознательно или бессознательно – тянутся, есть Православие извращенное, надрывное, узкое и, в конечном итоге, – псевдоправославие. И вот этот разлив какого-то чужого православия, и не только в семинарии, но и повсюду, я ощущаю очень остро и очень мучительно. Его вижу и в России ("Вестник"), и в Церкви at large
[842]… Всюду какое-то беспокойство, надрыв, неуравновешенность искания, как если бы не было радости Божьего присутствия, радости о вере. Отсутствует именно "радость и мир в Духе Святом", и все внимание занято чем-то другим. Точно все, все время на краю какого-то распада, отчаяния. И вместе с тем невероятное самоутверждение, гордыня, желание "спасать" и "поучать", полное отсутствие смирения.
Воскресенье, 26 декабря 1976
Рождество. Полная мера радости. Службы, елка со всеми внуками, а сегодня вдобавок – проснулись занесенные снегом, но светит яркое солнце, сияет небо и на душе – праздник…
Исповеди, "беседы". Сила греха не в соблазне очевидного зла, а в скованности души всякой мелочью, страстишками, в невозможности для нее, души, "невозбранно дышать небом…"
[843]. Но чтобы бороться с этим – недостаточно просто призывать к церковности и молитве. И церковность может быть, и часто бывает, мелочной, и молитва – эгоцентрической. Всегда все тот же вопрос: о "сокровище сердца". О том, в чем – радость… Без радости и церковность, и молитва как-то безблагодатны, ибо их сила – в радости. Религия стала синонимом "серьезности", несовместимой с радостью. И потому она так слаба. От нее хотят ответов, мира, смысла, а она только в радости. Это ее ответ, включающий в себя все ответы.
Понедельник, 27 декабря 1976
Сильнейший мороз и яркое солнце. Только что вернулись от Ани, куда отвозили Машу. Сплошное восхищение! Вчера весь день преуютно дома с Л. и Машей. Писал скрипты и письма. Длинное – Мише Аксенову в Иерусалим, и еще более длинное – Мелитине Фабр, ушедшей из Церкви в силу "elan interieur essentiel"
[844]. Увы, многое из того, что она пишет, – о словах "uses jusqu'a la corde par la non-creativite repetetrice"
[845], о фальше "духовности", о триумфализме церковников – горькая правда. Но как не увидеть за этим, за всеми "Византиями" того "tout est ailleurs", в котором вся сущность Церкви, та ее радость, которую "никто не отнимет от нас"? Попытался именно об этом написать ей.
Читаю – с ленцой – биографию Достоевского Henri Troyat
[846]. Мне интересно, как "подаст" его средней руки писатель для средней руки читателя. Пока что дошел только до Инженерного замка, и впечатление такое, что это средней руки компиляция. Но буду продолжать…
Четверг, 30 декабря 1976
С понедельника до среды полдня – college student retreat
[847] в семинарии. Свыше пятидесяти мальчиков и девочек. И весьма утешительное и радостное впечатление! Подумать только: на рождественских каникулах два дня слушать о молитве, присутствовать на службах и т.д. Вспоминаю себя в этом возрасте (шестнадцать-девятнадцать лет): я "обожал" Церковь, но ни за что бы не поехал ни на какой retreat, не оторвался бы от "светского" рождественского сезона – вечеринок на rue de la Faisanderie, разных "витязьских" и "сокольских" елок и т.п. И при этом все очень здоровые, веселые, неистерические дети… Ах, Господи, только бы не вовлекли их в "религиозную экзальтацию", в какую-нибудь "духовность"…
Сегодня – утро в "Свободе". Сильнейший мороз и солнце. Читаю в "L'Express" и в "Русской мысли" интервью с Владимиром Буковским в Цюрихе.
Пятница, 31 декабря 1976
Последний день года. Все те же мороз и солнце. В эти праздничные дни особенно сильное ощущение жалости ко всем одиноким, "оставленным за бортом" жизнью, барахтающимся в своем одиночестве. И сколько их кругом! Мы давно, с 1968г., не были на Новый Год в Нью-Йорке, всегда в Париже. Потому особенно сильная радость от чувства дома, от этой солнцем пронизанной тишины, в которой сижу и пишу свои вечные скрипты. И также – от того, что будет ночная Литургия, что Новый Год встретим во "времени Господнем".
[На этой странице – с.320 – в книге размещена ФОТОГРАФИЯ РУКОПИСИ нижеприведенного письма. ]
Письмо о. Александра из больницы. (текст – с фотографического изображения рукописи письма )
"Дорогие братья и сестры, члены семинарской семьи!
Я благодарю вас от всего сердца за ваши любовь, молитвы и заботу. Никакие слова не могут выразить той радости, какую испытал я, почувствовав, как та теплая волна подхватывает меня и уносит в самое средоточие нашей веры, любви, надежды, всего того, что мы называем жизнью во Христе, Церковью. Я скучаю по вас и в духе я всегда с вами. Эти дни ожидания освещены ярким светом. И большей частью этого света я обязан вам.
Отец Александр Шмеман.
P.S. Особая благодарность – Дону Шадиду и всем тем, кто помогал в создании шедевра года. Мне, как ректору, необходимо было знать, как семинария выглядит без меня. Что же касается того, как выгляжу я без семинарии…
Нью-Йоркский госпиталь. 30 сентября 1982".
Париж. Вторник, 11 января 1977
Прилетел в Париж в субботу 8-го утром из Монреаля, где на "русское" Рождество было посвящение в диаконы Алеши Виноградова. В Монреале весь день падал снег и под вечер, когда Ваня
[848] вез меня на аэродром, было необычайно красиво – та радостная сказочность, которую создает снег…
Серые, промозглые, но такие знакомые парижские дни. В субботу же вечером с Андреем на всенощной, на rue Daru. Чудное пение хора Евеца. Чувство погружения в детство: на скольких таких всенощных в этом храме мы с Анд реем прислуживали… Потом ужин вдвоем в новом ресторане на крыше Tour Montparnasse
[849].
В воскресенье Литургия на Olivier de Serres, кофепитие у о.Игоря Верника. Днем – в дождливых, серых полусумерках – "семейная" панихида на [русском кладбище] Ste. Geneviиve. Черные, неподвижные ветки в сером небе. Ужин у Физов с Варшавскими. Разговоры, конечно, о "новых", о Солженицыне, Синявском, Амальрике. Варшавский – верный рыцарь "Нового Града".
В понедельник с утра в Кламаре: Литургия и отпевание Саши Львова. Служба, вдруг подумал: ведь вот – прослужил у этого престола целых пять лет, а никакого чувства, никакого "удара в сердце", как на rue Daru. Завтрак с мамой в маленьком restaurant d'habituйs
[850] на rue Lecourbe. Заканчиваю день обычной моей прогулкой: Sиvres – Babylone – St.Sulpice – rue Bonaparte – St.Germain des Pres – Bergruen…
Сегодня утром – у вл. Александра Тян-Шанского, чудовищно постаревшего, но все еще бодрого. Потом завтрак в Villebon у Никиты и Маши Струве. Un vaste tour d'horizon
[851]. На первом месте, конечно, Солженицын. Никита удручен его планами: ничего не печатать три года, начинать в собственной типографии (!) свое полное собрание сочинений с тем, чтобы продолжать его следующим томом серий ("Октябрь шестнадцатого"). Все то же метание в безвоздушном пространстве… О безнадежном "провинциализме" Православия. Полное понимание и единодушие. Мне хорошо у них и с ними.
Вечером – чудесный "кадетский" ужин в Консерватории: Чеснаков, Репнин, Траскин, Андрей. Как всегда, отвозим Репу на lie St. Louis и еще сидим в brasserie
[852] , так не хочется расставаться…
Среда, 12 января 1977 I
Чудный вечер в очаровательной семье (семь детей!) Кирилла Ельчанинова в Issy les Moulineaux. И сам он – светлый, простой, не-мелочный, "горний" – без истерики, псевдодуховности и самолюбования.
Четверг, 13 января 1977
На Сергиевском подворье, куда все эти годы не ездил, но куда поехал в связи с новым домом, а то была бы обида. Очень теплый прием: о.А.Князев fait les honneurs de la maison
[853]. Атмосфера как будто немного лучше.
Завтрак у Андроникова, несчастного, полубольного, полного frustrations
[854]. Помочь ему трудно, ибо он один из тех людей, которые как-то безнадежно неспособны понять того, что "происходит", и это несмотря на то, что все читают, за всем "следят" – рядом с настоящим вопросом (а потому и ответом), рядом с настоящим методом, рядом с настоящим "делом". От этого – страдает, но и понять, "в чем дело", – не может, и объяснить ему этого невозможно. От своей эпохи, своего времени можно
страдать , и всякий мало-мальски подлинный христианин не может не страдать. Но свое время все равно нужно
принимать , ибо другого нам Бог не дал, и только это принятие делает возможным, во-первых,
понимание , то есть "различение духов", и, во-вторых, пресловутую "праксис", то есть церковное и богословское "делание". После Андроникова – Вейдле. Он с большим "аппетитом" говорит о себе – о своем здоровье, об "эротическом" рассказе, который написал – неожиданно для самого себя ("Четыре дня" в "Новом журнале"). Но все это так мило, так дружески и светло, что, сидя у него, наслаждаюсь. Как будто снова один из тех вечеров – 1945-1946 годов, когда ходил к нему ужинать.
Пятница, 14 января 1977
Все хочу записать: когда летел сюда, видел в аэроплане фильм "La fete sauvage"
[855]: о животных. Фильм удивительный, ибо, с одной стороны, весь пронизанный красотой (природы, движений животных и т.д.), а с другой – ужасом борьбы, погони, взаимного убийства и пожиранья. Можно было бы назвать: "Убийство в раю", ибо абсолютно очевидны и
рай , отражаемый все еще миром животных, и смерть, страшная и жестокая, и, главное, inйluctable
[856], в этом раю воцарившаяся. Но особенно поразила одна сцена: погоня – длинная-длинная – какого-то большого животного (волка? пантеры? не помню) за зайцем. И музыка и песня, аккомпанирующие эту с самого начала безнадежную погоню, этот полет к смерти и крови… Не музыка даже, а какой-то нарастающий речитатив, со все время повторяющимся воплем: "…le refuge c'est toi.. ."
[857]. Это было прекрасно и страшно, и с тех пор все время звучит в памяти. Завтрак на службе у Пети Чеснакова с ним, о. Борисом Бобринским и Аником Чеканом. Они берут мое интервью для [журнала] – все о том же: о судьбе Православия в "современном мире". Длинная, трехчасовая всенощная на rue Lecourbe. Храмовый праздник – преп. Серафим. Акафист.
Вечером – Синявский [по телевизору]. Впечатление псевдоглубины…
Суббота, 15 января 1977
Литургия – праздничная и радостная – на гuе Lecourbe. И тоже праздничный завтрак на Parent de Rosan [у Андрея] – с девочками и бабушками.
Последняя прогулка по Парижу: place Vendфme, Tuileries. Мокрая grisaille
[858] парижской зимы, но так подходящая Парижу. Когда шел по Tuileries, выглянуло солнце – и вот за пустыми ветками единственная в мире перспектива гае Rivoli… А потом вид на Citй с его башнями с [моста] Pont des Saints Pиres. Прекраснее этого ничего в мире нету.
Воскресенье, 16 января 1977
Литургия на Exelmans. Потом преуютные два часа с мамой. Всегда подсознательный вопрос: не в последний ли раз? И сразу сжимается сердце…
Crestwood. Вторник, 18 января 1977
Вчера прилетел в Нью-Йорк в три часа дня. Совершенно чудовищный мороз – минус 25°! Праздничная, белая Америка с аэроплана. Наслаждение от возвращения, уюта, дома. Уютнейший вечер с Л. Сейчас иду в семинарию – еще один "антракт" кончился, еще раз мой "Париж" претворяется в память.
Среда, 19 января 1977
В Париже читал, а в аэроплане кончил новый том дневника Жюльена Грина, "La bouteille а la mer"
[859],197
2 -1976; с меньшим интересом и удовольствием, чем обычно. Как-то не совсем убеждает это "стопроцентное" христианство, да еще мистическое, одновременно требующее, чтобы жизнь была удобной, красивой, спокойной, утонченной, чтобы Церковь была такой, какой "я ее по любил в пятнадцать лет", чтобы можно было все время ездить то в Вену, то в Италию, то в Швецию любоваться позолоченными украшениями и т.д. Бог знает, что меня не меньше, чем Грина, раздражает "левое" христианство и весь окружающий нас балаган… Но этот "нарциссизм" утомляет, при всем совершенстве языка.
Начал Franchise Levy "Karl Marx, Thistoire d'un bourgeois allemand"
[860]. Занимательно следить за этим восстанием "gauchisme'a"
[861] против Маркса. Со страстью, доказывающей, что перед нами – религиозный кризис, падение "бога".
Все тот же чудовищный мороз. И паника, разводимая по телевизору.
Вчера – утро в семинарии. Погружение в дела-делишки. После обеда – попытка засесть за "Литургию", "включить" ритм работы, сравнительно неудачная, из-за волны еще не успевшего "осесть" парижского возбуждения, праздничной суетности.
Мой "Праздник на Аляске" напечатан и в "Русской мысли", и в "Новом русском слове".
Новый – 10-й – номер "Континента". Чем определяется тот безошибочно советский стиль, что насквозь пронизывает его? Это действительно другой язык, совсем другое "звучание" фразы. Но хотелось бы более точно определить, как, где, почему начинается это "другое". Потому что оно не только у выходцев "оттуда", но, например, и у солидаристов
[862]. Было бы интересно проанализировать эти языки – "эмигрантский", "советский" и т.д. И не только языки. Об этом думал, слушая в Париже советские песни (в фильме о Синявском), имеющие такой успех в эмиграции. В чем разница между "На сопках Маньчжурии" и "Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк" – и "Когда я вернусь" Галича? Но в том, что разница есть, я не сомневаюсь. Я ее
слышу , но не могу определить.
Laberthonniere когда-то написал нашумевшую (и запрещенную) книгу: "L'idealisme grec et le realisme Chretien"
[863]. Мне думается, что можно и нужно было бы написать книгу: "О реализме Православия и романтизме (нет, не идеализме) православных". Думаю об этом, вспоминая службы в Париже – на rue Daru, на Lecourbe, на Olivier de Serres, на Exelmans. Абсолютный (я не преувеличиваю) разрыв между
содержанием (что читается, поется, "совершается") и его
восприятием молящимися. Бессознательный, лучше – подсознательный испуг от мысли, что вдруг "станет понятным". Но все, слава Богу, густо покрыто лаком славянского языка, закрыто иконостасом и завесами, разбавлено и обезврежено обычаями и традициями, сознанием и гордостью, что мы все это (что?) – "храним", "сохранили". И в "это" (что?) обращаются и иноверцы, и молодежь "там", и нарастает уже романтизм, так сказать, "второй степени" – "охранение охранения". И все преподносится Западу как le sens du mystere. le mystere de la vie theandrique
[864], и tutti quanti
[865]. И иногда понимаешь иконоборческий пафос, вдохновляющий других христиан, задыхающихся в этом парчовом романтическом номинализме. И выходит так, что не жизнь, служение и учение Христа (включая "и начал ужасаться и тосковать"
[866]) мы "актуализируем" в нашем богослужении, а, напротив, им превращаем
трагедию этой и жизни, и служения – в некую прекрасную и гладкую "литургическую мистерию".
Четверг, 20 января 1977
Два часа перед телевизором: inauguration
[867] президента Картера. Как всегда – а это "мой" шестой президент – восхищение Америкой, подлинная радость. Простота всей этой церемонии – и потому, что отсутствует всякая "церемониальность" и "символизм", она по-настоящему
символична . В ней
вся Америка, все то невыразимое, что делает ее действительно великой. Но, конечно, главное, что меня восхищает, это
передача власти, передача, в которой сгорает всякая вражда, партийность, соотношение победитель – побежденный… Овация [бывшему президенту] Форду и простые слова Картера, благодарящего его от "себя и от имени всей нации". Флаг. Солнце. Молитва. Гимн. Все это грандиозно и предельно просто. Сейчас, пока я пишу, Картер с женой, неожиданно для всех, пошли пешком от Капитолия до Белого дома. Радость толпы. Я убежден, что в памяти останется это шествие президента за руку с женой… Речь его, однако, мне показалась слабой, да и сам он мне не очень симпатичен. Он все время улыбается, но глаза его остаются холодными. Нет, восхищает меня Америка, ее глубокая сущность, Америка, нашедшая – одна во всем мире! – какую-то формулу, почти чудесную, государства и общества, не превращающихся в идолов, сочетающую живую традицию ("принцип") с жизнью… И опять думал о Солженицыне: вот что ему надо бы смотреть, во что вникать, чему смиренно
учиться . Но куда там… Учить можем только мы из-под наших развалин, которые ничему никогда нас не учат…
Вчера на лекции James Billington'a (автора [книги] "Топор и икона") – о "роли религии в русской культуре". Крайне поверхностно. Сидящий рядом со мною Peter Berger – того же мнения… Это все на западный лад переделанное тютчевское: "У ней особенная стать…"
[868].
Известие о смерти Жука Оболенского, которого когда-то на гае Daru я учил прислуживать вместе с Иваном Мейендорфом и Игорем Кобцевым…
Из-за всего этого все никак ни разу не удается засесть за работу, а точнее – увиливаю от нее…
Суббота, 22 января 1977
Сегодня в 5 утра у Мани родилась дочь – Наташа. Девятый внук… Все утро из-за этого в радостной телефонной суматохе, под которую я – из-под палки! – пишу скрипты. Вчера после обеда [у Ани] в Wappingers Falls, наслаждаюсь маленькой Александрой. Красота зимних заснеженных просторов.
Продолжаю книгу о Марксе. Какое падение был девятнадцатый век. Падение перспективы, уровня и объекта интереса, внимания. В каком духовном болоте прожил всю свою жизнь Маркс и как этим болотом заразил весь мир, все сознание человеческое. Парадокс этой эпохи: одновременно и редукция человека (Фейербах), и страстное желание его освобождения . Христианская эпоха (антропологический максимализм) возводит человека на небо, но мирится с его порабощением на земле. Антихристианская эпоха антропологически минималистична, но хочет "служить человеку". Все это звучит гладко, однако по-настоящему до сих пор не объяснено, остается именно парадоксом.
Понедельник, 24 января 1977
Мучительные раздумья о Церкви, о судьбах Православия. В сущности, только две установки. Одна – ясная: рецидив старообрядчества. Хранить, охранять, оберегать не только от "зла", но и от мира как такового, от современности. Никакого пересмотра, все – всякая "стихира на стиховне" – одинаково важно… Другая – наша. Но в чем же она, в конце концов, состоит? Чего на практике, в жизни требует от нас тот
смысл , что мы находим за
формой ! Что делать? В той установке
мир включен в Церковь, не наш, не современный мир, а "прошлый" – но включен (обычаи, быт и т д.). В нашей – нет, потому что мы хотим
реального . Но как же в этом реальном мире действовать? Относительный успех всякого "старообрядчества" – у "конвертов"
[869], например, – в том, что они предлагают готовую формулу: принимай и подчиняйся. Всем своим существом я знаю, что формула эта ложная, но что же предлагаем мы, говоря: вот изумительный замысел Божий о мире, о человеке, о жизни. Идите и живите им! Но как же им жить? И вот Православие становится постепенно "неврастеническим", люди внутренне мечутся в поисках ответа, а ответа нет или он столь общий, что люди не знают, как применить его к своей жизни… Вот мучительный "фон", почти всегда присутствующий на глубине моего сознания.
Вторник, 25 января 1977
Снова снегопад. Вчера после обеда лекция о Солженицыне в Колумбийском University Seminar
[870].
Разговор вчера в семинарии с [студентом] Н.Н., которого мы выгнали за тайные "экзорцизмы". Принес мне нотариально заверенный affidavit
[871], что у него "пророческий дар" (!!!), который вскоре будет доказан аэропланной катастрофой в Хартфорде. И все это совершенно спокойным, разумным голосом. Ужас от этого рода "религии". Тяжесть надвигающегося семестра, когда нужно будет во все это все время погружаться…
"Нью-Йорк тайме" позавчера подтверждает создание Солженицыным в Вермонте издательства и типографии.
Смерть в Калифорнии о.А.Ионова. Это известие всколыхнуло в памяти всю "автокефальную" бурю 1970 года.
Очень хорошее письмо из Парижа от М.Б. Я виделся с нею и ее теперешним женихом в воскресенье 16-го, накануне отъезда в Нью-Йорк, а на следующий день она решила оставаться и выходить замуж… За это решение и благодарит меня. Странно, но это письмо я ощутил как своего рода ответ на "вопрошания", мучившие меня вчера утром и которые я записал выше. Хотя, пожалуй, того, в чем ответ этот состоит, выразить бы не мог. Может быть, в том как раз, что христианство не дает "программы действия". На "что делать?" оно отвечает: "Жить". "Что делать" – предполагает "хронос"
[872], "жить" укоренено в "кайрос"
[873]… Что-то вроде этого, то есть в претворении "хроноса" в "кайрос", в наполнении жизни жизнью… В этом смысл эпиграфа к монгерлановскому "Le service inutile": "Qui vous a dit que 1'homme avail quelque chose а faire sur cette terre?"
[874], эпиграфа, который всегда помнит мое подсознание.
Среда, 26 января 1977
Ужин вчера у Шрагиных. Милые, уютные люди, типичные "интеллигенты". Он пишет о "Вехах". Она – антрополог, изучает генезис гражданских обрядов в Советской России. Но, как истинные интеллигенты, полны "абсолютов": "Солженицын сбрендил…", "Максимов – пошляк и к тому же жулик…". Все это, как принято теперь говорить, "бесперспективно". Наташа [Шрагина] читает письма в редакцию 20-х годов – о попытках создать вместо церковных – гражданские обряды. Совершеннейший Зощенко.
Сегодня – начало второго семестра. Такое чувство, что с каждым годом все труднее пихать в гору тяжелый воз…
Четверг, 27 января 1977
Все те же солнце, снег и мороз. Каждое утро – торжествующий восход солнца… Вчера весь день в невероятной суматохе (съемка фильма в семинарии). Отец Леонид Кишковский рассказывает мне о своем "подсчете" – сколько взрослых детей его прихожан безнадежно "исчезли", испарились из церковной жизни. Подавляющее большинство. Однако их родители в приходе невозмутимо твердят о своем "русском православии". То же самое в Париже. "Знать не знаем…" Вся Православная Церковь, во всем мире, похожа на страуса, спрятавшего под крыло голову, чтобы не видеть "реальности".
Вчера по телевизору интервью с А.Рубинштейном по случаю его девяностолетия. Он играет концерт Грига (в восемьдесят девять лет!). Как прекрасна такая старость, можно без конца любоваться этим лицом, через которое уже почти целиком просвечивает дух.
Рубинштейн говорит о единственности, неповторимости каждого дара. Величие только в том, чтобы до конца и всецело быть самим собой. Но почему все верное, освобождающее и потому – подлинно христианское говорится в наши дни только извне , а изнутри христианства – только немощное, избитое и, главное, почти всегда "недоброжелательное"? Впечатление такое, что, когда их выгнали из "истории", христиане начали с противоположного тротуара потрясать кулаками, заодно ссорясь между собою. И показывать друг другу фотографии: кто – Св.Софии, кто – Василия Блаженного, кто – афонских монастырей. А также репродукции православных икон…
Пятница, 28 января 1977
Все после-обеда вчера в Syosset. Завтрак в ресторане с вл.Сильвестром и о.Даниилом [Губяком] (мучительный вопрос о Митрополите), потом заседание и ужин Архивного и исторического департамента. Отец Дмитрий Григорьев рассказывает о действительно трагической смерти Жука Оболенского. По дороге в Syosset и обратно рассказы Connie Tfarasar] о ее поездке в Лондон. От всего этого вечером – усталость и обалдение. Льяна взяла назад свою кандидатуру в Spence [на пост директора школы], с мученьем, но и облегчением… Очень жалко ее, но я уверен, что это правильный шаг. Наша жизнь, и без того уже вся "затурканная", стала бы просто невозможной…
Сегодня утром на радио "Свобода", наговорил сразу четыре скрипта… Потом несусь в семинарию: заседание Scholarship Committee
[875], а затем прием студентов все по тому же несчастному делу ["экзорциста"] Н.Н. Сейчас (шестой час), придя домой, пишу все это просто чтобы "отдышаться" и отдалить момент чтения (мучительного для меня) груды сочинений…
Понедельник, 31 января 1977
Тридцать четыре года со дня свадьбы! Как хорошо помню серый, ветреный парижский день и как мы втроем – папа, мама и я – шли пешком на rue Daru. И тоже канун этого дня, когда под вечер, с Льяниным чемоданом, я долго ждал автобуса на углу rue de Sиvres. Благодарность Богу.
Сан-Франциско Четверг, 3 февраля 1977
В мотеле в Saratoga. Прилетел вчера в три часа дня в Сан-Франциско. Почти пустой аэроплан. Прочел в связи с субботней лекцией "Сердце смятенное" М.Курдюмова (о Чехове). Встречали о.Г.Бенигсен и о.Сергий Глаголев, с которыми сидели час, обсуждая здешнее церковное положение. Едем через Сан-Франциско, залитый послеобеденным солнцем, бесконечно красивый и праздничный. Ужин у Оли Раевской, разговоры, как всегда, о литературе, о "третьих" и т.д. В восемь часов лекция в Graduate Theological Union, много народу, старые знакомые…
В семинарии два последних дня исключительно суетные заседания с владыками и т.д. Твердо решил по возвращении обсудить свое положение: дальше в такой суматохе жить невозможно… Недели за неделями без возможности работать. Опять пропускаю очередной "Вестник"…
Саратога. Пятница, 4 февраля 1977
Целый день в Саратоге у Бенигсенов. Вечером лекция "Spirituality: an Orthodox Perspective"
[876], около восьмидесяти человек! Как всегда, радостно видеть "своих": о.Войчик, о.Прокурат, о.Глаголев, о.Гизегти… Ужин с "диссидентами": [новоприезжий] Виктор Соколов и его жена [американка]. Очень интересные рассказы. И все же, слушая его, думал: как трудно узнать и почувствовать всю картину того, что делается "там"…
Днем в мотеле читал Michel Foucault, первый том его "Histoire de la sexualitй"
[877]. To же чувство, что и при чтении [его] "Mots et choses"
[878]: бесконечно умно, блестяще и, по всей вероятности, частично верно. Но как-то ненужно, рядом, не о том… Автор блестяще анализирует и "разоблачает". Но неизвестно, во имя чего он это делает или, проще,
для чего ? Что-то предельно безблагодатное и потому безрадостное, подавляющее… Все та же игра ума. Слепая игра в мире, в жизни – власти и отказа. Ни та, ни другой при этом тоже не знают, во имя чего и для чего они действуют…
Сейчас едем в Сан-Франциско: к вл. Иоанну Шаховскому и на заседание Епархиального совета.
Солнце, тепло, благословенная Калифорния.
Сан-Франциско. Суббота, 5 февраля 1977
Перед отъездом в Русский центр на лекцию. Вчера – целое после-обеда на заседании Епархиального совета. До этого – час у вл. Иоанна. Знакомые "церковные дела", но внутреннее умиление при виде всех этих молодых священников (и мирян), "в малом верных"
[879]… Вечером длинное "поповское" сидение у о. Глаголева.
Сегодня утром проезд с о. С. и его женой по San Francisco Fisherman's Wharf, пересекаем Golden Gate Bridge, потом по старому городу с его крутыми холмами. Это, несомненно, самый красивый город Америки, и я всегда с удовольствием "погружаюсь" в его непередаваемый шарм.
Завтра – возвращение домой, и уже – радостно отсчитываю часы.
Crestwood. Вторник, 8 февраля 1977
В субботу в Сан-Франциско лекция о Чехове: человек сто шестьдесят (это, по-моему, успех). Потом всенощная. Очень хороший, молитвенный английский хор. Ночевал у друзей, но сначала – длинное действие. Литургию – с двумя проповедями – служил в соборе, очень намоленном, в котором хорошо "служится". В 4.30 отлет в Нью-Йорк. Дорогой дочитывал Фуко. Все то, да не то, но в чем "не то", определить трудно. Пожалуй, просто в неверии. Он развенчивает мифы, теории, упрощения, и все это как будто верно. В целом, однако, впечатление такое, что вообще
ничего нет , кроме совершенно бессмысленного копошения людей, выдумывающих все время новые discours
[880]… Никакого воздуха, ничего, о чем можно было бы порадоваться или о чем попечалиться…
Все тот же лютый мороз, от которого начинаем порядком уставать. Вчера днем в Goshen на похоронах [Льяниной подруги по Spence] Kit Wallace. Cypoвая пресвитерианская служба. Два прекрасных гимна (один из них "Just as I am"
[881]). Голые стены, никакого "богослужения", "литургии". Но по-своему это очень сильно – своим полным dйnuement
[882]. У нас отпевание – все в заботе о загробной судьбе: помилуй, прости, приими… Здесь – все в полном доверии, в вере в обещание Божие, в вере не только в Бога, но и Богу. Эта строгая религия веками создавала удивительный тип людей – скромных, волевых, во всем, включая религию, – "подтянутых". И все это отражает и сам [город] Goshen (как и Бостон). Красота этих маленьких домов, площади, обсаженной деревьями, и красота тоже, когда едем обратно, – морозного заката в снежных полях.
В Сан-Франциско исповедовал о.Н.Н. Он мне говорит: "Я так волновался, что с Вами что-то случится и Вы не долетите, что, пока Вы летели, пошел и отслужил молебен…"
В субботу утром "проезд" по Сан-Франциско – через Golden Gate Bridge и потом по городу. После многонедельного нью-йоркского мороза поражаешься этой солнечной благодати, льющейся с неба
Самое страшное в современном закате культуры – это иссякание вместе с культурой скромности, чувства иерархичности, знания пропорций. Торжество дешевой гордыни во всем, включая Церковь, почти полная невозможность, неспособность разгадать подделку (в литературе, в искусстве…). Словно каждый залез на крышу и оттуда вопит. И потому что он сидит на крыше, все слушают.
Среда, 9 февраля 1977
Исповедь сегодня утром [одной] нашей "семинаристки". Говорит о том, как ее изнутри, на глубине "шокирует" преувеличение, тональность многого в нашей "мариологии" – "девственную осветил еси утробу" и т.д. В ответ говорю ей о бесплодности восстаний, протестов и т.д., всего того, что извращает "женское движение", делает его, в сущности, карикатурой того "мужского мира", против которого движение это якобы восстает… Гибельность, слепота, низость всякого "в борьбе обретешь ты право свое…"
[883]. Искать нужно только истину, а она не открывается бунтующему уму и сердцу. Вряд ли можно со мневаться, что "женская тема" рано или поздно докатится и до Православия.
Вчера целый день заседаний. Вдруг удивился тому, как близко под кожей у каждого – агрессивность, как легко человек показывает когти, так же легко, как и зверь. Только в отличие от зверя – это человек, да еще христианин…
Четверг, 10 февраля 1977
Общее собрание студентов вчера вечером. Говорил им то, что от всей души считаю правильным и нужным. Доходит ли? Не знаю. Так "забронированы" они в свои подрясники, в уверенность в том, что все знают и все могут, в свою молодую самоуверенность .. Я давным-давно пришел к выводу, что сам институт "семинарии" есть институт в каком-то смысле порочный, в чем-то в корне неверный. Мы, православные, унаследовали его (как и многое другое, в том числе "научное богословие") от Запада, от посттридентского католичества, а теперь убеждены, что это часть нашего Предания. Однако именно семинарии и "клерикализуют" Церковь и богословие, не говоря уже о невозможности двадцатилетних парней учить "пресвитерству". Увы, даже самая лучшая семинария в какой-то степени не может не портить студентов. Она их замыкает в искусственную жизнь, учит отвлеченному максимализму, наполняет комплексами "вождизма", "духовного руководства", "авторитета", отрывает от жизни. Я не очень знаю, чем заменить этот институт, в котором прошла вся моя жизнь, но знаю, что в настоящем своем виде он далек от того, к чему он призван. Доказательством этому является тот почти постоянный "невроз", что пропитывает собою всю семинарскую жизнь.
Hillsdale College, Hillsdale, Michigan Понедельник, 14 февраля197 7
"Наедине с тобою, друг…"
[884] Сам себе цитировал этот стих, обращаясь, из суматохи этих последних дней, к этой тетрадке. Пишу в 10.30 вечера, в Hillsdale College – два часа от Детройтского аэродрома, в южном Мичигане. Приехал прочитать две лекции сегодня вечером и завтра утром. Сейчас кончил первую, был на reception
[885] и теперь прихожу в себя. Хочу записать:
В пятницу 11-го вечером лекция студенческим женам о "женщине". Долго думал и готовился. Хотел сказать как можно проще и правдивее то, что, во-первых, чувствую и, во-вторых (именно во-вторых и потому не до конца ясно, avec un decalage par rapport au "чувствую"
[886]), думаю… После лекции С.К.: "По чему я этого никогда не слышала?.."
В субботу 12-го – Родительская суббота (мясопустная). Служил Литургию, и как-то действительно "удалось" поминовение . Все больше чувствую его силу, его важность и, главное, радость.
В воскресенье 13-го весь день в семинарии – годовое заседание Foundation
[887], потом освящение дома у Аси. Устал бесконечно, а поздно вечером приехал о. Н. и рассказывал о всех своих горестях в [своем очень русском приходе]. Снова и снова – ложь, подделка, дешевка этого самодовольного, тупого, сентиментального "русского Православия". Удушенье всего живого. Когда раскаемся мы в этом не иссякающем русском бахвальстве во всех областях, в том числе и религиозной?
Думал о том. как я бесконечно духовно устал от всего этого "православизма", от всей этой возни с Византией, Россией, бытом, духовностью, Церковью, церковностью, благочестием.. Все это буквально заслоняет Христа. Может быть, все это во мне от гордыни? Не знаю. Мне кажется, что нет. Внутренне мне все это представляется несоизмеримым со Христом и Его заповедью: "Ищите прежде всего Царства Божия…"
[888]. Нет, выходит не то, не так, нет слов, чтобы выразить
главное , то, чем – одним, но и всеобъемлющим – звучит для меня христианство, его замысел, дар и вызов.
Февраль: месяц смерти папы, [отца Льяны] Сергея Михайловича, о. Киприана [Керна], тети Лины. Наш "месяц мертвых". Но удивительно, что, думая о них, соединяя их в своем "поминовении", я открываю у них что-то общее , что делает память о них радостной. И это общее в связи с тем, что я только что написал. Может быть, это – свобода внутри религии, Православия, России…
Вторник, 15 февраля 1977
Дома – после лекции утром в Hillsdale, завтрака, длинного путешествия ( 110 миль ) в Детройт, оттуда аэропланом… Больше всего радости доставили две эти автомобильные поездки по южному Мичигану. Бледный солнечный свет, снег, деревья и такая ширь, такое внутреннее "приволье"…
Занимательный опыт в Hillsdale – сознательно консервативного колледжа, основанного на культе Адама Смита: free enterprise and free market
[889]. Но все – и студенты, и профессора – ходят и говорят с лицами миссионеров, спасающих мир… Хорошие люди. Я чувствую себя заодно с ними в их отрицаниях, но не могу почувствовать такого же единства в их утверждениях, главным образом из-за [моего] полного непонимания экономики.
Длинный разговор вчера в Hillsdale с о. Недельковым, болгарским священником из Fort Wayne. Indiana, где я когда-то был и служил. О "болгарской каше" в Америке – точной копии "русской" и, я убежден, всех других. И люди этим живут, дышат, грезят…
Разговор с молодым американским студентом. Хочет стать православным, потому что что-то слышал о "старцах"…
Четверг, 17 февраля 1977
Вчерашнее утро на заседании предсоборной комиссии. Самая приятная часть – это длинное, "объездное", путешествие через весь Нью-Йорк при ярком морозном солнце. Днем в "Свободе" – в ожидании студии слушал программу Би-би-си и в ней проповедь о. Д[митрия] Дудко. Некое уныние от того "примитивизма", что, по всей вероятности, навязан самой ситуацией. Затем у Сережи и Мани: Сережа рассказывал о своем путешествии в Африку с A.Young. Очень интересно. И наконец ужин с Л. в [ресторане] "Pont Neuf".
Масса дел и делишек, но внутри – detachment
[890], так что все эти дела как бы скользят по поверхности, не затрагивая нутра. "Tout est ailleurs.. ."
[891], как почти всегда…
Пятница, 18 февраля 1977
Письмо Картера Сахарову. Чувство, что произошло нечто очень значительное. Какой-то прорыв сквозь тину дипломатии и расчета. Радость об этом. Вчера в "Nouvel Observateur" читал статью о женском "движении освобождения". Там же фотография: какие подлинно страшные лица, какая злоба, вызов, а одна почему-то по пояс голая! Какая ужасная путаница должна быть в сознании, чтобы это называть, это восхвалять как "освобождение". Уродство этого мира, той жизни, того образа человека, что противопоставляют теперешнему, по-ихнему – "нестерпимому"…
Долгий разговор сегодня с проф. Вышнеградом – правоверным евреем, специалистом по "еврейско-христианским отношениям". Очень искренний, очень симпатичный, но как за всем этим чувствуется тупик , религиозно-метафизический тупик иудейства.
Суббота, 19 февраля 1977
Разговор с Л. о таланте и уме. Я сравниваю ум с желчным пузырем, вся функция которого в "регулировании". Редкий, наиболее счастливый случай – это полное соответствие ума и таланта. Пример – Пушкин, который, мне кажется, никогда не сказал ни одной глупости. По этой шкале можно распределять и классифицировать: Толстой – гениальный и неумный и т.д. Увы, Солженицын – той же категории, его ум не только не служит его таланту, а "подрывает" его. Может быть, русские вообще как целое талантливы, но не очень умны.
Цитата из Бальзака: "Invente, et tu mourras persйcutй comme un criminel; copie, et tu vivras heureux comme un sot"
[892].
Чистый понедельник, 21 февраля 1977
Великий Пост. Вчера, из-за снежной бури, остались ночевать у Ани в Wappingers, где я, заменяя Тома, служил утром. Пропустил прощеную вечерню в семинарии. Служил ее в пустом храме – с Аней, Льяной (маленькой) и Александрой, но все по чину. Когда Аня одна – так чисто, так просто – пела прокимен "Не отврати лица Твоего…", почувствовал всю пронзительность, полноту, блаженство, что иногда дается испытать… Закончили пасхальными стихирами – "дуэтом". А сегодня утром возвращались с Л. лучезарным солнечным днем среди сказочного, снегом разукрашенного мира. Два чудных дня – с Аней и внуками…
Письмо в субботу от Никиты [Струве]: "Слушали Буковского, который едет в Америку, он изнурен и как-то уклоняется от принципиальных ответов (как политических, так и мировоззренческих). Доступа к нему нет: он окружен солидным тылом третьей эмиграции, которая к нам его не подпускает. Он и не марксист, и не христианин: очевидно, можно жить и действовать без мировоззрения, меня это всегда удивляет"
Ответил ему сегодня:
"…то, что Вы пишете о Буковском, я уже думал в связи и с ним, и с Амальриком, и другими. Но, с другой стороны, как трудно сейчас "мировоззрение", особенно религиозное, особенно православное! Читая, по необходимости, но с отвращением, о православной "возне" – с Собором, диаспорой… ощущаю не просто мизерность всего этого, а что-то в корне ложное. Может быть, проще всего сказать так: эмпирическое Православие насквозь проникнуто идолопоклонством, причем главный идол – оно само. . Идолопоклонством, а так же страхом, триумфализмом, нарциссизмом… Оно какой-то сплав, из которого уже почти невозможно выделить
сущности . Оно говорит на каком-то искусственном языке, без какого бы то ни было отношения к реальности, в нем нет ни любви, ни свободы, и в каком-то смысле наиболее адекватно его выражают карловчане. О чем бы ни говорили "православные", они неизменно говорят каким-то приподнято-фальшивым тоном и при этом безответственно в смысле "семантики" (ср. Осипов в "Русской мысли": "…если мир – вертеп, то Россия – ясли, в которых надлежит родиться Христу…" Что это, собствен но, значит?). И выходит сплошное: "Он плачет, а мы все рыдаем" – но неизвестно о чем. И вот получается так, что некий "мировоззренческий максимализм" плюс нравственный максимализм (то есть Сахаров, Буковский et alii
[893]) больше отдают чем-то христианским, чем риторика Якуниных, Хайбулиных… Заметьте, я не говорил бы всего этого, если бы не был убежден, и чем дальше, тем больше, тем, так сказать, "очевиднее", что в Православии – вся Истина, все ответы, действительно – спасение. Именно поэтому мне претит в его "эмпирии" элемент какого-то кокетства, самодовольной удовлетворенности самих православных – "византинизмом", "древностью", всевозможными стилями, афонами и т.д. Все это видишь особенно ясно, когда смотришь, как отражается это наше Православие в "конвертах", которыми здесь, в Америке, нас изобильно благословил Господь. 90% из них – настоящая карикатура на Православие, по-моему – более убийственная для него, чем все "цезаропапизмы" вместе взятые. Ну, довольно ворчать, тем более что мне было бы бесконечно трудно определить, почему же, собственно, тоскует моя собственная душа…"
Как страстно хочется тишины, сосредоточенности, внутреннего мира. Это был бы Пост. Но за три часа, что прошло с нашего возвращения, было уже около десяти телефонных звонков. И скоро – идти в семинарию, погружаться во всегдашнюю суматоху моей жизни. Самое страшное в этой суматохе то, что от нее никуда нельзя уйти, спрятаться. Я живу под harassment
[894] – русского слова не нахожу для этого состояния постоянного ожидания следующего звонка, вопроса, требования, просьбы…
Вторник, 22 февраля 1977
Утро в одиночестве дома. Писал скрипты. Потом перечитывал записи, сделанные ровно год тому назад – в феврале 1976. Чикаго. Читаю Великий Пост. Пасхальная неделя в Париже. Радует невольное "единство тона". Ужасает полная непроизводительность: оказывается, год назад я "работал" над тем же "Единством веры", которого не могу кончить сейчас, в эти дни…
Вчера – первая великопостная вечерня, повечерие с каноном Андрея Критского. Нарастающая волна исповедников. Снег. Мороз.
Все усиливающееся с годами ощущение времени, его "течения", его "претворения"… Так, например, эти полтора дня, у Ани, в уюте, свете ее семьи, ее дома. Уже в сами эти дни я начинаю их "вспоминать", то есть претворять в то счастье, которое в них и через них дается как абсолютно даровая, но и необходимая пища. "Блага, которых мы не ценим за неприглядность их одежд", и все же – единственно подлинные блага ici bas
[895]… Как после прощеной вечерни мы шли через сугробы домой. Все вместе: снег, освещенный редкими фонарями, освещенные окна дома, маленькая Александра, как шарик, на этом снегу. Все это – осколки, фрагменты, "штрихи" будущей вечности. Все это подарки Божии и потому "теоцентричны". Ничто из этого
не Бог, все это
от Него и потому
о Нем.
Трудность всякого начала: например, Великого Поста. "Не хочется". Отсюда, необходимость
сначала и во всем – терпения. "Терпением спасайте душу вашу"
[896]. Терпение – это приятие сквозь "не хочется", это заглушение этого "не хочется" – ненасильным "хочется", оно невозможно и фальшиво, а просто приятием, подчинением себя, то есть послушанием. И терпение рано или поздно превращается в "хочется". И наконец то, чего "не хотелось", оборачивается счастьем, полнотой, даром. И уже заранее печалишься, что и оно уйдет…
Слушаю молитвы, стихиры и т.д. И снова – совершенно очевидное, не сравнимое превосходство псалмов и вообще Писания над всяческой гимнографией.
Среда, 23 февраля 1977
Чехов (письмо к А.С.Суворину. 24.2.1893):
"…Я не журналист: у меня физическое отвращение к брани, направленной к кому бы то ни было; говорю – физическое, потому что после чтения Протопопова, Жителя, Буренина и прочих судей человечества у меня всегда остается во рту вкус ржавчины и день мой бывает испорчен. Мне просто больно… Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба… Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах? Я не могу и не могу".
Слушал сегодня ветхозаветные чтения. Пророки (Исайя) – о "маленьком": судьбе царств, народов и т.д. – говорили великие, божественные вещи. В наши же дни о "великом" говорят маленькие вещи. Те все "относили" к главному. Мы главное "относим" к третьестепенному. Словно все хотят "маленького"…
Из мира уходит, "выветривается" великое, трагическое в главном и основном смысле этого слова. Так, de facto, бесшумно, при полном равнодушии исчез, растворился "ад ", возможность гибели, а вместе с ним и спасение . Вошедшее в мир как "благовестие", как неслыханная весть о Царстве Божием, христианство постепенно превратилось в "духовное обслуживание", в – надо при знаться – малоудачную терапевтику.
Четверг, 24 февраля 1977
Первая Преждеосвященная – с подъемом и радостью… В промежутках между службами – дома за писанием "Единства веры", как будто наконец "кристаллизующегося". Солнце и оттепель.
На сон грядущий читал письма Чехова 1898-1899-1900-х годов, то есть последнего периода его жизни. Я всегда любил и все больше люблю человека Чехова, а не только писателя. Качество его выдержки, сдержанности и вместе с тем глубокой, тайной доброты. Из всех наших "великих" он ближе всех к христианству по своей трезвости, отсутствию дешевой "душевности", которой у нас столько углов "сглажено". Но какая печальная, трагическая жизнь с этим туберкулезом в тридцать лет!
Пятница, 25 февраля 1977
Чехов об иконах (письмо к Н.П.Кондакову от 2.3.1901): "Да, народные силы бесконечно велики и разнообразны, но им не поднять того, что умерло. Вы называете иконопись мастерством, она и дает, как мастерство, кустарное производство; она мало-помалу переходит в фабрику Жако и Бонакера, и если Вы закроете последних, то явятся новые фабриканты, которые будут фабриковать на досках, по закону, но Холуй и Палех уже не воскреснут. Иконопись жила и была крепка, пока она была искусством, а не мастерством, когда во главе дела стояли талантливые люди; когда же в России появилась "живопись" и стали художников учить, выводить в дворяне, то появились Васнецовы, Ивановы, и в Холуе и Палехе остались только одни мастера, и иконопись стала мастерством…
Кстати сказать, в избах мужицких нет почти никаких икон; какие старые образа были, те погорели, а новые – совершенно случайны, то на бумаге, то на фольге".
Он же – о религиозном возрождении (С.П.Дягилеву от 30.12.1902): "Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию , и главным образом от нечего делать".
Странно, как то, над чем работаешь, и иногда, по видимости, бесплодно, начинает само подспудно "работать" в тебе. Точно действительно – "я сплю, а сердце мое бодрствует"
[897]. Так вот и с моим злосчастным "Единством веры". Впотьмах, впотьмах и вдруг – словно озарение… Удивительно также то, как можно всю жизнь прожить, повторяя, как свои, – чужие слова, и как все по-другому, когда то, о чем говорил всю жизнь, становится вдруг "своим".
Вчера – последнее чтение Канона. Толпа священников. Греческий епископ Сила, которого потом нужно поить чаем. Теперь, надеюсь, Пост "полегчает", то есть станет тем, к чему он "призывает" – к тому, чтобы, на сколько возможно, стать легким , свободным от греховного "отяжеления" души.
Читая письма Чехова, лишний раз убеждаешься, какая стена отделяла – за двадцать лет до революции – интеллигенцию, "общество" – от власти, какой абсолютной мертвечиной власть эта была для интеллигенции. Свидетельство Чехова тем более ценно, что он не идеализирует интеллигенцию, ее "порывов" и т.д. И еще впечатление, что писатели, близкие к "народу", сильнее всего свидетельствуют о распаде "народа" – до революции. Чехов в общине видит корень повального алкоголизма. Русское "пророчество", если его брать в целом, страшно , а совсем не радостно… Ошибка славянофилов не в теории . Ошибка их в том, что они не увидели анахроничности России по отношению к своей собственной теории (народ, община как носители правды, замутненной Петром, и т.д.). Эта "правда" – во всяком случае во второй половине XIX века – просто выветривалась, разлагалась. И разлагалась потому, что не произошло "синтеза" ее с культурой, созданной, скажем, Пушкиным. Эта "пушкинская культура" создавала возможность для такого синтеза, была, в глубине своей, к нему направлена. Но он был задавлен властью, пытавшейся приду шить и культуру , и народ . Отсюда "невроз" культуры, с одной стороны, распад, разложение "народа" – с другой, все более нараставшая ненормальность, почти истеричность их взаимоотношений. Толстой отождествляет "народ" с Платоном Каратаевым. "Народ" распадается, разбегается – в секты, в "просвещение". "Культура" жертвует собой ради "народа", которому, однако, нужна не жертва, а культура. В результате, после пушкинского "взлета", нарождается то по самой сущности своей некультурное общество, причем именно "не культурность" в каком-то смысле объединяет его собою, ибо пронизывает все его слои. Отсюда – и надрыв, двусмысленность Серебряного века. Он уже сродни "внутренней эмиграции", уже почти "иноприроден" России, той ее сущности, что "оформляется" ко времени Александра III. И Достоевский, и Толстой исключения, подтверждающие правило: оба "всемирны" в ту меру, в какую свободны от России, и "ограничены" в ту меру, в какую направляют себя к "России" как к теме…
Воскресенье, 27 февраля 1977
"Торжество Православия". Почти весенняя погода, солнце, тепло. Вчера – почти весь день в "совещаниях" с англиканами.
Кончил письма Чехова и потом просмотрел книгу Зайцева о нем. Просматривал же ее потому, что просто не хотелось расставаться с Чеховым: как с близким человеком…
Звонили Андрею. Умер [его друг] Лека Геринг: это целая полоса в жизни Андрея. Утренние прогулки в Bois de Boulogne
[898]. "Военная быль". Я же вспоминаю, как присутствовал на встрече его с Солженицыным, в январе 1976 года! И слова Солженицына ему.
Как всегда в начале Поста – острое чувство прошлого, детства, всего, что буквально "кануло в вечность". Все кажется, как важно помнить – даже какой-то случайно запомнившийся вечер на St. Lambert [у тетушек], и закат, и листву в садике внизу…
Почти весь день за столом – в борьбе со словами, в самой мучительной из всех работ: найти как по отношению к что , которое чувствуешь, и чувствуешь, кажется, так ясно , а вот воплотить, выразить не можешь. Именно в этой работе я осознаю силу лени в себе.
В "Nouvel Observateur" интервью с Буковским. Он им говорит все то же, что говорят и Сахаров, и Солженицын, и все, без исключения, свидетели оттуда . Но эти все допытываются. И это допытыванье напоминает, как исцеленного Христом слепорожденного расспрашивали фарисеи. Да как Он мог!.. Так вот и тут: невозможность, неспособность расстаться со страстной верой в левое . Каково же должно быть отталкивание от "правого", если ничто не может этой "левой веры" поколебать…
Понедельник, 28 февраля 1977
Все утро в семинарии. Лекция об анафоре (благодарение, Свят, воспоминание). Завал писем. Теперь дома и пишу это для "разгона", прежде чем засесть за свою главу о "единстве веры".
Получил от Андрея книжки, оставленные в Париже, и среди них "Le christianisme йclatй"
[899], прочитанное мною сразу же в январе: диалог между Michel de Certeau et J.M.Domenachl
[900] Вчера вечером кончал в кровати Маркса Franchise Lйvy. Записываю это потому, что, пиша "Единство веры" (и об единстве tout court
[901]), ощущаю феноменальную раздробленность современного сознания. То, что читаешь, написано как будто на совершенно разных планетах. Только если помнить это и все время сознавать, писание "Единства" состоит в попытке это ужасающее разделение преодолеть.
Вторник, 1 марта 1977
Читаю A.Blanche! "Henri Brernond"
[902]. Читаю с огромным интересом и спрашиваю себя: откуда во мне этот всегдашний интерес к людям этого типа – Бремон, Луази, Лабертоньер, ко всему этому кризису, причем не в доктринальном, а
личном его аспекте, как внутренняя и именно религиозная драма этих людей? Думаю – от некоего внутреннего же mutatis mutandis родства с ними. Всецелая принадлежность Церкви, самоочевидная, как воздух, как жизнь, и одновременно внутренняя свобода внутри нее. Меня бесконечно тяготит то повальное внутреннее порабощение себя чему-то или кому-то, что я вижу вокруг себя, "идолопоклонство", так часто торжествующее в Церкви. И мне так же чуждо какое бы то ни было, всегда дешевое, восстание против нее, бунтарство, духовное сектантство… Меня буквально с детства, с корпусных лет отталкивало "карловатство" – с его ложным пафосом, елейностью, самодовольством, узостью. Я в одиннадцать лет терпеть его не мог. Но вот могу по совести сказать, что сама Церковь всегда стояла для меня выше всего как невидный, бесспорный, несомненный – нет, не авторитет, а
свет , в свете которого все живет, все светится. Церковь в сущности своей, в этой
светоносности своей должна не сужать, а расширять, не подчинять, а освобождать. Но это только если жить ее
сущностью как раз, тем, что светит, тогда как для большинства она обратное… Отсюда неизбежная трагедия. Церковные люди – как бы это сказать? – не любят верности Церкви, они хотят, чтобы Церковь была верна им, тому, что они от нее хотят. И потому всякий, кто любит Церковь в ее сущности, обязательно страдает
от "церкви". Поэтому в жизни "модернистов" (или, позднее, Teilhard de Chardin'a) интересен не
уход . Уход есть измена, он плосок, он "духовное плебейство", а верность, самоочевидность этой верности, верность как крест: страдание и победа… Страдание от непонимания, одиночества, чувства "стены". Победа от постепенно, изнутри растущей очевидности, что это и есть христианство. Вот почему эти книги о давно умерших, а сейчас и забытых людях меня так волнуют. "И тогда все, бросив Его, бежали…"
[903] – мне кажется, что каждый, поверивший в Христа, должен через это пройти, это "проверка" его свидетельства.
Март. И хотя идешь рано утром в церковь по морозу, свет солнца, цвет неба, легкость воздуха – весенние.
Среда, 2 марта 1977
Не успел написать всего вчерашнего, как несправедливое, злое письмо повергло в уныние, раздражение, отравило душу. И от красивых слов – моих – ничего не осталось. Что, в сущности, подтверждает правило. А я-то думал, что хотя бы в этой плоскости достиг некоей "отрешенности".
Книга о Br'emond. Верил ли он? Страницы о невозможности молиться, о молчании Бога ("…tous ceux que je vois et que j'interroge me disent sans hйsiter que, a quelques belles heures de leur vie, ils vous ont recontrй. A tous vous avez dit quelque chose. Tous, а un certain moment, ont йtй dans l'impossibilitй de douter de votre prйsence et de votre amour… Et moi, jamais, jamais!.." p. 782
[904]). Что это - неверие или же провал определенной, почти технически разработанной "духовности" ("Упражнения" св. Игнатия [Лойолы] и их развитие иезуитскими духовниками)? Что такое
молитва ? И этот западный выбор – или – или. Или чистая "трансцендентность", или же чистая "имманентность" (гуманизм и т.д.). Не в этом ли ложном выборе – причина трагедии Brйmond'a и столь многих других? Молиться Богу, "детерминированному", определенному философами… Стремление Brйmond к "религиозному чувству", то есть к
опыту . Но и "опыт", оказывается, точно описан, определен, классифицирован. Весь Запад в этом, в этих ложных и абсолютных дилеммах и дихотомиях…
Вторник – мой длиннейший рабочий день… Четыре часа лекций, два утром и два вечером, заседания, свидания, исповеди, телефоны. Вернулся в 11 с головной болью.
Волнения Тома [Хопко]: изгнание из англиканского монастыря Sister Edith
[905] за сопротивление гниению. Она ночует у них.
Возвращение к нам после родов нашей "служанки" Флоры с новорожденной Эсперанцей! Прикосновение к "подлинному", к жизни в ее божественной простоте и глубине.
После обеда. Кончил Brйmond.
Хочу выписать это из письма Blondel (230):
"…il n'est pas mauvais non plus, pour triompher des tentations d'indйpendance ou d'intransigeance, non il n'est pas mauvais de considerer la responsabilite qu'on a vis-и-vis de tant d'autres esprits qui comptent pour nous, de songer и ne point fournir le moindre prйtexte, la moindre justification aux suspicions dont nous pouvons кtre 1'objet. Que de fois il m'a semble
1 voir, avec une clartй percante,
que le spectacle et la souffrance des injustices ecclesiastiques, des miseres officielles, etaient pour nous la ranc.on d'autres graces et d'autres lumieres… "
[906].
Кончил с волнением, потому что читаешь такие книги с внутренним pro domo sua
[907]: относишь к трагической запутанности современного Православия, его "плененности" самим собою, чудовищному его провинциализму. Относишь к вопросу: как быть, что делать, к той постоянной неудовлетворенности, в которой проходит жизнь. А это поднимает последний, вечный вопрос: что
Церковь и в чем
верность ей, и в чем ее жизнь, и где начинается измена.
И как различить боязнь "пострадать" от боязни "соблазнить"!.. Но есть в таких книгах, для меня во всяком случае, и нечто целительное: вот, казалось бы, совсем недавно бушевали эти страсти, а все прошло, все стало "историей". И таким образом – это призыв к тому, чтобы и наши бури переживать, так сказать, "в перспективе"…
Совершенно изумительный, торжествующий, светоносный день.
Четверг, 3 марта 1977
Та же торжествующая весна… Сегодня утром в [школе Л.] Spence, где наша маленькая [внучка] Анюша выступала в детском спектакле. Все время – 20 минут! – пока входили девочки, потом играли, я держал [брата Анюши] Сашу на коленях: клубок слез в горле – от этого радостного совершенства детства…
Читая вчера вторую книгу о Bremond ("L'histoire d'une mise a Pindex"
[908] того же А.Бланше), впал в привычное уныние: откуда столько ненависти в религии, в Церкви, столько фанатизма… Сколько отравленных, разрушенных жизней – и все во имя Христа! Звучит банально, но, когда вдруг
осознаешь , действительно содрогаешься.
По обычаю в поезде – чтение французских журналов. Буковский. Амальрик. И впечатление такое, что их свидетельство начинает "действовать" – даже на безнадежную европейскую "левизну".
Вчера много часов в полном одиночестве за письменным столом. Вечером – дружный ужин с Л. в ресторане. Особенно радуюсь этому ввиду надвигающихся трудных, "разъездных" недель.
Пятница, 4 марта 1977
Разговор вчера после вечерни с Д.М. (двадцать три года), которую я знал все эти годы как церковную "активистку". Говорит, что вдруг поняла, что все это "не она", фальшиво, искусственно и т.д., и хочет "уйти из Церкви". Увы, многое в том, что она говорит, – правда. Все это то, как раз, о чем я писал за час до этого разговора: "уйти от религии, чтобы найти наконец Бога …" Как все запутано!
Длинный разговор сегодня утром с Андрюшей Трегубовым.
Начал вчера "J'ai cm au matin" (Pierre Daix
[909], французский коммунист-диссидент). Я не знаю ничего поразительнее в XX веке, чем эта тотальная, безоговорочная отдача себя целым поколением – "
Партии ", эта фанатическая – до смерти – вера в нее.
В "Нью-Йорк тайме" сегодня сообщение: в Париже "традиционалисты", требующие латинской мессы, заняли церковь и до полусмерти избили священника. Какой ужас, и опять, опять – "вера", "религия"…
"Взявшие меч…"
[910]. Но почему "вера" почти всегда приводит к "взятию меча" – к фанатизму, ненависти, какой-то психологической
оголтелости!
Суббота, 5 марта 1977
Субботняя Литургия, которую я люблю с детства. Такой ясный ответ на все уныния и сомнения этих дней: "Мужайтесь!" Церковь – это, превыше всего, "за Моей Трапезой, в Моем Царстве"
[911]. Это – Евхаристия… Как можно этого не видеть, с этим спорить?.. Сейчас еду в Sea Cliff – говорить на эту как раз тему. Тепло, солнечно, весенне…
Понедельник, 7 марта 1977
В субботу – лекция в Sea Cliff. До этого заехал на час к Н.С.Арсеньеву, который целую неделю просил, требовал, угрожал (в разговорах с Л.). Наделе, конечно, не только не было ничего спешного, но и вообще ничего, никакой, так сказать, причины для встречи, кроме одиночества, кроме этого ужасного погружения живым в смерть. Показывает какие-то семейные альбомы: сентябрь 1910 года, имение, эти удивительные "липовые аллеи", весь его – "арсеньевский" – мир. И за него чувствуешь всю силу этой памяти. Ему кажется, должно быть, что если бы все поняли, как он, как красив, прекрасен, глубок был этот мир, – они поняли бы, где спасение. И вот все – и стихи, и книги, и сама религия – только безнадежная попытка "воскресить". Приехал к нему раздраженный (тоном его телефонных разговоров), уехал не только примиренный, но с острым чувством жалости и раскаяния…
Лекция – о причастии, о приходе и Евхаристии – кучке русских людей, которых старается хоть как-нибудь "пронять" о.Леонид Кишковский. Слушают, благодарят, но насчет "пронимания"… "А потом что? А потом пили чай…" (старуха мать в чеховском "Архиерее").
М.М. Коряков дарит мне свою книгу "Живая история" (1917-1975).
Кончил Дэкса. Только читая такие книги – автобиографические, можно понять, до какой степени коммунизм сродни вере, религии. Это сказано было тысячу раз – но, следя за тем, как человек на протяжении тридцати лет смотрел и не видел, слушал и не слышал, как все – включая то, что буквально резало глаза, – немедленно истолковывала, обезвреживала вера (то есть не доктрина сама по себе и не "партия" сама по себе, а их органическое сочетание, которое и делает их верой…), понимаешь, почему действительно вера горами движет.
Вечером: звонок от о. Джорджа Де Грана о "харизматике", разговор по телефону с о.Ваней Ткачуком о его "общем собрании" в Монреале, звонок от К.К. Чекина из Сан-Франциско о тамошних церковных делах. И все какие-то "скандальчики", что-то бесконечно мелкое, липкое, абсолютно ненужное, если только раз подумать о Церкви, о молитве Василия Великого, которую читал утром: "Царское священство, народ святый…" Но в том-то и дело, что молит вы этой, даже если бы и хотели, не слышали, она стала "тайной", "секретом"… Как же учить: "Братья, будьте тем, что вы есть …"? А ведь в этом вся проповедь христианства. Только в этом.
Теплые, почти жаркие дни. Как всегда в Америке: прямо из морозов в жару.
Пишу это рано утром, до ухода на лекции, главное, чтобы справиться с унынием, всегда одолевающим меня в понедельник утром – когда я почти физически чувствую, как наваливается на меня тяжесть новой недели.
Вторник, 8марта 1977
Сегодня и вчера – лекции, читая которые, и как бы я ни тяготился "нагрузкой", я всегда чувствую, что делаю свое дело, исполняю свое призвание. Вчера об эпиклезе, сегодня о Великом Посте…
Две исповеди сегодня утром, обе "светлые" и потому наполняющие светом, "утешительные" (в смысле Духа Утешителя ).
Нагромождение за эти два-три дня зловещих признаков и плодов так называемого "духовного возрождения":
– рассказ о.Де Грана о своем "харизматике", о тьме, льющейся из него и закончившейся обмороком и госпиталем;
– рассказ о.П.Лазора об обращенной им в Православие девушке, хотевшей монашества и ведущей дьявольскую, разрушительную работу в его приходе;
– письмо от нашего, нами изгнанного, семинарского "духоносца" и "экзорписта", прнизанное такой злобой и угрожающее судебными преследованиями;
– рассказ по телефону, вчера вечером, о.Фаддея Войчика о [его] приходе в Калифорнии, ставшем "мирским монастырем", о соблазнах и разрушительности этого псевдодуховного псевдомаксимализма;
– рассказ Sister Edith, англиканской монашки, принявшей у Тома Православие, о том, как это пресловутое "revival"
[912] разрушило духовно их монастырь да и Англиканскую Церковь.
Все это – от ложной, губительной предпосылки, что религия должна выражаться в чем-то "религиозном", в какой-то религиозной "деятельности", тогда как единственное подлинное выражение ее – "праведность, мир и радость в Духе Св."
[913] . И ничего
другого не надо даже искать, ибо одно это и
выражает , и
являет , и
действует.
У Церкви только две задачи: быть причастием Духу Святому и являемому и даруемому Им Царству будущего века , свидетельствовать об этом перед "миром сим". А большинство верующих не принимают ни того, ни другого, и вот остается "церковная деятельность".
Четверг. 10 марта 1977
A propos "церковной деятельности": заявление вчера на синоде митрополита Иринея об его уходе на покой. Было три часа дня, и я уже собирался ехать домой, так как синод приступал к последнему "действию": наградам… [Секретарь Митрополита] С.Трубецкой говорит мне: "Мне кажется, что Митрополит согласился бы уйти, он все эти дни об этом говорит. Поговори с ним". Я пошел. "Владыка, Вы больше не можете, Вы устали, о Вас будет проявлена вся забота". И он – согласился. Я в десять минут одним пальцем настукал заявление, он его подписал… Отставка войдет в силу в октябре, на Соборе, который и выберет преемника… Sic transit gloria mundi
[914]: ехал до мой, вез мексиканского епископа и думал об этом. Как в какой-то момент невозможное становится возможным. Как в последней своей глубине нам непонятны события, в которых мы не только участвуем, но которые как будто вызываем. Размышления сродни толстовским: "о роли личности в истории"… Вечером написал послание Церкви арх. Сильвестра. И "мы вступили в новую эпоху".
Я спрашиваю себя (и делаю это после каждого Собора): в чем незаменимость, я бы даже сказал – необходимость епископов? Почему, будучи почти всегда просто вредными на уровне "текущих дел", они нужны и полезны на каком-то другом, неизмеримо более глубоком уровне, который один, в сущности, важен, делает Церковь Церковью? Я знаю, всегда знаю, что это именно так, но как "выразить" это знание?
Когда думал об этом сегодня, идя домой со станции, вдруг в сознании явственно прозвучали слова: "на недвижимом камени". Епископы – "недвижимый камень" в двух возможных смыслах этого выражения. В отрицательном: именно камень – мертвого авторитета, страха, самоуверенности и т.д., и отсюда, как я говорю, –
вред их на уровне повседневных "дел". Но и в положительном. Вот вчера они временно забраковали кандидатуру во епископы о.Б.Г., при том одной из причин, как мне говорили, было то, что он "инноватор"
[915]. Сначала меня это взбесило: что, мол, де было бы с нашей Церковью без нашего "инноваторства", то есть, по-нашему, – возвращения к подлинному Преданию и т.д. А потом, поостыв, подумал: так, да не так. Пускай они туги на принятие
хорошего , но зато и плохого "инноваторства" не пропустят. Хорошее, если оно подлинно, церковно, истинно, – все-таки рано или поздно пробьется, процветет даже и сквозь епископскую обструкцию (укорененную, главным образом, в чеховском "как бы чего не вышло…"). А плохое будет задержано. И еще: чтобы процвело хорошее, достаточно иногда одного "хорошего" епископа; чтобы задержать плохое – нужны они все, нужны как именно
камень . Епископы по самой своей функции – носители в Церкви
консерватизма в самом глубоком смысле этого понятия, веры в то, что на глубине Церковь не меняется, ибо она сама есть "не движимый камень". Но так как в Церкви, больше, чем где-либо, "веет Дух", но и "духи", этот консерватизм абсолютно необходим, хотя он неизбежно и все время вырождается в консерватизм тупой. С епископами в Церкви почти всегда трудно, мучительно, но в лучшие минуты знаешь, что в Церкви должно быть "трудно", что "многими скорбями…". И потому, проведя с этим "трудно" и "мучительно" всю жизнь, я, несмотря на все,
верю в епископство той же верой, которой, несмотря ни на что, верю в Церковь.
Любят русские люди поговорить о "религии". Сегодня на радио "Свобода" вопрос: "Батюшка, правда ли, что если кто будет крестным отцом, а вскоре после крестин ребенок умрет, он уже больше не может быть восприемником?" Подобных вопросов я слышу десятки, сотни. И почти никогда вопросов по существу. Всегда вот такие: "можно?", "нельзя?"; я готов думать, что все эти люди просто никогда не слышали о христианстве и что их религия к христианству не имеет отношения. И никто никогда им этого не говорит.
Пятница, 11 марта 1977
Перед отъездом в Чикаго и Миннеаполис. Два дня в ожидании конца кризиса в Вашингтоне: занятия какими-то фанатиками "мусульманами" трех зданий с сотней заложников. Только что по радио сообщили о благополучном разрешении. Самое страшное, что почти уже перестаешь удивляться…
Вчера все после-обеда в писании писем. Думал ликвидировать весь "завал", а не ликвидировал даже половины.
А утром – сплошные appointments
[916] в семинарии и телефоны.
Получил из Парижа [журнал] SOP с моим интервью, которое я давал А.Чекану и о.Борису Бобринскому в январе. Слава Богу, ничего не переврано…
Телефон от Майи Литвиновой о письме о.Сергия Желудкова. Поеду к ним в понедельник вечером.
…И каждый занят всецело
своим , и только то, что он делает, кажется ему важным. Поэтому так безнадежно трудна жизнь тех (как я), которых каждый втягивает в свое
свое . У них для
своего не хватает ни времени, ни сил. Иллюстрация as of today
[917]: а) девочки, просящие устроить конференцию о "женщине"; б) А.Трегубов – о съезде "русского" кружка; в) Верховской о "квартирном конфликте"; г) Давид [Дриллок] – об издательстве и проблемах с [библиотекарем]; д) Иван Мейендорф с приездом Патриарха Антиохийского и о том, что "нужно" поговорить с [митрополитом Антиохийской Церкви в Америке] Филиппом; е) Том [Хопко] с англиканами; ж) о.Дмитрий Григорьев с "южной епархией"; з) Майя Литвинова с положением в России; и) А.З. со своими ссорами. И это только сегодня между восемью и десятью утра, и это –
не считая отдельных студентов и их "проблем"…
Чикаго. Отель "Хилтон". Суббота, 12 марта 1977
Восемь утра. Из окна – огромный вид на самый большой в мире аэродром. Каждую минуту прямо перед отелем взвивается аэроплан. Вчера вечером – Литургия Преждеосвященных Даров в Троицком соборе, затем – собрание Foundation в Миннеаполисе, вечером домой… Мне всегда не хочется уезжать из дома, но я по-своему люблю это отельное одиночество, эту внезапную тишину, остановку в моей шумной и бурной жизни.
В церкви опять то же самое: молодежь тянется, хочет, старшие безнадежны. Исповедовал молодого А.Г., с которым познакомился в прошлом году, когда целую неделю сидел в Чикаго. Чудная служба, чудное пение – по-английски, молодых. И молчаливая вражда ко всему этому старшего духовенства.
На сон грядущий читал Andrй Frossard "La France en gйnиral"
[918] (о генерале де Голле): "…il avait reЈu la seule rйcompense qu'il meritat et qui fыt digne de lui: Г ingratitude" (p.251)
[919].
Понедельник, 14 марта 1977
Болен, без голоса, с кашлем и потому – дома. Поездка в Миннеаполис "до конала" меня: две лекции, вопросы на протяжении трех с половиной часов. Уже вчера служил через силу. Днем крестили у нас маленькую [внучку] Наташу.
Только что кончил Фроссара. Книга не из замечательных или исключительных по своему "удельному весу", но всегда освежительно прикоснуться к исключительной судьбе, подышать воздухом чего-то большего, чем наш, ужасно маленький и мелочный, мир. А это как раз то, пожалуй, что Фроссар лучше всего передает: 1'absence de commune mesure
[920] между ним и людишками, с которыми он имел дело. Одиночество, свобода от партий, от избитых "лагерей" и идей…
Один из тех дней, когда я твердо знаю, что ничего не сделаю, никакой работы не выйдет. Возможно, это – от "перетянутой струны" трех последних дней и тоже от недомогания, и все валится из рук.
По первым сведениям, вчерашним, правда, во Франции на первом туре муниципальных выборов "ведут" левые, la gauche unie
[921]. И выходит: что осталось от де Голля? Есть ли, как утверждает Фроссар, "аи plus intime de la conscience nationale… se forme de maniere du reste incomprehensible 1'unite d'un peuple et I'irreductible noyau de volonte qu'il oppose aux forces de dissociation qui viennent 1'assaillir…" (p.13)
[922]? Иными словами, есть ли это, почти
мистическое национальное чувство – нация как "трансцендентальная личность"? Библия как будто говорит:
да : "возлюбленный сын мой Израиль" и т.д. Но остается ли "
да " это в силе
после Христа? После явления Церкви? Де Голль, во всяком случае, никогда не различал нации и государства (1'Etat), последнее для него было воплощением, жизнью "нации". А это-то и кажется мне questionable
[923] с христианской точки зрения. Под вопросом, потому что ничто, ничто так не повредило христианству и Церкви, как слияние христианства с национализ мом, как выведение Церкви из "природного" или, напротив, сведение ее к природному.
"L'Etat": французы официально, "общепринято" не любят ни одного режима, существовавшего в их истории: ни монархии, ни революции, ни империи, ни четвертой, ни пятой республики. Что это значит? На что это указывает?
Только что долгий звонок от о.П.Кусинды. Как я и думал: началось – кого выбирать в митрополиты, как выбирать и т.д. И длиться это будет семь месяцев! Они не могут поверить, что мне решительно все равно , и совсем не от "цинизма", а от веры и знания, что безошибочная и немного страшная логика христианства, Церкви – в том, что поражение в ней претворяется в победу, а победа в поражение. Это Божественная логика, и против нее бессильны все наши расчеты и интриги…
Вторник, 15 марта 1977
Валяясь вчера весь день на кровати, прочел "Ревизора" и "Женитьбу". Поражен "Женитьбой" – почему это хорошо? Ведь это, в сущности, абсолютно ничтожно, именно ничтожно, и, читая, спрашивал себя: почему Гоголь это вообще написал? Читал же из-за статьи какого-то М.Дубинина в "Русской мысли" – о Гоголе и Оптиной Пустыни, о приезде его туда в июне 1851 года, то есть меньше чем за год до смерти. Он был подавлен, мертвый – по свидетельству Киреевских. Объяснение Дубинина: монах Парфений укорял его за карикатурность его творчества, Гоголь испугался "революционных" выводов, делавшихся из его писаний, атмосферы 1848 года и т.д. Выходит, в сущности, что струсил… Впечатление на него от письма Белинского. Удивительно, как с Гоголем все куски puzzle'a
[924] всегда остаются проблематичными. Одно мне кажется несомненным: что-то страшное, темное, "чертовское" (в той же статье Дубинина ужас его перед числом ссылок на "черта" в его писаниях) было в нем самом, какая-то бездонная гордыня и из-за нее – неуверенность в себе…
В той же "Русской мысли" выпад – первый по такой резкости – Зинаиды Шаховской против "третьих". Выпад оправданный (во всяком случае, судя по отрывкам и цитатам, приводимым [в статье]), но, я уверен, и бесплодный. Обрыв культуры совершился, ров, пожалуй, незасыпаем… Читал также "Живую историю" М.М.Корякова. Это книга, в отличие от почти всего, что пишут сейчас, – доброжелательная , в этом ее редкая тональность, но и какая-то бескостная и мелкотравчатая.
Интервью Амальрика, Буковского… More of the same
[925]. Все верно, все на месте. Но чувство такое, что права-то личности все очевиднее становятся в нашем мире какой-то отвлеченностью, они ни из чего не вытекают, ни на чем не основаны.
В воскресенье в "Нью-Йорк тайме" статья о резком падении посещаемости церквей и упадке "верований" в смысле принятия догматов, той или иной доктрины. Заявление молодого католика: "Я не вижу, что принятие того или иного догмата Церкви изменило бы в моем подходе к жизни". Думал об этом сегодня и "координировал" в мысли с успехом всяческой субъективной "религиозности". Убывает вера, усиливается религия. Боюсь, однако, что
вера -то, в сущности, давно стала убывать, что "держались" Церкви в последние века не верой, а той же религией, и держались ею, пока она "социально" соответствовала чему-то в культуре, обществе и т.д., соответствовала, может быть, в ту меру, в какую "свобода" и "секуляризм" не проникали в толщу сознания и цивилизации. Но теперь это совершилось, и вот первой жертвой является
Церковь . Протестантизм был "расцерковлением" христианства или, во всяком случае, началом такого расцерковления. И не случайно "постватиканская" Церковь протестантизируется (отказ от авторитета, от понятия "ереси", от тональности "объективности"). Потому и Православие держится только держанием за Церковь как за природное общество – этническое, национальное и т.д. Но в основе
Церкви как уникально христианского явления лежит
вера . Вера вечно рождает и исполняет Церковь, и только
вере Церковь и нужна как "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом"
[926]. И нужна только в меру эсхатологизма христианской веры, то есть как таинство "будущего века". Религии, да и то далеко не всякой, нужна не Церковь, а нужен
храм . Храм – "религиозного" происхождения (отсюда евангельское: "разрушьте храм сей…"
[927]), а Церковь – христианского. Однако Церковь – наша, во всяком случае, – давно уже отождествила себя с "храмом", растворила себя в "храме", и это значит – вернулась к языческому храму как "фокусу"
[928] природной жизни, как к ее религиозной санкции. Протестантизм был попыткой спасти
веру , очистить ее от ее религиозной редукции и метаморфозы. Но он это сделал ценой отказа от эсхатологии, замены ее "спасением" предельно личным, индивидуальным. И потому – в сущности – отказом от
Церкви … В плане "природного" наибольшим анахронизмом было, пожалуй, католичество. Ибо оно "возможно" было только пока можно было отрицать или ограничивать
свободу личности , то есть основной "догмат" Нового времени. Попытавшись переменить рельсы, соединить себя со свободой, оно просто рухнуло, и я не вижу, как возможно его возрождение (разве что при "фашизации" человечества, при новом отказе его – вполне возможном – от взрывчатого синтеза
свободы и
личности ). Что же касается Православия и протестантизма, то они гибче. На глубине Православие, мне кажется, давно уже "протестантизируется": "верит" в нем каждый по-своему, но соединены все "религией", то есть храмом и обрядом. Отсюда двойное движение: если от религии к "вере", то к расцерковлению, к уходу в личную религию; если от "веры" к религии – то к православию, Типикону, кадилу и иконам. Оба движения "неполноценны": в одном торжествует индивидуализм (отрицание Церкви), в другом – "религия" (редукция Церкви) и, в сущности, тоже индивидуализм.
Люди, слушающие нас, совершенно искренне не понимают, чего мы от них хотим. На последней глубине мы (кучка) хотим
Церкви , но в христианстве давным-давно уже нету опыта Церкви, он заменен опытом
храма плюс индивидуальной религии , изнутри лишенной всякой веры в смысле "осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом"… Ожидаемое
что ? Невидимое
что ? Что-то "божественное" in se
[929], трансцендентное, загробное, неотмирное, что-то, что "помогает жить". Но все это, modus
[930] переживания всего этого, в конце концов, – дело вкуса (индивидуального выбора, привычки и т.д.). A de gustibus non est disputandum. Quod erat demonstrandum!
[931]Перечитал написанное и хочу уточнить – о вере, Церкви и свободе. Говорят: "Свобода каждому верить по-своему…" и т.п. Чудно. Пускай: религиозное "насилие над совестью" – худшее из всех. Говорят: "принимать веру Церкви" (авторитет Церкви и т.д.). Но все это не о том, не так и не то… Когда я говорю, что вера рождает Церковь , я говорю, так сказать, об онтологии самой веры. Ибо вера и Церковь не две разные "реальности", причем одна из них, так сказать, "сохраняет" или "охраняет" другую. Нет. Вера есть обладание Царством (осуществление ожидаемого – Царства – и уверенность в невидимом – Царстве). Это обладание и есть Церковь как таинство, как единство, как новая жизнь и т.д. Церковь – это "присутствие" ожидаемого и невидимого. Поэтому говорить о какой-то "свободе веры" внутри Церкви так же бессмысленно, как говорить о свободе внутри таблицы умножения. Принятие Царства есть плод свободы, ее "исполнение" и увенчание, и в этом смысле – будучи постоянным, все время возобновляемым принятием – вера есть свобода, единственно подлинная свобода, каковой должна быть и Церковь как исполнение веры.
Среда, 16 марта 1977
Ужасное известие об опухоли – возможно, раковой – у маленького (пяти недельного!) Ивана, сына Павла Мейендорфа. Сегодня операция. Утром после утрени – молились о нем в семинарской церкви…
Решительный день у Льяны, в Spence.
Вчера днем у Литвиновых, передающих мне три письма от о. Сергия Желудкова (переписываю их дальше). Сидел у них полтора часа с большой радостью. Милые, простые и – главное! – доброжелательные люди.
Утро сегодня на радио "Свобода".
Восторженные статьи о победе de la gauche
[932] в "Le Monde" и "Le Nouvel Observateur". Изумительная по ясности, по лучезарности погода.
Письмо о.Сергия Желудкова
31 января 1977
"Глубокоуважаемый о. Александр! Дело, с которым я на этот раз обращаюсь к Вам, имеет для нас чрезвычайную важность.
Говорю "для нас" – имея в виду вместе с собою тех русских христиан, которые давно уже испытывают хроническое страданье от ужасающего "кенозиса" святого Христианства в так называемых "религиозных программах" на русском языке всего мира. Единственное (да, единственное) исключение – Ваши выступления. Примите от нас горячую благодарность. Недавно у меня появился магнитофон, и мне удалось сделать отрывочные записи некоторых Ваших бесед. Привез я ленту в Москву – и здесь Ваши речи произвели, по словам одного из слушателей, прямо-таки ошеломляющее впечатление по сравнению с тем, что нам приходится с привычной уже болью в душе выслушивать по "Голосу [Америки]", ВВС, "Немецкой волне" и из Ватикана (откуда, в частности, как выразился этот слушатель, любящий католичество, – "поразительно бездушные" передачи). При этом важно, что чувства личного уважения к ''священнику о. Александру", восхищение его талантом, его культурой испытывают не только "церковные слушатели", но и другие духовно очень ценные люди – наши агностики доброй воли. Живо вспоминаю в этой связи взволнованные отзывы о Ваших выступлениях моих незабвенных друзей П.М. Литвинова и его жены.
Почему понадобилось мне везти ленту из провинции в Москву? Потому что здесь, как и во всех крупных городах, "Вашу" радиостанцию не слышно. Говорю "Вашу" радиостанцию заведомо условно, потому что руководители ее совершенно не ценят Ваших выступлений по их действительному достоинству, отводят им самое заурядное место где-то, что называется, на задворках политической программы. Поэтому даже и в провинции часто бывает так, что именно Ваше время закрыто глушением.
Вот положение: единственная (да, единственная) заслуживающая такого наименования проповедь святого Христианства находится в столь неблагоприятных условиях. Совершенно необходимо по возможности их изменить. Какие это возможности? Самое естественное дело было бы – копировать лучшие из Ваших бесед в "религиозных программах" других радиостанций, не подвергающихся глушению. Обращались мы к ним: безрезультатно . Боюсь, что причина, увы, самая обыкновенная зависть (приходится с печалью подумать это о церковных витиях из Лондона и Вашингтона). Если наберусь храбрости, напишу еще в Ватикан, в Кельн – но как-то заранее не уверен в успехе.
Между тем есть одна еще не использованная, хорошая возможность".
(Дальше о магнитофонных записях и о том, как их осуществить.)
"Такова наша к Вам покорнейшая, настоятельная просьба. Мне очень хочется исполнить это священное дело до смерти. Умоляю Вас – поспешите, помогите откопать Ваши десять талантов, сделать их достоянием Церкви в более широком круге благодарных слушателей".
Четверг, 17 марта 1977
Сегодня утром позвонили и сообщили Л., что она избрана headmistress of Spence School
[933]… Подумал: а все-таки "американский миф" все еще действителен, осуществляется. Ведь только подумать: в 1951 году, когда мы приехали, Л. не говорила ни слова по-английски и ее учила гр. Панина. А теперь – во главе одной из двух-трех лучших в Америке школ.
Чудная Преждеосвященная вчера. Несколько "светлых" исповедей – и вчера, и сегодня… Сейчас уезжаю в Little Rock, Арканзас.
Продолжаю писать уже в Little Rock, [в гостинице] Camelot Inn. Летел долго, с остановками в Вашингтоне и Мемфисе (Теннесси). Сейчас сижу у окна на девятом этаже отеля. Огромный вид на реку Арканзас и далеко-далеко за ней. Пасмурно и серо, но деревья все уже зеленеют. Юг. Это город, с которого в 1955 году началось "возрождение" негров. Сюда Эйзенхауэр ввел войска, когда белые отказались "интегрировать" школу…
В аэроплане читал Morris Dickstein "Gates of Eden. American Culture in the Sixties"
[934]. Интересно вообще, в частности же как наглядная попытка создавать "мифы": эта игра в Fifties. Sixties, Seventies…
[935] – немного раздражает. Анализы "культурных перемен" сосредоточены на "скоромимопреходящей" интеллигенции, которая, действительно, только и делает, что меняет "богов", сжигает то, чему поклонялась, и кланяется тому, что сожгла. А чуть-чуть глубже – и перемены, напротив, бесконечно медленны, ср., например, "православную ментальность" в Америке. Поэтому читаю я всю эту sophistication
[936] cum grano salis
[937].
Монреаль. Суббота, 19 марта 1977
Пишу поздно вечером в Монреале, у Вани и Маши [Ткачуков]. Прилетел рано утром. Весь день retreat: две мои лекции – о Кресте и о Богоматери. Много народа, и говорил – для себя – удовлетворительно. То, что думаю и как думаю… Английская вечерня. Снова умиление от этих молодых голосов, от молодежи в Церкви. И страх за них – лишь бы не "свихнулись"…
Летя из Арканзаса вчера полдня, дочитывал "Gates of Eden". Пришел к вы воду, что одна из особенностей нашей эпохи – придавать необычайное значение
незначительному . Сотни страниц, посвященных анализу всеми забытых статей и романов, "трендов"
[938], и все бесконечно глубокомысленно, как если бы речь шла о мировых событиях. В свое время о Толстом и Достоевском не писали так, как этот Дикстейн пишет о Мейлере, Апдайке и т.д. И о каких-то журнальчиках. Все сейчас мелкое и направлено на "мелкое".
Вчера в Нью-Йорке опять снег, зима, холодно.
Понедельник, 21 марта 1977
Два дня в Монреале: три лекции, две проповеди, и все это почти без голоса!
Вторник, 22 марта 1977
Утром вчера – лекции, суета и заботы в семинарии, днем поездка с маленькой Верой (которую я привез из Монреаля в воскресенье), втроем, в Wappingers [к дочери Ане]. После воскресной снежной бури – опять солнце, опять весна.
В воскресенье в Монреале, стоя во время английской Литургии в церкви, я думал: неужели когда-нибудь поймут наконец "православные", что служить, петь, стоять в церкви нужно именно так и только так? После этого архиерейская обедня (в которой участвую) кажется настоящим падением . Эти нахальные иподиаконы, разбрасывающие орлецы, "номера" хора, рычание Апостола, все это – привычное с детства! – ударяет по нервам, как предательство… Вот в этом-то как раз и упрекает меня о. Сергий Желудков: в том, что я все это "замалчиваю". От страха ли? Нет, пожалуй, скорее от "реализма", от отвращения к "бунтам" в Церкви, от чувства, что частичные исправления не помогут, если не будет сначала обращения к другому видению Церкви, к другому "переживанию" богослужения.
Среда, 23 марта 1977
Удручающая суета в семинарской жизни. Удручающий уровень интересов студентов, уровень того, что называется "церковностью".
Четверг, 24 марта 1977
Рано утром – длинная служба, Мариино стояние с каноном Андрея Критского. Потом – в Нью-Йорке, в "Свободе". Холодно, ясно и сильный ветер: я не могу оторваться от колыханья веток перед моим окном: точно они страстно, настойчиво твердят что-то.
Вчера – уютнейший, счастливейший вечер с двумя нашими "матушками" – [дочерьми] Аней и Машей. Любование их духовным здоровьем, светом, прозрачностью.
Пишу это перед благовещенской всенощной: "Архангельский глас…"
Пятница, 25 марта 1977
Благовещение – любимейший из любимейших праздников. Стоя вчера за всенощной в алтаре, слушая эти ликующие песнопения, все на тему: "Благовествуй, земля, радость велию, пойте, небеса, Божию славу…", – думал: какие могут быть "проблемы"? Не состоит ли вся жизнь в принятии и усвоении этой радости свыше, причем усвоение состоит в том, чтобы все в этой радости увидеть и по-новому принять?
Много исповедей, и – как бы по милости Божией – в этот день "положительных".
А вечером сегодня другая радость: Похвала Богородицы.
Суббота, 26 марта 1977
Акафист вчера, а сегодня утром – тихая "голубая" Литургия "Похвалы". Чистая, беспримесная радость этого дня с юношества, когда, сидя в Lycйe Carnot и скучая, говорил себе: "Сегодня вечером – Похвала…" Каштаны на Bd. Malesherbes.
Думал сегодня о спорах – "о месте Богородицы" в нашем спасении, об определении и т.д. О нищете и бессилии "богословия", так понимаемого. Ибо ничего нельзя понять, не приняв сначала всего этого: "Радуйся, еюже радость возсияет…", не прикоснувшись с изумлением, с благодарностью к этому "пре чистому" образу. И как все это определить на том языке, который выбрало себе "богословие" за то, что он "научный"?
Во всем "женском", даже самом "профанированном", – осколки того образа. В ней они собраны в целостности.
Отсутствие "отрицательных" женских образов в Новом Завете (как Иуда, фарисеи и т.д.). Христос обличает фарисеев, но прощает блудницу, разговаривает с самарянкой.
"Определение", то есть сущность: Мать, Дева, Невеста, Жена, облеченная в солнце, Царица.
Женщина "соблазняет" своей красотой. Но соблазн не в ней, а в мужчине. Он, соблазняясь, разрушает образ. Соблазн: желание проникнуть в тайну: "раздеванье". В мужчине нет тайны . Она есть в ребенке и в женщине. Соблазн: желанье разбить целостность и так добраться до "тайны". Вместо этого получается растление , то есть убийство тайны.
Вторник, 29 марта 1977
В воскресенье вечером в Филадельфии на "миссии", а затем на собрании о семинарии. На вечерне полная церковь, десять священников.
В понедельник, вчера, – очередное собрание с англиканами, "интересующимися" Православием. Балаган и трата времени, какая-то низкопробная торговля об "обрядах". Что-то предельно несерьезное во всем этом подходе…
Весь день вчера теплый, весенний дождь, все уже зеленеет, "сквозит", не сегодня завтра расцветут форситии.
Суббота, 2 апреля 1977. Лазарева
Со среды до пятницы утром – в Вашингтоне, два чудных, солнечных, "праздничных" дня. Барский старомодный отель Madison. Совершенно изумительные, солнечные дни. Вашингтон весь в совсем еще прозрачной зелени, а также в цветущих вишневых деревьях. В среду после обеда (утром я читал лекцию в Wesley Theological Seminary) – прогулка с Л. по чудесным уличкам Georgetown'а
[939]. Ужин во французском ресторане. В четверг – Jefferson Memorial, Capitol и National Gallery
[940]. Этот музей просто потрясает: в комнате Рембрандта (ап. Павел!) почти физически чувствуешь, в чем "смысл" искусства: в очищении, в возношении, в прикосновении к чистой, беспримесной радости… Начали с поздних французов – Моне, Мане, Писсарро, Сезанн, потом великие – Клод Лоррен… И, в конце, как climax
[941], – Рембрандт. Праздник…
После обеда – Arlington Cemetery, Lincoln Memorial
[942] и снова Georgetown, уютное, пустое французское кафе. Два дня отдыха, радости и свободы.
Великий понедельник. 4 апреля 1977
Только что вернулся из Детройта, где вчера вечером служил "Пассию" и читал лекцию. До этого "полнота" Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, самого "эсхатологического" из всех праздников. "Радуйтесь и паки реку: радуйтесь…"
[943].
В аэроплане – летя вчера в Детройт – дочитывал "Dйlivrance"
[944], запись бесед по радио Филиппа Соллера и М.Клавеля. Книга, вызвавшая массу мыслей все о том же: о религии, о "трансцендентности", о вере, о христианстве. Радикальное обличение Клавелем марксизма и фрейдизма как отрыжек XIX века, как последнего и страшного тупика, "вопиющего" к трансцендентности.
Maurice Clavel (p.115): "Pourquoi est се que je m'entends si bien avec les athees -j'entends les athees a la pensee rigoureuse – et si mal avec les Chretiens vaguement ideologues? En bien, excusez de me citer encore, с'est que pour des athees, les vrais et les grands athees, Dieu c'est Dieu. Les athees me disent: "si j'avais lafoi, j'aurais la votre" et je les comprends fort bien. Lafoi est un vecu dont ils respectent chez moi la presence et dont je respecte chez eux 1'absence. D'autre part, la Foi – c'est la que je reprends Kant et Saint Paul, la Foi est radicalement differente de la raison, a telles enseignes que j'ai pu dire que la raison, du point de vue ontologique, ne pouvait pas trouver Dieu, ne pouvait pas meme chercher Dieu, parcequ'elle etait elle meme dans le peche une aversion et une fuite de Dieu! Par consequent les Chretiens qui essaient de trouver Dieu par la raison ou de faire bon menage a Dieu et a la raison sonten quelque sorte des anes charges dereliques…"
[945].
Вечерня в огромном, новеньком сербском соборе св. Лазаря, с двенадцатью священниками и при пятистах присутствующих. После вечерни – пятьсот человек на лекции! "Овцы, не имеющие пастыря"
[946], но, значит, все-таки жаждущие чего-то – "живого слова". Конечно, помогла тема: "Женщина в Право славной Церкви". Своей лекцией – относительно доволен, ибо если не сказал всего, что я думаю или, вернее, чувствую, то сказал все-таки приблизительно
так , как надо, в согласии с "видением", которое чувствую больше, чем "разумею". Это значит – не искал внешнего успеха, а это всегда самое трудное, ибо люди так хотят услышать то, что они уже думают, а не подниматься на следующий этаж.
До лекции заезжал к Павлу Мейендорфу. Острая жалость к их ребенку, которому предстоит целый год жить между жизнью и смертью, или, вернее, к ним; сознание трагедии, вскрывающей, до какой степени хрупки, обречены все наши "счастья". "Почему Бог допускает это?" Вечный вопрос без ответа. Вижу только один, наверное неполный: своим страданьем человек "приносит пользу" другим, нам: разбивает хотя бы на время бетон эгоизма, самодовольства, "жира", отделяющего нас от Бога больше, чем любые "прегрешения" и "помыслы". Это и есть, по всей вероятности, спасительный смысл страданий. Но "мир сей" ненавидит страдания и, если бы мог, просто "ликвидировал" бы всех страждущих.
Книга H.F. Peters "Zarathustra's Sister"
[947]. О сестре Ницше, завладевшей его "наследием" и исказившей его. Всегдашний интерес к Ницше как к одному из тех
прорывов , которые одни, в сущности,
интересны и важны. Как это ни звучит банально, но ницшеанское восстание против христианства для христианства неизмеримо важно и, по-своему, ценно.
Великий вторник, 5 апреля 1977
Кончил книгу Петерса. Вторая часть – о том, как сестра Ницше "эксплуатировала" его наследие и докатилась до Гитлера, – меня мало заинтересовала. Интересен только сам Ницше, его "безумие", его страсть, его отрицание. Отрицание прежде всего XIX века, сквозь тональность которого "расслышать" христианство было нелегко.
Великая среда, 6 апреля 1977
Кончил Dickstein'a "Gates of Eden"
[948] и думал, что наряду с популярными в Америке курсами вроде "The Great Western Ideas"
[949] нужно было бы прочитать курс о "The Great Western Errors"
[950] no такому, приблизительному, плану: Руссо, или "Природа" с большой буквы, Просвещение, или "Разум" с большой буквы, Гегель, или "История" с большой буквы, Маркс, или "Революция" с большой буквы и, наконец, Фрейд, или "Пол" с большой буквы; причем главной общей ошибкой нужно признать именно "большую букву", превратившую каждое из этих слов в
идол , в трагическую "pars pro toto"
[951]. Показать также все это как рассыпавшееся христианство и страшную вину христианства в этом "рассыпании". Вину не только "идейную", но, прежде всего, духовную ("духовность") и, так сказать, "практическую" (слияние с миром, принятие функций естественной религии, отказ от эсхатологии, с одной стороны, от hie et nunc
[952] – с другой).
Мне чужд, невыносим, кажется фальшивым в первую очередь теперешний христианский "discours"
[953]. He
то , что говорят, но
как говорят и потому, пожалуй, чувствуют. И также – растворение Греха в мелочной сосредоточенности на мелочах, непонимание того, что мелочность – даже "нравственная" – и есть сам Грех, то "a-version de Dieu"
8 , про которую говорит Клавель,
не-хотение Бога, потому что "мелочность" – легче, "религия" – легче.
Все растущее убеждение, что ничего, абсолютно ничего не достигается и не разрешается путем "дискуссий", споров и обсуждений, что все это аберрация нашего времени. Невозможно представить себе Толстого, Рембрандта,
Шекспира на каком-нибудь "коллоквиуме", посвященном "путям современного искусства". Все, что убеждает, обращает других, вырастает в одиночестве, в творческой тишине, никогда не в болтовне. Это не значит, что творец не должен "держать внутри себя собора", вернее – он не может не держать его. Страшная ошибка нашего времени – вера в слова, приводящая к их полной девальвации. Мне скажут: а диалоги Платона? Но они как раз подтверждают то, что я говорю. Это не запись реально имевшего место "обсуждения", а явление идеального , то есть такого как раз, в котором, во-первых, каждое слово имеет свой полный вес и, во-вторых, все построено на слышании того, что говорит другой . Ни того, ни другого нет в современных дискуссиях.
Настоящие дискуссии стали невозможны еще потому, что случайными, произвольными, ничем на глубине не оправданными стали их темы. Подлинный "разговор" предполагает оправданность, почти "необходимость" темы и только этой темой и оправдывается и определяется. Она
объективна , и потому, что она объективна, – все вокруг нее организуется, так сказать, органически. Современные дискуссии прежде всего
произвольны и потому искусственны и бесплодны. Они потому не о реальном, а о словах, и ничего из них не выходит, и ничего от них не остается, кроме отвратительного "вкуса во рту". И в конце концов все сводится к тому же самому: все в мире сем, что не "отнесено" и не "относится" постоянно к главному, к "единому на потребу", – пусто, ненужно, вредно. Христово "ищите прежде всего Царства Божия…"
[954] есть основной методологический принцип, единственная
возможность …
Но остается, в сущности, неразрешенный (неразрешимый?) вопрос: к чему "звать", чему "учить"? Думал также сегодня, что начинать нужно было бы с
тела : в нем все дано для общения, познания, причастия. Чувства: глаза – чтобы
видеть (на что смотреть, что видеть?), уши – чтобы слушать и слышать (что?) и т.д. Ошибка в том, что все свелось либо к "разуму", либо к "эмоциям". Разум мешает видеть и слышать, ибо превращает "другое" – даруемое, видимое, говорящее – в "объект" размышления. "Эмоции" же все обращают на "себя", все превращают в нарциссизм. И тут и там – замена, одиночество, грех. И главное, конечно, в том, что
слышать и
видеть – это и есть hie et mine, это то, что
сейчас являет "вечность". Это реализация "Царство Божие внутрь вас есть…"
[955].
Великий четверг, 7 апреля 1977
Перед уходом в церковь. Очень солнечно. Очень холодно – почти мороз но. "Искушения" Страстной: во вторник – налоги. Вчера разбирательство "дела" М.Р. и – бомба! – отставка К.С. после письма, в котором я спрашивал, почему он, ничего не сказав, не явился на заседание финансового комитета. Действительно, "образ мира сего" – в Церкви – "Сеченное сечеся…", внизу – возбужденный спор о каких-то 100 долларах, главное же – об обидах: "Почему он, а не я?" и т.д. Никогда не проходящее удивление от того, как все это преспокойно уживается, как две "логики" просто не соприкасаются одна с другой, и это несмотря на то, что все христианство, все в христианстве, особенно же в его "фокусе" – Страстной неделе, как раз об этом – о двух "логиках", приведшей одна – к "странствию владычню", а другая – к "шед удавися"… Но вот кончается служба, и все без всякого труда возвращается в ту жизнь, судом над которой эта служба будет, пока ее будут служить…
Великая пятница, 8 апреля 1977
Все как нужно, все как всегда в эти "высокие дни". В лучшие минуты – пронзает внезапно, что, собственно, мы вспоминаем и празднуем. Невозможность, неслыханность – если вдуматься… В средине – воспоминания детства, точно Страстная "собирает" всю жизнь. В худшие – суета, заботы, раздражения: на диаконов, прислужников, беспорядок и т.д. Одно ясно: эти дни, особенно пятница, – это беспощадный суд над всем , это явление Греха и Зла в чистом виде. И Иуда, который "не восхоте разумети", – это я, это все мы, это весь мир. И, конечно, прежде всего – суд над религией. "Пронзение от гроба возсия" – да, но только в ту меру, в какую мы осознаем всем существом беспощадность Великой пятницы…
Светлый понедельник, 11 апреля 1977
Еще одна Пасха. И всегда мысль – а вдруг последняя? Еще раз – белая тишина Великой субботы, прорыв пасхальной ночи, солнечная пустота воскресного дня. И опять – "il faut tenter de vivre…" Писать обо всем этом нельзя и не нужно. Только острое чувство: все это, действительно и только, по милости Божией, это разрушение смерти в нас . Ибо, конечно, смысл Пасхи, а значит и Церкви – в разрушении смерти . Продолжающееся сошествие во ад – Жизни. И дар нетленной жизни. Поэтому и все настойчивые "воскресни", "возстани" – это не "инсценировка" прошлого, не "символизм", а мольба о том, чтобы все это совершилось и совершалось в нас и с нами, в Церкви, в мире. "Смерти Царство разрушаеши…" Пасха – это передавание нам содержания веры как силы, как радости, как реальности, как Царства. Только от нас зависит "воистину воскресе" – от нашей веры, от степени нашего самоотождествления с "Царством смерти", в которое снизошла Жизнь, чтобы его разрушить.
В пятницу получил и вчера, отдыхая, читал книгу А.Краснова-Левитина "Лихие годы". Странный человек и странная книга. Какая-то каша: и исступленная церковность, и тяга на разных старцев, и обновленчество, и Соловьев, и театр, и все это страстно, эмоционально, душевно без меры… Страшное сомнение по мере чтения: да "очищалось" ли и "возрождалось" ли Православие в эти лихие годы? Сколько раздоров, расколов, ненависти, фанатизма! Духовный крах "обновленчества", духовный крах "иосифлянства", духовный крах "официальной" Сергиевской Церкви. Не есть ли это прежде всего крах самой нашей "церковности"? Церковности, внутри самой себя утерявшей способность искать и находить то, что "делает" Церковь – Церковью, вечно пре-
творяет ее в саму себя. Революция была обвалом России и также обвалом Церкви. И вот впечатление такое (впечатление извне и потому неизбежно поверхностное и, возможно, ложное), что из этого обвала никаких выводов сделано не было или, вернее, он только укрепил каждую установку – кто в чем увидел
спасение , но каждый в чем-то "прошлом": в уставе, во власти, в "юродивых", в "иконе", в "духовности", в "старообрядчестве"… Да, сотни, десятки тысяч мучеников, вдохновляющее мужество – и опять впечатление такое, что это ничего не изменило в "самосознании" Церкви. И все искали – кому бы, какой "власти" – церковной или иной – подчиниться и из нее все выводить… И вот шестьдесят лет спустя все та же формула: "благообразие" и "кликушество". Изумительные иподиаконы и рядом – всевозможные апокалиптики а la Якунин и Хайбулин… Либо рабы, либо бунтари. Рабы не только "власти", но и "церковности", "благолепия", камилавок, бунтари против всего… Одно то, как будто, нет в историческом Православии:
свободы поклонения "в Духе и Истине"
[956]. А только в этой свободе может наступить прояснение, можно понять относительную правду и Антонина Грановского, и иосифлян, и "официальной" Церкви, можно возвыситься до подлинного уровня, на котором только и можно поставить правильный диагноз всем этим болезням и искать их исцеления.
Все всегда нужно начинать сначала и относить к концу . И христианство – это прежде всего возможность этого двойного восхождения – к началу и к концу , в свете которых, по отношению к которым только и становится понятным все.
Светлая среда, 13 апреля 1977
В понедельник вечером у нас – обе англиканские монашки, ставшие православными: Sister Edith Raphael и Sister Veronika Joy. Очень хорошее впечатление. Полное отсутствие даже намека на кликушество, "духовность", кривлянье, игру в монашество.
Кончил Краснова-Левитина. При некоторой "легкости в мыслях необыкновенной" все-таки подкупает это свободолюбие, это "против течения", способность взглянуть на "Православие" и на "церковность" широко, щедро и не триумфально. Есть что-то в этой книге подкупающее . И он сам хорошо об этом пишет, по поводу чтения им в 18-19 лет Владимира Соловьева. Точно после удушья в комнате, насквозь пропахшей лампадным маслом, открыли форточку на свежий воздух… Также и мысли о построении Царства Божия на земле. Насколько же эта мечта выше этого псевдоаскетического "нам до всего этого дела нет". Насколько же тут больше настоящего аскетизма: строить, зная, что на земле не построишь, не достроишь, но зная также, что только от этого усилия зависит вхождение наше в "невечерний день" Царства Божия…
Письмо от Н.Солженицыной:
"…уже четвертая Пасха не дома – и можно уже сказать, что привыканье наше не состоялось…"
Вчера – после пасхальной Литургии и крестного хода при ликующем солнце – весь день у нас в доме внуки и Виноградовы. Страшная жара – до 90°… Сереже – 32 года!
В понедельник – звонок от Андрея из Парижа.
Часовой разговор вечером с И.М.: дела, делишки, суета, скука. Рассказывал Тому и Ане о семинарских "драмах" – М.Р., о. К.С. Том: "How can you take all that?!"
[957].
Светлый четверг, 14 апреля 1977
Необыкновенно жаркие дни. Вчера похороны Магу Ruzila в Парамусе. Архиерейская служба. Четырнадцать священников. Проповедовал. Днем – о.К.Ф[отиев] и Трегубовы. Умилительный, но и утомительный "активизм".
Светлая пятница, 15 апреля 1977
Семинария. Церковь. Завтрак вчера в Biltmore с о.Д.Г[убяком], обсуждение "дел". Все упирается – и в Церкви, и в семинарии – в то же самое: маленькие интересы, страстишки. И все это в глубочайшем смысле слова
неважно , но вот отравляет, затемняет жизнь… Но зато – сколько радости от таких людей, как о. Даниил! Людей, про которых действительно можно сказать, что у них "anima naturahter chnstiana est"
[958].
На радио "Свобода" длинный разговор с двумя боссами о религиозных радиопередачах. Страшно вежливые, но, в сущности, с презрением к религии, внушенным самими "религиозниками". Что им нужно? И если бы я сказал: "звон колоколов" и т.д., то они совсем не удивились бы. Кризис религии! Изношенное выражение, но отражающее глубочайшую реальность…
Вечер с Дмитрием Оболенским – дома и в [ресторане] L'Argenteuil. Встречи с ним каждые десять лет! Начиная с первой – в заснеженном Кембридже в феврале 1947 года. Работает над "Киприаном Киевским", а тогда "работал над богомилами". Иногда у меня такое чувство, что такого рода "работа" тоже своеобразное бегство от жизни. Человек он, однако, очаровательный. Читали друг другу наизусть Мандельштама и "Поэму без героя" [Ахматовой]. Тут зато полный унисон.
Мой "богословский" вопрос: почему видение, опыт , передаваемые, раскрываемые в богослужении Церкви (например. Страстная седмица), давно уже не "формируют", не определяют собою ни богословия, ни благочестия? Думаю об этом каждый день, стоя на светозарных, пасхальных Литургиях этой недели. Люди, православные, с одной стороны, – "любят" все это, а с другой – не живут этим. Почему? Богословие – потому, мне кажется, что оно не знает, что делать с "опытом", "радостью", "прозрачностью", то есть таинством в подлинном, эсхатологическом смысле и содержании этого слова. А "благочестие" – потому, думается, что оно насквозь пропитано религиозным эгоцентризмом. "О Тебе радуется, благодатная, всякая тварь" – тут все дело в радовании о другом, в любовании другим, и это значит – в "онтологическом" смирении, которое одно делает это радование, это любование возможными, а вот этой-то обращенности на другого, на другое – на Бога, человека, мир – и нет в "религиозности". Христианство дарует свободу и требует от человека свободы: свободы прежде всего от порабощенности собою, свободы зрения, слуха, обращенности ума и сердца. Ибо только в этой свободе загорается "радость о…", любованье, только в ней все становится прозрачным и восстанавливается утраченная в "первородном грехе" целостность . Историческое благочестие – это, по сути дела, "узость и теснота". И оно отравляет "церковность" больше, чем что-либо другое… Все в мире "скучно", пока не коснется его луч Духа, радости, свободы… Пока луч этот не сделает всего "прозрачным", и тогда душа "поет": "О Тебе радуется…"
Вторник, 19 апреля 1977
Суматошные дни. В Светлую субботу двое крестин – сына Кабачников и сына М.Оболенского. Накануне, в пятницу, приезд Никиты Струве. Вечером в Sea Cliffе – открытие съезда РСХД. Езда с Никитой туда и обратно, утомление от разговоров и "общения". Вчера – начало лекций в семинарии. И простуда, кашель, хрипота… Жизнь изматывает этим непрекращающимся нажимом, водопадом мелких, отрывочных дел, безостановочным "засорением". И как это мучительно!
Продолжаю в 4.30 после двухчасовой лекции, приема десяти студентов и трехчасового заседания факультета. Уф! В голове пусто, хоть шаром покати, и она еще, в дополнение ко всему, трещит…
Все эти дни много времени с Никитой, который завтра едет в Вермонт к Солженицыну. С Никитой мне всегда просто и хорошо, хотя есть в нем какая-то микроскопическая капля "интеллигентщины" – одновременно русской и французской. Разумею под этим, во-первых, некую parti-pris, во-вторых, опять-таки ничтожную, но скованность "мифами", в-третьих, снобизм "культурности". Все это, однако, мелочи, и человек он умный, зрячий, открытый и "служащий", и это делает общение с ним – радостью…
В воскресенье, после съезда, под вечер – заезжали с ним к Литвиновым. Кончилось своеобразным скандалом: Майя (жена Литвинова, вообще-то ми лая и симпатичная) стала орать, что "Солженицын – нуль", ничто, "наполненное", вытянутое из ничто ими – московскими и ленинградскими "интеллигентами". Думал в связи с этим: что, при всей симпатии к их широте, культурности, терпимости, идеализму и т.д., – отделяет, отчуждает меня от Литвинова, Чалидзе и иже с ними? И понял: их, в сущности, нелюбовь к России . Я никак не националист, русский "ультрапатриотизм" отвратителен, от эмиграции – первой, второй, третьей, какой угодно, – меня часто мутит. А вот эта очевидная нелюбовь к России мне чужда и меня отчуждает. В России они любят только "интеллигенцию" и все то, что так или иначе можно к этому понятию пристегнуть. Революционеры, Ленин и пр. видели в России, в русском народе "плацдарм" мировой революции. Эти видят ее как потенциально
"правовое государство". И тут, и там Россия идея , материал, объект какой-то мечты, идеологии, но самой ее нет, она абстракция. Может быть, еще и то, что подсознательно они знают, что Россия реальная их никогда не "примет", как, в сущности, никогда не принимала "интеллигенции". Знают, что им до смерти суждено жить внутри "интеллигенции", в отчуждении от русской реальности. И потому что их родина и не Россия, и не Израиль, и ничто, кроме вот этого "интеллигентского мира" (в котором, между прочим, по-своему и хорошо, и уютно, и дружески и т.д.), они все-таки безмерно одиноки и безмерно уязвимы, и мне жаль их… И впечатление иногда такое, что и за "права человека" они борются потому, во-первых, что им не за что иное бороться, и, во-вторых, как [за] подсознательную защиту от "погрома". Россия – это погром. И в этом, конечно, есть своя правда, то есть не в погроме, а в таком ощущении России. Но это не вся правда, не вся Россия – а другой они не знают, потому что они не знают единственного, что противостоит "погромности" русского сознания и что так трудно определить. Это не "Церковь" (ибо в эмпирии своей русская Церковь не чужда "погромности"), но все то, что, несмотря на все, только от Церкви, от христианства, от Православия в "русскости". Носительницей "хорошего" в России они считают только "интеллигенцию", в ней видят источник "просвещения" и даже спасения. Но это не так, и не в том смысле, что интеллигенция "плоха", а в том, что она больше всего на свете боится какой бы то ни было почвы под ногами (Федотов: "идейность" и "беспочвенность"), боится – не борьбы и жертвы, их она "любит" и вообще мужественная и героическая, а выхода из своей заключенности в самой себе, нарушения своего "сектантства", свежего воздуха. Даже обращаясь в Церковь, интеллигент остается интеллигентом. Он "несет знамя" своей "церковности", он "обожает поститься", он с надрывом принимает Типикон и, главное, все время клеймит "интеллигенцию". Таким типичным "интеллигентом" в обличий фанатического, максималистического "церковника" был, конечно, о.Константин Зайцев: он ни одной строчки со времени своего обращения не написал без надрыва … В Церкви "интеллигент" моментально начинает "суетиться" – он чего-то от нее ждет , к чему-то ее призывает , кого-то от имени ее обличает и, главное, все время что-то объясняет. У него из веры обязательно вырастает "программа". Страшная судьба.
Среда, 20 апреля 1977
"Континент" 11. Статья С.Рафальского о национализме, сепаратизме, поляках, евреях и т.д. Все, в сущности, правда и все здравый смысл. Но вот редакция должна "оговорить", что не согласна с положениями автора и печатает только в силу "демократизма". Удивительно, что правду говорить нельзя, а если можно, то только с оговорками. Это же касается и интервью (испанского) с Солженицыным в том же номере. Солженицына, в сущности, "разлюбили" только потому, что он говорил простейшую, элементарную правду. Можно доказать теорему: "интеллигенция" всех народов не выносит правды. И потому не выносит, что считает себя носительницей "правды" в каждый данный момент, в каждой "ситуации". Это относится и к русской интеллигенции (vide
supra
[959]), и к Западу. Интеллигенция прежде всего возводит свои идеи и чувства в "правду", а потом в свете этой своей "правды" отказывается признавать любую простую правду – правдой… И этому процессу и служит, его и "оформляет" интеллект ("интеллигенция"). Но остается вопрос:
кто любит правду и ищет ее? Кто стремится к тому, чтобы "око его просто было"?
Никита рассказывает вчера, со слов Вероники Штейн, о звериной ненависти к Солженицыну Литвинова, Шрагина, Чалидзе и К°.
Чтение лекций… Иду почти всегда (особенно по вторникам, когда четыре часа [лекций]!) нехотя, и всегда – подъем, всегда – вдохновение. Всегда сам удивляешься – благодарно и радостно – тому, что
открывается … И потому так скучны рассуждения – вчера на Faculty – о том, что нужно меньше лекций, а побольше "сочинений" и quiz'oв
[960]. Как будто лекция – это только "передача" каких-то знаний…
Глубочайшее убеждение в необходимости "деклерикализировать" богословие. Отнять "ключ разумения" от тех, кто захватил его, но – на деле – совершенно равнодушен, если не враждебен всякому "разумению".
Солнце. Длинная череда несказанно лучезарных дней!
Арсеньев на днях мне по телефону: "На лекции в Holy Cross
[961] два года тому назад молодой греческий богослов тридцать девять раз произнес "божественные энергии" и только один – имя Христа". Грустная, страшная правда – о богословии… Мне сдается иногда, что богословы, в сущности, ne comprennent rien а rien
[962]… У них просят хлеба, она подают камень (науки!).
"И всем казалось, что радость будет…"
[963]. Theology takes good care of this
[964], исключая радость как нечто явно ненаучное…
Четверг, 21 апреля 1977
Проснулся сегодня ночью и, как это часто бывает, долго не мог заснуть от мысли, показавшейся ужасной: что жизнь прошла , и ничего не сделано, и все уходит на мелкие делишки, семинарские драмы, скрипты и т.д. Утром – толь ко воспоминание, но ночью это казалось абсолютным ужасом… И все же остается, действительно, мучительный вопрос: нужна ли эта полная "растрата" жизни? Нужно ли писать? Нужно ли что-то менять? Нужна ли эта отдача всего "мелочам" или в принятии вот "этой" жизни – христианский смысл ее?
Чтение вчера (как всегда после поездки в Нью-Йорк) газет и журналов. Сего дня утром говорил Л.: переход из одной "риторики" в другую. Риторика французской "левой", риторика русской эмиграции, риторика диссидентов, риторика "Православия". И самое ужасное, мучительное в каждой из них – это их "заключенность" в себе, самодостаточность, самодовлеемость. Каждая закрыта и не видит того, что она, в меру своей закрытости, убога. Душевная усталость от всего этого, страстное желание ухода от всех риторик… Но что же нужно?
Пятница, 22 апреля 1977
"Кризис" в семинарии: уход о. К.С., "драма" с [двумя студентами] и т д. Смешно, как такого рода кризис, вместо того чтобы повергать меня в уныние, – напротив, по-своему бодрит меня. Именно уныние исчезает, и внутри появляется какая-то "сталь".
Вчера полдня в Syosset – сначала предсоборная комиссия, а затем прием нового "московского" архиерея Иринея. Поразительно – точно их всех делают по одному штампу. И совершенно уникальная "казенность". С ним о. X. – от этого уж очевидно "пахнет".
Письмо в "Вестник" от А.В. (одного из авторов "Из-под глыб"):
"…особо хочется сказать о дискуссии, происходящей на страницах Вашего журнала между А.И.Солженицыным и о. Александром Шмеманом. Целиком разделяю ту высокую оценку, которую дает о.А.Ш. нашему великому писателю, которого он очень точно назвал экзорцистом русской души. Действительно, служение А.И.С. несомненно пророческое. Его жизнь – редкое чудо. Человек, который столько раз находился на краю гибели – на фронте, в концлагере, в больнице, от рака, – храним Богом, чтобы стать едва ли не самым известным проповедником правды во второй половине двадцатого века. У нас нередко приходится слышать упреки в адрес А.И.С. в том, что он слишком резок, слог его странен и т.п. И это даже со стороны людей, в общем ему сочувствующих. На все это можно с уверенностью ответить лишь одно: все это не имеет значения в оценке человека, который первый заставил мир услышать правду о Советском Союзе с его тайной полицией, его лагерями, услышать правду о многих миллионах невинно замученных людей, о всей его античеловеческой сущности. "Сила правоты" А.И.С. в его бескомпромиссном стремлении к правде, и его призыв "жить не по лжи", обращенный ко всему человечеству, услышан уже многими и приводит к заметному изменению политического климата.
В то же время, как мы знаем, каждый пророк все-таки всего лишь человек и, как человек, может, увлекаясь, в чем-то заблуждаться. Эти увлечения есть и у А.И., в том числе и в его "Письме из Америки" ("Вестник" 116), и отрадно видеть, с какой блестящей эрудицией и с каким тактом снимаются эти человеческие увлечения в данном случае в статье о.А. "Ответ Солженицыну" ("Вестник" 117). Здесь, как, впрочем, и в большинстве других статей, мнение о. А. для многих из нас есть своего рода эталон в оценке тех или других мнений и явлений. Его разумная, жизненно-церковная позиция на страницах Вашего журнала блестяще дополняет и корректирует страстные призывы А.И. …"
Среда, 27 апреля 1977
Впервые за много дней – наедине с собою. В пятницу, в последней степе ни усталости и обалдения, мы удрали с Л. в наш любимый Easthampton. Тот же мотель, те же изумительные деревья, чудные дома. В субботу с утра – на Montauk Point. Пасмурно, ветрено, холодно, но и несмотря на это – красота океана, для меня всегда – образа вечности. Всегда в движенье и жизни, и всегда тот же, и всегда новый, и всегда живой, свободный, полный своей пол-
нотой. Полный отдых, тишина, ужины и завтраки в маленьких уютных ресторанах. Вернулись в воскресенье вечером.
В понедельник лекции, вся – уже почти невыносимая – семинарская суета, страсти. Встреча с очередными англиканами. После обеда на радио "Свобода".
Вчера, во вторник, поездка втроем – со. Даниилом Губяком и о.Леонидом Кишковским – в Тихоновский монастырь, на заседание "департамента внешних дел" и парадный обед у вл. Киприана. Вечером – лекции, заседание Фонда.
Сегодня в Syosset. Малый собор. Молебен по случаю двадцатипятилетия архиерейской хиротонии вл. Сильвестра. Заседание. Солнце, дождь, всюду "сквозящая" зелень весны. Хлопоты, заботы в связи с уходом о. К.С. Счита ние, судорожное, дней до конца учебного года, отъезда в Labelle.
В Easthampton'e читал данные мне П.Литвиновым номера русско-израильского журнала "Время и мы" – крайне расхваленного Литвиновым и его женой. Журнал евреев – русских интеллигентов, сидящих в Израиле и, так сказать, "осмысливающих" свою судьбу. Очень сильное и очень странное впечатление. Прежде всего от безысходного надрыва , пронизывающего все их писания. Все это действительно русские люди, русские интеллигенты, для которых русская культура, русский язык – свои . И, вместе с тем, кровно обиженные Россией, и не столько "советчиной" как таковой, а утробным русским антисемитизмом. Обиженные, раненные этим отвержением и не могущие оторваться от русской темы, несмотря на свой отъезд, "репатриацию" в Израиль и все свое, со страстью культивируемое, еврейство. Тон, в сущности, такой: мы ее (Россию) любили, она нас никогда не любила и своими не признавала. Надо "размежевываться", но и это не удается, потому что и для размежевания нужно взаимное признание, взаимное принятие, а его нет, нет, во всяком случае, с одной стороны – русской. Тупик, настоящая трагедия. Читая, снова думаю, что еврейство являет ужас всякого национализма (составная часть, движущая сила которого почти неизбежно в антисемитизме), но, являя, как бы не понимает, что само-то оно националистично по самой сути своей, есть в каком-то смысле субстрат национализма, религиозно не только окрашенного, но детерминированного. Именно потому что их религия целиком направлена на самих себя, на "народ", на собственное избранничество и т.д., на свою особую миссию, на свою обособленность, они и есть источник и внутреннее мерило всякого национализма. И мне опять ясно, что "снимается" эта проблема только во Христе, но это сказать легко… Парадокс еврейства: оно требует, чтобы все отказались от своего национализма, но признали, что единственный законный национализм – это их, еврейский… Чтобы никто не смел говорить о "народности" и "самобытности" кроме них. И то, что они обличают и осуждают, – достойно осуждения и обличения, но, однако, то, во имя чего они осуждают, равнозначно тому, что они осуждают. Порочный круг. Их единственное, царственное величие было бы в полном самоотречении, и это и совершилось во Христе, а они живут самоутверждением, в котором нет, никогда нет величия и правды. И потому что еврейство не захотело, умря для себя, ожить и "получить все обетования" в христианстве, христианство оказалось
364
отравленным псевдоевреиством: самоутверждением и мессианством "христианских наций", национализмом и т.д. На глубине ясно одно: все еврейство
о Христе , а евреи думают, что им удастся убедить нас, что христианство – это только для христиан… И как ошибаются те христиане, которые – от "жалости", чувства вины и т.д. – считают, что евреи правы, что у них свой, отличный от нашего
завет с Богом… Все подлинное в христианстве – от еврейства, все христианство – "слава людей Твоих Израиля…"
[965], а они требуют от нас при знания, что их все это не "касается". Какой ужас и какая слепота! И отсюда страшный еврейский невроз, которым пронизан и этот, в сущности такой русско-интеллигентский, журнал.
Четверг, 28 апреля 1977
В связи с очередным "семинарским кризисом" думаю: почему так часто люди так очевидно разрушают свою собственную жизнь, вредят себе, словно ими владеет какой-то amor fati? Казалось бы, простой эгоизм и инстинкт самосохранения должен был бы предостеречь их от этого, но нет, даже инстинкт этот перестает действовать. Действительно, налицо какая-то одержимость, реальная разрушительность страсти. Страсть же эта – "Я", то есть гордыня. Она "ангела света" превратила в диавола, она и сейчас, в сущности,
одна , имеет власть
губить людей. Поэтому все, что так или иначе, хоть в микроскопической дозе, причастно гордыне, причастно в ту же меру и диаволу и диавольщине. Поэтому и религия есть нарочитое поле действия диавольских сил. Все, абсолютно
все в религии
двусмысленно , и эту двусмысленность прояснить может только
смирение , и потому на стяжание смирения направлена или должна быть направлена вся "духовная жизнь". Признаки смирения:
радость . Гордыня исключает радость. Далее:
простота , то есть отсутствие "оборота на себя". И, наконец,
доверие – как основная установка в жизни, по отношению ко всему (это – "чистота сердца", в которой человек "узрит Бога"
[966]). При знаки гордыни, соответственно, – безрадостность, сложность и страх… Все это можно проверить ежедневно, ежечасно – и следя за собой, и вглядываясь в окружающую нас жизнь.
И страшно думать, что в каком-то смысле гордыней по-настоящему живет и Церковь: "права Церквей", "права Вселенского Престола", "достоинство" Русской Церкви и т.д. и разлив безрадостной, усложненной и страхом пронизанной "духовности". И вот это постоянное "саморазрушение". Мы все защищаем какую-то "истину", все боремся с чем-то и за что-то, не понимая, что Истина является и побеждает только там, где живет: "Смири себя, зрак раба приим…"
[967], где есть освобождающие радость и простота, где сияет Божественной красотой
смирение , в котором являет нам Себя Бог: и в творении, и в спасении…
Как этим самому жить? Как в этом других убедить?
Пятница, 29 апреля 1977
Лекция сегодня о воскресеньях "после Пасхи" (Фома, Жены Мироносицы, Расслабленный, Самарянка, Слепой), о смысле этих евангельских чтений и всего этого времени Пятидесятницы как ответа на вопрос: в чем та новая жизнь новой твари , которую получили мы в крещальном "спогребении Христу" на Пасху? С одной стороны, это время радости , причастия новой, воскресшей жизни, невечернему дню (каждое воскресенье, "длящееся" литургически всю неделю). С другой – раскрытия того, как этой жизнью жить в "мире сем" и в его ветхом времени… Доходит ли этот "message" до кого-нибудь?.. Не уверен.
Вчера длинный разговор с о.П.Лазором, которого я уговариваю принять место Dean of Students
[968]. Этим человеком можно действительно любоваться… Только бы вышло!
Продолжаю вчерашнее – о гордыне, о "самости" как источнике
греха , как о содержании греха и его разрушительной, смертоносной силе. Думал сего дня о связи гордыни с плотью и похотью. Похоть – это, в сущности, та же "самость", та же гордыня, обращение тела на себя, на свое самоутверждение и самоуслаждение. Поэтому и подлинное смирение невозможно без победы над плотью и состоит, в конце концов, в одухотворении тела. Важна, однако, именно эта связь: "борьба с плотью" может стать, легко становится сама – гордыней и источником гордыни, если не укоренена она в стяжании смирения и не направлена на него. Аскетика может быть "блажением в себя, а не в Бога". И тут те же признаки: аскетика светлая – радостная, простая и доверчивая. Аскетика ложная обязательно "живет" гнушением плотью, миром, жизнью, питается "презрением", причастна дьявольской хуле на творение. Такому аскету во всем чудится грех, соблазн, опасность, тогда как победа над плотью никогда не превращается в отвращение, всегда приводит к "простому оку" – "Аще око твое просто будет и все тело твое светло будет…"
[969].
Понедельник, 2 мая 1977
Май месяц как дуновение, как обещание свободы…
В субботу в Вашингтоне на заседании Мариологического общества. Потом с о.Д.Григорьевым на вечерне в соборе, потом ужин у них (годовщина свадьбы) с Поливановыми и обратно на аэродром, в Нью-Йорк… Несколько мгновений в почти пустой церкви за вечерней, лучи солнца на стене, радость и полнота.
Вчера после Литургии – в Wappingers, девять лет [внучке] Кате. Погружение в блаженный детский мир, из унылой суеты, в которой живу все эти недели…
Все эти дни – изумительная весенняя погода, а сегодня – серо, душно, мокро. Утопание в семинарских делах. Звонок за звонком. Разговор за разговором. Вот пока писал эти несколько строчек – было три звонка! (Один от "ежедневного" Н.С.Арсеньева…) Мне иногда кажется, что по какой-то странной случайности я попал в какой-то тайфун и бессильно кручусь вместе с ним… Разговор сегодня с архим. Иоанном Маллурисом, греком-киприотом, который когда-то учился у нас года два. Об ужасающем церковном положении на Кипре и в Греции. О степени "гниения" Православия. Но это не мешает православным – старым и молодым – пребывать в полнейшем самодовольстве и триумфализме.
Среда, 4 мая 1977
Преполовение Пятидесятницы. Ранняя Литургия, которую служим втроем: я, Fr.D.Wessel, Fr.L.Papazian и Алеша Виноградов. Утро – за писанием писем и приемом студентов в семинарии…
Leautaud: "Tout peut s'exprimer clairement, et ne pas savoir etre clair est une inferiorite, ou s'appliquer a ne pas 1'etre ou s'en faire un merite, est pure sottise" (XII, 86)
[970].
Письма – от греческого архимандрита из монастыря Пендели с просьбой разрешить перевод моего "Great Lent"
[971] на греческий язык; от некоей Irene Hoening из Мюнхена с той же просьбой, но на немецкий язык. Она пишет:
".. .your books, concise, "simple" in the beautiful way of being represented by a person who knows his matter so well that he is able to offer it so clearly that it sounds simple and not complicated – your books would fill the vast gap which is felt here…"
[972].
Что греха таить – всегда приятно, когда хвалят. Но в данном случае меня радует, за
что меня хвалят: вот эта самая "simplicity"
[973]. Меня радует, что мои книги доходят до "простых верующих", даже если этих последних мало.
К чему я "призван"? Читать лекции, проповедовать, может быть, писать – как продолжение лекций и проповеди (
не "research"
[974]).
К чему я не призван? К "духовному руководству". К "научному руководству". К "духовным разговорам". К "воспитанию", к "обсуждениям".
По отношению к "не" – вопрос: не призван или же убегаю от чего-то – по равнодушию, по лени, по отсутствию усилия? Думаю, думаю, и вот мне кажется – может быть, только кажется! – что нет, не по равнодушию к людям. Напротив, меня скорее интересует "личность" в ее единственности и неповторимости, во всяком случае, гораздо больше, чем в социальном выражении. Значит, скорее, по недоверию ко всей этой области – "руководства", по неуверенности, что она вообще нужна, оправдана, полезна. По отношению к себе, к своей жизни я твердо знаю, что никогда не был никем "руководим" в этом специфическом смысле. Это совсем не значит, что не испытал влияний. Напротив, я так хорошо знаю, сколь многим я обязан, и всю степень благодарности им: о.Савва Шимкевич еще в корпусные годы, о.Киприан [Керн] да и почти все профессора Института, Вейдле, ген. Римский-Корсаков, митрополит Евлогий – и еще сколько бы имен я мог назвать. Но никогда, ни разу за всю мою жизнь я не испытал ни малейшей потребности с кем бы то ни было "поговорить" о себе, о своих "проблемах", попросить "духовного руководства", "заняться мною". А если такие попытки делались извне, то я от них с ужасом убегал. Все те, кто повлиял на меня и кому я действительно и до бесконечности благодарен , повлияли тем, что давали мне, вольно или невольно, свое , тем, что я изнутри любовался ими. И чем больше любовался, тем менее испытывал потребность в каком-то специфически "личном" общении, личном "руководстве". Та истина, то видение, тот образ доброты, что я получал от них, и были их руководством, их влиянием, помощью и т.д., и это уж было моим делом применить все это к моей жизни, к моим "проблемам"… Мне всегда казалось, что спасение не в обращенности на себя, а в освобождении от себя через обращенность к реальном у, к Богу, миру и т.д. И по правде сказать, и вокруг себя я никогда не видел убедительных примеров успеха всех этих духовных руководств. Я видел массу кликуш обоего пола, ненасытных в самоизлияниях всевозможным старцам и "духовникам", но не видел их улучшения. Напротив. Да и в самом христианстве, и прежде всего в образе Христа, я не вижу базы для "душепопечения" в том смысле, в каком слово это смакуют любители "духовного руководства". Не знаю. Может быть, я не вижу чего-то, очевидного другим, не вижу и не чувствую. Зато иногда с особой силой чувствую, что то, что других привлекает в Церкви, в христианстве и т.д., мне чуждо, а то, что меня интересует, захватывает, радует и убеждает , – то чуждо столь многим вокруг меня.
Четверг, 5 мая 1977
Утром сегодня в школе нашего маленького Саши: Grandparents' Day
[975]. Всегдашняя радость от соприкосновения с детьми.
Завтрак с двумя организаторами какого-то грандиозного сборища в следующем году в Лос-Анджелесе, на которое они мечтают "достать" Солженицына (и Президента и т.д.). Удивление от этого несокрушимого активизма, планирования, веры в пользу от такого рода предприятий. Сидя с такими людьми, я чувствую себя совершеннейшим, законченным лентяем…
Разговор в радио "Свобода" с некоей К.Т., готовящей какую-то работу о Солженицыне. Спрашивала, почему Запад "отвернулся" от Солженицына. Ответ: потому что он не входит ни в какую "категорию", а этого Запад не допускает. Потому что он разрушает западную "левую мечту", левый миф. Потому тоже, что и он не понимает и не знает Запада, особенно Америки.
Пятница, 6 мая 197 7
Нарастающий кризис во Франции. Нет иного пути, как голосовать, твердо зная, что это означает "victoire de la gauche"
[976]. И все тот же вопрос: откуда, почему это безудержное стремление к "левому", к "социализму", несмотря на все, что раскрылось о них за последние годы? Нацизма, фашизма оказалось достаточно, чтобы на куски разбить "правый" миф, но ни Ленина, ни Сталина, ни "Архипелага ГУЛаг" недостаточно, чтобы даже под вопрос поставить левую "мечту". Вчера [по телевизору] на [канале] CBS [журналист] Eric Sevareid говорил об этом: о связи между самым высоким уровнем жизни, достигнутым сейчас в Западной Европе, и повальным уходом молодежи в "левое": "Для этой молодежи, – сказал Sevareid, – их воображение реальнее действительности…" Верно. В том-то и дело, однако, что мир, общество, культура, от которых эта молодежь отталкивается во имя "воображаемого", сами – ив этом их падение – отказались от воображения, от мечты, все свели к "действительности", будто бы ведомой им. Тут, я убежден, корень всего. Была "христианская мечта": во имя ее все лучшее уходило в "служение". Этой мечты – признаем это – больше
нет . Но природа не терпит пустоты: и вот возникает на развалинах одной другая мечта. Христианская мечта умерла, ставши "буржуазной", ибо духовная сущность буржуазии – это именно отказ от мечты. Бороться с "левым" во имя "правого" так же бессмысленно, как бороться с наступлением осени или весны. Поэтому самое страшное в современном мире – это бессилие христианства, его собственная "саморедукция" – к правому, левому, религиозному, его "романтизм" и inferiority complex
[977]. Страшное, но, пожалуй, и неизбежное, ибо пока оно не "изживет" в себе всех этих редукций – не воскреснет…
Суббота, 7 мая 1977
Все утро за писанием guidelines
[978] для избрания митрополита! Отчаяние от этой окаянной, беспросветной занятости, которую при этом даже не могу ни контролировать, ни организовывать, ибо она все время зависит от телефонного звонка, письма, сотни непредвиденных обстоятельств…
Эти дни все те же раздумья – в связи с французским нарастающим кризисом – о "путях" христианства в мире, о единственном настоящем кризисе и источнике всех других кризисов – а именно о самом христианстве. Но что надо!
Вчера, когда ехали к Сереже и Мане ужинать, проехали по северной части Lexington Ave. Душный, послегрозовой вечер и это гашение получерных пуэрториканцев. Совсем другой мир, живущий своей, совсем особой жизнью рядом с нами.
Бюллетень Spence School с фотографией Л. на обложке и репродукцией ее заметок для speech of acceptance: the joy of living (gratitude), of learning (discovery), of being together (community)
[979]. Что-то есть невыразимо вдохновительное в ее – таком светлом, беспримесном – успехе.
Опять подумал о "кризисе" и "пророчестве". Пророчество это должно быть о Христе. Не о "Иисусе", не о "религиозном возрождении", не о "молитве" и "духовности", а о Христе, каким Он явлен в подлинно кафолической, подлинно православной вере. И это значит, конечно, раскрытие этой веры. Не возврат к Отцам или эллинизму, а, в каком-то смысле, "преодоление" всего этого, "оболочки" традиции – раскрытие самой Истины, самой Жизни, дарованных во Христе. Нельзя больше разглагольствовать о преображении и обожении в каком-то древнем византийском или афонском или еще каком-либо ключе.
Понедельник, 9 мая 1977
Вчера во время Литургии (неделя о Самарянке) – такое светлое, твердое чувство – присутствия, истины, света. Тут , в этой Литургии – все, те "Дух и Истина", что рождают истинных поклонников Отцу. Тут реальность Церкви, и отсюда нужно начинать пророчество ее в мире.
Вечером – в Монреале – на юбилее вл. Сильвестра. Летел туда и обратно с о. Даниилом Г[убяком]. Замечательный человек. И я вдруг с радостью ощутил, какая крепкая нас связывает дружба.
Письмо от Никиты. Впечатления от посещения Вермонта.
"…Сам А.И. [Солженицын] – "затворником" больше, чем когда-либо, ради непомерного замысла, пожалуй, впервые за много-много лет и, разумеется, со всеми трудностями аскезы…"
В Монреале на аэродроме купил "квебековские" газеты. Вечером, вернувшись, просматривал. Еще одно очевидное
безумие – эта "независимость" [Квебека от Канады]. Так ясно, что никому от этого лучше не будет, и вот, как какой-то рок. "Quos vult perdere…"
[980].
Лекция сегодня (заключительная в этом году) – о Евхаристии и эсхатологии. Вся душа – там.
Получил – с надписями – "Сириус" Н.И.Ульянова, "Странную историю" Е.Терновского. Надо благодарить, но читать ужасно не хочется. Устал от псевдоглубины всех этих писаний. Нет, ничему не "научила" русская трагедия русских писак, никого не просветила и не облагородила. И все эти бесконечные книжки, журналы, сборники падают, как ржавые осенние листья. Осень России. Осень русской культуры. Смертельная рана не заживает.
Вторник, 10 мая 1977
Ужин вчера вечером у Осоргиных в Наяке. Рассказы Анеки о жизни Солженицыных, о детях [которыми она занималась]. Во время возвращения с прогулки Анека говорит им (старшему, Ермолаю, семь лет): "А вот уже и ваша земля…" Он, в ответ: "Это не наша земля, наша земля – Россия!.."
Длинный разговор с [двумя мальчиками] А. и С., длинноволосыми, вегетарианцами и до бесконечности самовлюбленными. Зачем ходить в церковь. О каких-то "levels of consciousness"
[981]. И т.д. Ни йоты скромности у этого поколения, никаких вопросов. Только утверждения. Презрение ко всему, что их прямо не касается. Жаль их ужасно, жаль за эту бедность содержания, ограниченность кругозора. А. – художник. Дом забит его картинами, беспомощными, вызывающими, бесконечно ненужными. Ни дипломы, ни заработки их не интересуют. И всегдашний вопрос: What went wrong? And where?
[982] Эти два мальчика тем интересны, что неоригинальны и потому верно отражают tout се qui est dans Fair
[983]. По ним можно было бы составить своего рода клинический диагноз de Г enfant du siecle
[984]. Думаю, что в него вошли бы, помимо всего прочего, следующие основные элементы:
– Непомерный "нарциссизм", занятость собою, своим "я", приписыванье необычайной важности каждой своей мысли.
– Уверенность, что этот эгоцентризм совпадает с "любовью", которой-де лишены все остальные, что она как-то необъяснимо и есть подлинная "религия".
– Отрицание, при почти полном их незнании, традиции, культуры, преемственности, принадлежности, ответственности и т.д. Отрицание a priori, основанное на презрении. Полное нежелание даже постараться узнать, что отрицаешь… Отрицание, укорененное в подсознательном знании, что такое "узнаванье" ограничит "свободу", то есть нарциссизм.
– Самолюбование и для этого выбирание псевдоабсолютов: вегетарианство, отрицание дипломов, самой идеи работы для заработка, "морализование" по отношению ко всем, кто этих псевдоабсолютов не признает. Или, по-другому, чувство превосходства a peu de frais
[985]…
– Выбирание в виде "авторитетов" чего-то обязательно "побочного" (marginal) по отношению к основной традиции будь то культуры, будь то религии; каких-то "замечательных книжек" (вернее, "книжки", ибо на большее энергии не хватит), замечательных тем, что обещают "сокращенку" (short cut) к Истине, совершенству, знанию и счастью…
– Чувство "миссии" по отношению к родителям, всего этого "не понимающим", при полном нечувствии – жалости, любованья, сочувствия и т.д. Мы их хотим "спасти" – значит, "любим".
– Полная уверенность, что им обеспечен "успех", что их признают как художников, мыслителей, носителей спасения.
– Употребление слов и выражений, якобы объясняющих и оправдывающих все это, каких-то непереваренных обломков психологии: "levels of consciousness" и т.п.
И вот все это создает нечто непроницаемое , непроницаемое, во всяком случае, для христианства , для его основной "триединой интуиции" – творения, падения, спасения, для его основоположного "историзма". На деле это, конечно, антихристианство , причем "анти" остается скрытым из-за безостановочного употребления слова "любовь".
Теперь же, если описание это перевести на язык "здравого смысла" (в сущности, совпадающий с "духовной" оценкой), то получается – лень, гордыня, самообман, самооправдание, эгоизм. As simple as that
[986]. Но наша "культура", и в этом все дело, этого языка не признает, бежит от него, как "черт от ладана". И потому ведет к гибели душ человеческих.
Среда, 11 мая 1977
Вчера кончил читать лекции – по моему подсчету, в тридцать первый раз!
Звонок сегодня утром от какого-то таинственного пенсильванца, того самого, который года три тому назад звонил мне в три часа утра, обещая меня убить. Сегодня – просил прощения. Сказал: "Вы сказали мне тогда, что Бог сильнее диавола… Я об этом с тех пор думаю, и мне это помогло…" Однако: вся логика нашего времени, в том числе и "антибольшевиков", пронизана подсознательным убеждением, что диавол сильнее Бога, что разрушить зло можно только злом , даже если его назвать "антизлом". Тут корень того уныния, что одолевает меня при чтении русских газет, журналов, книг. Что так больно ранило меня при чтении вчера в "Русской мысли" даже пасхального приветствия о.Д.Дудко, подписанного им так: "Русский солдат, священник Д.Д." И все только: "фронт, обстрел, перестрелка…" И каким понятным, нужным становится молчание Христа о всем том, что так страстно интересует нас: о государстве, о религии, об истории, даже о морали. Он всегда говорит мне и обо мне , только это Его "интересует". Но во мне для Него – весь мир, вся жизнь, вся история. И потому Он спасает меня – не Россию, не государственный строй и ничто иное. И потому всякая борьба, кроме внутренней, всякое "анти" – всегда имеет, несет в себе начала самого страшного – "духовного" – поражения… NB: "секта" тоже обращена ко "мне", но "я" для нее не включает мира, жизни, истории – ив этом разница… Христос спасает во мне – мир. Секта говорит, что Он спасает меня от мира. Там "радуется всякая тварь". Здесь – узость, гордыня, чувство превосходства и, наконец, духовный тупик…
Христос и "я" человеческое: "Я видел тебя под смоковницей"
[987]. Об этом никто ничего не знает, но только тут все решается.
Четверг, 12 мая 1977
Перечитывал, перелистывал эту тетрадку. Впечатление такое, что в нее "стекает" все то, чем я по-настоящему – "изнутри" – занят, но чем не занимаюсь "вовне". Кто это – Бергсон? – говорил, что у каждого философа по-настоящему только одна идея (прозрение? интуиция?) и только ею он и занят по-настоящему. Видит Бог, я не считаю себя философом. Но если применить к себе эту кличку только в самом общем ее смысле – применимом ко всякому, кто хоть сколько-нибудь "размышляет", – то моей идеей, моим "вопросом", я думаю, нужно признать идею отнесенности . Отнесенности всего к Царству
Божьему как откровению и содержанию христианства. "Новая жизнь" начинается с этой отнесенности и в ней исполняется. Грех христиан – это ограниченность кругозора, это нарушение, пресечение отнесенности, пресечение ее идолами и идолопоклонством. Причем глубина и "новизна" этого греха в том, что идолом тут становится нечто, в сущности своей выросшее из и для "отнесенности": Церковь, богослужение, богословие, благочестие, сама, так сказать, "религия". Это звучит дешевым парадоксом, но Церкви больше всего мешает, вредит сама "Церковь", Православию – "православие", христианской жизни – "благочестие" и т.д. Когда Христос говорит о том, чтобы мы никого не называли бы на земле "отцом" или "учителем", Он говорит (мне кажется) именно об этом. Церковь есть "отнесенность"; только для того, чтобы мы знали, к чему все отнесено, что являет истину обо всем, чем мы по-настоящему живем, она и существует. И как только она становится одной из составных частей мира (Церковь, государство, культура, этика et tutti quanti), как только перестает "относить", и это значит – являть, этим явлением судить, обращать и претворять, она сама становится идолом . С этого начинается и к этому должно приводить любое "учение о Церкви". К ней ко всей обращено: "Образ буди…" Однако она давно стала жить сама собою , стала "в себя", а не в Бога богатеть, стала "копаться в себе", спорить о своей "миссии", обсуждать свое "дело" и "назначение" и всем этим отражать "мир сей", а не относить, тем самым спасая его, все в нем к Царству Божьему. Трудность: мы от Церкви узнаем Царство Божье, мы Церковь узнаем этим знанием, от нее, только от нее полученным. Это и есть сущность понимания Церкви как таинства. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что всего этого никто не слышит.
Los Angeles. Суббота, 14 мая 1977
В Los Angeles, у о. Д[митрия] Гизетти. Прилетели вчера втроем с Томом и Cfonnie] Tfarasar] для трехдневного "Orthodox Institute"
[988]. Вечером вчера – лекция – по-русски – здесь, в русском приходе. До и после длинный разговор с о.Д. и [его женой] Маригой – о Церкви, о приходе, об эмиграции и т.д. Разговор привычный, я бы сказал, непрекращающийся, где бы я ни был – в Монреале, в Сан-Франциско, в Детройте или в Париже, многолетний и многотрудный разговор.
Что в первую очередь очевидно из этого разговора – это печальный факт неудачи, и, я думаю, неудачи окончательной, всех попыток соединить в одной жизни, тем паче же – в одной молитве, в одном богослужении – "русское" и "американское", или, вернее, – русских и американцев. Ни те, ни другие "не приемлют". В семинарии [некоторые студенты] впадают в истерику от одного песнопения по-русски, в Монреале, здесь, повсюду – русские с еще большим раздражением реагируют на любое слово по-английски. И тут оказываются бессильными любые призывы, увещания, объяснения. Не желаем, и баста! Глубина, утробность понимания Церкви как "своей", "нашей", непонимания ее как любви, готовности не только "уступить", но и пострадать во имя и для другого. Эгоизм религии, эмоциональность и узость церковности…
Поздно вечером, уже в кровати, читал, вернее – листал валаамский сборник о молитве Иисусовой. Странное чувство – словно о какой-то другой религии читаю. И слова как будто те же, и общая цель – общение с Богом, Царство, радость, а вместе с тем как будто о чем-то другом, и даже на глубине. То же чувство испытывал, я помню, читая книгу Никиты [Струве] об о.А.Мечеве. Надо – именно на глубине – будет выяснить, что во мне "отталкивается" от этого. Испуг перед "максимализмом" этого призыва или же какой-то оправданный вопрос? Вот думал: сказано – "будьте как дети!" Но именно дети-то и не знают того абсолютного различия между "внешним" и "внутренним", на котором построен этот весь призыв, весь этот "механизм" (Феофан Затворник). Постоянная память о Боге . Да, в этом и содержание, и цель всего, в этом жизнь. Но не состоит ли, не исполняется ли эта память как раз в той "отнесенности", о которой я только что писал? И это так не потому ли, что и "мир"-то, то есть "внешнее", даны нам как возможность этой памяти, как претворение всего в общение с Богом. Пишут, что этот "механизм" невозможен без любви – и без исполнения всех других заповедей Христовых. Но это звучит почти как "отговорка". Ибо любовь-то разве не есть выход из себя, отдача себя, а не самозатворение в "клеть"? Не знаю. Всегда хочу найти время и до конца все это продумать, продумать "изнутри", с помощью Божией. И всегда откладываю. Исходный пункт, согласие в нем для меня очевидны – "непрестанно молитесь". Но далее, в понимании, в осуществлении именно этого непрестанно – что-то запутывается…
Вторник, 17 мая 1977
Три переполненных дня – суббота, воскресенье, понедельник – в Лос-Анджелесе. Службы, лекции, обеды, разговоры, радио. Устал очень, а тут – в семинарии – надвинулась самая занятая, переполненная неделя всего учебного года.
Хочу, для памяти, отметить – встречу в Лос-Анджелесе, в воскресенье, с коптским папой и патриархом Шенуди III. Удивительное впечатление – подлинности, глубины, "радости и мира в Духе Святом". Приглашение на январь в Каир.
Радостное впечатление от "наших": о.Фаддея Войчика, о.Гавриила Аши и др. в Лос-Анджелесе.
Калифорнию в этот раз почти не видел. Серые, прохладные дни, и этот бесформенный, нигде не кончающийся, надо сказать – ужасный город.
Задача, призванье нашей Церкви: неуклонно стремиться к тому, чтобы изгнать всякую "игру" из религии, все те безделушки, что повисли на ней и многим, большинству, кажутся чуть ли не сущностью Православия.
Мое состояние на этой неделе: сжавши зубы, прожить до конца, не быть безнадежно раздавленным ужасающей ее суматохой.
Среда, 18 мая 1977
Отдание Пасхи . Вчера вечерня, сегодня Литургия по пасхальному чину. Евангелие: "Столько чудес сотворил Он… и они не веровали в Него…"
[989]. Все утро в суматохе конца учебного года. Вл. Димитрий… Просмотр фильма о семинарии – до чего я выгляжу старым!
В "Русской мысли" сегодня очередная статья о.Д[митрия] Дудко. Все верно, ничего не скажешь, но – на мой слух – оттенок некоей декламации. Помимо этого да еще отзыва К.Померанцева о книге Краснова-Левитина ("Лихие годы"), читать в этой газете решительно нечего. Что не мешает какому-то читателю утверждать, что без "Русской мысли" Западная Европа немыслима…
Leautaud:"…j'ai une egale horreur des musees et des bibliotheques. J'aime mieux la rue, 1'actuel, le reel, le vivant…"
[990] (XII, 296).
Тяжелая, серая жара: провозвестница нью-йоркского лета.
Четверг, 19 мая 1977
Вознесени е. Лучшие из всех кондаков: "Еже о нас исполнив смотрение…" Все христианство, в сущности, об этом – "и еже на земли соединив небесным…". Говорил проповедь об этом: что все решается, так сказать, по отношению к Воскресению. Христианство может быть "вниз" и может быть "вверх". Те же слова, те же обряды, а "сокровища сердца" – разные.
Вчера вечером, после всенощной, визит с о. Иоанном] М[ейендорфом] к митрополиту Дамаскину, главе [церкви] в Швейцарии. "Главное – не вызывать кризисов, волнений…" "Восточное Православие" подобно чеховскому человеку в футляре: "как бы чего-нибудь не вышло…" Полный паралич. Тем поразительнее кажется весь образ коптского Патриарха… И опять по Писанию: из камней делает Бог детей Авраама
[991]…
Чтение сочинений (выпускных). Приходят на ум слова Леото: "II ne faut rien lire sauf de tres belles choses…"
[992].
На исповеди студент, почти мальчик, пресерьезно рассуждает о своей "духовной жизни". Где, когда, с чего началась в Церкви эта повальная "спекуляция на понижение"? Из подспудных влияний, оказанных на христианство современной "культурой", самое решающее и глубокое, по-моему, – это почти всецелое искоренение смирения . А при отсутствии этого, краеугольного в христианстве, смирения нет ничего опаснее, чем вся эта возня с духовной жизнью, чем даже чтение так называемой духовной литературы. Она вся укоренена в смирении, это ее фон, контекст, тональность. Но, поэтому, при отрыве ее от этой "тональности" она становится сама, как это ни странно, проводником "гордыни".
Суббота, 21 мая 1977
В "Le Monde" статья о сорока студентах в Гренобле, терроризирующих месяцами девятьсот студентов какой-то студенческой резиденции. И никто ничего против этого не может сделать… Я думаю, что главное зло в "левом", зло, так сказать, онтологическое, прежде всего в отрицании им какой бы то ни было иерархии и иерархичности. Все должно быть всегда снизу . А это уже не ошибка, а именно зло, извращение истины, правды, строя жизни, восстание против добра . И это неизбежно приводит "левое" (всегда, как будто, более идеалистическое, щедрое, человечное и т.д., чем правое) к террору и к тоталитаризму. Но кто в XX веке дерзнет сказать, что снизу никогда и ничего не бывает, а бывает только сверху?..
Совет профессоров вчера. Усталость и раздражение. Раздражение на всю эту академическую игру, на неспособность понять, что она не имеет никакого отношения к тому, что мы должны были бы делать. Радость зато от согласия о. Павла Лазора [принять место проректора]. Может быть, новая эпоха? Я убежден, что пора "сдавать" семинарию следующему поколению – ведь им всем уже под сорок лет!
Все утро, сегодня, в семинарии: подготовка Commencement Day (понедельник), вечером надо ехать на прием Патриарха Антиохийского в Englewood. Завтра – свадьба дочери о.Д.Губяка, армянский банкет в семинарии. В понедельник… Чувство почти какой-то "затравленности".
Понедельник, 23 мая 1977
Восемь вечера. Только что вернулся – совершенно разбитый усталостью – с Commencement! Все прошло, слава Богу, хорошо, но сколько подробностей, сколько деталей, сколько "дипломатии". Патриарх Антиохийский, двенадцать архиереев, масса народа. Утром Литургия, в 12 часов Board of Trustees, в 3.30 процессия и т.д.
В субботу прием в Антиохийской Архиепископии в Englewood. Богатые левантинцы. Все застилает дым от сигар. Словно сборище мафии. Среди всего этого Патриарх говорит мне о необходимости бедности для Церкви…
Вчера, в воскресенье, – крестины сына Рошака, Литургия, панихида по Соне Лопухиной (сороковой день), потом несемся в Sea Cliff- огромная свадьба дочери о.Даниила Губяка. Оттуда на армянское собрание в семинарии. Вечером – Аня и Апраксины. А сегодня – с 7.45 в церкви
Еще один год.
Тетрадь V
МАЙ 1977 – ОКТЯБРЬ 1979
Вторник, 24 мая 1977
Первое "пустое" утро, то есть утро, когда не нужно куда-то бежать, куда-то не опоздать и т.д. И, как всегда, своего рода растерянность – что делать, за что браться? Все эти дни солнце и сырая, нью-йоркская жара, лето, которое здесь приходит внезапно, сразу.
Вчера, придя домой после невероятной суматохи и суеты целодневных торжеств, переживал то, что так очевидно, увы, в православной "эмпирии": боязнь взглянуть правде в лицо, боязнь "пророческого" слова. Или, вернее, масса "пророческих" слов – о единстве, о призвании Православия в мире и т.д. (вчерашняя речь Патриарха), но слов, так сказать, заведомо "на воздух". Это, может быть, самое страшное в современном Православии: слова ни к чему не обязывают, они часть ритуала. И причина этому простая (я писал о ней в своем афинском докладе): Православие отказалось признать факт крушения и распада православного мира. Решило жить в его иллюзии, больше того – в эту иллюзию превратило Церковь (вчера – это безостановочное: "Патриарх великого града Антиохии и всего Востока"), ее сделало (автоцитата) – существованием несуществующего мира. И у меня все сильнее чувство, что "остаток дней" я должен был бы посвятить на то, чтобы именно эту иллюзию вскрыть.
Письмо Льяне от Али Солженицыной: поздравление со спенсовским триумфом. В конце: "…пусть бытовые перемены будут к лучшему и для о.А. Его присутствие в нашей жизни я постоянно и благодарно ощущаю".
Четверг, 26 мая 1977
Только что (десять часов утра) вернулся из Виннипега, куда летал, чтобы прочесть вчера вечером лекцию на съезде Canadian Liturgical Society
[993]. Из главных впечатлений: украинский униатский митрополит Германюк, его священники и монашки. Все чрезвычайно дружелюбны, знают все мои книги (я всегда удивляюсь абсолютно искренне этой моей славе). Поздно вечером – посещение православной украинской семинарии, "коллегии св. Андрея". Два священника-преподавателя, один студент – тоже очень дружные.
Вылетел из Виннипега в четыре часа утра, летел в Нью-Йорк через Торонто
Суббота, 28 мая 1977
В четверг вечером – "инсталляция"
[994] Л. как начальницы Spence. Garden party
[995]. Масса народа. Полтора часа стояли и жали руки. С нами Аня, Маша и Маня. Под самый конец – прямо из Лондона – прилетел и Сережа. Л. произнесла чудное слово. Вообще атмосфера необычайно дружественная. Солнечный, не слишком жаркий майский вечер с высоким-высоким синим-синим небом над нью-йоркскими крышами.
Сегодня Троицкая – родительская – суббота. Литургия в полупустой церкви. Затем – свадьба дочери Юры Степанова, с которым мы учились в корпусе в 1930-1935 годах! С тех пор виделись, может быть, два раза, в последний раз в Нью-Йорке в 1952-1954? – на "корпусном празднике", устроенном покойным ген. Лебедевым. Седой, сгорбленный, но, в сущности, мало изменившийся – за сорок с лишком лет!
Сегодня за свадьбой и вчера вечером – служа панихиду для каких-то мне совершенно не известных людей – особенно сильно ощущал непроницаемую стену между службой и присутствующими. Для американцев, неправославных, это не удивительно. Но такая же стена и в отношении русских, того же Юры Степанова и его дочери. Боюсь, что искание или ощущение какого бы то ни было смысла уже давно-давно выпало из русского Православия. Русские не только не понимают, не только не хотят понимать, но даже и не догадываются, вполне искренне, что можно понять, что есть смысл… Раньше эту стену скрывал быт , как некий плющ, покрывающий камни. Когда распадается быт, то стена становится очевидной. Однако именно быт, убеждение в его достаточности, умиление над ним и есть главная причина этого полного "расцерковления". "Бытовое христианство" – какой это, в сущности, ужас, какая бессмыслица.
После службы уборка, приготовление церкви к Пятидесятнице. Радость, всегдашняя радость от этого. "Предста Царица одесную Тебя, в ризу позлащенну одеяна и преукрашена…" Как, каким "богословием" передать и выразить эту радость?
Вчера утром доклад о. Влад. Боричевского на собрании Orthodox Theological Society
[996]. О грехе и таинстве покаяния. Все эти рассуждения о "духовном отце", вся эта возня с исповедью, все то, что, очевидно, так неудержимо тянет к себе "пастырей". Может быть, я в корне ошибаюсь и несправедлив, но во всем этом мне чудится что-то фальшивое, да еще и с оттенком гордыни – руководство, приготовление и прочее. Может быть, я предубежден, но мне кажется, что я никогда не видал плодов этого пастырства и душепопечения, а если и видал – то какие-то нездоровые плоды. Настоящий грешник кается, и ему все равно, кому или перед кем каяться. А духовного руководства ищут непременно какие-то нарцистические неврастеники, и именно они вечно разглагольствуют о том, "понимает" ли их или не понимает "духовный отец", подходит ли им его руководство или нет… Туман рассеивается от солнца, а не от того, что его обсуждают. Церковь и должна быть этим солнечным лучом… Богословы же наши решили продолжать изучение проблемы греха и исповеди. Среди них сидел и Д.Е. – дважды разведенный, разрушивший дважды свою семью, ранивший двух женщин, заставивший одну из них сделать аборт, – но и он научно рассуждает о "духовных проблемах".
Солнечные, совсем летние уже дни. Счет дней до Labelle, куда – если Бог даст! – уезжаем 11 июня.
Перед уходом на всенощную, после трех часов чтения экзаменов: не знаю ничего ужаснее этого занятия!
Троица. Воскресение, 29 мая 1977
Один из любимейших праздников. Чудные службы вчера и сегодня. "Царю Небесный…", "Видехом свет истинный…" Та непередаваемая "гениальность" службы, в которой все раскрывается, все явлено, все то, что богословие, раскладывая по гладким категориям, в сущности, уничтожает.
Масса исповедников. Изумительный, солнечный, прохладный день. Бог, мир, "жизнь преизбыточествующая". Что еще людям нужно? Чего еще можно жаждать? "Видехом свет истинный…" И довлеет нам.
Вторник, 31 мая 1977
Вчера, на Духов день, ездили с Л. в Тихоновский монастырь на традиционный их "отпуст". Литургия с шестью епископами на открытом воздухе, толпы народа, солнечный весенний день во всей своей славе. Стоя во время Литургии в "литургической суматохе" архиерейской – с детства до мелочей знакомой – службы, думал опять и опять о том, что я "дома" в Церкви и это – несмотря на столь частый мучительный разлад с "церковностью". Голубое окно и льющийся из него свет – и сразу прикосновение к "радости и миру в Духе Святом". Как бы ни была Церковь больна, как бы ни огрублялась, ни обмирщалась ее жизнь, сколько бы ни торжествовало в ней "человеческое, слишком человеческое", только через нее просвечивает этот свет Царства Божия. Однако видеть его, "наслаждаться" им можно только в ту меру, в какую внутренне отрешаешься, освобождаешься от "себя" в Церкви, и это значит – от "гордыни", от ее узости и тесноты…
Поездка по залитым солнцем пенсильванским просторам. Заезд к Анюше (сегодня маленькой Александре – три года. И это значит – три года с той памятной Литургии в солженицынском доме в Цюрихе). Вечером – мой сизифов труд: писание скриптов.
Пятница, 3 июня 1977
До предела занятые дни: заседания и разговоры в семинарии – о.П. Лазор в среду, вчера Connie [Tarasar], "приведение в порядок" дел, подготовка будущего года. И всегда чувство чего-то спешного, но недоделанного, и это из всех чувств – самое мучительное, самое утомительное…
379
Письмо вчера от Солженицына: "…душевно хочу, чтобы в это лето Вы сумели бы найти время и для исследований по русской истории. Просто болен я от тех представлений и книг о нашей истории (еще новинка: Walter Sablinsky. The Road to Bloody Sunday. Princeton University Press
[997]), какие формируют западное мировоззрение. А опровергать некому: велика русская эмиграция, а сил не видно…"
Тянет написать ему о том, что мне представляется ключевым:
1) О происхождении и значении этого отрицательного, западного русского мифа. О вине в возникновении этого мифа самих русских, вине хотя бы частичной. Наша историография сама "мифотворческая". История каждого народа – трагична. Нужно поэтому прежде всего эту трагедию, так сказать, "сформулировать". Наш трагизм в постоянной и чрезмерной поляризации , приводящей к манихейству. Словно у русских нет общего прошлого , общей судьбы, по отношению к которой нужна прежде всего правдивость, решимость посмотреть правде в глаза. У всех других народов их прошлое, так сказать, "отсеялось", стало "контекстом" размышления и оценок. У нас – нет. Все спорно, все предмет страстных разногласий.
2) О смысле неудержимого левого крена в мире, и это – несмотря на "ГУЛаги", на очевидный и кровавый крах левого эксперимента буквально повсюду. Причина: у "правого" нет мечты , он – пессимизм, недоверие, страсть к status quo, а на деле – логика власти и наживы.
Понедельник, 6 июня 1977
Два дня в Торонто. Лекция в приходе, лекция в англиканском соборе. Общение с о.Н.Болдыревым, милейшим, неглупым и вполне здравомыслящим. Очень хорошая матушка. Радость всегда от "успеха" молодых священников, от сознания, что Бог не оставляет Церкви, острое желание, чтобы успех этот продолжался… Устал зато безмерно.
Ночевал у Г.Игнатьева в Trinity College.
Разговоры в Торонто: с Л.Фабрициусом, издателем "Современника": вечная просьба о сотрудничестве. С молодым греческим священником из Лондона, Онтарио. С "диссидентом" Ярошевским: решил креститься. С молодым англиканским священником, ставшим православным. И т.д. Обещания всем, которые, подозреваю, не исполню… Моя "планида"…
Летя в Торонто, в аэроплане читал роман Н.И.Ульянова "Сириус", при сланный мне автором с "милой" надписью. Читал и думал о том, почему люди пишут. То есть, вернее – почему они пишут, так сказать, "второсортные" или "третьесортные" вещи. И знают ли, пиша, что то, что они пишут, – "второсортно"? Мне кажется, что писать стоит
только , если сознаешь, что – хорошо ли, плохо –
этого никто другой не напишет и что, пиша, – вкладываешь хоть самый маленький, но абсолютно
свой , тебе предназначенный камушек. И, таким образом, все дело, в конце концов, в "лица необщем выраженье"
[998]. И, конечно, в ту меру, в какую это "необщее выражение" – подлинное, а не надуманное… Однако сказать это по отношению к 99 процентам того, что пишется, – невозможно.
Вчера, когда, около восьми часов вечера, спускались на Kennedy, – потрясающий закат над Нью-Йорком. Красота, "благостность", мир – летнего вечера "dans la lumiere de Fete…"
[999].
Все эти недели непорядки с желудком. Завтра утром – иду на "тесты". Из-за этого два дня без еды. "Скучное" чувство от всего этого. Еще никогда, ни разу не чувствовал старости, не чувствовал, что "к вечеру приклонился день…"
[1000]. Чувствовал себя даже не средних лет, а молодым. Может быть, первый сигнал?
Еще по поводу Ульянова. Все это неплохо. Но это ничего не прибавляет к русской литературе и ничего не убавляет. Как и в тысяче других книг – романов, стихов, чего угодно, тут нет не только "frisson nouveau"
[1001], но и чего-то просто запоминающегося. Введение в портрет Государя – астрологии? Алданов со своим старым евреем в "Девятом термидора" и других романах употреблял эту таинственную нотку куда лучше.
"Обреченность" империи в 1914 году (тема, общая Ульянову и Солженицыну) – откуда, почему она? Надо ли, для истолкования ее, вводить нечто "таинственное" или достаточно фактов? Весь комплекс Государя (личная слабость, императрица, Распутин) – решающий ли это фактор? Если бы, скажем, вместо Николая II был царь типа Александра III, можно ли бы было избежать "обреченности"? Солженицын, думается мне, прав, видя корень этой обреченности в неизмеримо более глубоких "узлах" (хотя толкует он их – например, в том, что касается XVII века, – по-моему, неправильно). Обреченность, прежде всего, – во внутреннем
распаде России, в том, что in the moment of truth
[1002], которым стал "проклятый" 14-й год, была не одна, а много России, и монархия их уже не соединяла, не претворяла в "единство". От любого толчка Россия неизбежно должна была распасться, и ее "единство" сейчас – только голой, тоталитарной властью, не случайно, а закономерно.
К началу XX века Россия, как это ни звучит риторически, потеряла душу , вот причина ее обреченности. И потому смерть вошла в нее. И единственный вопрос: может ли душа эта "возродиться"? Единственный замысел, единственный и по своей страстности, – Солженицына, как раз такое "возрождение души". Отсюда два следующих вопроса: возможно ли это вообще, по существу? Способен ли он на это? Ответ на оба вопроса – сомнителен, для меня во всяком случае.
Среда, 8 июня 1977
Вчера все утро у доктора на омерзительных "тестах". В результате все оказывается благополучным, но вся процедура – когда вдруг оказываешься беспомощным, голым, как бы лишенным "зрака и образа" объектом всевозможных манипуляций – поучительна. Один шаг – и ты отделен от бодрого "человечества" на улице, становишься постыдным "отбросом". Настоящее memento mori
[1003]. Исчезает стыд, уже все равно, что какая-то девчонка с тем же выражением на лице, с каким готовят суп или подметают комнату, равнодушно возится с твоим телом. Каких-то "прав" ты уже лишен и только ждешь "приговора".
Вечером два часа у Литвиновых: отвозил им ответ о. Сергию Желудкову. Неизбежный разговор – о Солженицыне, о России, о "диссидентах" и т.д. С одной стороны – как бы согласие, а с другой – наличие в этом согласии какой-то неопределимой "червоточинки"… Разговор также о православных "неофитах" в России, о разрастающемся там фанатизме.
Четверг, 9 июня 1977
Тучи, дождь, прохладно. Последняя "лавина" дел перед отъездом завтра вечером в Labelle. Вчера весь день в семинарии, в судорожных попытках "ликвидировать" завалы. Вечером ужин в честь о.Кирилла Ставревского в узкой "компании" – Верховские, Дриллоки, Бэзили, Рошаки, я. Очень дружески, очень уютно. Чувство спаянности, дружбы, принадлежности тому же делу…
Сегодня – на "Свободе", потом час в Biltmore с о. Кириллом Фотиевым.
Статья о "Прогулках с Пушкиным" Синявского в "Время и мы" – Натальи Рубинштейн, блестящая – в ответ всей заборной брани со стороны "благомыслящей" нашей эмиграции. В сущности, у русских нет чувства свободы – не в смысле свободы от "запрета" (за этим, слава Богу, следит гнилой Запад, которому куда уж там до нас…), а в смысле допущения другого мнения и, что еще печальнее, его понимания…
Милое письмо от Миши Меерсона.
Labelle. Понедельник, 13 июня 1977
Выехали в пятницу 11-го поздно вечером. Ехали под проливным дождем. Ночевали [по дороге]. В субботу ехали под облачным, серым небом. Остановка у Вани и Маши [Ткачуков], в Монреале. В Labelle приехали около 5.30 вечера. И, как всегда, такое чувство, что только уехали, чувство, с каждым годом усиливающееся. Это мой "Malagar"
[1004], место, где одновременно осознаешь усиливающийся бег времени и из него как бы выпадаешь.
Вчера первая обедня. Дождь. Аперитив у Хрипуновых. Завтрак у Апраксиных. Начал читать Thierry Maulnier, "Les vaches sacrees"
[1005]. Хочется выписать почти каждую фразу…
Сегодня утром – изумительный "северный" день, прохладный, лучезарный. В Labelle – в банк, на почту. Сейчас сажусь за работу, пишу это, чтобы "разогнать перо"…
Сегодня – двадцать шесть лет со дня нашего приезда в Америку.
Со стены над столом смотрят о.Киприан, Карташев, Афанасьев, о.М.Осоргин, о.Сергий Булгаков, Карпович…
Пятница, 17 июня 1977
Первые дни лабелльского блаженства. Мы совсем одни, и дни эти были солнечными, северными. Мучительное писанье скриптов: вчера послал последние.
Чтение одновременное Betty Friedan "La femme mystifiee"
[1006], "Les vaches sacrees".
Суббота, 18 июня 1977
Первая неделя в Labelle. Вчера весь день дождь и тучи. Прогулка под дождем, по дороге, до церкви. Писание предисловия к "Church. World. Mission"
[1007], вечером у нас ужинают Мейендорфы и Ткачуки.
Книга В.Friedan о женщинах. Она начинает с анализа "malaise de la femme"
[1008]. Однако все, что я прочитал до сих пор, можно применить и к мужчинам. Вся эта теория: женщина, имеющая [цель] "догнать" мужчину, – мне кажется несерьезной. Ибо важно не "догнать", важно узнать – куда направлен этот "бег". Об этом "феминистки" думать не способны. Это как с "changer de vie"
[1009] у "левых": в чем оно состоит, объяснить не способны.
И объяснение это останется невозможным, пока человечество, сохранив "эсхатологию", будет отрицать Бога. Ибо тут, в этом парадоксе – весь абсурд современной цивилизации, ее внутренний тупик. Она говорит "религиозным языком" и в то же время ненавидит религию. Совершенно бессмысленному – без Бога – миру она возвещает "смысл". Но откуда же ему взяться, этому смыслу? Но настоящая, "демоническая" тайна нашей цивилизации не в искании смысла, а в том, почему она так страстно хочет смысла
без Бога . Почему, иными словами, она так
глупа метафизически. Эта глупость между тем является, по-моему, главным "доказательством" бытия Божия. Ибо имя этой глупости – "гордыня": "будете, как боги". Падение Адама и Евы совершается, продолжается, действует
всегда , и locus
[1010] этого действия не какая-то отвлеченная "природа", которую-де мы "унаследовали" от Адама, "locus" этот –
цивилизаци я. Она и есть "змей-искуситель". Она открывает человеку его возможности (неограниченные!) и скрывает от него тем самым его онтологическую ограниченность, она говорит ему: "будете, как боги". Удивительно: каждый подлинный "творец" – скромен, а созданная этими творцами "цивилизация" – горда. Маленький человечек, вылезая из туристического автобуса, смотрит на картину Микеланджело и говорит: вот на что мы, человечество, способны! Вот что мы создали! То, что смиряло художника (а каждый творец только в ту меру и творец, в какую он "смиряется" перед своим творческим даром), становится источником гордыни для "человечества".
Среда, 22 июня 1977
Серые, прохладные, дождливые дни. Работа над предисловием к "Church, World, Mission", как всегда у меня, бесконечно трудная, как бы сама из себя рождающая все новые и новые трудности, так что от часов писания и переписывания остаются буквально строчки. Писанье это для меня – всегда мученье, и я просто не понимаю, как это другие пишут так быстро, сразу находят, как выразить свою мысль…
Среда, 31 августа 1977
Пишу в Крествуде, после длинного лабелльского перерыва. Там, в Labelle, не то что не о чем писать, а неохота: само чувство жизни, ее глубины – достаточно. Что же? Чудное лето, особенно первая половина его. Те же прогулки, то же постоянное чувство восхищенной благодарности, чувство, с каждым годом усиливающееся. "Le doux royaume de la terre"
[1011].
Много работал, хотя сделал мало, так мучительно "давалось" – предисловие к книге статей и моя злополучная глава о "единстве веры".
Много читал: во-первых, "les nouveaux philosophies"
[1012]: Gliicksmann, B.H. Levy, M. Clavel и их врагов. Затем: A. Malraux, "L'homme precaire et la litterature"; C. Mauriac – очередной том "Le temps immobile", M. Foucault, "Surveiller et punir"
[1013] и т.д.
Поездки в Нью-Йорк. Лекция в школе русского языка Norwich – изумительная поездка туда и оттуда – в Labelle, через Вермонт.
Две недели в гостях у нас племянница Наташа.
Вернулся в воскресенье 28-го, прямо после успенской обедни и хиротонии Алеши Виноградова в Монреале. Льяна приехала раньше. Тут – жара. Суматоха, но в основном – радостная, в семинарии. Устройство нашей "роскошной" квартиры на Park Ave. [в Нью-Йорке]
[1014]: сегодня первый раз ночевал там.
Смерти М.М. Корякова, К.Г. Белоусова.
Понедельник, 5 сентября 1977. Labor Day[1015]
Только что вернулись из Easthampton'a, где провели long weekend
[1016] – с пятницы вечером. Изумительные солнечные дни. Синий океан, бесконечный пляж, все бесконечно празднично.
Читаю эти дни – Marina Werner "The Myth and the Cult of the Virgin Mary"
[1017]. Демонизм этого стремления "развенчать". И
кого ?..
Суббота, 10 сентября 1977
Вчера – завтрак с Е.А.Вагиным, очередным "диссидентом", одним из основателей ВСХСОНа
[1018] (или что-то в этом роде…). "Неославянофильство", Леонтьев, Гумилев и т.д. Скука и от этого, как и от рассказов о съезде, устроенном о.А.Киселевым в связи с приближающейся годовщиной крещения Руси (! – 1988!). Все это "религиозное возрождение" России, оскомина от этой болтовни, в которой религия преподносится как лекарство, но на деле думают не о ней, а о России…
И, как всегда, – бешеная занятость…
Понедельник, 12 сентября 1977
В субботу одним махом прочел книгу P.Lesourd, "Le jesuite clandestin"
[1019] – о Mgr. Michel d'Herbigny, зачинщике и исполнителе русского проекта папы Пия XI "Pro Russia", о его опале и двадцатилетнем "прижизненном погребении". Книга безалаберная и поверхностная, но если подумать, что все это происходило всего лишь тридцать – тридцать пять лет тому назад, – становится страшно.
Вчера свадьба Тины Т. и Денниса Р. В церкви хорошо, но затем – мучительная вульгарность "приема", с которого мы просто удрали!
Звонки, звонки, звонки… Письма, ненужные разговоры…
Среда, 14 сентября 1977
Вчера – день рожденья, пятьдесят шесть лет… Весь день в семинарии, на заседаниях, на длинной и торжественной всенощной под Воздвиженье. Звонил Андрею, в Париж.
Начал лекции. И, как всегда, чувство, что в Православии (а значит, и в христианстве) сосуществуют как бы две религии, во многом – с обратными знаками. Религия Христа – так сказать, "исполняющаяся" в Церкви. И религия Церкви, или – проще – "религии". В первой все понимается и измеряется Христом. Во второй – Христос, так сказать, "создается", "определяется", "видится", "слышится" только в ту меру, в какую Он сам изнутри "подчинен" религиозному чувству, церковности и т.д. И люди, студенты например, разделяются по этому признаку. Человек "второго типа" – "религиозно-церковного" – может три года изучать богословие, но "сокровище сердца" его не в истине о Христе, а в чем-то другом. Он "непромокаем".
Вторник, 20 сентября 1977
Дни, без какой бы то ни было передышки, бегут так быстро, что их просто не замечаешь. И все время эта невозможная, мокрая духота.
Живем на два дома – может быть, в будущем это [даст] возможность хотя бы два дня проводить в Нью-Йорке – в "творческом досуге".
В воскресенье в Passaic юбилей о.И.Негребецкого. Бесконечный банкет… Уныние от этого постоянного убийства времени.
Пятница, 23 сентября 1977
В среду в Syosset на встрече недавно принятых англикан. Как вдохновительно их стопроцентное и однако же трезвое принятие Православия…
Понедельник, 26 сентября 1977
Разрыв внутри "la gauche unie" во Франции! Воображаю себе печаль и слезы всевозможных Jean Daniel'eu, во все это веровавших с той глупой "искренностью", на которую, мне кажется, способны только западные "левые", верою действительно превращающие черное в белое и vice versa
[1020]…
"Солнце да не зайдет во гневе вашем…"
[1021]. Бессмысленная, но почти непреодолимая логика гнева…
День св. Иоанна Богослова. Ранняя Литургия. Апостол: "Совершенная любовь побеждает страх"
[1022]. Любви противополагается не ненависть, а
страх . Как это глубоко и верно… Страх есть, прежде всего,
отсутствие любви , или, вернее, то, что, как сорная трава, вырастает там, где нет любви. Поэтому Angst, angoisse, anxiety
[1023] – то, что хочет преодолеть всяческая "терапия", – на деле
нормальны в "мире сем", суть подлинно его субстанция. Его падение – в отрыве от Бога, Который "любовь есть"
[1024] , и
потому – тень и сень смертная…
Вторник, 27 сентября 1977
Никогда не знаешь, откуда приходит "утешение"… Вчера перед лекцией П.М., студент: "I almost called you late last night… Reading "Of Water and the Spirit," for the first time I understood what the Cross means…"
[1025]. Значит, что-то самое сокровенное дошло, доходит…
Курс о Божьей Матери в православном богослужении. Недостаточность слов, нищета и даже тщета нашего теперешнего, "научного" богословия нигде не вскрывается с такой очевидностью, как здесь, где все – тайна, все – знание изнутри, а не извне, от "evidence" и "data"
[1026]. "Да никакоже коснется рука скверных…"
Первое солнечное утро за много дней. Косой утренний луч в моем семинарском кабинете. Напоминание, призыв, радость.
Прием новых студентов, по очереди. Иногда очень сильное чувство, что – действительно – одним дано , а другим не дано . Но как, какими словами, на каком формальном основании сказать тем, кому не дано : "Вы зря здесь, это не для вас, уходите, пока еще есть время и вас не разложило еще это прикосновение к тому, погружение в то, к чему вы не призваны"?
Один из самых безнадежных религиозных типов – тип активиста, одержимого желанием "помогать" людям. Это почти всегда смесь гордыни и сентиментальности…
Пятница, 30 сентября 197 7
Вчера ночью, туша электрическую лампу и будучи очень близко от нее, был на секунду как бы ослеплен ею, так что в наступившей тьме ничего не видел – а на деле свет шел из соседних комнат… Подумал: так вот и человек. Он видел Бога, видел Его свет, и именно потому так черна для него тьма, наступившая после разрыва с Богом. И в этой тьме он ощупью ищет, учится понимать, разгадывать непонятный свет, все еще видимый, ощутимый… Это и есть "наука", "культура", "философия". Усилия впотьмах.
Вчера Сережа сказал нам, что его перевод в Южную Африку окончательно решен. Горе Л.
Разговор сегодня утром с Л. о том напряжении, в котором всем нам приходится жить – в школе, в семинарии, повсюду, об утомлении от этого напряжения. Мое убеждение в том, что коренная ошибка здесь – это вера современного человека, что благодаря "технологии" (телефон, xerox и т.д.) он может "уложить" во время гораздо больше, чем раньше, тогда как это невозможно. И вот – он раб собственной своей, в геометрической прогрессии растущей, "занятости". Необходимость ритма, отрешенности, "медленности"… Почему студенты не "воспринимают" то, что им "преподается"? Потому что они не имеют времени "осознать", то есть вернуться к тому, что слышали, дать ему по-настоящему войти. Современный студент "регистрирует" знание, но не принимает его. И потому оно в нем ничего не "производит". Подобно тому как сильный ливень неизмеримо бесполезнее в засуху, чем мелкий "обложной" дождичек… А мы все все время под грохочущим ливнем – "информации", "знаний", "обсуждений" и т.д. И все это обтекает нас, ничуть не задерживаясь, выпираемое сразу же следующей лавиной.
Завтра кошмар Education Day! Два дня, выпадающие из жизни!
Понедельник, 3 октября 1977
Октябрь. Пушкинский месяц. Осень. Особое качество света, воздуха. В субботу – наша ежегодная ярмарка: Education Day. Увы, под конец дня – сильный дождь. Но настроение хорошее, чувство Церкви, особенно когда огромный сборный хор молодежи пел вечерню. Прощание с митрополитом Иринеем, уже, увы, мало что понимающим.
Вчера, после Литургии, еду на 71-ю улицу: панихида по М.М.Корякову и мой доклад о нем. Потом писание скриптов. И поздно – отвожу Льяну на Park Ave.[на нашу городскую квартиру], где и ночую…
387
Вторник, 4 октября 1977
Письмо от Никиты. А.И. прислал, как он пишет, "гневное" письмо, обличая антирусские выступления в отдельных статьях "Вестника". Написал ему – Никите – в ответ, что "русизм" нарастает стихийной волной, "возвращается ветер на круги своя"
[1027]. Вся "град-Китежевщина", которой питали нас с детства в эмиграции, теперь повторяется там…
A propos, читаю новую биографию Charles Maurras'a. Если бы наши "руси-ты" знали, что уже в 90-х годах прошлого века, когда Maurras разрабатывал свою "традиционалистическую" идеологию, она была анахронизмом, реакцией, мертворожденной. "Но не хотят, чтобы Я исцелил их…"
[1028].
В связи со всем этим думал вчера, и с такой силой: как можно верить в Бога, говорить все то, что мы говорим в Церкви, и вот так легко отдавать себя преходящим кумирам.
Среда, 5 октября 1977
В Нью-Йорке, на Park Ave., в моем "новом кабинете", в нашей подлинно "роскошной квартире". Как легко ко всему привыкаешь, как слаба в нас способность "дивиться" тому, что с нами происходит.
Прогулка сегодня по Lexington Ave. От 42-й до 59-й улицы, солнечным осенним полднем. Любовь к Нью-Йорку, к его единственной в своем роде vitality
[1029].
В Крествуде читаю биографию Ch. Maurras'a, здесь, в Нью-Йорке, – автобиографию Леонида Плюща. Для понимания духовной путаницы в России книга эта мне кажется важной.
В "Русской мысли" – призыв Солженицына присылать воспоминания в основанную им "Всероссийскую мемуарную библиотеку". Что-то есть в нем от "просвещенства", с его наивной верой в "документы", книгохранилища и т.д. Это же было у Федорова.
Думал – в связи с еврейскими протестами против политики Картера на Ближнем Востоке: всякому национализму обычно присущ антисемитизм. Между тем как еврей являет собою предел, саму сущность всякого национализма – то есть
обожествление нации , идеи, что суть религии в служении народу. Наше служение Богу, служение Богу "нашему" – как легко, как незаметно первое переходит во второе, и при сохранении всей христианской "видимости" становится идолопоклонством. "Стойте в свободе, которую даровал нам Христос"
[1030] – этт! слова для меня все больше, все сильнее становятся "ключевыми" для всего в жизни.
Среда, 12 октября 1977
Суббота и воскресенье в Campbell, Ohio, на приходском юбилее. В промежутках между "торжествами" закончил чтение книги о Charles Maurras. Поражает сходство "национализмов". Читая о Maurras'e, думал о Солженицыне. То же обожествление совершенно отвлеченной родины: "la deesse France…"
[1031], та же непогрешимость, тот же "априоризм" во всем. Maurras безбожный фанатик католицизма, подчинения религии "национальному служению": "mon incredulite vous prouve та ferveur et garantit mon devouement" (77). 77: "notre metaphysique interieure determine notre vue d'histoire". 78: "…noble religion du sang des families et des peuples… c'est le fondemont vrai de 1'idee de patrie…". 85: "il existe… un grand systeme de mensonges conventionnels hors desquels il n'est point de vie sociale…":
[1032].
Понедельник и вторник – по горло в лекциях и в семинарской суете. И, как уже несколько недель теперь, – подлинное освобождение во вторник вечером: отъезд в наш нью-йоркский "fete a 1'ecart"
[1033].
Октябрьские дни, ясные и прохладные. Тишина залитой солнцем квартиры.
Четверг, 13 октября 1977
Почти весь день за столом – "скрипты" наперед – из-за недельного отсутствия в связи с Собором, подготовка к печати моей "Church. World. Mission". После всех этих лет непрестанной трепки телефонами, свиданьями, разговорами эти пустые дни, этот рабочий досуг – непривычны и к ним надо привыкать.
Перечитывая, исправляя свои статьи, думал: "богословски" я человек одной мысли. Мысль эта – "эсхатологическое" содержание христианства и Церкви как присутствие в "мире сем" – "Царства будущего века", но присутствие это – как именно спасение мира, а не бегство от него. "Загробный мир" нельзя полюбить, его нельзя "чаять", им нельзя жить. Царство Божие, если только хоть немного "вкусить" его, нельзя не полюбить, а полюбя его, не полюбить всей твари, созданной, чтобы являть и предвосхищать его. Только любовь эта уже "отнесенная", и этого-то и не мог понять Розанов в своем "Темном лике". Без Царства Божия как своего и начала и конца мир – страшный и злой абсурд, но без "мира сего" непостижимо, отвлеченно и в каком-то смысле абсурдно Царство Божие. Как это Розанов проглядел главное: "Днесь весна благоухает и новая тварь ликует…"
[1034].
Какая, однако, нудная пытка – перечитывать самого себя. Как все написанное кажется ужасным, ненужным, никуда не годным. Может быть, Бог оказывает мне великую милость, не давая времени на писание. Да что говорить о себе… "Бывает такое небо, такая игра лучей"
[1035], когда ненужными, абсолютно ненужными кажутся и Пушкин, и Толстой и т.д., когда так ясно чувствуешь – зачем все это?
Сегодня, по дороге из "Свободы", заходил в [универмаги] Bloomingdale's и Gimbels купить рамку для папиной фотографии. Почти страшно становится от этого изобилия, вакханалии всевозможных товаров, от этой liturgie de la consummation
[1036]. Зеркала, огни, цветы и толпы женщин. И через пять минут чувство такое, что объелся чего-то тяжелого, и тянет на свежий воздух.
Расставил на полке перед моим столом фотографии: вл. Владимир и о.Киприан в саду кламарской церкви. Папа: наша последняя общая с ним фотография на кладбище Ste. Genevieve около могилы дедушки, в которой теперь лежит и он сам (снято летом 1957 года, мой последний приезд в Париж до его смерти); он же в макинтоше на avenue de Clichy. Мама – еще совсем молодая. "Семейный съезд": пять сестер папы вокруг него, снято было на [вокзале] Gare de Lyon в 1935-1937? Когда я умру, никто уже не будет знать, какие огромные пласты моей жизни "отражены" в этих фотографиях. Еще: я с Солженицыным на крыльце его цюрихского дома 31 мая 1974 года, в день его исповеди и причастия…
Понедельник, 17 октября 1977
Вчера на четырехчасовом банкете (!) в New Britain: семидесятилетие прихода и проводы о.Павла Лазора. Двести миль за рулем: туда и обратно. И все это для получасового "main address"
[1037], и вот – уже два воскресенья подряд… "Свадебный генерал". Но наряду с мучительным чувством траты времени радость о "благостоянии" Церкви – ив Campbell неделю тому назад, и в New Britain.
Утром, за Литургией в семинарии, проповедь о Соборе как даре Божием, а не "правах" и т.д.
В пятницу вечером ужин у нас, на Park Ave., – Drillock'oe, Bazil'oв и Виноградовых. Умиление этими "в доску" своими.
В субботу почти весь день за подготовкой сегодняшней "мариологической" лекции – о Благовещении. Потом долго в душе – "светлый осадок". Иногда краешком души чувствуешь, что да, жизнь вечная – в знании и созерцании Истины и ни в чем другом, ибо знание Истины и есть общение с Богом и единство с Ним.
Среда, 19 октября 1977
Как всегда, два – до зарезу переполненных – семинарских дня, привычные проблемы: первокурсники хотят собираться, чтобы молиться, изучать Евангелие и т.д. Религиозное возбуждение, максимализм и т.д. Старшие студенты изобличают их в "ереси". Все это предельно несерьезно, но об этом нужно "серьезно" говорить, об этом нужно "совещаться"…
Ужин вчера в необыкновенно уютном "River Club" с двумя американскими парами. Адвокат, доктор, жены их – trustees
[1038] Льяниной школы. Некий образ Америки, специфически американской смеси добродушия, идеализма, материализма, активизма, психологического "keep smiling"
[1039]. С ними легко и приятно. Но чувствуешь все время, почему, как только некая поверхностная гармония этой смеси нарушается, происходит страшный обвал ("depression"
[1040]). Потому что нет в ней места, куда "уложить" подлинное горе, трагедию, а может быть, и настоящую радость. Американская одержимость психологической терапевтикой именно отсюда – от необходимости это равновесие поддерживать, от подсознательного страха, что оно нарушится, и тогда сразу – бездна… И суть, "функция" терапевтики в том, что она все объясняет, объясняет, в сущности, что нету, не может быть "горя", "трагедии" и т.д., а бывают только неполадки в механизме. Как гараж, все назначение которого в том, чтобы автомобиль двигался бесперебойно…
В поезде вчера читал "Русскую мысль" и почему-то вспомнилось заключение рассказа Тэффи о русских эмигрантах: "…и еще, – пишет Тэффи, – любили они творог, длинные разговоры по телефону и были
страшно злые "
[1041]. Всегда от чтения этого такое впечатление, что у всех до предела натянуты нервы, что вот-вот разразится неприличный скандал, что каждый чувствует себя окруженным мерзавцами и жуликами…
Чтение новой книги Peter Berger'a о современном кризисе, о "делегитимизации" того согласия , на котором основано было западное общество. Страшно интересно.
Книга о "любовных аферах" J.P. Sartre'a и Simone de Beauvoir (Alex Madsen, "Hearts and Minds"
[1042]), о том, как "работало" их согласие жить вместе, но в полной свободе. Какое, в сущности, жалкое впечатление! Прав был Вышеславцев: "трагизм возвышенного и спекуляция на понижение". Сартр всю жизнь провел, стараясь "спекуляцию на понижение" представить как "возвышенное". Но это, в конце концов, формула современной цивилизации в целом и диагноз ее болезни. И это не от "низости душ", а от отсутствия Бога. Религия тоже может быть и часто, слишком часто бывает спекуляцией на понижение. Для цивилизации без Бога и без религии, однако, спекуляция на понижение становится не пороком, не дефектом, а нормой, сущностью. В ней "объяснение свыше" не может не быть заменено "объяснением снизу". В этом смысле прав был тот (кто?), кто определил Сартра как "contemporain capital"
[1043].
Гомосексуализм. Вопрос, в конце концов, совсем не о том, "естественен" он или "противоестественен", ибо вопрос этот, может быть, вообще неприменим к "падшему естеству", в котором – в том-то и все дело – все извращено, все в каком-то смысле стало "противоестественным". Естественно ли для человека всего себя
отдават ь – деньгам, или России, или чему угодно? Созданный для отдачи себя Богу, он извращает свою природу, свое "естество" тем, что отдает себя другому, превращает это "другое" в идола. Поэтому речь идет не о "нормализации" гомосексуалов и не об "освобождении" их признанием, что это просто другой "стиль жизни". Речь идет, должна идти, о принятии "гомосексуалом" целостного призыва и призыва к целостности, обращенного Богом к каждому человеку. Гомосексуализм только особенно трагическое проявление того "жала в плоть", которое мучит по-разному, но каждого человека. В падшем мире ничего нельзя "нормализовать", однако все можно
спасти . Но нет спасения без
огня ("спасется, но как бы из огня…"
[1044]).
Четверг, 20 октября 1977
Освобождение немцами заложников в Сомали. Убийство террористами немецкого фабриканта. Убийство или самоубийство в немецкой тюрьме Баадера и его сообщников. Нападения на немецкие фирмы в Италии и в Париже Читаешь об этом с каким-то холодным бешенством: вот он, плод "радикализмов", идеологического преступного кретинизма нашего века, принципиальной, восторженной "левизны" всемирной интеллигенции. Бог знает, до какой степени я не выношу "правых" кретинов. Но вот живем в мире, "поляризованном" двумя этими преступными идолами – "правым" и "левым". И христиане "обожают" и того и другого…
Вчера "просмотр" нашего семинарского фильма в зале на 55-й улице. Потом очень уютный ужин с Аней, Сережей и Маней, на той же улице в [ресторане] "L'Escargot".
Завтрак в Biltmore с о. К. Ф[отиевым].
Сегодня от всего этого какое-то предельное изнеможение и полная неспособность работать
Суббота, 22 октября 1977
Crestwood. Солнце. Золото деревьев. Тишина Только что телефонный разговор с Андреем. Мама в больнице, очень слабая. Книга P.Berger'a. Чудесная глава о Нью-Йорке, как sign of transcendence
[1045]. Приведение всего в порядок до отъезда на неделю в Монреаль, на Собор
Понедельник, 24 октября 1977
Нью-Йорк – перед отъездом в Монреаль на Собор. Кончил вчера поздно вечером книгу о Sartre'e и Simone de Beauvoir. Впечатление чудовищной, трагической ошибки: столько ума, страсти, честности, "идеализма", буквально "сожженных" ложным выбором, вернее – выбором отрицания, протеста, а не утверждения. Это вечная demarche
[1046] дьявола, и в этом смысле и Сартр и Симона – "одержимые"… Однако горе тому, через кого соблазн приходит. Сколько соблазна! Сколько соблазненных! А остается от всего этого буквально ворох бумаги, неудобоваримой и которая скоро-скоро станет уже китайской азбукой: вечная расплата за желание быть во что бы то ни стало "современным". Заключительная характеристика Сартра автором книги – "…if social concord is to exist one day we must learn to exist entirely for each other…"
[1047]. И когда не узнать, не понять, не почувствовать –
откуда это…
После Литургии вчера поездка с Л. "upstate"
[1048], до Bedford'a и обратно: такой красоты, такого пожара золотой листвы, такого почти мучительного по блаженству торжества как будто не видели никогда…
Наплыв исповедников. Одна женщина: "Я все это принимаю и верю, но как трудно, чтобы все это было живым …"
Теперь – погружение на неделю в суету и треволненья Собора. Только бы не раствориться в них без остатка, не оглохнуть в этом шуме к "гласу хлада тонка" – в нем же Бог
[1049].
Еще о Сартре. Думал вчера, кончив книгу, что все в мире – любая религия, любое самое жалкое и ограниченное чувство трансцендентного – лучше, чем этот страшный, пустой, тусклый мир выбранного свободно атеизма, мир, в котором действительно человек est une passion inutile
[1050]. А вместе с тем страшно думать, что к выбору этому так часто приводит сама "религия" или, лучше сказать, извращение ее людьми.
Суббота. 29 октября 1977
Дома, в Крествуде, после пяти дней Собора в Монреале. Чувство, что с горы спускаешься обратно, в долину, до такой степени сильным было ощущение "присутствия" на Соборе. Церковь, насколько нам дано видеть и опытно переживать ее в "мире сем". Эти удивительные Литургии, каждое утро, с сотнями причастников; "преображение" мирян (только вспомнить Соборы 50-х годов!), чувство стихийной силы жизни. А в редкие минуты, что удавалось выскочить из отеля, лучезарный свет поздней осени, словно благословенье, льющееся свыше. Подробностей описывать не в силах. Но действие Святого Духа мне очевидно, больше всего, в избрании архиереями, вопреки Собору, массивно голосовавшему за еп. Димитрия, еп. Феодосия Мудрость Церкви, мудрость "охранительной", а не профетической
[1051] функции архиереев, мудрость "принятия" Церковью. Действительно – живой опыт Церкви… И трудно, поэтому, возвращаться, спускаться, приниматься за "текущие дела".
Понедельник, 31 октября 1977Back to normal
[1052]… Семинария, лекции, заботы. Но и продолжающееся чувство внутреннего "обновления". Чтение писем К.С.Льюиса – очень мне "созвучных". Вспоминаю, как мимолетно встретился с ним в Abingdon'e летом 1949 года, на съезде Fellowship'a
[1053].
"Longue suite dejournees radieuses"
[1054]. Тот же свет, то же золото. Вчера днем в Нью-Йорке, совсем особенном, праздничном в этом свете, под этим бездонно голубым небом.
Среда, 2 ноября 1977
В Нью-Йорке после двух предельно переполненных дней в семинарии: девять часов лекций, три заседания, десятки писем, исповеди, прием студентов
Написал вчера Мортону, прося выключить мое имя из списка honorary canons
[1055] его собора В этом списке – женщина, раввины и дзэн-буддисты, и мне там не место. Как это отразится на наших отношениях – не знаю, но, по совести, в этой компании быть не могу…
Вчера – собрание со студентами о Соборе. Радость от понимания, интереса, участия. Радость от группы наших "молодых" – Тома, Эриксона, Давида
Звонок в Париж: мама все еще в госпитале, очень слабая, ее на месяц-два перевозят в maison de convalescence
[1056]. Это, может быть, и не конец. Но так ясно – "жизнь кончилась, и начинается житие"
[1057]. Мысль о ней все время на глубине сознания…
Четверг, 3 ноября 1977
Завтрак вчера в городе с о.К.Ф. Жалуется на сердце, артериосклероз, начинающийся диабет. Жаль его, жаль этой как бы "подгнивать" начинающей жизни. Думал опять об этом страшном бремени гомосексуализма: Пруст, Жид, Жюльен Грин и столько людей вокруг говорят: бремя это, травма, невроз – от "отверженности", от неприятия обществом, от необходимости скрываться, лгать и г.д. Отчасти это, наверное, так. Но только отчасти, само "отчасти" это, я уверен, не главное. Жид, например, эту отверженность преодолел и заставил себя "принять". Главное же, я думаю, в подсознательном знании, ощущении тупика , неутолимости, непретворимости тупика этого в жизнь. В конце всегда не только стена, а стена-зеркало… В падшем мире все "половое" – уродливо, искаженно, низменно. Но в "нормальном" человеке есть хотя бы возможность эту "уродливость" преобразить, претворить, подчинить высшему и тем самым "изжить". В гомосексуализме именно этой-то возможности, этого обещания, призыва, этой двери нет. В "нормальном" поле даже самое низменное, самое уродливое что-то отражает , о чем-то другом и свидетельствует, и к нему зовет. Тут – нет. И потому ломать нужно само мироздание, потому лгать нужно о мире (что и делает всю жизнь Жид).
Но если гомосексуализм – "девиация", "извращение", то откуда он берется, как возникает и почему, по-видимому, неизлечим? Я не знаю научных теорий на этот счет, предполагаю, что все они сводят вопрос либо к биологии, либо к обществу, то есть ищут внешней причинности. Мне же кажется, что корень тут все-таки духовный: это – коренная двусмысленность всего в падшем творении, "удобопревратность". Одна "ненормальность" порождает другую в этом мире кривых зеркал. В данном случае – ненормальность, падшесть семьи , падшесть самого образа пола, то есть отношений между мужским и женским. Падшесть далее – материнства, падшесть в конце концов самой любви в телесном и, следовательно, половом ее выражении. На одном уровне гомосексуализм есть смесь страха и гордыни, на другом – эроса и автоэротизма. Не случайно общим у всех гомосексуалистов является эгоцентризм (не обязательно эгоизм), невероятная занятость собою, даже если эгоцентризм совмещается с предельным "любопытством" и видимой открытостью к жизни. "Нормальный" человек может быть и часто бывает "развратником", "распущенным". Недавно появились книги о "половой жизни" Кеннеди, якобы не пропускавшего ни одной секретарши. И все же так очевидно, что не в этом, не в "грехах" – была жизнь Кеннеди. У гомосексуалистов, однако, их гомосексуализм, даже если он и не есть низменный "разврат", так или иначе окрашивает собою все в их жизни: творчество, "служение", решительно все. Окрашивает и, в каком-то смысле, определяет. Где-то, как-то, но несомненно ощущается эта болезненная одержимость – и у Пруста, и у Жида, и у Грина. Это всегда душный мир, из него всегда хочется как бы выйти на свежий воздух. И в нем никогда нет подлинного, несомненного величия, хотя есть подлинная и несомненная тонкость… Однако через нас, "нормальных", нас – "христиан" – не просвечивает Христос. Правые в своем отвержении тупиков , мы бессильны в утверждении и в свидетельстве. На тупик еврейства мы отвечаем антисемитизмом, на тупик гомосексуализма – животной, биологической ненавистью.
Суббота, 5 ноября 1977
В связи с St. Vladimir's Women's Conference
[1058] разговор с Л. вчера обо всем этом женском вопросе в Церкви. Нет у меня в голове, в уме ясности и убедительности по этому вопросу, а то, что я чувствую, как-то не укладывается в слова, в ясную схему. Чувствую я, однако, что есть, и совсем близко, в Церкви – простая, светлая и поистине – духу, логосу и вере – самоочевидная истина обо всем этом… Но вот как увидеть и как выразить ее?
Кончил Jessica Mittford (автор "The American Way of Death") "The Fine Old Conflict"
[1059], ее воспоминания о членстве в американской коммунистической партии, уходе из нее и т.д. Никакой к ней симпатии не возникло. Все то же "левое" самодовольство: ух как же мы боремся!.. И какая-то во всем разлитая наглость. Скучный, душный, маленький мир. "Догматизм".
Начал Ann Douglas "The Feminization of American Culture"
[1060]. Поначалу очень интересно.
Только что вернулись от Куломзиных с party в честь Сережи и Мани по случаю их отъезда в Южную Африку. Все, все, все, и так мило и дружно… Однако особое удовольствие доставила поездка: темный, серый день, уже полуголые ветки, то пронзительное в осени, ее ржавчине, ее смирении, что так неотразимо на меня всегда действует. Как у Green'a: "il n'y a de vrai…"
[1061].
Пишу с утра "Иерархию ценностей" в "спецномер" "Вестника", посвященный России.
Понедельник, 7 ноября 1977
Вчера почти все после-обеда (кроме короткой поездки взад-назад к Ане в Wappmgers, главным образом ради серого ноябрьскою дня, голых деревьев, ржавчины, тишины осенних просторов) и весь вечер за работой над очередной "мариологической" лекцией – в вднном случае над Успением. "Утешительность", духовная польза от этой работы, словно в тебя самого входит свет и сила этого праздника. "На безсмертное твое Успение…" Но, Боже мой, какая бедность богословских на эту тему рассуждений.
Вторник, 8 ноября 1977
Второй день – проливной дождь… Сегодня Литургия: арх. Михаила по новому стилю. А по старому – Димитрия Солунского, папины именины. А также день смерти – в 33 или 34 году? – генерала В.В.Римского-Корсакова, директора нашего корпуса, человека, открывшего мне мир поэзии вообще, русской поэзии в частности. Как сейчас помню его рукописные, им самим составленные и написанные тетрадки-антологии русской поэзии. Не встреть я его, когда мне было девять лет, не будь я его "любимцем" (и именно из-за поэзии!) в решающие годы (девять – тринадцать), думаю, что все было бы другим в моей жизни. С поэзии началось "освобождение души", интуиция "иного"… И почему-то больше всего вспоминаю о нем, когда читаю лермонтовское "Когда волнуется желтеющая нива…". Это – одно из "решающих" в моей жизни стихотворений. Думаю, что и объективно оно – одна из вершин русской поэзии. Смерть генерала была также и первой встречей со смертью, ибо смерти сестры Елены почти не помню…
Годовщина Октября – шестьдесят лет! В "Русской мысли" – собрания "верности" и "непримиримости". Еще десять – пятнадцать лет, и "первой эмиграции" не останется. Не будет в "Хронике" оповещений о собраниях "гвардейской конницы" и "союза дворян". Останется и там , и за рубежом – только советская Россия, совсем другая прежде всего по своей тональности. Думаю об этом, и почему-то начинает звучать строчка из адамовического "Когда мы в Россию вернемся" – "…как будто Коль Славен играют в каком-то приморском саду…". Однако возвращаться будет некому и некуда. России эмигрантской – совсем особенной, той, что увидел Ходасевич в своих "Соррентинских фотографиях", – уже не будет. Поймет ли всю ее важность, единственность, незаменимость – для русской памяти – Россия советская? Не знаю. А, может быть, появятся "там" – "специалисты по эмиграции", "эмигрантоведы" с научными журналами и примечаниями. Возникнет, может быть, даже своего рода "культ" эмиграции, мода на нее. Но как поймут и разгадают они этот опыт: французская деревня и русский кадетский корпус; перспектива парижских бульваров как "фон" "Коль Славен" и "приморского сада…"? И т.д. Почему у меня чувство, что их мы понимаем, и даже очень хорошо, а они нас – никак? Может быть, потому, что эмиграция была прошлым в настоящем, и даже в нас, эмигрантских детях, на настоящее смотрела из живого прошлого, тогда как у них только настоящее, ибо никакого "прошлого", кроме этих пустых – хотя и кровавых и страшных – шестидесяти лет, нет…
Четверг, 10 ноября 197 7
Завтрак, вчера, с Сережей в ресторане Объединенных Наций. Разношерстная толпа делегатов, но все они как бы исполняют обряд и все – часть этого обряда: и огромные, как храмы, залы, залитые солнцем, и их манера прохаживаться друг с другом, вежливо беседуя, и их разодетость. И я подумал, что, какова бы ни была слабость, "дутость" Объединенных Наций, все это только и полезно, и нужно, и оправдано как именно обряд. Ибо обряд, нами совершаемый, нас в известном смысле определяет, к нам обращен. Обряд воплощает мечту, видение, идеал, все то, чего в "эмпирии", может быть, и нельзя воплотить полностью, он подобен словам, о которых сказано, что "от них оправдаешься и ими осудишься…"
[1062]. Мир без обряда – только игра голой силы.
У входа, на припеке, стояло четверо советчиков – не дипломатов, а, по-видимому, каких-то "нянек", держиморд, агентов. Не знаю. Но, глядя на них, мне стало страшно: страшные скуластые лица, наглые и одновременно мертвые глаза. Система, выращивающая таких "антропоидов", – дьявольская…
И "L'Express", и "Le Nouvel Observateur" этой недели посвящены шестидесятилетию Октября. И конечно, самое поразительное в этой жуткой истории – это то, как долго мир, вопреки всему, страстно и восторженно верил в нее. Я думаю, во всей истории мира не было ничего одновременно более трагического и более смешного, чем эта вера, это решение верить, это напряженное самоослепление. Тут доказательство тому, однако, что в мире сильна и "эффективна" только
мечта . И если умирает в человеке мечта Божья, он бросается в мечту дьявольскую. Но поэтому и бороться с дьявольской мечтой, дьявольским обманом можно только мечтой Божьей, возвратом к ней, но именно она-то и выветрилась, обессолилась в историческом христианстве, обратилась в благочестие, быт, испуганное любопытство к "загробной жизни" и т.д. Вырождающийся коммунизм все же продолжает твердить о революции, о "changer de vie"
[1063]. Христианство же предало даже свой "язык", свою сущность как
благовестие – приблизилось Царство Божие, ищите прежде всего Царства Божия… Все это банально, устаешь повторять, и, однако, тут, только тут, только в этой измене
эсхатологии – причина исторического развала христианства. Мировой пожар, раздутый скучнейшим коммунизмом ("массы" и т.д.), – какой это, в сущности, страшный суд над христианством.
Четверг, 17 ноября 1977
Вчера вечером ужин с митр. Феодосией, Губяком и Леней [Кишковским] в ресторане около Syosset. Чувство взаимного доверия – столь, увы, редкое в Церкви, братства, простоты. Дай Бог, чтобы митр. Ф[еодосий] не обманул надежд .
На ужин прилетел из Техаса, где утром читал лекцию chaplain'am
[1064] на Fort Hood. Прилетел туда во вторник вечером. Отмечаю это главным образом из-за особого впечатления, которое неизменно производит на меня Техас. Этот полет над ярким солнцем залитой, бесконечной равниной. Прикосновение к некоей потаенной Америке.
В аэроплане, туда и обратно, заканчивал книгу Ann Douglas, одну из тех книг, что важна не своим прямым содержанием, а способностью заставлять работать мысль. Но и содержание ее очень интересно: этот союз, в XIX веке, clergy
[1065] и женщин, создавший современную американскую массовую "потребительскую" культуру… Как говорят здесь – "what do you know…."
[1066]. Особенно интересна глава о "domestication of death"
[1067]В воскресенье свадьба Миши Меерсона. Погружение – на два часа – в мир "диссидентов": Литвинов, Шрагин, их жены… После Собора, после этих напряженно церковных недель ощущение – буквально – другого воздуха, другой "длины волны"… Зато все, что обычно ощущаешь в чине венчания как чуждое присутствующим: Авраам и Сарра, Иаков и Рахиль, Моисей и Сепфора, – все это удивительное включение брака в историю спасения, в грандиозный и славы исполненный замысел Божий, – все то, что чуждо нашему благочестию, – все это поразительно звучало на этой поистине "иудео-христианской" свадьбе.
Пятница, 18 ноября 1977
Получил сегодня 122-й номер "Вестника": "умеренный" выпад против меня Солженицына – о том, почему мой ответ на его "Письмо из Америки" его "не удовлетворил" и "огорчил". Не удовлетворил потому, что-де не объяснил автокефалию, огорчил потому, что был не ответом ему, а новым выпадом против старообрядцев. Читая это, не знаешь, что и думать Ведь он же никакого объяснения автокефалии не просил, а презрительно, с кондачка и поверхностно ее отвергал что же тут объяснять… Что же касается старообрядчества, то опять-таки не я, а он поднял эту тему, причем безоговорочно оправдывая старообрядцев и оплевывая "никониан"… Самое грустное то, что этот выпад меня даже не огорчил.
В том же письме – протесты против "клеветы" на Россию (цитаты из Мишле, Безансона, Леонтьева и т.д.). Что же это за жалкое национальное сознание, которое не может вынести ни слова критики. Толстой ругал и высмеивал французов и немцев, Достоевский тоже, у Тургенева где-то народ "хранцуза топит". Нет меры нашему бахвальству, самовлюбленности, самоумилению, но достаточно одного слова критики – и начинается священное гневное исступление.
Холодно. Ясно. Хорошо.
Понедельник, 21 ноября 1977. Введение во Храм
Дома, после праздничной Литургии.
В субботу вечером по телевизору потрясающая передача из Иерусалима: приезд в Израиль Садата! Чувство, что происходит что-то великое, даже если это кончится неудачей и даже катастрофой. Садат, приветствующий Голду Меир, Моше Даяна! У меня мурашки по спине пробегали.
Вчера, в воскресенье, служил с новым митрополитом в соборе. Потом в подвале – "пельмени Детского общества", погружение на час в русскую эмиграцию, в ее единственный в своем роде дух и стиль. Смесь ностальгии, умиления, удивления и жалости.
Только что получил два номера "Русской мысли". И, как всегда, смешанное чувство. Ибо нигде с такой ясностью, как в эмигрантских изданиях, не вскрывается двусмысленность и, больше того, поверхностность "борьбы". Все объединены на "против" и, конечно, на "правозащитном" принципе. Но достаточно одного шага дальше – и начинается полная разноголосица, и при этом страстная, нетерпимая, узкая. И снова "more of the same"
[1068]: "правые", "левые" и т.д. Ни общей оценки прошлого, ни сколько-нибудь общего взгляда на будущее. Спокойны и слепо самоуверенны только "доживающие" – и уже без всякой связи с историей – РОВС, "белые воины", "донская конница", "гвардейское объединение" и т.д. Им, в каком-то смысле, "тепло на свете". "Кружатся в вальсе загробном на эмигрантском балу". А все остальные – безнадежно разделены и окапываются друг против друга и друг друга боятся.
Иногда такое острое чувство: "проходит образ мира сего"
[1069]. Может быть, это – старость?..
Вторник, 6 декабря 1977
За спиной десять дней в Париже: со среды 23 ноября по субботу 3 декабря. Путешествие в Люксембург. Ночная остановка в Исландии… В Люксембурге нас встретил Андрей. Пять часов на автомобиле в Париж, под ливнями и грозами. Потом эти пять часов по полям и через деревушки милой Франции вспоминаешь как беспримесное счастье… Со мной все эти дни Аня (Льяна приехала отдельно и улетела в Нью-Йорк в среду утром), и это, пожалуй, главная радость этих парижских дней… Ходили с ней по всему Парижу, ездили в L'Etang la Ville. Ее ясность, скромность, целостность – умилительные: другого слова не сыщешь.
Среда, 7 декабря 1977
В субботу 26-го и воскресенье 27-го свадебные торжества Елены – племянницы и крестницы. В субботу – гражданская свадьба, в воскресенье – [венчание в соборе] на rue Dam. Прием в Hotel Georges V. Сколько людей, знакомых и друзей, которых я не видел чуть ли не пятьдесят лет! Миша Арцимович, лучший друг лет русской гимназии, его жена, которую я не узнал. И конечно, "племя молодое, незнакомое"… В понедельник 28-го – утром у Андроникова, затем у Никиты [Струве]. Ежедневные посещения мамы и бесконечное flanerie
[1070] по Парижу. И все девять дней, как на заказ, сухие морозные дни, солнце и поразительное по синеве небо. Кажется, никогда не наслаждался Парижем, физическим общением с ним, как в этот приезд. В среду 30-го (преп. Никона Радонежского, годовщина моей хиротонии тридцать один год тому назад) служил на Подворье, потом – праздничная "трапеза" с о.Алексием Князевым, Ильей Мелиа, Николаем Осоргиным и др. Иногда чувство полного отрыва, а иногда – с необыкновенной силой – "le temps immobile"
[1071]… В субботу 3-го утром поездом в Люксембург: удовольствие этой поездки по сверкающей инеем равнине Шампани, а потом Арденны и Лотарингия.
В воскресенье и понедельник – визит Никиты, на пути домой, в Париж, из Вермонта. Рассказывал об А.И.[Солженицыне].
Эти два дня – инспекция в семинарии (штатных властей). Точно купаешься в бюрократической ванне. Статистики… Но зато кончились лекции и повсюду, все больше и больше, зажигаются разноцветные огни рождественских украшений. Любимое мною время года. "И на земле мир…"
Пятница, 9 декабря 1977
Лекция вчера в Украинском институте Гарвардского университета. Своего рода поездка Садата в Израиль. Довольно напряженная атмосфера. Говорил об "иерархии ценностей"… Боюсь, однако, что говорил людям, свою иерархию ценностей выбравшим, и выбравшим, так сказать, с надрывом. Солженицын обижен за Россию, эти обижены за Украину и т.д. Но обида плохой советчик, еще худший, чем страх. И все же чувство, что, может быть, что-то сдвинулось. Прием у Шевченко, ужин в Faculty Club были вполне дружественными… Лишний раз убедился в абсолютной правоте слов: "Познаете Истину и Истина освободит вас…"
[1072]. Более пожилые – проф. Пристак просто милые люди… Молодые, как Зимин или Маргоги, – труднее, ибо упиваются, кроме всего прочего, своим "американским статусом", – Украинский институт в Гарварде! Ах, если бы русские, так любящие говорить о величии России, знали или даже просто подозревали, в чем состоит подлинное величие! И грусть, даже трагизм всего этого – что "решение" так близко, так действительно рядом! И оно – как раз в "иерархии ценностей": в суматохе, в спорах, во всем этом мизерном research
[1073] и страстном самопревозношении – взглянуть, просто взглянуть на Христа. Но нет… Это
невозможно . И вот мир наполняют злые православные, преисполненные гнева, страха, обиды, "узости и тесности". Греки, карловчане, украинцы…
Суббота, 10 декабря 1977
"Бывает такое небо, такая игра лучей…" Сегодня небо – синее-синее, и на всем лучи морозного бледного солнца. И какая-то немощь в душе, ничего не хочется делать, все из рук валится. Может быть, потому, что только что был в Париже, где, как это бывает каждый раз, нахлынуло прошлое, и прошлое не в смысле "событий", а прошлое как еще детский взгляд на жизнь, то ее восприятие, из которого, я знаю, все во мне, но к которому как таковому не вернуться… Вот только что вспомнил наше с Аней посещение лицея Карно – первое с 1938 года! Тот же, абсолютно ни в чем не переменившийся внутренний крытый двор с двумя этажами классов… Сколько я в этом дворе, в этих классах мечтал, какой двойной жизнью жил, как именно тогда чувствовал с небывалой силой, что "tout est ailleurs"… Посещение с Аней, морозным вечером, Palais Royal, с застывшими деревьями, закатом озаренный Тюильри. Париж – это для меня всегда свет тех лет, когда действительно
рождалась душа , то есть та последняя глубина моего "я", которой по-настоящему не выразишь, не расскажешь даже самому себе, которая во всем присутствует, но по отношению ко всему
другая и
другим живущая (чем?). Но только от нее, от ее присутствия и вся грусть (всегдашняя), и все счастье (всегдашнее) жизни… Париж – это, таким образом, первая пленка души и потому как бы первая ее "фотография" (как ходасевичевские "соррентинские фотографии"). И потому я не могу "наглядеться" на него, ибо он – встреча с душой, его запечатлевшей и им "явленной" или "проявленной". "Le Royaume et 1'exil"
[1074]…
А может быть – из-за напряженности, утомительности этой недели, из-за погруженности в "прозу жизни". Так или иначе, ничего не хочется, и усталость.
"Русская мысль" – когда это у русских появился этот тон , или это я впервые стал так мучительно переживать его? Тон, прежде всего, какой-то нескромности, словно у нас какие-то особые права, особенные заслуги. Что-то гоголевское.
Перечитал написанное. Все это выразил Ходасевич, выразил лучше всех – Для меня во всяком случае:
В заботах каждого дня
Живу, – а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня -
И глаза закрываю.
Понедельник, 12 декабря 1977
Вся семинария больна: сплошной госпиталь. И. как это всегда бывает, особое чувство спайки, солидарности…
Все после-обеда в Syosset "внешние дела", малый синод. Суетливо, но хорошо.
Мороз, снежинки в воздухе. И уже всюду горят рождественские украшения.
Читал вчера Набокова. "Весна в Фиальте". И раздумывал о месте и значении этого удивительного писателя в русской литературе. Вспоминал давний ужин с ним в Нью-Йорке. "Моя жизнь – сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет…" За такие-то вот строчки сразу все ему прощаешь: снобизм, иронию, какую-то "деланость" всего его мира.
Вторник, 13 декабря 1977
Преп. Германа Аляскинского. Ранняя Литургия, которую служил "соборне" – с Ваней [Ткачуком] и Томом [Хопко] (а Алеша Виноградов, опоздавший к облачению, приобщался у престола). Чувство, нет – не гордости, а благодарной радости…
Раздвоение – в продолжение позавчерашнего ("а душа под спудом"). Я всегда чувствую его. То есть всегда, или почти всегда, вижу все и со стороны. Как, например, вчерашнее заседание. Я одновременно в нем и участник, и его созерцатель, почти зритель, причем в созерцании этом я и себя вижу со стороны, извне. И то во мне, что "созерцает", в заседании не участвует. А, например, все время видит окно и за ним голые деревья, зимние сумерки, тишину огромного парка.
Четверг, 15 декабря 1977
Вчера вечером рождественский концерт в Spence. Глядя на этих поющих девочек, думал:
1) что нет некрасивых, когда они отдаются, как в хоре, чему-то высшему и лучшему в себе;
2) что прекрасно, в сущности, каждое человеческое лицо, и каждое "являет", "доказывает" существование Божье;
402
3) что есть в Америке, у американцев некое, им имманентное добро, желанье, чтобы все вышло хорошо, уменье отдавать себя.
Сегодня в семинарии телефон о.К.Ф[отиева] – о смерти в Париже Галича. Виделся с ним раз в Нью-Йорке вскоре после его выезда из России, в толпе "диссидентов".
После вчерашних бури и ливня сегодня снова солнце и голубое небо. Окончание семестра. А в воскресенье – отъезд в Южную Африку Сережи с семьей.
Пятница, 16 декабря 1977
Какая путаница! Вчера – "на сон грядущий" – прочитал в "Вестнике" (122) старую статью З.Гиппиус о Розанове. Розанов-де остро чувствовал "еврейскую правду о земле", якобы отброшенную христианством ("в сладости Христовой мир прогорк"…). Да что они – никогда не читали Евангелия, не были в церкви, не почувствовали "космизма" христианства? И где же эта "еврейская правда о земле"? Нет народа более "городского", оторванного от земли… И все это выдается за "углубление" "проблемы иудаизма в христианстве". А сейчас в [журнале] Newsweek статья о поддержке Израиля, его "божественного права" на Святую Землю со стороны американских фундаменталистов. Все это предельно безответственно, а бумага все терпит. Отвращение от всего этого "богословия с изюминкой", воплей и преувеличений.
Собрание, вчера вечером, Board of Trustees. Как изменилась за эти годы Церковь! Атмосфера служения, доброжелательности, желания действительно помочь семинарии.
Христианство требует, абсолютно требует простоты , требует "светлого ока", "зрячей любви". Оно извращается всюду, где есть надрыв, где "естество на вопль понуждается". А все это, увы, в невозможной мере присуще нашей эпохе, пронизывает собою нашу цивилизацию. Человек потерял способность любованья , и все для него стало "проблемой". Надо уйти, выйти от и из "проблем", и это значит – очистить зрение, очистить душу от всего этого нездорового возбуждения.
Понедельник, 19 декабря 1977
Проводы вчера Сережи и Мани в Южную Африку! Un moment difficile a passer
[1075], особенно для Л.
Поздно вечером звонок от о.Л.Кишковского: скончался Н.С.Арсеньев. Он звонил мне дня три-четыре тому назад, и я тогда же сказал себе: это в последний раз, так слаб был его голос.
В субботу днем прогулка, в одиночку, по Пятой авеню. Солнце, несусветная толпа, Christmas carols
[1076], льющиеся отовсюду, праздник, висящий в воздухе: все это доставляет мне огромную радость. И мне совсем не мешает "коммерциализация" Рождества, которую [многие] вечно изобличают. В Средние века торговали мощами. В [книжном магазине] Rizzoli, куда я захожу, гремит какой-то oratorio Баха.
Днем вчера bien au chaud
[1077] в Крествуде, вдвоем. Снегопад за окном. Серое небо. Черные ветки.
Вторник, 20 декабря 1977
Панихида по Арсеньеву, вчера, в карловацкой церкви в Sea Cliff'e. Нас – "американских" священников – целая группа во главе с митр. Феодосием. Неожиданно для меня, о.Митрофан Зноско попросил меня сказать слово в конце панихиды. Подумать только – это тот же о.М[итрофан], который семь лет тому назад служил демонстративные панихиды по мученикам перед воротами резиденции Syosset! Чьи прихожане начертывали на этих воротах красные серпы и молоты… Вот уж поистине все проходит…
Потом – ужин с митр. Ф[еодосием] у Трубецких, уютный и дружеский.
Суббота, 24 декабря 1977
Сочельник. Только что пришли с длинной службы. Чудный солнечный день. С нами эти дни Ткачуки.
Написал маме, Андрею, Солженицыну (получил от них сегодня поздравления).
Праздничная тишина. Завтра, после елки, уезжаем с Л. в Новый Орлеан на неделю.
Пятница, 30 декабря 1977
Три дня в Новом Орлеане, в Hotel St. Louis, в самом центре Vieux Carre. Сколь бы ни была искусственна "туристическая" жизнь, овладевшая этим кварталом: jazz, кабаки, танцовщицы, – волнение от этих старых улиц с чугунными резными балконами, от прошлого, окрашивающего этот город. Собор, площадь. Поездка по Миссисипи на бывшие плантации. Поездка в Bay St. Louis. Старые кладбища с могилами
поверх земли (из-за болота). Уезжая, оставляешь там часть души: словно к чему-то прикоснулся… Два противоречивых опыта в таких городах: бега времени, с одной стороны, le temps immobile – с другой. "Все, кружась, исчезает во мгле…"
[1078]. Но вот тот же переулок около собора, те же удивительные южные (зеленые в декабре) дубы, молчание, присутствие, победа над суетой.
Начал читать "The Meaning of Anxiety" Rollo May
[1079]. Желание понять весь этот мир "психотерапии", которым буквально все одержимы в наши дни. Хочу проверить мое инстинктивное к нему отвращение, убеждение в его несовместимости с христианством, с верой. Вспоминаю мой – единственный! – "кризис" 1935-1936 года. Была ли это "anxiety"
[1080]? И если была, то что ее разрешило? Во всяком случае, не "психотерапия", весь смысл которой в "высказывании", тогда как силой воли, напряжением я ничего тогда (месяцами!) не показывал никому, ни с кем словом не обмолвился. Все было внутри, абсолютно скрыто. И до сих пор чувствую так: Бог
оставил , Бог
вернулся . И иногда тоже чувствую, что молился я
только тогда… А с тех пор не было "кризисов". Вот сегодня – страшный, непонятный "темный" сон: я ем, а за окном три виселицы, и с каждой, по очереди, падают повешенные, и один как-то страшно ползет… Что это? Откуда? Но вот просыпаюсь – и никакой "anxiety". Солнце на крышах, солнце в пустой квартире, и во всем "присутствие", и от него – радость жизни. Иногда (часто) думаю, что, может быть, я очень холодный, равнодушный и поверхностный человек, желающий только "спокойствия". Правильно ли это – "покоя сердце просит"? Правильно ли внутреннее отталкивание от "религиозных разговоров", от "религиозной суеты", от "организации" религиозной жизни? Но, одновременно, отталкиванье от всяческого "спиритуализма", буддизма, ухода из истории? Как хотелось бы честно, просто, ясно изложить, "в чем моя вера", и как это невозможно… Прежде всего потому, что это
не ясно моему уму и сознанию. Одно, мне кажется, все-таки "ясно", а именно: что основными "координатами" этой веры являются, с одной стороны, острая любовь к
миру во всей его "данности" (природа, город, история, культура), а с другой стороны – столь же острое, столь же очевидное убеждение (или "опыт"), что сама эта любовь направлена на то "другое", что этот мир "являет" и в явлении чего – его сущность, призвание, красота и т.д. Поэтому мне одинаково скучно и тоскливо там, где это "явление" отрицается, то есть и с теми, кто этот мир любит без "отнесенности" к "другому", и с теми, кто это "другое" (религию) просто противополагает миру. Скучно и с законченными "секуляристами", и с законченными "религиозниками". А именно эта поляризация и происходит в наши дни. Тоска "обмирщенности" и тоска "благочестия", ибо и то и другое прежде всего маленькое, унылое, само по себе именно скучное. Однако это именно "координаты", и остается главный и единственный вопрос: что же все-таки делать, как жить в мире – Богом, и в Боге – миром, то есть любовью? В чем присущее человеку
творчество ! Ибо вместе с Богом он творит свою жизнь и, следовательно, свое Царство Божие…
Суббота, 31 декабря1977
Paul Valery: "Toute vue des choses qui n'est pas etrange est fausse. Si quelque chose est reelle, elle ne peut que perdre de sa realite en devenant familiere. Mediter en philosophic, c'est revenir du familier a 1'etrange et dans 1'etrange affronter le reel"
[1081].
Цитировано Жюльеном Грином из "Les choses tues"
[1082]. Но тут, в этих словах, и мое понимание "богословия".
Вчера после обеда с детьми Хопко на крыше World Trade Center. Потрясающий вид на Нью-Йорк, сначала в свете заката, потом в ночных огнях. Очевидная для меня красота этого зрелища. Вспоминаю слова Р.Berger'a: не "деревня", а город – символ, реальность христианской веры ("Новый Иерусалим" – "Аще забуду тебе, Иерусалиме…") "Природой" без города занято язычество.
Отец Фома [Хопко] дает мне читать циркулярное рождественское письмо какого-то трапписта из Massachussets. В его монастыре "встречаются" все "традиции" (Запад, Восток, буддизм), все "обряды", все "experiences"
[1083]. Варварство всего этого. Словно "традиции" – какие-то одежды: оделся в буддиста – и уже "experience". Меня тошнит от этой дешевой, мутной волны "spirituality"
[1084], от этого мелкотравчатого синкретизма, от этих восклицательных знаков "La culture ne s'improvise pas"
[1085], – замечает Грин. Религию тоже. Невольно вспоминаешь: "…и на строгий Твой рай…"
[1086]. От всего этого возбуждения, в котором приходится жить, буквально опускаются руки. Хочется уйти. Чашка кофе и гамбургер в простом кафе
подлиннее , реальнее всей этой религиозной болтовни. Как таинство невозможно без хлеба, вина, воды, так и религия требует "мира", реального и "будничного" Без него она становится неврозом, самообманом и самообольщением
Последний день года. Как быстро бежит время! Год тому назад сегодня мы завтракали с Сережей и Маней в Hotel Pierre И словно вчера!
В "Нью-Йорк тайме" рецензия на антологию С.S.Lewis'a "The Joyful Christian"
[1087] Цитаты: "…what is Anglicanism but a kind of Christianity adapted to the English temperament – cool gentlemanly, at its best in an Oxford College chapel
9 Lewis is the ideal persuader for the half convinced, for the good man who would like to be a Christian but finds his intellect getting in the way Lewis will always steady the waverer, convert the soul ready for conversion Yet joy exists, and there has to be a source When we find the source, which is God, we may not need joy anymore Not, that is, till we get down to the serious business of Heaven…"
[1088]Вторник, 3 января 1978
Новый год встретил нас морозом, снегом, солнцем. Все эти дни дома, в лености и безделии, которые начинают мучить мою совесть.
Читаю книгу покойного М.Н.Эндена "Raspoutme ou la fascination"
[1089], книгу умную, спокойную, доброжелательную, но потому и особенно рельефно являющую весь ужас последних лет Империи. И опять меня больше всего поражает и "сражает" сила этой темной религиозности, власть, так легко получаемая всякими псевдомистиками, шарлатанами, самозванцами, этот якобы "религиозный" подход к миру. Впечатление такое, что ни от чего не отрекается человек так легко, как от ума, рассуждения, подвига проверки, трезвости, "различения духов"
[1090].
До этого перечитывал (попались под руку) "Опавшие листья" Розанова. В чем-то он меня отталкивает, но как часто и восхищает (страницы о Леонтьеве, Гоголе, Толстом, об "интеллигенции" и т.д.) Чуждо мне в нем все, что касается пола: тут какая-то одержимость.
Также письма С.S.Lewis. Но тут нужны выписки (книга осталась в Крествуде).
Среда4 января1978
С.S.Lewis "Letters of С.S.Lewis"
[1091] (Harvest Book, Harcourt Brace lovanovich, 1975)
P.176: "Mark my words you will presently see both a Leftist and a Rightist pseudo-theology developing – the abomination will stand where it ought not…"
P.179: "Lord! How I loathe great issues. How I wish they were all adjourned sine die . "Dynamic" I think is one of the words invented for this age which sums up what it likes and I abominate…"
P.181: "…I think that the sweetly-attractive-human Jesus is a product of 19th -century skepticism, produced by people who were ceasing to believe m His divinity but wanted to keep as much Christianity as they could…" P 195: "…what really worries me is the feeling (often on waking in the morning) that there is really nothing I dislike so much as religion – that it's all against the gram, and I wonder if I can really outgrow it?.. If our faith is true, then this is just what it ought to feel like until the new man is full grown…"
P.228: "…the subordination of Nature is demanded if only in the interests of Nature itself All the beauty withers when we try to make it an absolute Put first things first, and we get second things thrown in, put second things first and we lose both first and second things…"
P.268: "Well, let's go on disagreeing but don't let us
judge . What does not suit us may suit possible converts of a different type. My model here is the behavior of the congregation at a Russian Orthodox service, where some sit, some he on their faces, some stand, some kneel, some walk about, and n
o one take\ the slightest notice of what anyone else is doing. That is good sense, good manners, and good Christianity. "Mind one's own business" is a good rale in religion as in other things…"
[1092].
Номер "Русской мысли" со статьями о Галиче и Набокове. Об этом последнем: Вейдле, Каннак, Бахрах. Но все как-то случайно, "marginal"
[1093]… Нет сейчас "за рубежом" кого-то, кто сказал бы то, что нужно, на глубине и "с властью"… Что касается статей о Галиче (Максимов, Плющ…), то в них та "тональность", присущая всему, что пишут "третьи", которая все-таки всегда отдает пропагандой, нажатой педалью Между тем как ясно, что Набоков – явление исключительное во всех смыслах этого слова и что именно исключительность его следовало бы попытаться понять и объяснить – себе в первую очередь.
Кончил Распутина. Благородство, подлинная "порядочность" Эндена. Та доброжелательность ума, соединение ума, совести и правдивости, которые все больше и больше кажутся мне
единственным мерилом, и условием, и сущностью "христианского подхода" к чему бы то ни было… С необычайной силой пережил снова ужас обреченности России, ужас "искренней" слепоты Государя, болезни императрицы, мелкотравчатости интеллигенции и т.д. Все это давно известно, но Энден показывает все это необычайно убедительно, ибо изнутри видит правду и неправду каждой из действовавших тогда сил. Один из самых убедительных его выводов, правда русской монархии, неправда "абсолютизма", навязанного ей Петром и ее погубившая. Вот уж действительно – tout se paye
[1094]…
Четверг, 5 января 1978
Первым делом новоизбранного нью-йоркского мэра Коча был "указ", запрещающий городскому управлению какую бы то ни было дискриминацию против гомосексуалистов. Восторг "Нью-Йорк тайме": "a new climate!"
[1095]. Сейчас, по дороге из Нью-Йорка, слушал радио. Тоже восторг, с придыханием, с похвалами мужеству (!) мэра и с громогласной риторикой о свободе, правах и т.д. Терминология выкристаллизовалась: речь идет о "sexual orientation", "sexual preferences"
[1096] – и все… Точно о праве предпочитать кофе или чай… Страшно более всего за ту самую "свободу" и "права", во имя которых все это говорится и делается. Мужество! Наоборот: "свободный" мир все больше и больше пропитан страхом, конформизмом, почти террором. Самое страшное то, что уже сейчас каждый, кто выступает
против , автоматически воспринимается как идиот, фашист, ихтиозавр… Мне всегда казались скучными преувеличениями все вопли о "закате Запада". Увы, я и сам начинаю думать, что этот закат, это гниение действительно налицо и ускоряются в своих темпах. Когда защита неправды звучит как защита правды, как возвышенная проповедь, когда, иными словами, черное провозглашается белым и наоборот, – совершается грех. И это значит – в саму ткань жизни входит и воцаряется смерть.
Первое письмо от Сережи и Мани из Иоганнесбурга, счастливое и "благополучное".
Среда, 11 января 1978
Кончил книгу вл. Иоанна Шаховского "Биография юности". Удивительная книга, удивительный человек, всю жизнь проживший в каком-то безоблачном, счастливом романе с самим собою, в никогда не дрогнувшем убеждении, что он обо всем судит "духовно". Нестерпимая для меня "литературность" этой духовности. Это почувствовал и хорошо выразил К.В.Мочульский, письмо которого приводит Шаховской (стр.250):
"…Вы скажете, что о некоторых вещах нельзя говорить просто и ясно, – и я Вам отвечу, что в таком случае я предпочту об этом вслух совсем не говорить. Намек и недоговоренность мне не по душе. Усложненность мне всегда кажется произволом, ибо простота – величайшая трудность – и недостаток ее – неудача или ошибка…
Чем больше я вчитываюсь в Ваши письма, тем больше недоумеваю. Откуда у Вас эта сложная, запутанная фразеология, почему Вы с ней не боретесь? Почему Вы как будто любите Ваше, как Вы выражаетесь, "косноязычие"? Символизм необходим как ступень, но останавливаться на ней нельзя. Подлинный мистический опыт никаких символов не знает – ибо он чистейший и полнейший реализм. Двух миров не существует для верующего человека – есть только один мир – в Боге, и это просто и реально. Зачем же говорить загадками, да еще в стиле германской идеалистической философии?"
Милый Константин Васильевич! За эти строчки хочется руки ему целовать. Но его давно нет, и вот, только прочтя это письмо, так ясно вспомнил его – в Богословском институте, в "кружке" матери Марии, маленького, хрупкого, радостного… Где-то у меня должно храниться письмо, написанное им – из больницы уже – к моей свадьбе. Читаешь эти слова – еще неверующего человека – и стыдно становится не только за Шаховского, а за весь поток той мутной, горделивой "духовности", что замутняет собою это "реально и просто".
В прошлое воскресенье у Л.Д.Ржевского. Андрей Седых, художники Голлербах и Шаталов, поэтесса Валентина Синкевич, П.А.Муравьев, жены и какие-то еще "литературные" дамы – среди них сильно постаревшая С.М.Гринберг. Давно-давно не был в этом мире, который тоже живет, суетится, "творит", обсуждает… Мир, в основном, "второй" эмиграции. Чтенье стихов, рассказов. Ржевский – "мэтр", Седых – "генерал". Сидел, разговаривал, думал: так, в сущности, было всегда: "салоны", уют мягкого света, тепла, маленького "микрокосма". И в скольких таких "микрокосмах" я чувствую себя одинаково "своим" и "чужим". Радость от того, что пришел, но и радость от того, что уйду.
Только что звонил во Францию B.C.Варшавскому. Ему 19-го предстоит open heart surgery
[1097] , и, по словам Тани Терентьевой, положение серьезное. Кто знает – может быть, последний мой разговор с одним из самых светлых людей, встреченных мною в жизни… И сразу о – для него – главном: о Буковском, о Максимове, о новом журнале, от участия в котором Варшавский отказался, об испанском короле… Кругом смерти и смерти, а вот так не хочется, чтобы он умер…
Новый "Континент" (14). Скучно, барабанно, митингово. И все кого-то журнал "приветствует" (кардинала Слипого на этот раз!), и что-то все "декларирует", и раздает медали. Примечательны: статья некоего Алексея Лосева о Бродском и, конечно, сам Бродский… Но и то и другое все больше идет в какую-то "заумь", в ту "усложненность", о которой говорит Мочульский. Ни сердце, ни ум не вспыхивают той радостью, что дает чистая поэзия.
Страшный мороз, солнце и ветер.
Четверг, 12 января 1978
Завтрак, вчера в Biltmore, с Виктором Соколовым, "диссидентом", которого я встретил в прошлом году в Калифорнии у о.Г.Бенигсена. Умный, живой, тоже стремится к богословию, к Церкви.
В "Le Monde" интервью Simone de Beauvoir: главная трагедия женщины – ей не дают работать. В этом отношении в СССР лучше – там ей дают работать … Ну что после этого думать об интеллигенции вообще, левой и французской в частности?
Воскресенье, 15 января 1978
Чтение во время week-end'а книги 3.Гиппиус "Живые лица" (I-II). Больше всего поразило, что на протяжении всех этих страниц
ни разу не употребила она женской глагольной формы: я "вид
ела " или "дум
ал а" и т.д. Что это – maniйrisme
[1098] или что-то другое Книга эта мне не кажется замечательной, но иногда отдельные мысли или фразы хочется запомнить, особенно о Вырубовой ("Маленький Анин домик").
"При дворе" (стр.126):
"…своя среда… Мещанская? Не знаю, во всяком случае, потрясающе некультурная, невежественная".
Понедельник, 16 января 1978
Кончил "Живые лица" Гиппиус. Нет, все-таки по-своему замечательная книга. Чтобы остаться в той же, так всегда меня интересующей, атмосфере, перелистывал "Неизданные письма" Цветаевой. Всегда страшная к ней, к ее беззащитности жалость. А вместе с тем сильное отталкивание от всего ее стиля и тона. Мне не по душе вечный ее напролом . А также постоянная игра словами, ее, хотя и действительно потрясающий, но мне как бы подозрительный, "словесный дар", чуть ли не какая-то поэтическая "глоссолалия". Я понимаю теперь, что это же самое меня отталкивает в раннем (да и не только раннем) Пастернаке. Ее искусство не имело в себе смирения, настоящего, Божественного смирения. Она словом "владела", над ним "владычествовала", как именно владычества хочет она и над своими корреспондентами. Она им целиком, без остатка отдается , но с тем, чтобы они не только так же отдались ей, а изнутри ей, ее любви, ее "напролом" подчинились. И, однако, какая во всем этом жалость, как ее бесконечно, безмерно жалко.
Искусство самоутвержденья , искусство – власть над словом, искусство без смирения. В другом "регистре" – это также Набоков. И потому искусство таланта (который все может), а не гения (который "не может не…"). В Набокове, может быть, и был гений, но он предпочел талант, предпочел власть (над словами), предпочел "творчество" – служению. Кривая таланта – от удачи к неудаче ("Ада", поздний Набоков, которому так очевидно нечего больше сказать, ибо все возможные – в его таланте – удачи исчерпаны). Гений, даже самый маленький, ибо гений совсем не обязательно "огромен", – от неудачи к удаче (по-настоящему чаще всего – посмертной, ибо требующей отдаления или даже, по "закону" или "пути зерна", – смерти и воскресения…). В Цветаевой гения, пожалуй, и не было. Но был огромный талант, и отсюда – психология всесилия, вызова, требования, самоутверждения (не как человека, а как поэта), бескомпромиссности (утверждения несомненной правды своего искусства при слепоте к "искусству правды"). Цветаева любила в себе свою "стопроцентность", "жертвенность", "безмерность" и, в сущности, не признавала за собою – поскольку абсолютно отождествляла себя, и, наверное, справедливо, с поэтом в себе – никаких недостатков. И потому виноваты (в ее тяжелой жизни, в невозможности из-за этого творить и т.д.) всегда были Другие. В отличие от Блока, от Ахматовой, она – человек без чувства вины или ответственности (кроме как за правду своего искусства, его подлинности , а не "подделки"). Те берут на себя – Россию, мир, революцию, грехи и т.д., Цветаева – нет. Поэтому Блок, Ахматова, даже погибая, побеждают, преображают своим творчеством тьму и хаос. Цветаева гибнет пораженная. В трагедии Блока, Ахматовой, Мандельштама – есть торжество . В гибели Цветаевой – только ужас, только жалость, победа бессмысленной "Елабуги". А Набоков, тот даже не "гибнет". Его гибель – это тот мертвый свет, который навсегда излучает его искусство.
Среда, 18 января 1978
Продолжаю читать письма Цветаевой. И отказываюсь от позавчерашних "рассуждений". Только жалость, только ужас от этой замученной жизни…
Два дня бешеной работы в семинарии: в понедельник 23-го начинается новый семестр. Мелочи, заботы, но тут же и несчастные любви и т.д. Одно расписание лекций стоило нескольких часов… Вчера днем и вечером – снежная буря. Ночевал в Крествуде, "богословствовали" с Томом [Хопко].
Пятница, 20 января 1978
Ужин вчера с Григоренко, генералом, и его женой Зинаидой Михайловной, у сына Андрея. Впечатление: очень хорошие русские люди, светлые, честные, мужественные. Если таких много в России – должна быть надежда. Негодуют на свары среди эмигрантов, но сами бранят "Континент"… Так и не понял за что..
Снежная буря, настоящая вьюга. Вчера поздно вечером ждали с о.К.[Фотиевым] поезда на [надземной] станции метро в Квинсе. И вдруг такое странное чувство, своего рода bliss
[1099] – от этого заснеженного города, фонарей, скрипа лопат, очищающих с тротуаров снег.
Все эти дни – работа: "Таинство возношения". И, как всегда, – другое самочувствие, постоянная внутренняя работа мысли.
Суббота, 21 января 197 8
Дома, в Нью-Йорке. Город занесен снегом. Вчера не было никакого движения автомобилей, и масса детей на лыжах и в салазках посередине улиц. Праздник в воздухе.
Только что ходил выкапывать нашу машину. Возвращаясь, почти прямо напротив нашего дома вижу полицейские машины, ambulance
[1100], толпу. Оказывается hold-up
[1101]. Выносят старика-владельца всего в крови, с простреленным лицом. И праздник солнечного снежного дня меркнет в этом ужасе бессмыслицы, жестокости, зверства.
Эти два – неожиданных – дня затвора, тишины – провожу в работе ("Таинство возношения"). Пишу, как всегда, мучительно, переписывая по десяти раз. Но вот что всегда меня удивляет: сажусь, как будто зная, что я хочу сказать; говорю, однако, всегда другое, не то или, во всяком случае, совсем по-другому. Точно только в писании, в выражении открывается мне то, что я хочу сказать. Так же, но в меньшей мере, и с лекциями.
Разговор с Иоганнесбургом, с Манюшей. Все хорошо.
В письмах Цветаевой. О крестинах ее сына Мура, в Духов день 1925 года о.С.Булгаковым.
Стр. 182: "Чин крещения долгий, весь из заклинания бесов, чувствуется их страшный напор, борьба за власть. И вот церковь, упираясь обеими руками в толщу, в гущу, в живую стену бесовства и колдовства: "Запрещаю – отойди – изыди". – Ратоборство. Замечательно. В одном месте, когда особенно изгоняли, навек запрещали (вроде: "отрекаюсь от ветхия его прелести"), у меня выкатились две огромные слезы – не сахарные! Точно это мне вход заступали, в Мура. Одно Алино замечательное слово накануне крестин: "Мама, а вдруг, когда он скажет 'дунь и сплюнь'. Вы… исчезнете?" Робко, точно прося не исчезать. Я потом рассказывала о.Сергию, слушал взволнованно, может быть, того же боялся? (На то же, втайне, надеялся?)".
Цветаева отождествляла себя с Романтикой (большая буква – ее, в письме на стр.187: "…от всей Романтики и последнего (в этой стране все – последнее!) глашатая, нет, солдата ее – меня". Но Романтика – это одна сплошная душа, но без Духа , и потому беззащитность души – при всем ее свете – от тьмы и бесовщины. Может быть, именно это она и почувствовала во время крестин сына. Тоже в письмах где-то пишет, что 16-ти лет заставляла икону Николая Чудотворца – портретом Наполеона (!!!). Тяга на дерзание, на пересечение черты: верный признак "тьмы".
Понедельник, 23 января 1978
Сегодня – прием и молебен в Syosset. Во время молебна вдруг поразил солнечным лучом светящийся, горящий позолотой подсвечник. Словно – вещи молча говорят нам, напоминают о чем-то, показывают. И так как время тут ни при чем – всегда это явление – мимолетное – вечности.
Письма Цветаевой к Пастернаку. Как можно так писать и как "стыдно", должно быть, такие письма получать? Сплошной вопль, до предела нажатая педаль. Бедная женщина… При чтении этой книги все время вопрос: почему на долю одних выпадает столько трудностей, такая беспросветно тяжелая жизнь, а другим – нет? Ведь, в сущности, ей так мало нужно было, но вот даже этого мало никогда, ни на день ей не было дано. В чем здесь доля – не "вины" ее – а отсутствия в ней чего-то и, одновременно, присутствия ! Отсутствия чувства меры, того приятия жизни – то есть повседневности, которое необходимо для победы над ней, присутствия пафоса, требования, "бескомпромиссности" и потому своего рода мании преследования. Одно дело говорить правду и, если нужно, "страдать" за нее. Другое – "лезть на рожон", "резать правду-матку" (или то, что – в данную минуту – ею считаешь) и видеть в каждом несогласном – врага. А М.Ц. вся во втором варианте. Все так преувеличенно, так громко, так "нарочно", что люди – так мне кажется – поневоле от нее бежали, а она переживала это как одиночество и травлю.
Сегодня в Times постановление какой-то study group
[1102] Пресвитерианской Церкви – рекомендация рукоположения гомосексуалов.
Суматоха в семинарии – регистрация на весенний семестр.
Вторник, 24 января 1978
Цветаева:
Стр.450: "…замечаю, что ненавижу все, что – любие: самолюбие, честолюбие, властолюбие, сластолюбие, человеколюбие – всякое по-иному, но все равно. Люблю любовь… а не любие . (Даже боголюбия не выношу: сразу религиозно-философские собрания, где все что угодно, кроме Бога и любви)".
Кончил эти письма, и чувство, что редко приходилось читать такую трагическую книгу. История утопающей на глазах у всех… И второе чувство: письма эти устанавливают живую личную связь. Уже в воскресенье – как-то естественно, ненарочито – помянул рабу Божию Марину на проскомидии. Вот уж действительно к ней можно отнести слова молитвы: "покоя, тишины…".
"Мания величия" не у нее, а у ее искусства. Сама говорит – "le divin orgueil"
[1103]. В том-то все и дело, однако, что у Бога нет orgueil… И потому и в поэзии ее – самое слабое, как раз, все
большое – поэмы: "Перекоп", "Крысолов". А подлинное и
хорошее – стихи (лирика), проза и вот письма.
Среда, 25 января 1978
Снег. Дождь. Оттепель. Невероятные лужи, вроде потопа. Ездить по улицам почти невозможно. Всегда удивительно, как просто вот такая погода "ни во что вменяет" наше хрупкое благополучие, всю ту "полированную", по видимости – без сучка и задоринки, жизнь, которую устроили себе люди.
Пятница, 27января 1978
Хожу смотрю на людей и удивляюсь тому, как много из них не имеют никакого "выражения лица", потому что лицу их абсолютно нечего выражать.
Отец П.Лазор докладывает мне сегодня о катастрофе с С., которой следовало ожидать. Все та же "проблема" гомосексуализма. Выбрасывать на улицу? Пихать в тьму и отчаянье? Длинный разговор с ним сегодня. Решение нужно будет принять в понедельник.
Первая лекция, и сразу чувство, что вернулся к своему делу, к моему "devoir d'etat".
Анализ в [журнале] "Nouvel Observateur" итальянских террористических банд, которым "ничего не остается, кроме ненависти и убийства". Но почему эго всеми абсолютно на веру принимается – "ничего не остается"? Что, над ними – солнце не светит, трава не растет, не живут люди, нельзя любить, радоваться, печалиться? Вот плоды преступного кретинизма нашего века – сначала создали этот культ "молодых", потом из них же монстров.
В том же номере большая анкета о Католической Церкви во Франции, то есть на деле – о ее распаде и "выветривании". И не знаешь, что хуже – священник-коммунист или священник-интегрист?
Только что сопровождал митр. Феодосия к [греческому] архиепископу Иакову. В Константинополе, по словам этого последнего, осталось пять-семь тысяч греков! Но и эти постепенно уезжают. Неужели нам суждено быть свидетелями конца "Константинополя"? А православные все [говорят]: "древние восточные патриархии…" Все Православие точно зачаровано поистине вселенским "градом Китежем". Вдруг стало ясно: все ставят на "духовность", но умирает-то то, что для христианства главное: Церковь . Удивительно: именно "духовные" начали расшатывать Церковь. Они отвергли Евхаристию как таинство Церкви ("недостойны!"). Они свели Церковь к религии, а религию к себе… И мир остался без Церкви, или, вернее, – с разными ее остатками: "национальными", "этническими", "обрядовыми" и т.д.
Письмо от мамы. Она переезжает в [старческий дом] Cormeille en Parisis.
Каир. Пятница, 10 февраля 1978
Первое утро в Каире. Еще ничего не видел, кроме отеля, о котором ниже… Зато вчера – между аэропланами – пять часов в Риме. После нью-йоркских сугробов – мягкий, прохладный, солнечный, словно в дымке, день… Все подлинно "лучезарно". Приехал около одиннадцати утра на San Pietro и оттуда начал свое бродяжничество. Через Тибр по мосту Am ела на любимейшую piazza Navona, затем по маленьким уличкам на piazza di Spagna… Завтрак в полутемной харчевне. И дальше, все пешком, через весь город, обратно на станцию. Постоял у пустого Foro Trojano. Авентин… Как в сказке: вдруг – из ничего – пять часов в Риме…
Страшное уродство предместий по дороге с аэродрома. Уродство всего, что не прошлое: как это, в конце концов, – страшно. Словно безудержный рост некоего рака, чего-то смертельного. И вдруг среди этого уродства (особенно ужасны "кладбища" старых автомобилей) старая огромная церковь, и она кажется "заплаканной", безнадежно ненужной в своей истлевающей красоте… Так же и люди. На лицах старых или пожилых – печать человечности, присущей человеку печали, заботы. И рядом кошмарная молодежь… На piazza Navona двое таких гомункулов требуют (именно требуют, не просят) сто лир. Не дал.
В десять часов вечера прилет в Каир. Повсюду – полуоборванные, неряшливые солдаты с ручными пулеметами. Смесь тревоги и беспечности в воздухе. Впечатление такое, что, если бы кого-нибудь в толпе вдруг схватили и расстреляли, это было бы "в порядке вещей". В темноте из автомобиля мало что видно. Но то, что видно, напоминает Дамаск. Беспорядок, грязь, какие-то одновременно как будто и новые, и рассыпающиеся здания. Все полунищее, после Америки с ее сплошной тратой… Отель, мебель, простыни… Но арабы, подающие завтрак (в своих арабских костюмах), по-детски приветливы и дружелюбны.
Только что (в девять часов утра), в ожидании моих коптских хозяев, прошелся по кварталу. Как это описать? Прежде всего, снова бросается в глаза чудовищное уродство бесформенных бетонных желто-грязных домов, которыми застроен весь город. Удручающая грязь, пыль, беднота. Половина людей (бегущих куда-то непрерывной волной) – в "бурнусах", другая – в бедном и дешевом "западном" обличье… И как все бедно! Торжество – в витринах – ужасающего "консюмеризма". Жалкий, бездушный, безвкусный "Запад" на нищем "Востоке". Несутся расхлябанные автобусы с грудами людей. Какой-то гигантский Бронкс, но залитый солнцем… В Каире – говорит мне вчера коптский епископ Самуил, встречавший меня, – восемь миллионов жителей. Ясно, что прокормить их может только "западное" (техника и т.п.). Но, кормя, убивает душу, превращает вот в эту бесформенную, кишащую толпу и вдобавок хочет, чтобы была "демократия". Это, пожалуй, мое первое соприкосновение с damnes de la terre
[1104]. И страшное чувство, что все это не может, рано или поздно, не броситься крушить "Запад", то есть – обманувшую мечту. Старый "неподвижный" Восток умирает – просто от
количества . И заменить его в сознании людей способна только
утопия . А она – обман… Страшно…
Что обо всем этом, что всему этому должно было бы сказать христианство?
И какими смешными, после этой всего лишь десятиминутной прогулки по Каиру, кажутся рассуждения американских либералов о "the poor"
[1105] и "the minorities"
[1106] в Америке, а французских левых о невыносимости жизни и необходимости "changer la vie"
[1107]…
Быть может, если бы социализм не был верой в самого себя как в Царство Божие, он мог бы быть ответом. Мне кажется, что именно недолжная в нем вера в самого себя, самоуверенность превращает его неизбежно в тоталитаризм. Правда социализма в его ненависти к "наживе" как основному двигателю жизни. Неправда – в идее коллективной наживы, то есть в "материальности" конечной цели, в подчинении ей человека, в отрыве его от вечности …
Суббота, 11 февраля 1978
Погружение – вчера и сегодня – в совсем незнакомый мне мир коптского христианства. И я должен сразу же выразить свое главное впечатление: c'est edifiant и c'est vivant
[1108]…
Я помню свое ужасное впечатление от посещения в 1971 году Антиохийской Патриархии в Дамаске, а до этого – в 1966 – Иерусалима, Стамбула. Афин… Всегда это унылое чувство пережитка, номинализма, угасания, скованности прошлым, всей этой "церковности" как existence of a non-existent world
[1109]. Безжизненные иерархи. Страх. Ложь, коррупция. "Византинизм".
И вот встреча в прошлом году в Лос-Анджелесе с папой Шенуди III, патриархом Коптской Церкви. Впечатление сразу же подлинности, жизненности, духовности, открытости. А теперь в Каире – встреча с самой коптской peaльностью. Их, коптов, в Египте около семи миллионов! И эта Церковь, несмотря на века гонений (византийских, арабских, турецких), несмотря на окружающее ее море Ислама, на одиночество, на весь духовно-политический хаос Ближнего Востока, – жива и возрождается! Какой урок тоскливым византийцам, всему "греческому раку" на теле Православия!
Утром – длинный прием у Шенуди. Сразу о главном – о Церкви, о путях к единству, о миссии, об Африке, о молодежи… Осмотр грандиозного нового собора, семинарии, типографии, недостроенного "папского дворца". Много безвкусия, но это от веков гетто, которое стихийно преодолевается изнутри…
Вечером нечто поразительное. В битком набитом соборе семь тысяч человек слушают – как и каждую пятницу – патриарха. Перед ним на маленьком столике сотни бумажек с вопросами. Он выбирает пять-шесть и отвечает, поразительно по простоте и вместе с тем глубине (о смысле молитвы "Господи помилуй"; о смерти матери – где она теперь; пятнадцатилетней девочке: можно ли ей идти в монастырь; кому-то, кто обещал, если выдержит экзамен, работать в церковной школе и не исполнил своего обещания, и т.д.). Затем читает лекцию – об искушениях Христа в пустыне, и опять – подлинно, живо, пастырски, питательно… Где в Православии можно увидеть, испытать это: патриарха с народом, в живой беседе?
Днем до этого – пирамиды. Я рад, что поехал, – нельзя побывать в Каире и их не посмотреть. Но внутренне они на меня "не действуют". Умом понимаю их интерес, грандиозность, своеобразную красоту. Но для души – все это мертвое, не мое , прошлое, оторванное, туристическое. Жива, подлинна только пустыня. А пирамиды и сфинкс – мертвый памятник мертвой гордыни.
Сегодня зато день необыкновенный: посещение трех монастырей в этой самой пустыне, с фактически непрерванной традицией от Антония Великого, Макария Великого и т.д. Гробница Ефрема Сирина! Но самое поразительное, конечно, это то, что все это живет . Настоящие монахи! Да я отродясь только и видел, что подражание, игру в монашество, побрякушки, подделку, стилизацию и, главное, безудержную болтовню о монашестве и "духовности". Но вот они – в настоящей пустыне! В настоящем подвиге… И сколько молодых. И никакой рекламы, никаких брошюр о духовности. О них никто ничего не знает, и им это все равно. Все это просто ошеломляет. Тысячи вопросов в голове, но в них придется разбираться постепенно. А сейчас эта поездка в пустыню остается чем-то лучезарным…
Воскресенье, 12 февраля 1978
Утром – старый Каир. Литургия в коптской церкви. Впечатление как бы мутное. С одной стороны – это несомненное "александрийство". Все "под покровом", сквозь покровы… Маленькие Царские врата и там, у престола, священник совершает нечто "потустороннее". Совершает необычайно медленно, под один длинный-длинный, совершенно неподражаемый напев молитвы… А с другой стороны – освежительное отсутствие "византинизма".
Коптский квартал в старом Каире: гетто – почти скрытые входы в храм. За этим – тысячелетняя отверженность, привычка "скрываться", жить в себе; тут, пожалуй, влияние и "пустыни", монашества. Все запущено.
Женский монастырь зато – тихий, солнечный, радостный.
Вокруг – старый Каир, описать который невозможно. Он одновременно и кишащий, бесконечно оживленный, но и как бы в этом кишении застывший, ибо неизменный.
После обеда длинная прогулка по Каиру под почти летним солнцем. Грязь, шум, "нагроможденность" этого города совершенно поразительны. И бедность, страшная бедность. Все чем-то торгуют, но как-то безнадежно, безучастно. Купят так купят, не купят так не купят. Чувство такое, что ни у кого нет никакой "проекции" в будущее (улучшение жизни и т.д.), ибо нет веры в него. Фатализм: привычной бедности? Ислама? Прожить день, посидеть, покурить, побеседовать. Бедность одежды. Повсюду сидят – даже просто на корточках – старые арабы как бы в каком-то столбняке. Но когда спрашиваешь, как пройти, – очень дружественны…
Другой, абсолютно другой мир. И не знаешь, правильно ли, нужно ли тянуть его в западную цивилизацию. Однако ясно, что без нее он просто помрет с голоду…
Все как бы без будущего – и арабы, и копты. Настоящее состоит в том. чтобы выжить . Понятно, почему лучшее уходит в монастырь. Мир – это "выживание". Какой уж тут "космизм", "эсхатология", "действие", "миссия"… В связи с этим – размышления об исламе, о роковом значении его в истории вообще, в истории христианства в частности.
Понедельник, 13 февраля 1978
Вот и последний вечер, последний закат в Каире. И, как всегда, в душе – дымка грусти… Когда приезжаешь – считаешь дни до отъезда. А потом – как если бы все это – город с его непередаваемой атмосферой, люди, освещение – "пропитывает" собою душу… Я не хотел бы здесь жить. Я не люблю "Востока". Здесь с особенной силой чувствую, до какой степени Запад – моя родина, мой воздух. Рим, не говоря уже о Париже, мне духовно ближе, чем Афины, Стамбул, Палестина и, вот теперь, Каир и Египет. Я не верю в "восточную" мудрость, якобы недоступную Западу. И все-таки чувствую здесь прикосновение к чему-то важному и глубокому. Все-таки какая-то "мудрость" есть. Может быть, это сочетание бесконечной древности с детским восприятием
сейчас , которого больше совсем нет у западного человека. Здесь есть
время , на Западе его, пожалуй, больше нет. Здесь человек порабощен извне – но свободнее изнутри. На Западе он свободен извне, но порабощен всегда давящей его заботой. Здесь – "страшно" политически, но не страшно с людьми. На Западе – политическая security
[1110], но люди раздроблены, одиноки и им страшно друг с другом. Все это, возможно, поспешные обобщения. Не знаю, может быть… Но чувство такое, что нищая старуха в черных лохмотьях, просящая на тротуаре милостыню, не
отрезана , как на Западе, от других людей. Она остается членом, частью общества. На Западе, где общество не органично (особенно в Америке), каждый все время делает нечеловеческие усилия, чтобы "держаться на поверхности", не утонугь, и это и есть
забота . Там нужны деньги или успех. Или вернее – деньги как успех…
Но что будет с этим "Востоком", уже сдающимся, уже сдавшимся – изнутри – Западу? Был в гостях сегодня у "буржуазии" – доктора, профессора… И в них уже неудержимо проглядывает карикатура…
Четверг, 23 февраля 1978
Вернулся в Нью-Йорк в прошлую пятницу – 17-го, после двух с половиной дней в Париже. Мама – в старческом доме. Пронзительная грусть и жалость, хотя "объективно" ей там хорошо…
Общение с Андреем. Наташей. Завтрак с Н.Струве и Машей в Латинском квартале. Прогулка по Парижу. Тюильри под снегом… Привычный, необходимый для меня выход из моей жизни, погружение в некое "инобытие".
Погружение здесь в вечно кипящую "деятельность".
Известие вчера о смерти B.C.Варшавского. См. запись 11 января – мой последний, "предсмертный" разговор с ним по телефону.
Хочу хотя бы только перечислить книги, прочитанные за эти недели: Э.Голлербах о Розанове; J.Lacouture о Leon Blum; J.Guehenno, Maurice Clavel -"Deux siecles chez Lucifer"
[1111], очень замечательная, по-моему; "Самоубийство" Алданова.
Понедельник, 27 февраля 1978
Все эти дни – то есть с прошлой среды – "живу" с Варшавским. Перечел целиком его "Ожидание" и "Незамеченное поколение". Вот и видались мы с ним, после его отъезда в Европу, раз в два года, и почти не переписывались, а смерть его я ощущаю как действительно
утрату … Думал вчера, в связи с этим: у меня, в сущности, очень мало
друзей , a B.C. был несомненно другом, то есть кем-то, кто действительно стал частью
моей жизни… Все обдумываю статью о нем для "Вестника". Перечитывая "Ожидание", думал: это удивительно
хорошая книга и "с лица необщим выраженьем"
[1112], но как это показать и доказать? Полная и совершенно беззащитная правдивость, "сила, в слабости совершающаяся"
[1113]. Никакой подделки, никакого вопля, никакого самопревозношения.
Льяна уехала на три дня в Charleston, и сразу чувство одиночества, почти уныния. Весь вечер вчера не мог работать…
Уныние опять и от "мелочности" дел, которыми приходится безостановочно заниматься в семинарии, – ссор, интрижек, жалоб. Вот пели в субботу "На реках Вавилонских" – но кто слышит этот вздох? Всюду "инквизитор", только не великий, как у Достоевского, а маленький, самолюбивый, нервный, завистливый. Какое море недоверия, окапыванье в "своем".
И отсюда постоянный вопрос в душе: мое желанье уйти – что оно? Бегство с "поля брани" или же, напротив, шаг, от которого меня удерживает малодушие?
И вот как хорошо в эти дни мне было с Варшавским.
Пятница, 3 марта 1978
Панихида вчера в храме Христа Спасителя по B.C.Варшавскому. Почти никого в темном храме. Седых с женой, Яновский с Изабеллой, Т.Г.Терентьева, Кондратьева, о.А.Киселев и милый Н.Н.Сусанин. Сказал слово. Потом о.К.Ф[отиев] и Таня Т[ерентьева] у нас на Парк-авеню на блинах. Грустное впечатление от о.К.
Сегодня "Новый журнал". Статья Вейдле о Набокове, правильная, но с "приседаниями".
Опять снегопад. Обычно в конце февраля – начале марта уже чувствуется что-то предвесеннее. В этом году – ничего. Все сковано морозом, грязной белизной многонедельного снега и вот этим снегопадом. И, как сказал бы Андре Жид, "absence de ferveur"
[1114].
Воскресенье, 5 марта 1978
Крещение сегодня восьмилетней Лары Литвиновой, дочки Павла и Майи (дочери "Рубина"
[1115]), внучки наркоминдела Максима Литвинова, в ненависти к которому я был воспитан и который мне в восемь-девять лет представлялся чуть ли не рогатым животным. Лара сама захотела креститься…
Читаю толщенную книгу J.Lacouture о Lйon Blum. Все то же стремление – понять, почувствовать квинтэссенцию этой религии левого . Мне было тринадцать лет в год "6 fйvrier" (1934), развития [во Франции] "Народного фронта" и т.д. Я был в корпусе, где мы со смехом пели песенку русского "шансонье" Павла Троицкого: "И зачем Леона Блюма родила мамаша Блюм?.." "Правизна" была в крови как нечто самоочевидное. Теперь она мне невыносима, но так же невыносима и "левизна". Между тем деление это, поляризация эта не умирает. Почему? В чем тут дело?
Одно мне ясно: прекрасна в мире только "неудача", только бедность, жалость, сострадание, уязвимость. "Доля бедных, превратность судьбы". И еще беззащитность – дети… Все жирное, самоуверенное, громкое и преуспевающее – ужасно… Думал об этом в связи с рассказом (странным) Вейдле в "Новом журнале" ("Белое платье"). Гениальный символ Достоевского: "слезинка ребенка". Это никогда не входит в "музыку правого" и, может быть, породило "музыку левого"… "Правое" несовместимо с сегодняшним Евангелием: "В темнице бех…"
[1116]. Левое несовместимо с молитвой благодарения: "Велий еси, Господи…".
Вторник, 7 марта 1978
Прочел "залпом" присланную мне на отзыв диссертацию некоего Young о Федорове. Я продолжаю думать, что в его "проекте" воскресения или, может быть, лучше сказать, его захваченности воскресением (которое историческая Церковь действительно как-то "забыла") есть что-то бесконечно важное. Что-то тут было явлено, сказано Церкви, от чего нельзя отделаться иронией и сарказмом (Флоровский). "Мертвых воскрешайте"
[1117] – это все-таки что-нибудь да значит! Поэтому дефект и больше чем дефект Федорова не тут, а в его слепоте к эсхатологии, то есть в отсутствии в его видении Царства Божия: "И будет Бог всяческая во всем"
[1118], "Восстает тело духовное"
[1119]: весь вопрос, вся "проблема" (!) в том, что означает тут слово "духовное".
Среда, 8 марта 197 8
Федоров. "Воскрешение"… Всегда тот же вопрос: во что мы, собственно, верим, чего "хотением восхотели"? У Федорова так очевидно именно "хотение", чтобы вера двигала горами и воскрешала мертвых. Но почему всякое такое стопроцентное "хотение" как бы разрушает само себя, приводит к reductio ad absurdum?
[1120]Четверг, 9 марта 1978
Все эти дни недовольство собой – на глубине. Что я, собственно, "делаю" в жизни? В сущности – саркастически ворчу на всех "непонимающих", всех "делающих" не
то . Однако никакого
то я сам не делаю. Живу в какой-то постоянной "мечтательности", но пассивной, не активной. Ни молитвы, ни подвига. Искание "покоя". Лень… И когда все это чувствую, как вот в эти дни, и писать не хочется, столь очевидной становится ложь моей жизни. "Восстани, что спиши?.." И ведь действительно – "конец приближается"
[1121].
Продолжаю книгу о Блюме. 1936 год – который я так хорошо помню. Тот солнечный июнь, когда я ходил в [лицей] Carnot по гае Legendre мимо маленькой фабрики, а там шла grиve sur le tas
[1122] и висели красные флаги. И как все кругом меня и, следовательно, я сам животной ненавистью ненавидели Блюма и с восторгом повторяли слова Xavier Vallat: "…се vieux pays gallo-romain gouvernй par un juif…""
[1123]. А вот теперь читаю и сравниваю: Maurras (о нем я тоже недавно читал), радикалы, социалисты. И вся щедрость и сострадание были у Блюма, у ему подобных… Congйs payйs
[1124], сорокачасовая неделя казались концом мира. Но больше всего ужасает меня – ретроспективно – ненависть, казавшаяся не только оправданной, но и необходимой. И потом те же люди с восторгом приняли Гитлера. Но уже тогда – в сороковых годах – я стал что-то различать. И первое, что возникло в душе, в сознании, – это отвращение к ненависти, ко всяческим "непримиримостям". Я не стал ни на йоту "левым", но почувствовал непреодолимое отталкивание от всего "правого", от правой "ментальности", в сущности пронизанной ненавистью. И так оно продолжается и по сей день.
Как будто какие-то, почти незаметные, намеки на весну. Вчера ехал из Syosset (прием сербского епископа Cattor, заседание с Митрополитом, "дела"…) и смотрел на этот – уже весенний, уже с "обещанием" – закат за голыми, все еще заснеженными деревьями.
Пишу все это, чтобы оттянуть работу: писание скриптов…
Вторник, 14 марта 1978
Второй день Поста и второй день
некурени я, и, Боже мой, как это мучительно, бесконечно мучительно. Странно сказать, но именно тут ощущаешь со всей силой смысл всего того в молитве, вере, христианстве, что выражено этим непрестанным "Господи, помилуй" в ответ на Христово "без Меня не можете творити ничегоже…"
[1125]. В каком-то смысле, хотя я никогда об этом не писал,
курение уже давно составляет своеобразный "фокус" моей жизни, средоточие вопроса, как жить и т.д. Только курящие, и курящие, как я, на протяжении сорока лет, а в последние двадцать лет – по два пакета в день, повторяю – только вот такие курящие поймут, какая эта огромная и мучительная и решающая – нет, не "проблема", а тяжесть и как, на глубине, в подсознании, все с ней так или иначе связано
Закончил Блюма и все в тех же раздумьях начал Н.Guillemin "L'arriиre-pensйe de Jaurиs"
[1126].
Письмо от Н.Струве. Копия письма к нему О.Клемана. Его – то есть Клемана – отказ выступать со мной на съезде РСХД в мае (из-за моего интервью в "Le Messager") и т.д. Очередная буря в стакане воды (парижском…). Но все же буря знаменательная. Засел за ответ Клеману. А тут надвигается синод – наш – и м[итрополит] Ф[еодосий] хочет "доклада"… И юбилей семинарии, и создание комитета помощи гонимым за веру. И мелкие, но липкие и неотлипающие "проблемки" в семинарии. И потому отчаяние… Зато службы, особенно псалмы ! Вот уж действительно – из глубины!
Четверг, 16 марта 1978
Вчера первая Преждеосвященная, до этого три дня исповедей и служб. Но все идет хорошо, и несколько раз подступала к сердцу та вот "полнота", объяснить, изложить которую невозможно, но которая одна только и убеждает…
Сравнительная неудача "левых" во Франции.
Израильское нашествие на Ливан.
Каким безумным все это кажется из глубины молитв, читаемых на Преждеосвященной Литургии! Но вот почему-то "не действуют" эти молитвы, и не действуют прежде всего на тех, кто их "охраняет" в мире. Я особенно сильно чувствую в эти дни, что евангельские выражения – "мир сей", "не от мира сего" – предельно конкретны. Вот я пишу – "не действуют". Но не действуют буквально в ту меру, в какую сама Церковь или христиане живут и действуют по логике "мира сего". Тогда все, сказанное ими в логике "не от мира сего", не действует, совершенно нейтрализовано. И это и в личной жизни, и в истории Церкви. Поскольку Церковь становится одним из "факторов", одной из составных частей "мира сего" (политики, национализма, игры "правого" и "левого", даже "религии") – ее подлинная message
[1127] не звучит , в лучшем случае, а в худшем – звучит как обман. Что такое "мир сей": это прежде всего расчет, вера в
расчет , и это всегда "логика силы".
Четверг, 23 марта 1978
Целая неделя – и абсолютное отсутствие времени. В воскресенье в Торонто (две проповеди, два доклада, вопросы и ответы…). Затем три дня – поездки в Syosset, на заседания синода. В промежутках лекции, и безнадежный, удручающий завал "дел" в семинарии.
Однако – урывками – чтение. В Торонто (в аэроплане, в кровати): Claude Mauriac "Introduction a une mystique de "enfer", затем H. Guillemm "L'arriere-pensee de Jaures"; наконец Cioran "Utopie et histoire"
[1128] – все три очень интересные. Записываю, чтобы не забыть…
Понедельник, 10 апреля 1978
"Записываю, чтобы не забыть…" А вот теперь даже не записываю, хотя, казалось бы, и есть что записать. Но – раздробленность времени, в котором живешь, суета, безостановочно накатывающие маленькие дела и делишки, разговоры, заседания, телефоны… Это своего рода Кафка, только без жестокости, без таинственного обвинителя. Но то же чувство без вины виноватого (не успел, не сделал, не поговорил), и потому в промежутках – даже длинных – между этими "делами" бросаешься в какую-то нирвану, и прежде всего в чтение…
Все-таки – для памяти – запишу (записываю только то, что, по-моему, ложится на душу светом и благодарностью).
Два дня с Л. в Палм-Спрингс (29-30 марта). Удивленье, восхищенье цветущей (буквально!) пустыней.
Week-end затем в Калифорнии.
Прошлая суббота – в Вашингтоне, где все расцветает! 150-летие со дня рожденья Толстого, симпозиум в George Washington University.
Чтенье, в связи с Толстым, сборника статей 1912 года "О религии Льва Толстого" (Булгаков, Бердяев, Эрн и т.д.). Замечательно. Пожалуй, лучше не скажешь. Удивительно, однако, что сказанное и доказанное не действуют. Разговоры, обсуждения опять начинаются с азов. Внучка Толстого Вера Ильинична, крайне обиженная моим докладом: "Ведь он же проповедовал добро, верил в Бога, любил… а Вы…" Все просто: чудный, добрый старик, которого не понял "гадкий" Синод.
Горести [оо.] Вани [Ткачука] в Монреале, Алеши [Виноградова] – на 71-й улице, Лени [Кишковского] – в Sea Cliff. Всюду то же самое: животная, иррациональная ненависть русских не только, скажем, к английскому языку, к одному слову по-английски, но буквально к самому факту, что их куда-то зовут, к чему-то призывают, просят осознать… Эта жуткая, демоническая самовлюбленность. Отрицание всякого рассуждения, логоса, анализа.
Дима Григорьев, в Вашингтоне, рассказывает о России, куда он часто ездит. То же самое, животный национализм, животный антисемитизм. Всегда – мы, наше … Или же уж тогда – хула и самооплевание. Но вот и каемся мы "лучше всех". "Духовное возрождение", "очищенье страданием" и т.д. А на деле то, что ползет "оттуда", – непомерно жутко. И иногда, признаюсь, слушая рассказы Вани, Алеши, Лени об их "приходских собраниях", о воплях вроде: "Там, где дело касается национализма, касается нашей русскости, кончаются любовь и терпение…" (verbatim), хочется проститься со всем этим "вечным расставанием".
"А вы терпеньем, любовью, постепенно" (советы владык Ване, Алеше, Лене)
И никакой охоты со всем этим бороться (в "Новом русском слове"?!). Охота подальше уйти. И, мне кажется, не от малодушия, а от сознания
невозможности – на этом уровне – даже намекнуть на то, "во имя чего" стоило бы бороться. Намекнуть на тайную, никогда не шумную
радость , на тайную, никогда не показную
красоту , на
смирение , никогда не самовосхваляющее себя,
добро . "Приидите ко Мне… и Аз упокою вы…"
[1129]. Как это совместить с безостановочно громыхающим: "Мы заявляем, мы требуем, мы протестуем…"
И как результат – слабость, лень, распущенность (во мне) и потому сознанье, что не мне говорить… Что-то "чеховское". Просто какой-то испуг перед "активизмом" (молодых в семинарии), от их жажды "пастырствовать", "руководить". У меня всегда чувство, что все это не нужно. Ибо если увидит человек то, что я называю
радостью , или, проще, хоть чуть-чуть полюбит Христа (придет к Нему), то все это действительно ему уже не нужно. Если же нет – то все это ему и не поможет. Все начинается с чуда, не с разговоров Усталость от той
возни , в которую превратилась Церковь, от отсутствия в ней воздуха, тишины, ритма, всего того, что
есть в Евангелии. Может быть, именно поэтому я так люблю
пустую церковь , когда она говорит самим своим молчаньем. Люблю ее "до" службы и "после" службы. Люблю все то, что людям кажется
промежуточным (идти солнечным утром на работу, посмотреть на закат, "посидеть спокойно"…) и потому неважным, но которое одно, мне кажется, и есть та щель, через которую светит таинственный луч. Только в эти промежутки и чувствую себя живым, обращенным к Богу, только в них биение "совсем иного бытия"
[1130]… Чувствовал это особенно сильно на днях, стоя в гараже (мне чинили шину) и "созерцая" людей, которые, озаренные закатом, шли домой с работы с покупками в руках. Или еще раньше: мать с двумя мальчиками на Пятой авеню, все трое бедно, но "празднично" одетые. Вывезла показать им Нью-Йорк. Почему это так на меня действует, что мне, самому несентиментальному и равнодушному (Л. dixit
[1131]) человеку, хочется плакать? Почему я так твердо знаю, что тут я прикасаюсь к "последнему", к тому,
о чем – вся радость, вся вера и обо что разбиваются все
проблемы!
Вторник, 11 апреля 1978
Семь часов вечера. Пишу после убийственно суетного дня в семинарии и перед – из последних сил – двухчасовой лекцией. "Проблемы", "ссоры" – и все в нашей маленькой, якобы христианской community
[1132]. Что всего сильнее в человеке? Замечаю это только сейчас, почти на старости, а так просто: самоутверждение, вот по Бобчинскому и Добчинскому: "Скажите, дескать, что есть Бобчинский…" А между "самоутвержденьями" – услада великопостных служб с "поклонами"…
Среда, 12 апреля 1978
Начинаю писать, думаю о Варшавском. О "литературных влияниях" и сравнениях. Влияние: два имени сразу же приходят на ум – Толстой и Пруст. От Толстого: нравственная забота о правдивости, "интроспекция". От Пруста: острое чувство времени, поиски его "воскресения". Сравнение: Набоков. У Набокова литература – это как бы защита от пустоты, "наполняющей" мир и грозящей, нарастающей, наползающей отовсюду. Так что
есть по-настоящему только то, что создает перо, хотя больше всего являет оно ту пустоту, на фоне которой создается, "есть" создаваемое пером. Кроме этой ослепительно отвлеченной
точки , на которую направлено творческое fiat
[1133] писателя, ничего нет, "безвоздушное пространство". И созидание потому только подчеркивает, усиливает пустоту… У Толстого (и Варшавского) – наоборот. Все описываемое, творимое, напротив, проявляет – хотя бы и в одной точке –
жизнь, мир . Набоков "подчеркивает" пустоту. Толстой – в одной "точке" всегда являет связанность всего жизнью…
Толстой, Пруст: творить можно потому, что все ест ь.
Набоков: творить можно потому, что ничего нет.
Там – любованье, тут – в конце концов – клевета.
Варшавский – это Толстой, "воспринявший" Достоевского (его "вертикаль") и Пруста (его "время", не космическое, как у Толстого, а антикосмическое, ибо – опыт умирания).
Тема – у Варшавского – рассеянности . Рассеянность – в "мире сем" – это ощущение другого присутствия, от занятости этим присутствием, от ожидания , что оно "прольется" в реальность.
У Варшавского – "аристократизм" демократии (отождествляемой псевдоаристократами с "плебейством" и потому "лижущими задницу" у любого диктатора). Варшавский – "рыцарь демократии", потому что для него она прежде всего утверждение личности . По Варшавскому – демократия совсем не однозначна с верой в "народ", не есть продукт "народничества". Она, напротив, от веры в дух и личность. "Формальные свободы" имеют смысл, как и их защита, только при вере в личность. Именно "коллективу" и "соборным личностям" они и не нужны.
Понедельник, 17 апреля 1978
В пятницу вечером – Похвала Богородицы. В субботу – службы, а между службами ежегодный кошмар: налоги… Вчера после Литургии проехались с Л. в Wappingers Falls [к Ане]. Завтракали по дороге в каком-то family restaurant
[1134]. Пожилые пары. Воскресная тишина. За окном – весной светящиеся холмы, деревья. Всегдашняя радость от прикосновения к самой жизни. Может быть, усиленная тем, что в субботу провел некоторое время со студентами других православных семинарий – греческой, украинской, тихоновской. Эти подрясники, бороды, поклоны, вся эта игра в религию чем дальше, тем больше меня отвращают. Подделка, фальшь, да еще пронизанные страхом, неуверенностью… Бедные мальчики. Не в том трагедия христианства, что Христос проповедовал Царство Божие, а явилась Церковь, нет – ибо она для того и "явилась", чтобы возвещать и являть Царство Божие "дондеже приидет", а в том, что она стала самоцелью, перестала быть "явлением", то есть оторвалась от Царства Божия, и сакральность ее перестала быть эсхатологической. Спорят о "штепселях" и "подводке", "проводах", но не о том свете, для которого они только и существуют…
Перечел в эти дни "Жизнь Тургенева" Б.Зайцева. Неискоренимая любовь к XIX веку, как русскому, так и западному. Это эпоха, мне кажется, когда, с одной стороны, в первый раз забрезжил опыт, идея, желанье полноты (плод христианства) и когда, с другой стороны, полнота эта стала трещать по всем швам и распадаться. Наш век живет уже отказом от полноты, бегством каждого в свое – маленькое, ограниченное и потому "негативное", живет, иными словами, редукциями.
Пафос нашей эпохи – борьба со злом – при полном отсутствии идеи или видения того добра , во имя которого борьба эта ведется. Борьба, таким образом, становится самоцелью. А борьба как самоцель неизбежно сама становится злом. Мир полон злых борцов со злом! И какая же это дьявольская карикатура. Неверующие – Тургенев, Чехов – еще знали добро , его свет и силу. Теперь даже верующие, и, может быть, больше всего именно верующие, знают только зло . И не понимают, что террористы всех мастей, о которых каждый день пишут газеты, – это продукт вот такой именно веры, это от провозглашения борьбы – целью и содержанием жизни, от полного отсутствия сколько бы убедительного опыта добра. Террористы с этой точки зрения последовательны. Если все зло , то все и нужно разрушить… Допрыгались.
Пишу это (восемь часов утра), а за окном масса маленьких чистеньких, светловолосых детей идут в школу. В каком мире им придется жить? Если бы еще их заставляли читать Тургенева и Чехова. Но нет, восторженные монахини научат их "бороться со злом" и укажут врага, которого нужно ненавидеть. Но никто не приобщит их к знанию добра , не даст услышать "звуков небес" лермонтовского Ангела. Того звука, про который Лермонтов сказал, что он "остался без слов, но живой". Звук, который один, в сущности, и дает "глубину" нашим "классикам"…
Четверг, 20 апреля 1978
Неожиданная, уже почти непривычная тишина и одиночество в нью-йоркской квартире… Во вторник вечером поездка в Bethlehem, Pa. Лекция, очень уютный вечер в семье профессора, у которого я ночую. А вместе с тем все разговоры вскрывают глубочайший "malaise"
[1135] школы, университетов как таковых. Точно перестало быть ясным, для чего они существуют, в чем их цель. Школа была, должна быть, с одной стороны, – включением новых поколений в живое преемство
культуры , а с другой, конечно, и одновременно и включением их в свободу, в критическое искание истины. Но, мне кажется, именно этих двух функций теперешняя школа и не выполняет. Она перестала быть "бескорыстной" – бескорыстным вхождением в культуру, бескорыстным исканием истины. В ней все подчинено либо профессии, к которой она якобы готовит, либо же идеологии, которую она насаждает. Она требует очень мало знания и вместе с тем – со стороны студента – постоянного обсуждения того, чего он не знает. Небольшое знание, увенчанное дипломами, делает его претенциозным, обсуждение – самоуверенным, а увлечения и разочарования его неглубокими и фрагментированными. Школа без измерения глубины, готовящая людей, которые убеждены, что они могут взяться за что угодно.
Ужин вчера у Штейнов с милейшим Наумом Коржавиным. Опять раскаленная атмосфера горячих споров, обсуждение "Континента", Синявского и т.д. Слушая их, а до того читая "Русскую мысль", все больше убеждаюсь в "разнородности" России, к которым обращены – "первая" и "третья" эмиграции, а поэтому и в их чуждости друг другу. "Первая" эмиграция как будто ничего другого не делала, как помнила Россию. А вот "к расчету стройся" выходит, что это совсем не та Россия, к которой обращена "третья". И тут ничего не поделать, если только не перерасти всего лишь "обращенности" или "памяти", не отойти от своей России ради более глубокого спора, отнесения ее к тому, что выше, важнее, глубже всякой "России" и даже всех их вместе. Этого, однако, никто не хочет, ибо каждый в своей России и видит "абсолют". Пока люди считают, что можно и должно служить России или Украине или вообще чему угодно в мире сем, они все равно служат идолам, и служенье это – тупик…
Великий понедельник, 24 апреля 1978
Лазарева суббота. Вербное воскресенье. Подъем, радость, чувство прикосновения, причастия к "единому на потребу". И, как особая милость, совсем исключительная лучезарность, солнечность, легкость этих двух дней, цветущих деревьев, пасхально радостных желтых форситий… В субботу после Литургии ездили на кладбище. Лазарева суббота – это больше чем какой-либо другой день, больше чем Пасха, – день для кладбища, потому что это день "общего воскресения уверения …". Вчера, между службами, весь день дома (хотя и с прогулкой вдоль Bronx River). Писал о Варшавском, как всегда, мучительно "рожая" тон, звучанье, ту невыразимую "суть", "выражением невыразимости" которой должна эта статья, или хотя бы я так надеюсь, быть… Вечером первая Страстная утреня. Единственное, что мешает "отдаться", – это чувство ответственности за все мелочи… В эти дни хочется полной безбытности или хотя бы облегчения груза жизни, а вот это-то и невозможно. Понимаю нутром чеховского архиерея, ставшего в предсмертном сне опять Павлушей, свободным ребенком. Но, конечно, соблазн этот не христианский – ибо настоящее христианство состояло бы в "одухотворении" груза, а не в раздраженном желании бегства от него…
Много исповедей в эти дни. Почему люди так неудержимо, так почти систематически, хотя почти всегда подсознательно, портят жизнь друг другу ! Между тем это именно так, это – суть "зла", и это так потому, должно быть, что "порча" эта есть изнанка той любви, для которой создан человек. Именно потому, что он создан для любви , человек, выпадая из нее, продолжает быть "связанным" этой неразрушимой связью, только теперь уже не с ближними, а с врагами . Сущность падшего мира: вражда всех ко всем, питаемая жаждой, неизбывностью любви, обреченностью человека на любовь.
Великий вторник, 25 апреля 1978
Пишу это, "отлынивая" от горы неотвеченных писем, на которые решил ответить, да вот – все никак не могу начать. Поехал для этого в семинарию. Не дали: два часа телефонов, разговоров, бесконечных "можно к вам зайти на минуту?"… Перелистал, ища в столе эту тетрадку, записи 1974 и следующих годов. Все те же жалобы на заедающую, уничтожающую меня жизнь, суету. Но это действительно страшное бремя моей жизни, и не знаю – как от него освободиться и нужно ли?..
Все эти дни тяжесть от исповедей, от невольного прикосновения к маленьким, но нудным "драмам", которыми, увы, изобилует семинарская жизнь. Есть, действительно есть в Америке какая-то подспудная, но все время прорывающаяся violence
[1136] наряду с детскостью, простотой и т.д. Страх? Самозащита в соревновании? Не дается тут тишина: "да тихое и безмолвное житие поживем…". Если человек гуляет, то потому, что ему это прописал доктор или он вычитал об этом в газете. В сущности – полное неумение
наслаждаться жизнью бескорыстно, останавливать время, чувствовать присутствие в нем вечности… Американец, по-моему, боится довериться жизни: солнцу, небу, покою: он все время должен все это иметь under control
[1137]. Отсюда – эта нервность в воздухе… И тоже эта постоянная направленность внимания на других, какая-то слежка всех за всеми.
Великая среда, 26 апреля 1978
Последняя Преждеосвященная, последние постные поклоны. Трехчасовая служба, но вот, только что, как будто начало "расплавляться" сердце, конец службы и… кабинет и одни за другими – Негребецкий и обсуждение деталей "юбилейного" банкета, коптский священник с женой (хлопочет о коптском студенте), телефоны: от Amnesty International
[1138]: просьба подписать что-то в связи с Аргентиной, от Bill Coffm'a (по тому же делу), Митрополит, канцелярия. И уже почти ничего не осталось от ритма, от света службы. В перерывах все пишу письма, а гора неотвеченных как будто не уменьшается… И вот уже четыре часа дня! Так, изнемогая, убегает время.
Письмо от Максимова, в ответ на мое с предложением статьи о Варшавском. Очень дружественное. Моя статья – пишет – привлечет к "Континенту" новых читателей, которых-де у меня в России великое множество…
Великая пятница, 28 апреля 1978
Ожидание и исполнение. Кажется, никогда не кончится пост, не сдвинутся с места эти бесконечные сорок дней… Затем в Лазареву субботу – "несбыточной" кажется Пасха… Но вот всегда приходит и всегда застает врасплох. Вот уж действительно: "Се жених грядет в полунощи…". Чувство такое, что совсем и не ждал и не готовился, что все равно безнадежно вне чертога…
Великий четверг вчера – и всегдашнее чувство, что времени нет. Что это
тот же самый Великий четверг, в который в детстве мы с Андреем шли по rue Legendre, а затем под распустившимися платанами Boulevard de Courcelles – на "Dam", или, может быть, еще более ранний… Что это не он к нам приходит, а мы возвращаемся к нему, снова в него погружаемся, что он снова
дается , даруется нам. "И Я завещаю вам, как завещал мне Отец, Царство…"
[1139]. Что вся сила "литургии" Церкви именно в том и состоит, что она дает нам возможность этого возвращения, этого погружения… И, наконец, что "духовная" жизнь в том, чтобы
там быть, а не только к "там" иногда, и притом символически, прикасаться… "На горнем месте высокими умы…"
Разговоры, в эти дни, с несчастными. В среду – с Д.Т., которую бросил жених, или, вернее, тот, о котором она думала как о женихе. Вчера с Г.Т. – в острой, страшной депрессии. Чувство полного бессилия, маловерия, невозможности помочь. Слова, теряющие всякий смысл и силу.
Смотрел сегодня на объявление о новом "высотном" здании, нарисованном Дали и воздвигнутом в Париже. Все из каких-то кубов и т.д. И в голову пришла простая мысль. В чем ужас
нового искусства, архитектуры, живописи, литературы? Всякое, самое пошлое, самое "викторианское", сусальное, разукрашенное колоннами и амурами здание прошлого – все-таки "символично". Ибо даже пошлость
относит к чему-то другому, карикатурой на что она является. Все все-таки, так или иначе, о
другом . "Новое" искусство по-настоящему хочет только одного: эту "отнесенность", этот символизм разрушить или, точнее, –
разоблачить . Оно как бы говорит: смотрите – за этим ничего
нет . Это начал уже сюрреализм, который, хотя он очень много болтал о rкve
[1140], на деле являл этот rкve либо как абсурд, либо как грязь и бессмыслицу, как какой-то тусклый "зуд". Самый пошленький, самый слащавый романс таит в себе какую-то возможность. От него можно куда-то подняться, он все-таки "человеческий мир". От того, что порождает эти кубические дома, хода нет никуда. И я потому вспомнил об этом в связи с вчерашними разговорами, что тут все связано. Тупик такого рода несчастия – это то, что жертва его в наши дни сама себе все может объяснить, проанализировать при помощи "психотерапевтической" терминологии. Однако именно этот анализ, это мертвое знание о живом страдании и о реальном зле и делает исцеление невозможным. Ибо исцеляться-то "некуда…". А к старым, на самом деле вечным, живым и целительным символам доступ закрыла сама "религия". Страстная неделя стала "дискурсивным рассказом" о том, что две тысячи лет назад произошло со Христом, а не явлением того, что совершается сегодня с нами. Это византийское, риторическое "сведение" счетов с Иудой, с иудеями, наш праведный, "благочестивый" гнев, направленный на них… Как все это звучит жалко после первого Евангелия
[1141]. Великая пятница, день явления зла как зла, но потому и разрушения его и победы над ним, стал днем нашего маленького человеческого смакования собственной порядочности и торжества благочестивой сентиментальности. И мы даже не знаем, что мы, в конце концов, "упраздняем крест Христов".
Светлый понедельник, 1 мая 1978
Пасха. Вчера, после пасхальной вечерни, в Нью-Йорке – у Трубецких и затем у Хлебниковых (из-за Ксаны). Там встречаю о. А. Киселева, который преподносит мне первый номер "Русского возрождения". Читал вечером в пасхальной усталости. Еще хуже, чем я думал. Хуже потому, что журнал пронизан некоей "подлинкой", так сказать, "инсинуацией". Это "анти-Вестник" прежде всего. Не говоря уже об убожестве своего собственного "религиозно-национального" идеала. Подумать только, что все эти "клише" я слышал с десятилетнего возраста и что с тех пор в этом направлении не сделано ни шага вперед.
Такого пасхального дня – по солнечности, прохладе, легкости воздуха – как будто никогда не было…
Разговор с Сережей по телефону.
"Далекое" Б. Зайцева. Перелистывал, читал в Великую субботу.
Светлый четверг, 4 мая 1978
Думал в эти дни о творчестве Набокова – в связи с предложением выступить на симпозиуме, ему посвященном, в июле в Nоorwich'e – у Первушина. В каком-то смысле все его творчество – карикатура на русскую литературу (Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов). Будучи частью ее, он ее не принял . Наибольшее притягивание – к Гоголю, тоже "карикатурному", наибольшее отталкивание – от Достоевского, самого из всех "метафизического". И все же он ими всеми, в том числе, конечно, Достоевским, определен, из мира русской литературы выйти не может. Только там, где у Гоголя – трагедия, у Набокова – сарказм и презрение.
Пятнадцать дней до окончания учебного года: кажутся они вечностью…
Фомино воскресенье, 7 мая 1978
За спиной – юбилей и суета, напряжение, с ним связанные. Слава Богу, не только прошло, но прошло хорошо… Присутствие Флоровского, но тоже "благополучное". Даже молча похристосовались. Хотя бы
внешне , для семинарии, эта древняя (в смысле "древнегреческая") трагедия разрешилась, нашла свой "катарсис". "История" запомнит и зарегистрирует только это… Но уже с головой тону в ожидающей меня трагедии в Париже, куда еду послезавтра. Вчера длиннейшее письмо от Игоря Верника, а затем и телефонный с ним разговор. Трагедия по двум линиям: кризис в [издательстве] "YMCA-Press" и кризис с Fraternitй
[1142]. И во все это я попадаю как кур во щи, и Никита, втянувший меня во все это, пишет мне, что именно я "bкte noire"
[1143]. Удивительная судьба, всегда втягивающая меня "амо-же не хощу", не дающая покоя и dйtachment
[1144], которых одних "хощу".
Большое удовольствие, радость от общения с Kallistos Ware, от его "здоровья", отсутствия фанатизма, серьезности и юмора.
Пишу это, оторвавшись на несколько минут от самого ненавистного занятия – писания писем…
Смерть, в Париже, Пети Ковалевского. Сколько с ним связано в моей церковной жизни. В сущности, большинство людей не знает, наверно, как часто, неведомо для себя, они оказываются решительным толчком в жизни других людей. В моей жизни это, в хронологическом порядке, – генерал Римский-Корсаков, о. Зосима, Петя Ковалевский, о. Савва, о. Киприан, о. Флоровский. Я мог бы, я думаю, довольно точно определить взнос каждого из них в то, что в совокупности стало моим "мироощущением". Между тем между собой они не имели почти ничего общего. Надо еще прибавить Вейдле. В какой-то момент, однако, эти "влияния" прекратились, то есть совершилось их претворение в некий внутренний "синтез", после чего я мог уже в свою очередь "объективно" увидеть и границу и ограниченность каждого из этих влияний. И еще важно то, что каждое из них состояло гораздо больше в некоей "тональности", чем в определенных "идеях". И вот каждый оказался проводником, явлением, даром чего-то бесконечно для меня важного, того, чем я на глубине
живу (когда живу). И как странно: я встречался с людьми, пожалуй, более значительными, чем эти, но "дар" именно этих на глубине неизмеримо более "решающий". Быть может, тут есть тайна; один
послан к тебе, к другому
послан ты, и ни он, ни ты этого не знаете, а Бог именно так "влияет" на нашу духовную судьбу. Одно мне тоже ясно: на меня никогда не "действовали", наоборот – сразу же вызывали во мне сопротивление и отвержение все фанатики, носители "целостных" и "органических" мировоззрений, вожди, духоносцы, старцы, любители интимных духовных "бесед" и "раскрытия" душ и помыслов. Тут сразу же возникало чувство прежде всего какой-то ужасающей неловкости. Пожалуй, "общим" у моих "влиятелен" было то, что все они были людьми "прохладными" в личных отношениях, то есть любители говорить не друг о друге, а о том, что они любили и чем интересовались. У меня до сих пор испуг, когда я слышу: "Мне бы хотелось с вами поговорить наедине…" Я твердо знаю, что этих разговоров или "бесед" я вести не умею и что к ним не "призван". Тут я чувствую правду соловьевской строчки о том, что "сердце к сердцу говорит в
немом привете…"
[1145].
Понедельник, 8 мая 1978
Скоропостижная смерть, вчера, О.С.Верховской. Когда я приехал, два городских санитара на полу пытались оживить ее искусственным дыханием. Уродство, безобразие смерти. Это тело, распластанное на полу, и комната со всеми пожитками, неубранными постелями, тряпками, всем, что нужно для жизни и что становится страшным по своей ненужности, бессмысленности при смерти… И затем медленное, победное претворение этого уродства молитвой – ее ритмом, ее силой именно претворять, преображать, так очевидно являть, что последнее слово за Богом, а не за этим злым и бессмысленным прорывом в мир небытия, шеола, зла. Вечером, на панихиде в церкви – переполненная церковь.
Вторник, 16 мая 1978
Вернулся вчера из Парижа, после четырех довольно-таки мучительных дней, посвященных кризису "ИМКА-Пресс". Внешне все окончилось благополучно, но именно внешне. Боюсь, что внутренне, на глубине – все эти ссоры уже не случайны, а проявление начавшегося распада, разложения. Отсутствие не только людей, "лидеров", но и замысла, "проекта", направления. То же и в расхождении Движения и Fraternitй по поводу поместной Церкви…
Длинный разговор в кафе с [епископом] Ходром о Ближнем Востоке, о Православии там. Чувство тупика, поиски выходов, "романтика".
Парижа как такового в этот раз вообще не видел, все ушло на встречи, разговоры, уговоры.
Два раза – у мамы в Cormeilles
[1146]. "La vieillesse est un naufrage…"
[1147]. И все время дождь, серость, холод…
Воскресенье, 21 мая 1978
Окончание, вчера, учебного года. Commencement: день, к которому направлена вся жизнь, вся надежда. Только когда он наконец наступает, понимаешь, сколько энергии, сколько душевных сил съедает семинария. Суета последней недели – заседания, чтенье сочинений и экзаменов, прием у нас дома, с ужином, выпускного класса. И, как это всегда бывает в Америке, после мокрых, дождливых и прохладных дней сразу наступила жара.
Дружеское письмо от Солженицына с просьбой прочитать текст речи ("Расколотые миры"), которую он где-то (секрет!) должен произнести. Речь мне нравится. Зовет приехать в Вермонт, послужить…
Сегодня чудная служба, наплыв радости.
Вторник, 23 мая 1978
Изумительные дни. Радость от поездки вчера сначала за Томом в Wappingers, потом с ним в Бостон.
Желанье, острое желанье покончить с никогда не кончающимися делами, засесть за "Варшавского", "Набокова", "Литургию" и т.д.
Четверг, 25 мая 1978
Безнадежный дождь, туман, серость. Суматоха. Все какие-то заседания, письма, совещания. И от всего этого как-то тускло на душе, точно она спит и действует "сомнамбулически". И все "завалы", всюду на совести что-то обещанное и несделанное…
Письмо от Ирины Альберти (которая работает у Солженицыных и приезжала в семинарию вместе с Алей) – "…хотелось сказать Вам, что встреча и знакомство с Вами были большой радостью и подарком Господним… Творение Ваших рук – семинария – потрясла и растрогала меня до глубины души… Это такая жемчужина духа человеческого и христианского и такой блестящий пример того, что может дать русская мысль и русская культура, когда она перестает…".
Labelle. Четверг, 6 июля 1978
Не писал ничего почти полтора месяца. Сначала был слишком занят, потом забыл тетрадку в Нью-Йорке.
В Labelle с 10-го по 23 июня. 23 и 24 у Солженицыных в Вермонте. С 25 по 29: в семинарии. С 30-го опять в Labelle. 3 июля – приезд Андрея. Все эти недели – с 28 мая нездоровье Льяны , бесконечно усложняющее нашу жизнь. Вот канва.
После "горной встречи" в мае 1974 года – теперь – встреча в Вермонте (хотя и виделся с Солженицыным] между двумя этими встречами несколько раз).
Выехали из Labelle, вдвоем, утром в пятницу 23-го июня. Солнечный день. Красота гористого Вермонта. Приехали часам к шести вечера. Узкая грунтовая дорога через заросли. И вдруг направо – спрятанные кустами железные ворота с целой системой аппаратов: телевизия, что-то вроде телефона и т.д.
Нажали кнопки. Показали свои лица в телевизор. Ворота растворились…
433
Crestwood. Среда, 13 сентября 1978
Пятьдесят семь лет! И как некое memento mori – утром в больнице кардиограмма, просвечиванье легких, и все это на фоне сентябрьского хрустального и лучезарного дня…
Лето кончено. Уже всецело в суете. Но так как тетрадка пролежала во все время Лабеля – в Нью-Йорке, то хотелось бы постепенно вернуться хотя бы к главному, к тому, что стоит отметить. Сейчас – перед крестовоздвиженской всенощной – составлю только "оглавление":
1. Поездка к Солженицыным в Вермонт (продолжить оборванное выше описание) – и с тех пор переписка с ним.
2. Болезнь Л.
3. Приезд в Нью-Йорк Никиты и Маши Струве.
4. Конференция православных богословов в Бостоне.
5. Поездка с митрополитом Феодосием в Рим, на интронизацию Папы – и смерть митр. Никодима почти на наших глазах.
6. Контакты с Россией – самиздатовский перевод "Водою и Духом" и письма.
Четверг, 5 октября 1978
1088 Park Ave. [нью-йоркская квартира]
С записями этими дело совсем schwach
[1148]… Сначала все хотел закончить начатое, а между тем накапливалось новое, и все не удавалось. Потом поездки: Рим, Финляндия, Париж, забывал тетрадку. А записать хочется не для "рассказа", а, как всегда, – для души, то есть только то, что она, душа, ощутила как дар и что годно, следовательно, для "тела духовного"
[1149].
Рим. Странно писать и грустно теперь, что этот "папа улыбки" (le pape du sourire) умер. И эти три дня в Риме, с 2-го по 5-е сентября, остаются в памяти особенно пронзительными. Главное – это совсем особый свет того вечера, 3 сентября, когда мы (с митр. Феодосием) были на интронизации. Золотой и такой мягкий свет. Как сон (из-за смерти Папы) вспоминаю это бесконечное шествие кардиналов к Папе, пение – удивительное – латинских гимнов (и как часто Tu es Petrus!
[1150]), затем простоту Литургии. Особенно момент, когда Папа начал причащать свою "деревню", а двести (?), триста (?) священников двинулись с чашами вниз к толпе. И все это уже тогда казалось таким
хрупким , несмотря на громаду Св. Петра, на присутствие во всем – веков.
В понедельник 4-го завтрак с митр. Никодимом в Russicum. Ему оставалось жить семнадцать-восемнадцать часов. Но никакого "предчувствия". Хрупкость… Особенно же сильно я почувствовал ее во вторник утром в папском дворце. Сначала – гроза и ливень, темнота этого утра. Никодим, садясь в свой автомобиль: "Ну, увидимся у Папы". А сквозь ливень ничего не видно, нету Рима. И во дворце, несмотря на множество люстр, темно. Ничего от того – позавчерашнего – света. Ждем в огромной зале. Вот пришли за Никодимом. И через пять-десять минут выбегает "оттуда" – о.Лев, молодой спутник Никодима, и бежит по залам куда-то. И сразу екнуло сердце: тут так не бегают. Кто-то говорит мне: "Наверное, митр. Никодим забыл подарок Папе". Я: "Я знаю митр. Никодима. Он ничего никогда не забыл…" Монах бежит обратно с черной сумкой – лекарства. И через пять минут – Mgr. Arrighi: "Il est mort"
[1151]… Придворные монсиньоры, руководящие нами, чуть-чуть напряжены. Все должно продолжаться по чину. И вот нас вводят в комнату, где нас ждет Папа. Митр. Феодосии читает приветствие. Я смотрю на Папу и с особой силой чувствую его хрупкость. Гораздо старше, чем на фотографиях… Льется из него мягкость, почти нежность. Отвечая Феодосию, он держит мою руку. Три-четыре минуты. Щелканье фотоаппарата. Общая фотография. И мы уезжаем на аэродром – в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке суматоха начала учебного года. Собрания, службы. Праздники: Рождества Богородицы, Воздвиженья.
А 22-го вечером – отлет в Гельсингфорс. Пять дней в Финляндии. В воскресенье 23-го – служба с арх. Павлом на Новом Валааме. Поездка туда и обратно (из Куопио) сквозь уже совсем "багряные" леса. Затем два дня в Куопио, на заседаниях, торжествах. О тамошнем "церковном кризисе" писать не стоит, хотя по-своему он и знаменателен, и важен. Из-за забастовки Air France пришлось всю среду и ночь на четверг 28-го остаться в Гельсингфорсе. Меня отвез на свою "дачу" милый о. Тапани Репо, который "пронзил" меня уже в 1975 году. И это оказалось удивительно радостным. Завтрак с ним и его сыном в старомодном – еще русских времен – ресторане в центре старого – тоже еще русского (желтые здания empire) – Гельсингфорса. Le temps immobile. За окном – серый осенний день. Потом на дачу – озера, сосны, березы. Тишина, благостность. Чудный вечер втроем. Финская баня. Погружение в дружбу, доверие, подлинность. Нежность сына к отцу, у которого рак… Прикосновение к подлинной жизни.
В четверг утром – полет в Париж. Завтрак с Андреем на [аэродроме] Orly. Поездка к маме. У нее за три дня был три раза. Из-за этого и из-за деловых встреч и собраний "встречи с Парижем" на этот раз не было.
Вернулся в Нью-Йорк 1 октября, и с тех пор – засасывающая суматоха моей жизни, "рванье ее на части".
И – last but not least
[1152] – все эти месяцы болезнь Л. Непрекращающийся шум в голове, припадки отчаяния. Болезненная жалость. И такой простой урок о смысле страдания в нашей жизни: например, готовность самому заболеть, страдать, лишь бы ей было лучше. Освобождение – пускай и временное, и частичное – от эгоизма…
Странный, судьбоносный год.
Вторник, 10 октября 1978
Книга J.P.Jossua "Attente et ecoute"
[1153]. Своего рода "богословский дневник". Доминиканец, богослов, священник, из кожи лезущий, чтобы доказать, что он хотя и "все это", но "по-другому", ибо "по-старому", конечно, быть нельзя.
Не знаю, кому такая книга может в чем бы то ни было помочь, на что-либо ответить.
Телевизия: разгром христиан в Ливане. И никто не пикнет. Как можно защищать христиан! Защищать можно только сильных. А какие-то марониты!..
[1154]Начал вчера принимать по очереди новых студентов. Написал письма. Проверил присланные мне страницы перевода "Великого Поста". И т.д. И сразу – от этого ритма? от выполнения "devoir d'йtat"? – чувствую себя лучше и бодрее. И этому помогают холодные, ясные, солнечные осенние дни.
Радость: все учащающиеся "свидетельства" о том, что мои книги "доходят", оказываются кому-то нужными. Пример: полученный мною из России полный русский перевод "Водою и Духом" и письмо переводчицы-киевлянки. На Orthodox Education Day – какие-то незнакомые люди. Одна молодая женщина-доктор: "Я столько жила с Вашими книгами, что мне трудно поверить, что я Вас вижу живьем". Да, конечно, "приятно". Но не только. Ибо свидетельства эти приходят, я заметил, всегда в минуты или периоды сомнений, ужаса от того, что жизнь почти прошла и ничего не сделано, растрачено время…
Среда, 11 октября 1978
Прием – по очереди – новых студентов. Пришли до сих пор пятнадцать из тридцати. Впечатление хорошее за одним-двумя исключениями.
Завтрак сегодня с некоей Carla Rogers, занимающейся тем, чтобы свести Солженицына с каким-то вождем американских индейцев. Меня не перестает удивлять эта страсть американцев к служению, к утопии. Она твердо верит, что мир спасут Солженицын с индейцами.
"The Breakers"[1155]. Палм-Бич. Пятница, 13 октября 1978
Огромная, залитая солнцем зала с огромными окнами, выходящими на океан. Флорида, Палм-Бич. Лучший отель. Что я тут делаю? На "grand assembly"
[1156] (!) "Ордена св. Игнатия Антиохийского", созданного, насколько я могу понять, чтобы "качать деньги" в антиохийскую юрисдикцию. Несколько десятков левантинцев и левантинок, жирные сигары, неслыханное "нуворишество". Днем я должен каким-то образом создать более "духовное измерение" для этого сборища. Боюсь, что это так же трудно, как проповедовать "прекрасную даму Бедность" на собрании акционеров Standard Oil
[1157]…
И это тем более страшно ("это": благополучие, жир и т.д.), что в эти дни совершается, при полном молчании всего мира, истребление христиан в Ливане. Вчера, летя из Нью-Йорка, читал купленные утром "Le Monde", "Le Nouvel Observateur", "L'Express" и ужасался размером этой кровавой трагедни. Но вот православные арабы предпочитают быть с мусульманами, и их жалкий патриарх, сидящий в Дамаске, заверяет сирийское правительство, что христиане на Ближнем Востоке, если бы не Израиль, были бы вполне счастливы своей судьбой. Вспоминаю длинный разговор в мае этого года в Париже с [епископом] Жоржем Ходром, его разглагольствования об "арабском" выражении христианства в союзе с исламом…
Пятница, 20 октября 1978
Как это так всегда случается со мною, что я, как бы неведомо для себя, оказываюсь "разорванным на части"… Richmond, Burlington, Wichita, Chicago, Parma, Cornell… И это только октябрь и ноябрь… Вчера глупейшая ссора из-за этого с Л., и жизнь кажется "невозможной", ужасной… "Ты не умеешь говорить "нет"". Я это слышу вот уже тридцать лет, и, пожалуй, это правда.
За спиной поездка с Л. в прошлый понедельник в Балтимор: целый день в больнице, где Л. делают tests
[1158]. Утром, однако, прогулка по "старому" городу.
Вторник и среда: синод в Syosset.
Избрание "польского Папы".
И не заметил, как прошла неделя.
Понедельник, 23 октября 1978
Звонок в пятницу от Андрея: мама в больнице, воспаление легких, уремия… Плохо узнает, бредит. Начало конца.
В субботу в Ричмонде (Виргиния), у милейших Де Трана. Retreat.
Вчера, в воскресенье, два часа у телевизора: интронизация "польского Папы". Восемь недель тому назад я все это – буквально повторяемое теперь – видел своими глазами. Опять это удивительное, всегда на меня так действующее латинское пение – "Adoro te, devote, latens Deitas…", медленное шествие кардиналов и площадь Св. Петра, сплошь забитая людьми. Лица монахинь… Речь Папы мне, в общем, понравилась. "Ты – Христос, Сын Бога живаго…" Без "дружбы народов" и "мира всего мира". Вера. Бог. Христос. Человек. И все же остается неясным, почему избрали именно его и куда двинется теперь Рим. Две-три фразы по-украински! Среди обычного "восточного" сброда – видел вл. Сильвестра и о.Л.Кишковского.
Удивительные золотые дни. Медленно падающие листья.
Только что звонок от Андрея: "Маме лучше…"
Студент, интересующийся Достоевским, Солженицыным, русской историей… Как это редко в нашем "поповском", "клерикальном" мирке, как бесконечно душно в этом "православизме". Нет воздуха. И я не перестаю удивляться: почему православные так упорно не слышат "мелодии" Православия, как раз не душной, радостной, светлой, свободной? "Но люди больше возлюбили тьму" – даже в религии…
Вторник, 24 октября 1978
Семь часов утра. Только что приехал с Park Ave. Перед уходом в семинарию. Как сказал бы Андре Жид, pas de ferveur
[1159], особенно в ожидании целого утра лекций. И не от лени, нет, а от внутренних сомнений в "преподавании", да еще научном и академическом того, что ему не поддается, в нем не передается. Как важно было бы все передумать с начала, то есть сам принцип… Жизнь проходит, и как быстро! в какой-то безостановочной суматохе, которую несу со все большим и большим трудом… Разговор с Л. на днях о наших молодых священниках, одержимых приходским "активизмом". Что вообще надо? Иногда такое чувство, что в современной цивилизации все перестает быть
серьезным , "для души", все растворяется в каких-то мелочах… Но как трудно поставить правильный диагноз этой страшной болезни – "дешевке"…
Вторник, 31 октября 1978
Поездка в прошлый четверг (26-го) к Солженицыну в Вермонт. Три часа разговора, очень дружеского: чувствую с его стороны и интерес, и любовь и т.д. И все же не могу отделаться и от другого чувства – отчужденности. Мне чуждо то, чем он так страстно занят, во что так целиком погружен, – эта "защита" России от ее хулителей, это сведение счетов с Февралем – Керенским, Милюковым, эсерами, евреями, интеллигенцией… Со многим, да, пожалуй со всем этим, я, в сущности, согласен – и умом, и размышлением и т.д. Но страсти этой во мне нет, и нет потому, должно быть, что я действительно не люблю Россию "больше всего на свете", не в ней мое "сокровище сердца", как у него – так очевидно, так безраздельно.
Вечером в тот же день лекция в St. Michael's College в Burlington. Длинное путешествие в одиночестве туда и обратно, в солнечном пожаре осени.
Вчера – поездка с Томом в New Skete, монахи которого собираются переходить в Православие. Снова целый день солнца, лесов, полей, "индейского лета".
Среда, 1 ноября 1978
Ранняя обедня. Лекции. И – первое ноября. Месяц, который я особенно люблю. Но пока что все тот же солнечный свет, все то же лучезарное торжество осени. Вчера – шесть часов лекций! И исповеди, и общая исповедь, и разговоры со студентами.
Пятница, 3 ноября 1978
Заседание-завтрак вчера в Harvard Club
[1160], "Freedom of Faith"
[1161], представление новой организации журналистам. И всегда то же самое: "Вы говорите о преследованиях за веру в Советском Союзе! А у нас? А в Америке – вы будете защищать педерастов, аборт и т.д.? И вы уверены в том, что ваша деятельность не пахнет американским империализмом?" Этот парализующий американцев "guilt complex"
[1162].
До этого зашел к Веронике Штейн на ее службу, посочувствовать ее "горестям". Разговор о Солженицыне, о ненависти к нему "третьих"…
В радио "Свобода" мне дают какой-то монархический журнальчик "Нива", где перед яростно-антисолженицынской статьей (агент КГБ!) напечатана фотография его, крестящего лежащего в гробу Сталина (то есть "трюкаж" известной фотографии похорон Твардовского).
Жду, жду свободного времени. А вот когда, как вчера, выдается полдня и вечер полной свободы в полном одиночестве (Л. на конференции) – ничего не выходит. Читал французские журналы, смотрел новости по телевизии…
Понедельник, 6 ноября 1978
Читаю – медленно – "Зияющие высоты" Александра Зиновьева. Книга замечательная, бесконечно умная, граничащая с каким-то ясновидением. Что-то от свифтовского "Гулливера" – беспощадность, неумолимость, логичность…
Три дня медленной, мучительной в своей медленности, работы над "Таинством благодарения". И все же сразу чувствуешь себя иначе.
Сегодня – прогулка по Бродвею от 96-й до 120-й улицы. Сколько воспоминаний!
Мучительная жалость к Л. как теперь уже постоянный фон нашей жизни. Но зато как болезнь очищает все, мне иногда кажется, что я никогда не был с нею счастливее, чем в эти четыре месяца.
Вторник 7 ноября 1978
Служил утреню. После вчерашнего дня в солнечном одиночестве Park Ave., после вдумывания, вживания в "благодарение" особенно чувствовал сегодня именно благодарственный характер нашего богослужения.
Книга Зиновьева. Скрытая, но все же очевидная полемика с Солженицыным. Солженицын для него все-таки порождение "Ибанска", остающееся потому как бы внутри "ибанской" системы, "менталитета". Прочел только половину (кошмарный микроскопический шрифт, 500 страниц!). Когда читаешь, точно тебя засасывает какая-то безнадежная, и все же fascinant
[1163], трясина…
Исповеди, телефоны, разговоры. Как ясно, что в Церкви безостановочно работает дьявол. И как ясно для меня, что эта столь ощутимая работа дьявола есть лучшее доказательство Божественности Церкви. И вот почему так опасна "психологизация" всего, заливающая и Церковь. Она скрывает дьявола, мешает распознать его, назвать его и тем успешнее делает его работу.
Среда, 8 ноября 1978
Михаила Архангела. Ранняя Литургия. Сегодня – 45 лет тому назад! – смерть [в корпусе] ген. Римского-Корсакова, первая "осознанная" мною смерть, впервые пережитое мною чувство непоправимого, необъяснимого отсутствия, пустоты и, следовательно, разрушения, ею производимого.
Четверг, 9 ноября 1978
Вчера в лавке, куда мы зашли с Л., оглушительные звуки радио. Какой-то мужской голос на непонятном языке – греческом? испанском? – повторяет все одну и ту же фразу под ритм, бешено-настойчивый, оркестра. Я спрашиваю Л., входит ли этот повторный вопль и этот ритм в область и понятие музыки. И мы долго говорим об этом. Мне думается так. Входит, если под музыкой разуметь всякий звук, исполняемый ритмически, и не входит, если разобраться в природе и ритма, и музыки, и, шире, искусства. Вот эта современная музыка, вся сведенная к ритму – в вопле, в оркестре и т.д., мне кажется, [стремится] (и это мечта современного искусства) выразить, выкричать, "вы – что угодно" – тот животный ритм, ту "пульсацию", которая "пульсирует" – животно, бессознательно – в мире и во всей жизни, все то, что внизу и снизу и что темно , не в моральном, а в "биологическом" смысле слова. Мы с братом Андреем когда-то, на Сеняке, под Белградом, в жаркий день палками перевернули дохлую собаку, лежавшую, самоочевидно, неподвижной. Но с "той" стороны она вся оказалась кишеньем миллионов червей. И я на всю жизнь запомнил эту страшную "пульсацию" разложения, это червивое гниение, к тому же ослепительно сверкавшее под солнцем… Пульсация разложения, пульсация пола, пульсация – безостановочная – всего "органического". И мне кажется, что именно эту пульсацию, не зная, что она – тление, думая, напротив, что она-то и есть "жизнь", хочет выразить эта "современная музыка", этот страшный ритмический крик и вопль в микрофон… Тогда как делом искусства всегда, изначала была победа над ним – тем, что в человеке сверху , а не снизу. И это относится, по-моему, не только к музыке, но и ко всему современному искусству.
Понедельник, 13 ноября 1978
Только что раскрыл "Русскую мысль": умер Ваня Морозов! Целый кусок жизни. Подворье в голодные и холодные немецкие годы, Движение и под конец все собою отравившая, несчастная склока в "ИМКА-Пресс"…
Три дня странствий: в субботу 11-го в Чикаго на хиротонии о.Бориса Гижа в епископы. Очень подлинное, очень полное и светлое торжество. Своя паства, свой собор. Это громогласное народное "Аксиос". Жива Церковь… Вчера, в воскресенье 12-го, на юбилее прихода в Парме, у о. В.Берзонского. И снова радость о росте, о подлинности…
Ранняя обедня (св. Иоанна Златоуста), которую служил соборне с восемью священниками!
440
По дороге в Sea Cliff: последние листья, все прозрачно, за всем далекое серое небо. Как я люблю это время года, таинственное "свидетельство" этих "сквозящих" деревьев, этого медленного погружения всего в холод и темноту, в которых вот-вот зажгутся рождественские огни…
Воскресенье, 19 ноября 1978
Только что с [аэропорта] La Guardia после трех дней в Wichita (Канзас). Retreat, интервью, службы, лекции – устал бесконечно, но и радость от внимания, интереса, с которым слушали, от этого погружения в "народ Божий". Всегда глубокое впечатление от американской равнины, от огромности этой страны, от "душераздирающих" закатов, от этого огромного неба. И странное, радостное чувство – это моя страна… America the Beautiful…
Все эти дни под темным грузом страшной новости о В.Морозове. Он повесился! Ваня Морозов повесился! Эти слова до того невозможны в этом сочетании, что – каждый раз – ударяют своей бессмыслицей, своим ужасом… Прикосновение к самому "князю мира сего".
Кончил в аэроплане – наконец! – "Зияющие высоты". Какая безнадежно грустная книга и какая талантливая! Солженицын в "Архипелаге" пишет ужасы, вводит в страшный мир – но мир все-таки, по сравнению с зиновьевским, человеческий. Эта книга о полном расчеловечении, действительно – о крысах. У Платонова в "Чевенгуре" есть хотя бы "гротеск", это кошмар, который должен, не может не кончиться. Здесь – одна дурная бесконечность, бесконечное, неизбежное превращение всего мира, всей жизни, всей действительности в ад.
Длинный разговор вчера с [друзьями] о Церкви, о национализме. И вот – бурное рожденье, толкотня, суматоха идей в голове.
Понедельник, 27 ноября 1978
Всю неделю под впечатлением страшной трагедии в Джонстауне (Гайана): "религиозное" самоубийство 900 человек по приказу главы секты Джима Джонса. Как тонка, как хрупка наша рациональная, "комфортабельная", потребительская и т.д. цивилизация. Смотрю на лица спасшихся от этой добровольной бойни – такие же лица, как на улице – у каждого. Те же чистые рубашки, blue jeans, тот же стиль. Почему же тысяча человек бросает все и следует в джунгли за человеком, утверждающим, что он "воплощение", одновременно, Христа и Ленина! И когда он приказывает им стать в очередь и пить яд – становятся и пьют? А "охранники" с ружьями убивают сопротивлявшихся, прежде чем убить себя? Ужас в том, что все это не
вн е нашей цивилизации, а
внутри ее, хотя и протест против нее. Это она изнутри живет
утопией , верой в рецепты окончательного счастья, отрицанием, игнорированьем страдания, смерти, всякого "discomfort"
[1164]. И потому – изнутри порождает страх, insecurity
[1165], жажду еще более "тотальной" утопии. Это, таким образом, не выпадение из нее, а ее порождение, договариванье до конца того, что в ней заложено, чем она живет. И это также плод разложения христианства, поляризации его между "социальным утопизмом" и "филантропией", с одной стороны, черным апокалиптизмом, с другой… Иными словами, все та же трагическая двусмыслица "религии", плата за ликвидацию "богословия" в глубоком смысле этого слова. Люди, не спрашивающие больше, "кто Иисус и что?", а называющие "Иисусом" то, во что они верят. И чувство такое, что все это цветочки, а ягоды еще впереди…
В субботу и вчера – в Монреале на первом храмовом празднике "миссии". Страшный мороз и солнце. Заснеженные улицы. В субботу, по приезде, прошелся по центру города, уже елочному, праздничному, все-таки, несмотря на все, – живому и жаждущему радости.
"Се que je crois" Frangoise Giroud
[1166]. Умственная нищета атеизма, особенно поразительная у несомненно умной, несомненно широкой и щедрой женщины. И страшная ответственность за эту нищету самой Католической Церкви, то есть той схоластики, юридизма и культизма, к которому официальное христианство было "сведено" на протяжении веков…
Четверг, 30 ноября 1978
Тридцать два года со дня рукоположения в священники.
В связи с книгой F.Giroud, в связи с тем, что пишут о трагедии в Гайане (вчера – "Нью-Йорк тайме" – выдержки из писем членов секты к Джиму Джонсу, а в "Nouvel Observateur" – всяческие "выводы"), думаю, в чем роковая ошибка христианской истории: не в том ли, что "логически", "методологически" – христианство
выводят из религии, как "частное" из "общего", и это значит –
сводят его к религии даже тогда, когда утверждают его как "исполнение", "завершение" и т.д. религии. Тогда как, по существу и на глубине, оно есть не столько "исполнение", сколько отрицание и разрушение "религии", откровение о ней как о падении, как о результате и, должно быть, главном проявлении "первородного греха". Наше время есть время возвращения к религии, но никак не к христианству – и вот уже "цветочки": Гайана, Мун и т.д. Мне могут сказать: не есть ли это отрицание религии, то есть, прежде всего, "священности" и "медиации", – квинтэссенция Реформации – от Лютера и Кальвина до Карла Барта? Нет – и доказательством этого "нет" служит то, что радикальные секты, вроде джонсовской, рождаются неизменно внутри и из недр как раз протестантизма. Почему? Потому, думается мне, что протестантизм, думая, что он очищает христианство от языческой заразы, на деле был уничтожением
эсхатологии христианства. Как смерть и страдание Христос не уничтожил, а "попрал", то есть изнутри радикально изменил, из поражения сделал победой,
претворил , так и религию он "претворил", а не разрушил. Претворил, не только наполнив ее эсхатологическим содержанием, но и саму ее явив, сделав таинством Царства Божьего. Ибо грех религии, точнее, религия как грех не в чувстве и опыте "священного", а в
имманентизации этого священного, в отождествлении священного с
тварным . Мир сотворен как общение с Богом, как восхождение к Богу, сотворен для одухотворения, но он не есть "бог" и потому и одухотворение есть всегда также и преодоление мира, освобождение от него. Мир, таким образом, есть "таинство". Роковая ошибка протестантизма в том, что, справедливо восстав против "имманентизации" христианства в средневековом католичестве, он отверг "таинство", не только религию как грех и падение, но и "религиозность" самого творения. Церковь есть совокупность "спасенных", но спасенных "индивидуально" (я спасен!), так что их спасение ничего не означает для мира, ничего в нем не "творит", не есть
спасение мира , совершающееся в спасении каждого человека. Церковь, иными словами, становится
сектой . Сектой одержимых "спасением", спасением, так сказать, "в себе", без отнесенности как к "миру", так и к "Царству Божьему". Отрекшись от космологии, протестантство отрекается тем самым и от эсхатологии, ибо у человека нет иного "символа", иного "таинства", то есть знания Царства Божьего, кроме "мира", так что спасение его есть всегда и спасение мира, знание Церкви как присутствие "новой твари". Но этот опыт "спасенности", поскольку он, в сущности, не имеет никакого
содержания кроме этой "спасенности", неизбежно начинает наполняться, можно сказать, почти любым содержанием.
"Спасенный" должен "спасать" . Секта всегда активна и всегда максималистична, она живет надрывом спасенности и спасания. Поскольку у спасения и спасания этого нет никакого ни космического, ни эсхатологического горизонта, нет духовной глубины, нет духовного знания ни мира, ни Царства Божьего, объектом его становится прежде всего то
зло или тот
грех , от которого нужно спасать, в "уничтожении" которого состоит спасенность. Это может быть алкоголь и табак, это может быть капитализм и коммунизм, это может быть буквально что угодно. На этом уровне секта приводит к морализму, "социальному евангелию", к устройству "prayer breakfast"
[1167] для банкиров, которые, если они ощутят себя "спасенными", будут лучшими банкирами, лучшими капиталистами и т.д. "The Cause!"
[1168]. В пределе – на этом уровне – секта превращается в "agency"
[1169] (the churches, the synagogues and other agencies
[1170]) – филантропическую, гуманитарную, антирасистскую и т.д. Но даже и на этом уровне в секте обязательно заложен микроб
радикализма . Заложен потому, что, отождествляя зло с чем-то конкретным, ощутимым и обычно действительно
злом , абсолютизируя это конкретное зло, секта легко мобилизует, ибо мобилизует
против , а не
за . Уже сам опыт
спасенности , проводя ясную черту между спасенными, то есть хорошими, и не спасенными, то есть злыми, делает жизнь секты, так сказать, "негативной", направленной на осуждение и обличение. Даже безостановочное "биение себя в грудь", характерное для современного протестантизма, безостановочное и публичное покаяние, приносимое "третьему миру", minorities
[1171], "бедным" и т.д., порождается, в сущности, потребностью иметь "чистую совесть", то есть основной признак "спасенности". Обличая – не себя, а "Церковь", или "белое общество", или что другое, – "спасенный" чувствует себя "хорошим".
Но вот на "низком" уровне этот радикализм и пробивается наружу и оказывается логическим завершением секты. Ибо если протестантизм, с одной стороны,
спасенностъ индивидуализирует, в том смысле, что делает ее "личным" спасением, он, с другой стороны, опустошая спасенность от всякого "космического" и "эсхатологического" содержания, делает человека предельно одиноким, оторванным, отъединенным от мира, от истории, от Царства Божия. И вот секта оказывается, парадоксальным образом, спасением от одиночества, но ценой полного растворения личности в "секте", в "культе". Секта объединяется вокруг
спасител я, вокруг лидера, его сила укоренена в ее слабости. Он определяет the Cause, он руководит борьбой, он знает, отдайте свою волю ему. И вот в до конца "секуляризованном", это значит – до конца "десакраментализированном", до конца "деэсхатологизированном", мире являются спасители: Мун, Джонс, кто угодно. И девятьсот человек послушно выстраиваются у бочки с цианистым калием, чтобы умереть… Все связано, все ведет ко всему. "Блюдите, како опасно ходите…"
[1172].
Балтимор. Четверг, 14 декабря 1978
Канун Льяниной операции. Вот уже почти десять дней, что мы здесь – она в [больнице] John Hopkins Hospital, я – напротив, через улицу, в [гостинице] Sheraton Inn. Тьму и свет этих дней нельзя описывать. Знаю только, что равных или даже подобных им у меня не было в жизни.
Балтимор. Понедельник, 18 декабря 1978
Третий день после операции
[1173]. Не забыть, как мы сидели с Аней, думая, что нам предстоит просидеть в этом напряжении четыре-пять часов, и вдруг появление [хирурга] Dr. Nager'a и радостное известие. И как сразу меняется тон жизни, восприятие синего неба, сверкающих вдали на солнце небоскребов, человеческих лиц на улице… И вместе с тем, по мере того как отдаляется, уходит это время ожидания, постоянного внутреннего усилия к sursum corda
[1174], как бы "банализируется" жизнь. Как будто постигаешь, почему, зачем посылает Бог такие испытания…
Чтение биографии Менкена (Charles A. Fecher "Mencken. A Study of His Thought"
[1175], 1978). Как нужно нам, христианам, читать
таких врагов. То есть не Марксов и К°, а людей, бичующих не христианство, а христиан за то, что они сделали из христианства. В моей жизни: Леого, Менкен, а "выше" – Ницше.
"Признание" Америкой Китая. Специальный номер "Le Point" о стихийном росте ислама в мире. Статья в "L'Express" о катастрофическом падении рождаемости в "белом" мире, особенно в Европе. Кошмар Джонстауна и идиотские объяснения… Чувство надвигающегося кризиса… И ничтожество во всем этом христианского "писка" (два номера иезуитской "America", в которых авторы из кожи лезут, чтобы доказать, что они, в сущности, совсем не религиозны, а все дело в social concern
[1176]). Я знаю, что "упрощаю", но не могу отрешиться от убеждения, созревшего во мне, в сущности, очень рано, почти в детстве, что суть христианства – эсхатологическая и что всякое отступление от нее, а оно началось очень рано, изнутри подменяет христианство, есть "апостазия". Эсхатологическое значит, что христианство направлено одновременно и целиком на
сейчас и на
Царство будущего века , причем "знание" и опыт второго всецело зависят от первого. Это с особой силой чувствуешь в госпитале, по которому я брожу вот уже две недели, воздух, ритм которого стал на время моей жизнью. Наше расхождение с "миром сим": он занят
завтра , занят со страстью, и это значит, занят тем как раз, чего
нет . Христианство же занято или, вернее, должно быть занято
сегодня , через которое одно дается нам опыт Царства… Означает ли это "выход из истории", равнодушие к "деланию" (праксис!), к ответственности, к involvement?
[1177] Нет, поскольку для каждого из нас все это входит в наше "сегодня", в наш devoir d'etat. Но это дело христиан, не Церкви как таковой. Церковь же для того, чтобы ни одно из дел "мира сего", ни одно "завтра" не стало идолом и самоцелью.
Письмо от Никиты [Струве] с его объяснением смерти Вани Морозова. Письмо умное и, мне кажется, верное. Надо будет переписать его здесь.
Волна любви, внимания, молитвы, которую с такой силой ощущали мы эти дни. Все то же Царство…
Еще о госпитале: это "микрокосм", в тысячу раз более реальный, чем "нормальный" и здоровый мир, окружающий его. Тут все заняты "главным", и это главное – сейчас , и это главное – в свете конца, вечности. И потому что все – каждая мелочь – так важно , нет ни дешевых эмоций, ни риторики, ни болтовни. Каждое слово "важно". Нет места для фасада, рекламы, демагогии. И, идя по улице, знаешь, что "грозит" каждому из улыбающихся профессиональной, оптимистической, казенной улыбкой здоровяков…
Балтимор. Вторник, 19 декабря 1978
Чтение газет… Помню, Эммануэль Мунье когда-то где-то писал, что газет читать не нужно. Но это неверно. Для меня чтение газет (особенно тут, в вынужденном безделье) всегда источник размышлений, "контакт" с реальностью, в которой мы живем, та необходимая "поправка на реальность", вне которой все "идеи" и "решения проблем" отвлеченны, беспочвенны. Чем живет человек сейчас, сегодня? И "как дошел он до жизни такой"? И почему? Для размышлений над этими вопросами газета – сущий клад, хотя и страшный…
Ужин вчера у местного священника. Чудный, чистый молодой человек, прелестная матушка. Но вот что меня поражает: он уже пять лет в Балтиморе и ничего не знает об этом городе. Я знаю, знал о нем еще до приезда сюда в сто раз больше. Никакого интереса к прошлому, откуда, как все это возникло. Его интересует только его приход, и больше ничего. Беспочвенность подавляющего большинства американцев меня всегда удивляет.
Балтимор. Среда, 20 декабря 1978
Читал вчера вечером в "Нью-Йорк тайме", в научном отделе, статьи (двух женщин) о состоянии в современной науке вопроса о различиях мужчины и женщины. Все довольно сбивчиво, неясно и с "поспешными обобщениями". Но главное – это предвзятое желание доказать, что разница случайна "биологически" и детерминирована "социально". Чудовищная глупость и одержимость всякого "эгалитаризма". Под каким "прессом" такого рода мы живем! Одно утешение – что этого беснования небольшого числа женщин подавляющее большинство их просто не замечает.
Сегодня уезжаю из Балтимора. Эти две недели, я знаю, одни из самых решительных в нашей с Л. жизни.
Крествуд. Пятница, 22 декабря 1978
В среду вечером вернулся из Балтимора, сегодня съездил туда и обратно на автомобиле. По госпиталю иду, как по своему дому, но уже этот мир, такой особый, мучительный, тяжелый, но и светлый, мир, в котором провели мы эти недели, отрывается и уплывает, хотя Л. еще и там. Но вот "все позади", и так быстро привыкаешь к тому, что на деле – чудо и милость Божия. И, однако, все еще "нормальный" и "здоровый" мир кажется нереальным, и все еще ясно – что настоящая борьба, настоящие победы и поражения только вот в этом – необъяснимом, но таком реальном – страдании.
Жизнь за эти недели вышла из колеи, не знаю, за что взяться. В среду вечером служил первое повечерие предпразднества с трипеснцем. Вчера – в городе, в квартире, в банке. Днем – пытался хотя бы разобрать хаос и кипы писем на столе у себя в семинарии. Но такое чувство, что сил нет, что нужно снова "привыкать" жить.
Суббота, 23 декабря 1978
Один дома. Солнце. Холодно. Пишу, чтобы "втянуться". Утром Литургия "субботы перед Рождеством": с этой службой и с повечериями начинаю чувствовать нарастание праздника.
Понедельник, 25 декабря 1978. Рождество
Службы прошли чудно, чувство такое – что лучше, чем когда бы то ни было. Три дня исповедей. Все время в контакте с Л. Но под боком – Анюша, и это очень уютно.
446
Понедельник, 5 февраля1979
Eric Hoffer "Before the Sabbath"
[1178]. Согласие почти с каждой строчкой этой книги. Все растущее отвращение к риторике – "social environment", the "poor"
[1179] и т.д. Согласие с анализом 60-х годов. До этого читал Theodore White "Search for History"
[1180] – с огромным интересом… За всем этим последний вопрос: есть ли еще у "Запада", у "белого человека" духовные и нравственные силы или их до конца съело – прежде всего – то Антихристово псевдодобро, которым проникнута вся цивилизация, психиатрия и нарциссизм. Смотря все эти дни по телевизии беснование толпы на улицах Тегерана, это поразительное обожествление аятоллы Хомейни – чувствую, что Запад обанкротился, и это – несмотря на все технократии. Ему не к чему звать "пробуждающийся" третий, четвертый или какой еще угодно "мир". Причина этому, думается мне, простая: у "белого" мира ничего, в сущности, не было как "мечты", кроме христианства, может быть, даже лучше сказать – кроме
Христа . Только вокруг Христа как средоточия приобретали свой смысл и свобода, и культура, и технократия и т.д. Но Запад отказался от Христа и христианства, отказался во имя – им же, то есть христианством, посеянных "свободы" и т.д. Маркс, Энгельс, Фрейд – этапы этого отказа. И отказ этот – потеря души. Все стало
гнить , во все вошла "смерть". Отказ от христианства, от его "видения", и прежде всего отказ от него самих христиан. И вот миллионы людей вопят о таинственной Islamic Republic!
[1181]Единственность христианства – это "имманентность трансцендентального" и, обратно, "трансцендентность имманентного". Христос не для политической свободы, не для культуры, не для творчества, Он трансцендентен по отношению к ним, но, так сказать, изнутри и потому их самих делает путем к трансцендентному. Ислам – это возврат к дихотомии "трансцендентности" и "имманентного", это прежде всего отказ от Богочеловечества. Закон, награда, наказание. Статика.
Поразительная ненависть всего мира к Америке.
Папа Иоанн Павел II в Мексике. Удастся ли ему то, что мне представляется парадоксом его программы: вернуть Церковь к духовности, продолжать ее служение "бедным"? Есть ли у христианства какой-нибудь ответ на "проблему бедности", кроме личного призыва к "богатому" – "отдай все, что имеешь, и следуй за Мной"?
[1182] Ибо "проблема" эта, и в том-то и все дело, – духовная, а уж только потом –
экономическая.
Мучительно медленное писание "Литургии". Писание, разъедаемое сомнениями – нужно ли это писать? и писать так? Для богословов – это не "богословие", ибо не "наука". Для просто "религиозных" людей, любящих богослужение, это, наверное, чуждо , ибо направлено против "религиозности". И наконец, имею ли я право это писать и писать так ! Чувство мучительного "недостоинства": "да никакоже коснется…" А между тем все остальное (и "богословие", и "религиозность") кажутся мне не только ненужными, но и вредными…
Четверг, 8 февраля 1979
Вчера весь день снегопад, сегодня заснеженный Нью-Йорк под ярким солнцем. Уют нашей нью-йоркской квартиры, вечером с Л. дома.
Чтение Aries "L'homme devant la mort"
[1183], сокращенное resume
[1184] которого я уже читал. Читая такие книги, читая газеты, следя за событиями (главное – почти необъяснимое, страстное желание "провала" Хомейни в Иране), чувствую нарастающую потребность в "синтезе" – в ясности "христианского ответа" на
все , на весь наш кризис. Христианство все еще остается безнадежно "константиновским", отсюда его постыдная слабость. Его единственный "шанс" –
эсхатология . Об этом я безостановочно думаю, и именно эта эсхатология христианства содержит в себе объяснение
всего – и жизни, и смерти, и ужаса в Гайане, и гниения "белого" мира, и жуткого возрождения ислама, и корней обостренной донельзя Израилем "еврейской проблемы", и "тайны России", и экологии, и "психологии", решительно всего. И этот эсхатологический "синтез" могло бы явить одно только Православие, но именно этого не видят и не хотят сами православные, от богословов и "духоносцев" – до благочестивых старушек…
Пятница, 9 февраля 1979
Пишу в аэроплане, на пути в Калифорнию.
Цитата в "Тайм" из немецкого математика C.F. Ganss: "The meaningless precision in numerical studies"
[1185]. Это объясняет мне мою всегдашнюю ненависть ко всякого рода "статистикам", опросам и т.д.
В одном и том же номере "Time" фотографии человеческих толп, встречающих – в Тегеране Хомейни, в Мексике папу Иоанна Павла. Вот – в конце XX века – сила религии! Кто еще мог бы мобилизовать столько людей (миллионы!), вызвать такое ожидание, такой восторг? Сила и вместе с тем двусмысленность Хомейни: ни одного слова о любви, о примирении, о "трансцендиро-вании" в Боге всех, в конце концов, ничтожных разделений. И угроза – "святой войной". Папа: в каком-то смысле только о любви. Страшный лик ислама… И потому ничего, в конце концов, этот Хомейни не даст своему народу (так радующемуся ему!), кроме горя, ненависти и страдания. А от посещения Папы – только радость, только надежда. Даже если ничего не "получится".
Лечу над огромной, заснеженной, белой Америкой.
Встреча на прошлой неделе с Эрнстом Неизвестным в его студии. Очень милый, очень душевный разговор. Студия полна каких-то грандиозных беспокойных скульптур (одна запомнилась – чудовищная по размерам человеческая ступня с расставленными пальцами, обращенная кверху). Неизвестный объясняет мне замысел какого-то грандиозного символа – космического, религиозного и т.д., чего-то, что должно человечеству что-то явить и объяснить. Не знаю… Знаю только, что я абсолютно слеп и глух к этому искусству, буквально ничего не вижу и ничего не понимаю. Отсюда – мучительная неловкость, ибо он обращает на меня волну ожидания…
Люди всегда болтали столько же, сколько и сегодня, но по необходимости писали в миллион раз меньше. Мысль при чтении "Нью-Йорк тайме": больше ста страниц "новостей" ежедневно. Какой это, в сущности, ужас…
Сан-Франциско. Воскресенье, 11 февраля 1979
Восемь часов утра. Перед отъездом на обедню в собор. Сан-Франциско на этот раз серый, туманный, без того ощущения праздника, которое он во мне всегда вызывает. Торжества, обеды вчера. И прекрасная всенощная в полупустой церкви. Все те же привычные разговоры на "церковные темы", о "церковных делах".
Читаю, в промежутках, книгу о ранних годах Т.С. Элиота – о его пути к религии. Элиот тем для меня интересен, что в своем религиозном "искании" ищет он не собственного удовлетворения, не личного "религиозного опыта", а восстановления реальности мира и жизни, то есть
Церкви, кафоличности . Он, таким образом, a centre courant
[1186] современной нарцистической и потому разрушительной духовности. "
Опыт Церкви " – вот что требует "богословского уяснения" и вот что очень трудно, ибо научное богословие начинается, так сказать, с его не то что отрицания, а игнорирования. Когда это научное богословие говорит (в учебниках): "Церковь верит", то эта вера отчуждена в авторитет внешних "догматов", само слово "вера", иными словами, тут не включает в себя понятия и реальности "опыта". И потому слово "опыт" звучит как чуть ли не какие-то субъективные настроения, эмоции и чувства.
Четверг, 15 февраля 1979
Все тот же мороз, все та же застывшая в ледяном холоде жизнь.
Вчера несколько часов над ответом [на письмо о. Игоря Верника из Парижа]. Как легко рушится и исчезает понимание друг друга, когда совершается что-то страшное, из ряда вон выходящее – как смерть Вани [Морозова]. Люди, буквально проведшие всю свою жизнь в общении, знающие друг друга чуть ли не с детства, оказываются по отношению друг к другу слепыми и глухими лейбницевскими монадами. Половина из них – священники, все – "живут Церковью". И куда девается все то, что годами так хорошо, так красноречиво объясняется в лекциях, на съездах, в проповедях? Ненависть во имя "правды" и "справедливости" – самая из всех страшная.
Среда, 21 февраля 1979
Тоска и отвращение от новостей. В Персии – расстрелы, в Китае – война, в Африке – терроризм, в Балтиморе – толпа, воспользовавшись снегом, громит лавки. Чувство какого-то полного разложения всего, самой ткани жизни. "Мир во зле лежит"
[1187], и всему этому можно не удивляться. И тоска моя не от этого – а от страшной слабости, низменности "белого" и, это значит,
христианского , хотя бы по истокам своим, мира. Все, что этот мир знает, это – продавать свою "технологию" и "advanced weaponry"
[1188], западный стиль жизни, то есть с "appliances"
[1189] и небоскребами. Когда же "желудок" небелых народов перестает переваривать эту "технологию", все рушится, все падает, и вот – только тысячи этих орущих людей и поднятых кулаков. Кровь. "Революция". Говорят: ислам и его возрождение. Но я не верю в это "возрождение". Недаром тот же "аятолла", хотя и произносит слово "ислам" каждую минуту, преуспел-то не в исламе и не исламом, а "революцией". И революция слопает и его, и ислам, а она не от ислама – а от все того же "демонизма" Запада. "Праведник", "аскет", руководящий "революцией"… Страшный обман. И идиоты в "Нью-Йорк тайме" страшно огорчаются, что пока что единственное, что праведник этот сделал, это – расстрелял двадцать тысяч генералов, открыл страшные клапаны мести, крови и разрушения.
В Китае – обратный процесс. От обожествления "праведника" – к "технологии" и "appliances". Восторг американских газет: китаянкам позволено [завивать волосы], а китайцам – пить кока-колу! Торжество свободы и демократии!
И ведь что грустно и презренно. Не будь у этого "ислама" в Аравии, в Персии – нефти , то никто бы и внимания не обратил на них и не было бы никакого "возрождения". Но нефть – это и Немезида этих народов. Ею-то они и захлебнутся.
Письма из России – от о. Г. Якунина. Он читает мое "Введение [в литургическое богословие]" и требует немедленных "реформ" – Церкви, богослужения… Поскорее, сразу!..
От всего этого ухожу – урывками – в писание "Литургии". Пока пишу – радость. Потом – сомнения. Ни в одном из своих писаний я так не сомневался, ни одно не писал с таким трудом: шестнадцать страниц с лета!
Четверг, 22 февраля 1979
Все тот же – действительно страстный – интерес к событиям в Иране. Газеты полны войной между Китаем и Вьетнамом, а я как будто заворожен вот только одним этим "аятоллой". Конечно, я знаю почему… Из-за "религии", из-за того, что в Иране сейчас фокус того, что происходит с христианством: его обессиливания, его "отмирания" как
силы в истории. Сегодня где-то на задворках "Нью-Йорк тайме", петитом: "Папа высказался за social justice…
[1190]".
Big deal
[1191], как говорят американцы. Но даже у себя дома, в Италии, он бессилен – против аборта, против террора, против разврата. Остаются прописи, да еще – прописи "с расчетом". А в Иране сила ислама вспыхнула в этом старике… Другое дело, что ее победит и раздавит тот же "Запад" другой своей "силой": страшной мистикой "революции", "масс", "марксизма-ленинизма"… Но Запад как христианство умирает. И это ставит столько глубочайших вопросов о сущности христианства. Ведь даже ислам, в конечном итоге, есть антихристианство. Итак, выходит как будто, что:
– Запад – секулярный, гедонистический, технологический и т.д. – живет своим отречением от христианства, подчеркиваю – не равнодушием к нему, а именно отречением ("счастье", "экономика", "пол", "аборт"…);
– Запад "революционный" живет своей борьбой с христианством, с "христианским человеком", homo christianus;
– Восток разделен между западным "отречением" (Япония, теперь, может быть, Китай, их мечта "модернизироваться") и – борьбой с ним под знаменем будь то "революции", будь то ислама.
"Смерть" христианства. Это звучит страшно. Но так ли это? Мне все время "кажется" (и это какой-то внутренний свет и радость), что "смерть христианства" нужна, чтобы воскрес Христос . Ибо смертельная слабость христианства только в одном – в забвении им, в вынесении им "за скобки" Христа. Но вот в Евангелии Христос говорит всегда: Я . Говорит о Себе, что Он вернется со славою, Он будет царствовать, Его нужно любить, ждать, Ему и о Нем радоваться. Когда от христианства – как уже сейчас – "ничего не останется", видным снова станет только Христос, а с Ним "ничего не поделать" ни революции, ни исламу, ни гедонизму, ни феминизму… Вот время для молитвы: "Ей! Гряди, Господи Иисусе…"
New Skete. Cambridge, N.Y. Пятница, 23 февраля 1979
Перед чином принятия Нового Скита в Православие. Прилетел сюда вчера с Митрополитом. Это уже мое третье посещение – и все то же впечатление света, простоты, радости. Ничего надуманного, показного… Кругом заснеженные горы… Мороз. Сильная простуда.
Понедельник, 26 февраля 1979
В пятницу вечером, после возвращения из Нового Скита и всей радости, там испытанной, ужин у К.Б. Рассказ А. о ссорах и конфликтах в Наяке. Совершеннейшая гоголевщина, но лишний раз заставляющая задуматься об эмиграции. Как всякий живой организм, эмиграция жила и живет в первую очередь инстинктом самосохранения. А для самосохранения ссоры, например, не менее нужны, чем "чувство локтя", "единомыслие" и т.д. И поэтому довольно странным, но, в сущности, вполне объяснимым становится тот факт, что в ссорах этих менее всего важна причина спора, то, о чем ссорятся. Эти причины, как правило, очень быстро превращаются в "миф", в нечто почти неуловимое. Ибо функция ссоры в том, что она позволяет людям ощутить себя "принципиальными", "служащими делу" и, значит, – живыми. И это так потому, что главная ссора, "конститутивный признак" эмиграции – "большевики" – отвлеченна, в повседневной жизни "невоплотима", ею не проживешь. А ссорой можно наполнить все "свободное" время. Закон эмигрантского существования: те, кто не любит ссориться, устраивают балы и тоже могут найти занятие – бесконечное – в примирении ссорящихся. Те, кто любит ссориться, – ссорятся… Но функцию и то, и другое исполняют ту же самую.
Вчера после обеда в госпитале у Тани Лопухиной, попавшей в автомобильную катастрофу. Радость [родителей] Миши и Зишки: "Слава Богу, могло быть настолько хуже". И в свете этой радости, этого прикосновения к самой жизни – ужас от суеты, от поверхностности "повседневности"…
Письмо от Иваска – о статье о Варшавском в "Континенте": "А Вы всех и все понимаете – и Исаича, и Варшавского…" Полное разочарование в "третьих" – это "маразм, мародеры и ненависть к России…" Он занят теперь "четвертыми" – в Москве.
Вторник, 27 февраля 1979
Чтение вчера книги R.Bornert о византийских литургических комментариях (в связи с лекцией для Dumbarton Oaks
[1192]). Лишний раз убеждаюсь в своей отчужденности от Византии, если не в некоей даже враждебности к ней. В Библии – "масса воздуха", в Византии какой-то вечно "спертый воздух". Все тяжеловесно, и все как-то изнутри неподвижно, окаменело. И, как только спускаешься с "высот" – Палама и др., немножко глупо. Комментарии к Литургии Германа Константинопольского – это какое-то духовное убожество… Нагромождение символов, пустых объяснений, липкого "благочестия". Дьяконы – ангелы; пресвитеры – - Авраам, Исаак и Иаков и т.д. Зачем все это нужно… Удивительно, однако, что "византийская" Литургия в основном все это выдержала и пережила, не допустила этого в само "святое святых"… А у нас все "воскрешают" Византию, в ней чего-то "ищут".
Моя "интуиция" все та же: "переложение" опыта Церкви с эсхатологического на "мистериалъный" ключ. Тут Платон оказался сильнее Библии, Платон и христианская империя, "христианский мир". Чего, мне кажется, не понимают: эсхатология "интересуется" миром, тогда как "мистериология" к нему равнодушна. Полное равнодушие Византии к миру поразительно. Драма Православия: у нас не было ренессанса , не было пускай даже греховного, но освобождения от "сакральности". Вот мы и живем потому в несуществующих мирах – в Византии, в святой Руси, где угодно, только не в своем времени.
Дождь. Мокрый снег. Какие-то грязные сумерки с утра за окном. И заранее – утомление от надвигающегося Поста, что значит: поездок, лекций, дополнительного напряжения…
Пятница, 2 марта 1979
Я не знаю, сколько людей чувствуют безмерность "человеческой комедии", разыгрывающейся сейчас в мире, которую мы можем преудобно созерцать каждый вечер по телевидению. Если бы не было повсюду гибели людей, умирающих неизвестно за что, нужно было бы только хохотать, то есть решительно отказываться принимать всерьез эту низкопробную, грубую игру и клоунов* с таким чувством собственной "миссии" ее играющих. Вчера вечером опять этот трагикомический Хомейни, опять эти безумные толпы и вещания об "Исламской республике"… Опять улыбающиеся Картер и Бегин. Опять эти несчастные азиаты, быстро-быстро стреляющие из пулеметов друг в друга. А Запад – это одна сплошная "забастовка"… И если вдуматься глубже, то смысл происходящего раскрывается, мне кажется, прежде всего во всеобщем отказе от той экономической "редукции", к которой принудили современного человека обе идеологии – и "левая", и "правая".
"Прогресс" довел человека до желания жить, но не сказал и не может сказать ему, в чем и для чего жизнь. Отсюда безумное принятие людьми "идей", эрзаца смысла жизни, борьбы – неизвестно за что, но полезной тем, что можно не думать, не углубляться…
Вторник, 6 марта 1979
Великий Пост. Вчера и сегодня – длинные, "уставные" службы. В промежутках – одни дома, работа над докладом для Dumbarton Oaks ("Symbols and Symbolism in the Byzantine Liturgy"
[1193]). Начинал, как всегда, с неохотой. Но, как это бывает почти всегда, в процессе работы, сначала как бы слепой (я сначала "слышу" отдельные фразы, вижу очень неясный "облик", но еще неизвестно чего), приходит своего рода "откровение": вот что произошло, вот что было…
Три "слоя" символизма. Символизм "изобразительный", то есть последний, теперешний (хотя начавшийся, конечно, уже в Византии), оторванный и от богословия, и от благочестия. Под ним символизм духовный ("мистериологический"): Дионисий, Максим. Созерцание, гнозис… А еще – под ним – символизм эсхатологический , Царство – "мир сей"… И тогда остается только – с мучением – все это "проявлять"…
Четверг, 8 марта 1979
Французские еженедельники. Удивительная пустота! Пустота страны, от которой ничего в мире больше не зависит. Также в "National Review" анализ разложения Англии. От всего этого – очень сильное чувство конца белого мира, последнего носителя уже не христианской, но где-то, как-то христианством отмеченной культуры.
Забыл отметить двухчасовую беседу на прошлой неделе с о. Г. Граббе. Беседа мирная (нас "свела" Катя Небольсина) и даже доброжелательная, но удивительная: о том, как где-то в каком-то подвале в Иерусалиме выращивают сейчас Мессию, то есть Антихриста… О каких-то "знамениях". И все какие-то "страхования". Эта всегда меня удивляющая локализация зла, "темных сил", вера в какую-то "эзотерическую" историю, при полном непонимании просто истории. Душный, тусклый мир, без радости, без света…
В "Нью-Йорк тайме" сегодня фотография: расстрел в Тегеране восьми гомосексуалов. Вот оно – моральное оздоровление Ирана при помощи ислама… В [книжном магазине] Librairie de France полки густо забиты книгами о магии, о масонстве, об астрологии. Русская продавщица мне говорит: масса на это любителей, особенно черных с Гаити… В воздухе какая-то тяга к экстремизму, к иррациональному. Может быть, потому, что "рациональное" являет себя столь жалким… "Если свет, который в вас, – тьма…"
[1194].
Vancouver, British Columbia. Четверг, 15 марта 1979
Пишу это рано утром, в Ванкувере, куда приехал для прочтения двух лекций в University of British Columbia
[1195]. Окно с видом на залив и остров. Пасмурно, но все кусты в цвету…
Неделя бурная. В прошлое воскресенье – в Монреале, на "торжестве Православия". Понедельник: заседание по делам церковного архива в Сайосете. Вечером – ужин у П. Татищева, с длинным и трудным разговором об их трагедии (она – еврейка – не хочет крестин дочери…). Вторник: весь день в семинарии, лекции, разговоры, студенты. Вчера – бесконечный полет через всю Америку…
В аэроплане читал религиозные журналы, которых обычно не читаю за недостатком времени: английский католический "The Tablet", американский "The Oxford Review", орган епископальных "отщепенцев", то есть крайне "правых". Неприятие обеих позиций – и "правой", и "левой". Правая удручает своей поверхностностью, несерьезностью. Все с кондачка, с дешевой иронией и, главное, с утомительной "клерикальностью". Левая – столь же утомительной "социальностью" (что-то вроде "богословия забастовок"…).
Читал также карловацкий "The Orthodox Monitor" (о.В.Потапов, Киселев и т.д.) – созданный для защиты гонимых православных. И, читая, спрашивал себя: в чем столь явно ощутимая фальшь , пронизывающая буквально все, что в этом журнале напечатано? Статья грека Пантелеймона (из Бостона) о том, как в своем монастыре они молятся всем русским чудотворным иконам Божией Матери… Только ли этот тон – елейно-риторический – раздражает меня или что-то другое, более глубокое? Нет, во всем этом я чувствую какое-то самолюбование, самооправдание, отнесенность к себе. Гонения, мученики и т.д. как подтверждение своей правоты, своей высоты. И это совершенно нестерпимо. Эксплуатация мучеников. Примитивизм подхода: не реальность, а миф, и притом – ложный миф.
Доклад в Hillsdale (апрель): о внешней политике. О морали в ней. Ее, то есть целостной внешней политики, у Америки нет потому, что нет идеи. Приятие политики "идеологической": мы построим Царство Божие на земле, мир во всем мире, justice
[1196] и т.д. Ложность этой идеи, общей теперь всем. Путаница со свободой (отрыв ее от религии). Образ Америки для других. Невозможность звать к жертве… Путаница с экономикой. С третьим миром. И, наконец, просто с правдой. Все это "переварить".
Утром поездка вокруг Ванкувера. Город удивительно красив, чист, праздничен. Вода залива, водные просторы, снежные горы. Затем две лекции в университете, завтрак со славянским департаментом. Вечером лекция – в приходе, погружение в теплое русское гостеприимство. Всюду тот же двойной опыт: немощи, удручающей немощи Православия и его силы… Завтра рано утром отлет в Нью-Йорк…
Пятница, 16 марта 1979
Vancouver. Перед отлетом в Нью-Йорк. Чаепитие вчера у батюшки. Добрые люди. Мои "чичероне" – грек Кономос, дьякон Сомов с женой. Наличие таких добрых людей, такого добра всюду. Но о нем никто не знает, и мир выглядит "адом".
Вторник, 27 марта 1979
Не писал давно, из-за занятости, спешки, какой-то основной "неустроенности", неритмичности моей жизни…
Хиротония в субботу 24 марта, в Sea Cliff'e, о.А.Трегубова. Чудное Благовещенье вместе с Крестопоклонной…
Отъезд сегодня Льяны в Балтимор для "тестов".
Интервью Солженицына в ВВС. Как и всегда, одновременно и замечательное, и, в отдельных частях, раздражительное. Выпад против Петра и Империи. Гимн "крестьянской" литературе, якобы необычайно расцветающей в России. А наряду с этим огромная правда, выраженная с огромной силой.
Четверг, 29 марта 1979
Прошлую запись прервал, чтобы написать Солженицыну по поводу его главы из "Октября шестнадцатого" (о заседании Государственной Думы с знаменитым "глупость или измена" Милюкова), напечатанной в "Вестнике" (127). Глава, по-моему, изумительная. Пишу С., что именно чтение ее объяснило, почему меня всегда не удовлетворяли эмигрантские "разносы" Февраля: они все "разносили" его не на том уровне, на котором он "исполнял" себя, и потому били мимо его сущности. Сущность же его – пошлость , "онтологическая" пошлость, и вот ее-то и являет, по-моему – гениально, Солженицын… Февраль – пошл и в пошлости своей "безличен", не есть дело рук "личностей"; не будь Керенского, Милюкова, Родзянко, были бы точно такие же, как они, статисты. Но, и об этом я тоже пишу С., – Октябрь тем и отличается от Февраля, что он целиком – дело личностей, и в первую очередь, конечно, Ленина. Ленин не "пошляк". А сила его – тайная, но подлинная – в личной ненависти к Богу (как у Маркса, а до него – у Гегеля). Поэтому Октябрь по отношению к Февралю – на другом уровне…
Поездка вчера весенним солнечным днем в Schenectady и обратно. Un bain de solitude et de paix…
[1197] В особенности как "противовес" разыгравшимся в семинарии личным страстям, конфликтам и страстишкам.
Прочел присланную мне автором John Le Boutillier книгу "Harvard Hates America"
[1198], всю насквозь пронизанную почти трогательным идеализмом… И, однако, как далеко еще все от
мечты , идеала, видения, которые можно было бы противопоставить почти безраздельно царящей в мире – левой мечте…
Подписание в понедельник 26 марта мира между Египтом и Израилем. James Reston вчера в "Нью-Йорк тайме" подчеркивает религиозное "измерение", присущее всем трем "творцам" этого мира: Картеру, Садату и Бегину. "Вера в веру", – замечает он… Даже если тут и есть доля правды, то главное все-таки, мне кажется, не в ней. Слишком сильна доля именно расчета, неверия, недоверия, всевозможных "ментальных резерваций"
[1199]. В политике вряд ли может быть по-иному. Но именно поэтому опасной представляется мне "религиозная интерпретация" этого события и главных его протагонистов. Не будь безнадежной зависимости Запада от нефти, не будь новоявленной "мощи" арабского мира, не будь зависимости США от местных евреев, не будь страха перед СССР, не будь – и т.д., и т.д., и т.д., то, боюсь, немного осталось бы и от этого "религиозного вдохновения".
Воскресенье, 1 апреля 1979
Путешествия, лекции, проповеди. Как всегда, Пост оказывается временем не тишины и сосредоточенности, а какой-то безудержной активности, возможно – благой, но беспокойной… Через два часа – отлет в Сан-Франциско, на один день! Письмо от Солженицына все с тем же грозным "увещанием" – бросить все и засесть за писание…
Первые теплые дни, но уже предвозвещающие жару, сырость, эту вечную дымку зноя.
Los Gatos Motel. Понедельник, 2 апреля 1979
Вчера в аэроплане прочел сборник рассказов Войновича "Путем взаимной переписки". Читая, забывал иногда, что читаю "советского" автора, а не, скажем, Чехова. Чеховские люди, чеховские ситуации. Та же маленькая жизнь, глупость, страх, но и – доброта. Казенщина и маленькие – изнутри – "праздники". Еще один образ России. После солженицынского, после "Зияющих высот", после "Чевенгура". И все, очевидно, по-своему правы, и ни один не прав в отдельности от других… И опять чувство глубокого разрыва между "народом" и "интеллигенцией". Зиновьев – крайний "интеллигентский" полюс. Войнович – из "народа". У интеллигента не только все заострено, но потому и упрощено. У Войновича нет – схемы, а жизнь показана в ее еже-дневности, будничности, и, странное дело, такой она кажется менее безнадежной. Читая Войновича, я понял лучше ненависть Солженицына к "интеллигенции", к ее эгоцентризму, занятости собою…
Вечером, в мотеле, читал данные мне о.Г.Бенигсеном письма о.Д.Дудко: "Письмо с Русской Голгофы" и "Письмо к митрополиту Филарету". Очень сильные и правдивые и, по существу, верные. Только – на мой взгляд – слишком нажата педаль, слишком много эмоциональной риторики, той атмосферы, внутри которой даже правда звучит как преувеличение и потому рождает как бы недоверие. И потом эта раздача аттестаций…
Все эти дни газеты полны известиями о серьезных неполадках термоядерного реактора в Пенсильвании. И сразу – та коллективная, прессой и телевидением раздуваемая истерика, без которой, очевидно, Америка долго жить не может. Те же толпы бородатых студентов с плакатами, те же вопли "властителей дум", что мы видели против войны во Вьетнаме, против Уотергейта… Эта удивительная потребность в священном гневе, в создании Врага, а за этим – чудовищное чувство собственной праведности, "самолюбование"…
В Иране провозглашена Исламская республика. За нее высказалось 99% голосующих. Голосовали открыто, на виду у всех, в атмосфере "энтузиазма". Как все это до омерзения знакомо! Как отвратительно глупа – всегда и всюду – толпа… Никто не знает, никто никому не сказал, в чем будет сущность этой Исламской республики. Все "на веру". И это, может быть, и есть самое существенное для понимания "нашего времени". Резкий поворот от политики в обычном смысле к массовой жажде харизматического вождя . Люди верят не в то, что этот вождь говорит, а верят ему. Он говорит: "Исламская республика", и никто, кроме "гнилых" и "озападненных" людей, не спрашивает, что это такое. Действительно, люди только и ищут того, кому они бы могли отдать ненавистную им, невыносимую свободу.
Но разве Христос не тоже – "харизматический вождь", разве вера Ему, вера в Него не предшествуют приятию Его заповедей? В чем тут коренная разница, которую все меньше и меньше чувствуют и сознают современные люди? Не в том ли, прежде всего, что Христос как раз и не хочет и не ищет никакой власти над людьми, отвергает все время соблазн претворения людей в толпу, в коллектив, в слепое послушание? Не в отказе ли, далее, от отождествления Своего дела с каким бы то ни было земным "проектом", не в утверждении ли постоянном трансцендентности этого дела – призыва к Небесному, к Царству не от мира сего? Только два полюса: конкретная любовь к ближнему сейчас и здесь (исцеление, насыщение и т.д.) и искание Царства Божия и жизни вечной. Полное равнодушие к "текущим проблемам", как бы презрение к ним – "отдайте кесарево кесарю…" Ваше служение миру, – говорит Христос, – в полной свободе от него, и в этой свободе – ваша над миром победа…
Поэтому во всяком харизматическом лидере есть, не может не быть что-то Антихристово . И падение их всегда бывает "великое".
457
Среда, 4 апреля 1979
Стихийная жажда одиночества, тишины, собранности.
Вчера – нежданная радость: сербское издание моей "For the Life of the World" ("За живот света"). Книга очень хорошо издана, а в предисловии к ней о. Амфилохий записал меня в преемники сразу – и Булгакова, и Бердяева, и Шестова, и еще кого-то… Не совсем понятный для меня успех этой книги…
Как всегда по вторникам, вчера – appointments
[1200] со студентами. Как нужно было бы с каждым из них возиться, лепить, "формировать". Но на это нет у меня ни таланта, ни времени. А может быть – лень?..
Пятница, 6 апреля 1979
Письмо вчера от Л.О., которая жалуется на то, что священник запретил ей принимать участие в группе студенток-христианок в [католическом университете] Manhattanville College (молитва, Bible study
[1201]…). "Он сказал мне, что это грех, я там молюсь иному богу, а не настоящему Богу… Протестантский Христос не тот же Христос, что православный…" Боже мой, какая путаница, какое убожество – наше эмпирическое Православие… Ответил ей как мог, но не знаю, "дойдет" ли до нее то, что я пытаюсь сказать…
Вчера утром Андрееве Стояние, сегодня Похвала… И яркое-яркое, холодное солнце… Заходил в [книжный магазин] Librairie Franchise. [Продавщица] говорит, что они ящиками продают книги о магии, о масонстве и т.д. У меня впечатление, что никто в мире не хочет дышать свежим воздухом – свободно, радостно, любовно. Только вот нью-йоркские старые рабочие, торговцы, которые одни радостно здороваются (как сегодня на [вокзале] Grand Central): "Hi, Father…"
[1202]. И так очевидно, что им приятно, хорошо видеть священника, что вообще им открыто что-то
хорошее в жизни… Также старая негритянка-продавщица в [кафе] Chuck Full o'Nuts, где я ел egg sandwich
[1203]. Она даже назвала меня "darling"
[1204]. Скрыто от премудрых, открыто смиренным. И потому они счастливы… Но это счастье "шокирует" всех премудрых, всех "специалистов по религии". Все у них "проблемы", "трудности". В семинарии священники переутомлены от безостановочных разговоров со студентами об их "проблемах". И в семинарию-то идет такое количество мучительных людей, мучительных для самих себя, тяжелых, одержимых каким-то "максимализмом". Об этом думаешь, ожидая сегодняшнего, любимого: "Радости приятелище!", "Радуйся, еюже радость воссияет". Только бы не дать радости этой заглохнуть в душе…
Среда, 11 апреля 1979
В субботу и воскресенье – в Торонто. В двух церквах – нашей и антиохийской, две лекции, две проповеди, общая исповедь, разговоры со священником. В воскресенье вечером перед отъездом – снежная буря… В понедельник – завтрак "Freedom of Faith", затем двухчасовой разговор с о. В. Родзянко… Вчера – весь день в семинарии…
Сегодня проснулся очень рано (один в Крествуде). Прочел два рассказа Бунина, которые знаю наизусть. Страх смерти в ликующем – солнцем, зеленью, запахами – мире…
Поток писем из Парижа. Чувство такое, что прорвана плотина, что все заливает какая-то волна безумия, ненависти, распада. Пишу в ответ – но, в сущности, не знаю, что делать, как быть…
Расстрелы в Иране. Признаки начинающихся притеснений христиан в Индии. Ненависть арабов – к Садату. Как может мир, распираемый этими темными страстями, – не лопнуть?
Подтверждение Папой целибата священников. "Нью-Йорк тайме" пишет, что ежегодно уходят из священства три тысячи человек! Nervous breakdown
[1205] христианства, полная растерянность. Церковь буквально не знает, что ей в мире делать, то есть и с миром, и с собою… Может быть, расплата за многовековую подмену Христа – "христианством"?
Пятница, 13 апреля 1979
Канун Лазаревой субботы. "Заутра Христос приходит…" Сегодня в почте – книжечка Солженицына "Сквозь чад". Выведение им "на чистую воду" всяких клеветников.
Великий понедельник, 16 апреля 1979
"Сквозь чад" Солженицына. Как всегда – сильно. Сильно, прежде всего, неудержимостью порыва, стихийностью… Читая, задаю себе мучительный вопрос: будут ли еще Солженицына читать? Для меня несомненно, что он трудный писатель, и это значит – не для современного читателя, особенно русского. Не окажется ли он, не оказался ли уже в некоей пустыне? О нем всегда говорят в прошлом, словно "дело" его уже сделано, а многотомный роман из истории России – вроде как блажь… Не знаю… А может быть, снова все преодолеет эта сила, эта стихия…
Длинное, тихое Вербное воскресенье после изумительных по подъему, по радости служб начиная с Лазаревой субботы. "И паки реку – радуйтесь…" Перед закатом вчера прогулка с Льяной. Очень холодный весенний вечер. Тучи, но ясно, тихо, неподвижно. Вечером: "Се Жених…"
Великая среда. 18 апреля 1979
Ждешь, ждешь этих дней, и все кажется, что время не двигается. А когда приходят – чувство, действительно, что как "Жених в полунощи" и так и не удалось хоть сколько-нибудь быть "бдящим"… И вот уже "странствия вла-дычня и бессмертная трапеза".
В этом году впервые – чувство старения. Никогда его не было. Все казалось – главное еще впереди. И вдруг заметил, как слабеет память – пока что только на имена. И теперь присутствие в подсознании этого "и приклонился есть день…"
[1206].
Великая пятница. 20 апреля 1979
Le temps immobile… Трехчасовое стояние, вчера, перед Распятием: чтение двенадцати Евангелий. И так – каждый год, "всегда, ныне и присно…". Слушая (нас было шесть священников), думал, что вот, пожалуй, это пятьдесят первый или второй раз – без пропуска ! Как и утром – "красная" Литургия Великого четверга. Опять скажу: не Страстная возвращается, мы возвращаемся в нее, прикасаемся, приобщаемся… А "там" все это уже вечность. И как милость и благодать – ослепительные дни…
Парижский "Bulletin de la Crypte" (rue Daru). Почему меня всегда так не то что раздражает, а "разочаровывает" чтение чисто религиозных журналов? Может быть, из-за отсутствия в них мира . Это благочестивый разговор благочестивых людей о собственном благочестии. В Евангелии нет "благочестия", оно все обращено к миру, к людям, оно есть весть , призыв к новой жизни , а не к благочестию, понимаемому как "духовная жизнь". Не знаю, трудно выразить, звучит не "так", но всегда с той же неловкостью читаю все эти журналы о "духовности"… Удобнее молчание.
Среда, 2 мая 1979
Пасха – радостная и светлая, как, кажется, никогда…
Затем – вечером в день Пасхи – отъезд в Париж. Трехчасовая прогулка по Люксембургу. Затем четыре часа в поезде, в почти пустом вагоне. "Одиночество и свобода" после напряжения и алтарной суеты Страстной.
[Вокзал] Gare de 1'Est. Андрей. Всегда столь же острая радость встречи с ним.
Шесть дней Парижа. Шесть дней дождя, промозглости. Каждый день посещение мамы. И почти все остальное время – напряженное, мучительное искание путей к примирению в буквально распавшемся и ненавистью живущем мире Движения. Чередования уныния и надежды… В Фомино воскресенье – французская служба и проповедь [в соборе] на rue Daru.
Четверг, 3 мая 1979
Очередной, ежегодный, давно уже привычный "кризис" в семинарии. Всегда тот же вопрос: почему, откуда эта напряженность, эти бурлящие страсти, эти дикие расхождения – там, где религия ! Как если бы "профессиональная" религиозность создавала иммунитет против ее же основных требований, выражений: любовь, милосердие, терпение и т.д. Достаточно поступить в семинарию, чтобы тлеющие, "естественные" страсти вспыхнули ярким пламенем, точно в них влили горючего…
Книги – "Отчаяние" Набокова, "Le temps des ruptures" Jean Daniel
[1207] и теперь – "Le testament de Dieu" B.H. Levy
[1208].
У Набокова запомнить о сне – в конце коридора – пустая и пустотой своей страшная комната.
Чтение в Париже "Синтаксиса", журнальчика Синявских.
Вашингтон. Четверг, 10 мая 1979
Полтора дня в Оклахоме с антиохийскими священниками. Сырая жара с сильнейшим теплым, ужасно беспокойным и неприятным ветром. Целодневные дебаты, разговоры, "экклезиастика". Сегодня с утра в Вашингтоне на симпозиуме, посвященном византийской Литургии. Мне уже давно оскомину набил "византинизм", наука для снобов и неудачников. То, что я слышал пока, подтверждает это мнение.
Летя в понедельник днем из Хартфорда (Коннектикут) (где мы хоронили бедного Кюнета) в Оклахому, прочел целиком "Подвиг", один из ранних романов Набокова, читанный мною очень давно. То же впечатление – самый "человечный" из его романов, еще не съеденный изнутри мертвящей иронией, как "Отчаяние".
Зато – вдохновляющее чтение B.H. Levy "Le testament de Dieu". Чувство, что вот что-то очищается , возносится над путаницей и мелочностью жизни. Леви с каким-то радостным – уже религиозным – вдохновением славословит еврейский монотеизм. Это далеко еще от христианства, но это уже Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не "гегельянство". Через всю книгу звучит "заповедей Твоих взысках…".
Набокова читаю, словно у меня какие-то личные счеты с ним. Может быть, в том смысле, что я всегда читал его с наслаждением как бы физиологического свойства. Бесконечно "вкусно". Но чтение это почти как соучастие в каком-то нехорошем деле, и отсюда потребность "катарсиса", выяснения, что же тут "нехорошо". По отношению к другим писателям у меня никогда этого чувства не было (русским). Набоков всегда упирается в пустоту. "Отчаяние": это отчаяние творца, убедившегося, что все его творчество было заранее, неизбежно, очевидно для всех – кроме него – провалом (но сколько усилий, сколько деталей, чтобы убить этого Феликса, совершить "совершенное преступление"!). Почему уходит в Россию Мартын? Только для того, чтобы что-то доказать себе , навязать себе подвиг, абсолютно бессмысленный и ненужный.
Пятница, 11 мая 1979
Продолжающаяся жара. Читал сегодня свой доклад ("Symbols and Symbolism in the Byzantine Liturgy"). Вышло что-то вроде спора, оживившего ужасную – для меня – скуку такого рода симпозиумов. Подавляющее большинство - "искусствоведы" византийского извода. Они могут рассуждать часами об иконах, и завесах, и храмах, и нартексах, так никогда и не заинтересовавшись тем одним, что могло бы всему этому придать хоть какой-то интерес. Но все это происходит в необычайно "шикарном" Dumbarton Oaks, с хорошими обедами и коктейлями, и потому терпимо.
Разговоры о "символах". Я, пожалуй, не знаю более "беспредметных" разговоров… На последней глубине своей они подмена "жизни с избытком"
[1209].
Понедельник, 14 мая 1979
Последняя неделя, которую начинаю почти с испугом перед этим необходимым, но почти что невозможным усилием. Вчера – крещение маленькой Сони Куломзиной, чудная служба – особенно после недели отсутствия. Затем – все Хопки у нас (Mother's Day!
[1210]). Жара, мокрота. Читал переписку Набокова с Е. Wilson'oм. Все то же "любопытство" к Набокову, к его "случаю".
По мере отдаления симпозиума растет и мое удивление, как можно всем "этим" заниматься и в чем смысл этих занятий, вот такой вот "византологии". Какое падение "знания" и приобщения к нему. И, главное, этот все разъедающий "историзм", дающий историку иллюзию, что он все знает и понимает…
Среда, 16 мая 1979
Переписка Набокова с Эдмундом Вильсоном (изданная С.Карлинским). В сущности – неинтересная, поверхностная. Одержимость "литературой", но как-то "безотносительно". Mutatis mutandis к Набокову приложимо брюсовское: "…все в жизни есть средство для ярко-певучих стихов…"
[1211], для "сочетания слов"
[1212].
Чтение эти дни бесчисленных сочинений и диссертаций. Думал о своем "влиянии", которое все-таки есть, так или иначе отражается почти во всех этих сочинениях и относится не столько к "идеям", сколько к некоему "переживанию", ощущению Церкви.
Пятница, 18 мая 1979
Добрый человек. Добродетельный человек. Между ними – огромная разница. Добрый человек тем и добр, что он "принимает" людей какими они есть, "покрывает" своей добротой. Доброта – прекрасна, самое прекрасное на земле. Добродетельные люди – активисты, одержимые стремлением навязывать людям принципы и "добро" и так легко осуждающие, громящие, ненавидящие. Тургенев, Чехов – добрые люди, Толстой – добродетельный человек. В мире – много добродетели и так мало добра.
Продолжаю, заканчиваю переписку Набоков – Вильсон. "Шаманство" как определение литературы Набоковым.
Пишу это во время чудовищной суеты: Аня и Наташа Лазор готовят ужин для оканчивающих студентов: тридцать два человека (с женами). Дождь. Холодно. И завтра весь день – торжества и заседания…
Среда, 23 мая 1979
День у Солженицына. Приехал туда, выехав в 5 утра, около 10 часов утра. Сначала кофе (без Солженицына, он уже в своем "затворе" на пруде внизу) – с Алей и Катей, Никитой и – первое знакомство – с А. Гинзбургом. Потом часовой разговор с Солженицыным, затем – втроем – с Никитой. Общее впечатление (подтвержденное в дальнейшем и Никитой)…
Пятница, 25 мая 1979
…Общее впечатление от "самого" – что он, так сказать, "устоялся", устоялся, во всяком случае, на "данном этапе" своей жизни, что он знает, что он хочет написать и сделать, "овладел" темой и т.д. Отсюда – вежливое равнодушие к другим мнениям, отсутствие интереса, любопытства. Он отвел мне время для личного – с глазу на глаз – разговора. Но разговор был "ни о чем". Дружелюбный, но ему, очевидно, ненужный. Он уже нашел свою линию ("наша линия"), свои – и вопрос (о революции, о России), и ответ. Этот ответ он разрабатывает в романе, а другие должны "подтверждать" его "исследованиями" (ИНРИ
[1213]). Элементы этого ответа, как я вижу: Россия не приняла большевизма и сопротивлялась ему (пересмотр всех объяснений Гражданской войны). Она была им "завоевана" извне, но осталась в "ядре" своем здоровой (ср. крестьянские писатели, их "подъем" сейчас). Победе большевизма помогли отошедшие от "сути" России – власть (Петр Великий, Петербург, Империя) и интеллигенция: "Милюковы" и "керенские", главная вина которых тоже в их "западничестве". Большевизм был заговором против русского народа. Никакие западные идеи и "ценности" ("права", "свобода", "демократия" и т.д.) к России не подходят и неприменимы. Западное "добро" – не русское добро: в непонимании этого преступление безродных "диссидентов". Таким образом, он пишет – в страшном, сверхчеловеческом напряжении… И весь вопрос в том, кто кого "победит" – он тезис (как Толстой в "Войне и мире", романе тоже ведь с тезисом) или тезис – его. В том-то, однако, и все дело, что "тезис" ему абсолютно необходим, ибо им живет его писательский подвиг, а вместе с тем опасен для "писателя" в нем. Это – вечная "gamble"
[1214] русской литературы. Без "тезиса" ее просто не было бы, но она
есть как удача, как литература, лишь в ту меру, в какую она этот "тезис" или, вернее, полную от него зависимость – преодолевает… (Мимоходом: это приложимо и к Набокову: его "тезис" – в страстном отрицании "тезиса", в защите искусства как "шаманства", его выражение в письме к Вильсону. И, однако, именно этот антитезисный тезис мешает ему стать великим русским писателем, делает все его творчество своего рода карикатурой на русскую литературу…) По-видимому, свободен от этого конфликта "писатель – тезис" один лишь Пушкин. И также – во всех своих взлетах – русская поэзия.
Вторник, 29 мая 1979
Длинный week-end: Memorial Day. Работал над "Church, World, Mission", со страшной скукой, ибо нет большей пытки, чем эта работа со своими давно написанными, давно забытыми опусами. Эти последние кажутся совершенно ненужными и скучными. Писал также скрипты.
В воскресенье ездили в Wappingers. Служил.
Завтра – отдание Пасхи и завтрак с Максимовым и Эрнстом Неизвестным.
Усталость от этого длинного и трудного года. Хочется в Labelle… Еще десять дней.
Пятница, 1 июня 1979
В среду завтрак с Максимовым и Неизвестным в маленьком ресторанчике. На этот раз Максимов мне очень понравился.
Отдание Пасхи, Вознесение… Все "ответы" тут, но не слышат их, прежде всего, сами церковники. Доказательством тому два длиннейших разговора вчера, один с J.E. об отвратительной по мелочности вражде между двумя "женами": Н.Е. и N.L. Второй с Верховским, "обличающим" меня за то, что я якобы отрицаю богословие – "доктрину", по его выражению, – во имя "радости".
Вчера на ужине [директоров] Spence School. Пятая авеню, и все как один из финансового мира – банкиры, investors, tax lawyers
[1215]. Но как люди они мне симпатичнее византологов и вообще академиков. Эти живут самоутверждением, страхом, табелью о рангах. А финансисты по-человечески – скромнее, ничего из себя не корчат. Их успехи – осязательны и потому без неврастении и, главное, без мук самолюбия.
Воскресенье, 3 июня 1979
Верховской обвиняет меня в том, что я проповедую не "доктрину", а "радость и мир". Но я не знаю, искренне не знаю, чем, кроме радости – о Боге, о Христе, о вознесении на небо (все эти дни кондак, любимейший из всех: "…никакоже отлучался, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз семь с вами и никтоже на вы") – перешибить, преодолеть, победить эту дьявольскую мелочность и "болотце" жизни…
Папа в Польше… Нет, с религиозным национализмом не так просто, как кажется, обстоит дело…
Протесты против религиозной диктатуры в Иране. На что они рассчитывали? На демократию под исламом? Чтобы Ислам гарантировал свободу? Миром владеют страсти. Это не очень оригинальное открытие, но, когда почувствуешь силу и иррациональность этих страстей, делается по-новому страшно.
Остаются несомненные радости: старый попугай у Осоргиных, доверчиво склоняющий голову, чтобы я ему хорошенько почесал "загривок".
Вторник, 5 июня 1979
Усталость, отвращение, уныние после целодневного – вчера – обсуждения и разбирательства семейных дрязг в семинарии. И все это среди людей, все время говорящих о Православии, о "community" и убежденных, что они служат Богу… Проснулся сегодня от ужаса: сейчас, сегодня предстоит во все это снова погружаться… (пишу это до ухода в семинарию).
Папа в Польше. Замечательная проповедь в день Пятидесятницы. Радость за него и за Польшу. Но мысль: будет ли это началом чего-то внутри католичества или эмоциональным взрывом без продолжения?
Среда, 6 июня 1979
Последние дни до отъезда в Labelle (на Троицу после службы). И, как всегда в эти дни, любое дело становится чудовищно трудным, непосильным.
Тридцать пять лет сегодня со дня высадки в Нормандии в 1944 году. Два лета – 1940 и 1944 – незабываемы по своей солнечности, лучезарности. И как мы были беспечны.
Суббота, 23 июня 1979
Одиннадцать чудных, "благодатных" дней в Labelle. Прогулки по любимым дорогам через любимые поля и леса. Лабель – с каждым годом – все большая радость. Работал, как не работал всю зиму. Написал целых шестьдесят страниц (!) – лекции к предстоящему в семинарии, на следующей неделе, "институту", посвященному смерти.
Беспокойство с Л. – в понедельник она едет на check-up
[1216] в Балтимор.
Сегодня вернулись в Нью-Йорк. Слава Богу, прохладно, хотя и солнечно.
Четверг, 28 июня 1979
Всю неделю – семинар о смерти, погребении и т.д. Читаешь лекции (с вдохновением, от души, убежденно), слушаешь, обсуждаешь – и все сильнее внутренний вопрос: ну, а ты сам? А твоя смерть? Как обстоят с нею дела?
Медицинский осмотр Л.: слава Богу, все в порядке, все хорошо. Последние две недели жили под этой "сенью".
Вчера завтрак с о. К. Фотиевым [в Нью-Йорке]. Ослепительный солнечный день, несусветные толпы туристов. Несмотря на все (отсутствие бензина, кризис за кризисом), живучесть этого "праздника жизни".
Кончил Berger'a "The Heretical Imperative"
[1217]. Тоже требует раздумья. Особенно его утверждение, что для христианского богословия тема сейчас – не встреча христианства с modernity
[1218], а встреча с другими религиозными установками, и в первую очередь с Индией, с религией не встречи с Богом как Другим к Личным, а как "глубиной внутреннего"… Не знаю. Надо подумать. Подумать, прежде всего, над тем, что значит, что может означать т
акая встреча.Понедельник, 13 августа 1979
В Крествуде, куда приехал (выехав из Лабель в четыре часа утра) на… похороны Флоровского! Сегодня вечером, в Трентоне (Нью-Джерси). Без года двадцать пять лет прошло с нашего разрыва в 1955 году. С тех пор видел его – именно и только видел – раза три, не больше. В последний раз в прошлом году на сорокалетнем юбилее семинарии: мы молча, "по-поповски", то есть "в плечико", – облобызались… В какой-то из его юбилеев – семидесятипятилетие в 1968 году? – писал ему, призывая все забыть dans la douce pitie de Dieu
[1219]. Ответа не получил. По слухам, он остался "непримирим" до конца. Правя сегодня, сквозь ночь и туман, из Лабель на аэродром, пытался восстановить в памяти всю эту трагедию. Но бросил. Знаю только, что сыграл он в моей жизни большую – и положительную, и отрицательную – роль. Но это все "частное" и "личное". А о месте его в истории Православия говорить и писать еще рано…
В тот же день, в субботу, узнал о смерти В.В.Вейдле. Теперь, значит, нет у меня в мире этом ни одного из учивших меня. И, как я писал вчера Никите, наше поколение, по слову Тютчева, "на роковой стоит очереди…"
[1220].
Изумительное лето. Две недели с Андреем. Потом – три недели пребывания в Лабель Сережи с семьей: это была огромная радость…
Работал: сначала над
смертью ("The Celebration of Death"
[1221]), потом – над переводом моего "Great Lent"
[1222] (все равно плохо, не то, не мой русский язык, но, слава Богу, кончил, а то висело на совести). Потом статью о Движении – "На перепутье", которой доволен. А в эти последние дни засел наконец снова за "Литургию"… Каждый день прогулки – со все большей, почти болезненной радостью о полях, небе, лесах, о Божьем мире… И почти все время – солнце, тепло.
Чтение "И возвращается ветер…" В.Буковского. Книга, очень мне понравившаяся. Мужество в чистом виде, без самолюбования и самовосхваления.
Альбер Камю, огромнейшая биография Лотмана. Скорее разочарование. В поверхностности всего этого французского блеска. Альбер Камю не выходит в этой биографии "великим человеком", хотя именно таким хотел бы его представить автор.
Заметил: когда работаю ("творю"!), то не только меньше читаю, но как-то не хочется читать "серьезное". Может быть, чтобы не помешать внутри, подспудно идущей работе мысли, "созерцания"…
Все тот же интерес к феномену Хомейни в Иране, а также и к "падению" Картера, точнее – его неслыханному "провалу". Соединяю два этих имени, потому что и тут и там замешана "религия". И тут и там она – один из главных факторов "провала", распада, трагического…
Понедельник, 27 августа 1979
Крествуд. Вчера вечером приехали с Л. из Вермонта, где провели сутки у Солженицыных. Литургия: все (то есть пятеро Солженицыных, теща и А.Гинзбург) причащаются. А.И. больше чем когда-либо – отсутствующий, хотя и ласковый. Весь в своих "узлах" – с одной стороны: заканчивает сразу первую редакцию трех (!) "Мартов". А с другой стороны – все время: "наше направление", "наши люди"… Насколько я могу понять, враги – это все те, кто сомневается в стихийном "возрождении" России. Солженицыну нужна "партия" ленинского типа. Поразительно упрощенные осуждения все того же злосчастного Запада.
В субботу вечером дети, то есть три мальчика, устраивают "показной вечер": читают стихи (Пушкин, Блок, Цветаева), Игнат играет на рояле. Никакого кривляния…
Последняя запись была о похоронах Флоровского. Грустные похороны. Десять довольно-таки случайных священников. Без хора. Беспорядочная служба… Отец И.Туркевич говорил в начале, я – перед "Вечной памятью". Среди молящихся – несколько "верных", а также – Бродский (?).
В Лабель – в эти последние десять дней – писал статью-некролог о В.В. Вейдле. Читал письма – удивительные – Фланнери О'Коннор. А также роман А. Битова "Пушкинский дом" – непонятный, с претензией…
Вторник, 28 августа 1979. Успение
Первое погружение, вчера, в семинарию. В который раз! Все на месте, все привычно, все свое. Но именно привычка эта и пугает. Знаю, что ничто так не съедает – незаметно, но стопроцентно – времени, как она…
Забыл отметить: длинные разговоры в Вермонте с А.Гинзбургом. Хороший человек, герой и т.д. Все это ясно. Но в который раз поражает это абсолютное, подчеркиваю – абсолютное отсутствие интереса к нам, к нашей жизни. Эта абсолютная закованность в себе.
Известие вчера – о назначении Сережи в Москву.
Четверг, 30 августа 1979
Сегодня ночью – сон об о.Г.Флоровском. Со мной он добр, почти нежен. Я говорю ему: "Отец Г., несколько лет тому назад я написал Вам письмо, ведь Вы получили его?" Он закрывает глаза и говорит: "Да, получил".
467
Вторник, 4 сентября 1979
С четверга по субботу на океане. Блаженное погружение в некий солнечный праздник.
Labor Day
[1223] дома, уборка стола, книг. На прошлой неделе проделал то же самое в своем кабинете в семинарии. Удовольствие, как после бани. Сколько писем, документов, еще два года тому назад бывших "важными на час", – и вот их нет, как нет и того, о чем они. Что остается от жизни? Так мало. Вот недавно думал о том – с удивлением, почти ужасом, что три года ходил в Париже в лицей и не могу вспомнить
ни одного ухода из дома, ни одного утра: как вставал, как это было, как происходило каждый день. Как будто этого, этих трех лет просто не было… А люди пишут историю, восстанавливают тысячелетнее прошлое!
На прошлой неделе два интервью: в "Nouvel Observateur" – с покойным Морисом Клавелем, а в "L'Express" – с Мирча Элиаде. Этот последний все время, и с вдохновением, говорит о sacrй
[1224], о "священном", о "космическом времени", "священной истории" и т.д. Но ни разу, кажется, не произносит слова "Бог". Клавель же, со своей стороны, с яростью отбрасывает, как дьявольское наваждение, spiritualitй sans Dieu
[1225] в которой видит новую и страшную подмену веры… Действительно, "оптимизм" Элиаде как будто подтверждается. Нас захватывает, захлестывает эта мутная волна "спиритуализма", самой высшей, а потому и самой страшной формы гордыни.
Чтение все эти дни писем Фланнери О'Коннор, удивительных по трезвости, глубине, отсутствию всяческих "подделок".
В Доминиканской Республике ураган Давид снес церковь, в которой искали убежище четыреста человек. Все погибли. Какой страшный символ. Ужас этой гибели в церкви. "Если не покаетесь, все так же погибнете…"
[1226].
Рассказы Тома [Хопко] о поездке в Европу. О Taizй
[1227]. Тысячи юношей и девушек. О съезде Синдесмоса
[1228] в Монжероне, о Bussy
[1229] и т.д. Впечатление, что Церковь и христианство как-то суетятся, но без руля и без ветрил. Все обсуждают да обсуждают, и некогда передохнуть.
Размышления в связи с "Литургией" о причастии , о странном, таинственном отталкивании от него в Церкви (на Афоне – "не приобщаются", у нас в Церкви – подозрительность к ищущим "частого причащения"). Мистически – это центральный вопрос. Превращение причастия в "священное", в табу и тем самым парадоксальная его "натурализация" (как "страшного", требующего "очищений" и пр.). Неслышание абсолютной простоты – "приимите, ядите…", простоты и смирения, которые одни "соответствуют" абсолютной же трансцендентности Евхаристии.
Пятница, 7 сентября 1979
Прочитал книжицу англиканского епископа Paul Moore – его "апология" по делу посвящения им в священство лесбиянки. По-своему поразительная книга, поразительная как свидетельство о радикальной подмене христианской
любви чем-то совсем другим, буквально противоположным. Автор не видит, не понимает, что, если бы христианская любовь была бы тем, чем он ее делает, все христианское учение, все Евангелие было бы, прежде всего, полнейшей бессмыслицей. Ибо речь все время идет, в сущности, о земном счастье человека, то есть не об отвержении им себя ("да отвержется себе…") во имя "новой жизни", а, наоборот, – о христианстве как методе "принятия себя". Но этого не видят и враги епископа Мура. Для них есть "хороший" пол и "плохой" (гомосексуализм). Они не понимают, что в "половой" сфере мы имеем дело с падшим миром. И потому выходит так, что Мур защищает любовь от моралистов и фарисеев… А те его "кроют" последними словами. Непонимание того, что благодать освобождает нас, прежде всего, от самих себя, от нашей порабощенности "плоти и крови" ("и уже не я живу, но живет во мне Христос"
[1230]). Христианство здесь – как утверждение "натурального" человека, то есть со всей его "похотью". Поразительно, что люди типа Мура, образованные, богословы, просто не видят радикальной подмены…
Воскресенье, 9 сентября 1979
Всю неделю – "начало учебного года". Приезд студентов, старых и новых, знакомство, регистрация и наконец увенчание всего этого праздником Рождества Богородицы. Чувство радостного подъема, за которое испытываю глубокую благодарность. Действительно: благодать …
Кончил Фланнери О'Коннор, и тоже с благодарностью. За чистоту, ясность, простоту ее "свидетельства". Почти в самом конце, за год до смерти, она пишет:
"…I do pray for you but in my own fashion which is not a very good one. I am not a good prayer. I don't have a gift for it. My type of spirituality is almost completely shut-mouth. I really dislike books on piety most of all. They do nothing for me and they corrupt most people's ear if nothing else…"
[1231](стр.572).
Вчера – почти весь день в размышлениях о курсе, который я должен читать в этом семестре: "The Church in Russian Thought and Literature"
[1232]. Тема или, вернее, перспектива для меня – это христианская культура и ее распад. Значение русской литературы в этой перспективе в том, что она есть, одновременно, и свидетельство, можно даже сказать – пророчество об этом распаде, и последнее, может быть, самое яркое, ее "воплощение". Только вот не знаю, как все это "скомпоновать".
Христианство не о культуре, но оно не может не "рождать" культуру, поскольку оно есть целостное видение Бога, человека и мира. Отрываясь от "культуры", оно либо "клерикализируется" (религия, а не жизнь), либо же изменяет себе, "сдается" культуре. Убожество понятия "Церкви" в наши дни – либо "приходские делишки", либо же всяческий секулярный "активизм", эрзац…
Понедельник, 10 сентября 1979
Первый день лекций. Читал пять часов: три утром и два вечером. На лекции о России масса народа. Прошло, по-моему, удачно. "Пробегал" сегодня, готовясь к лекции, давно уже читанные книги: о Гоголе – Набокова и Сечкарева. О русской культуре – Биллингтона ("The Icon and the Axe"
[1233]). Удивительное желание объяснить все не то что ad malem partem, но "снизу". Какое-то глухое сопротивление всему, что "свыше". Отрицание
дара.
На лекции – группа "диссидентов": Лиля Штейн с бородатым женихом, Лариса Волохонская, Трегубое.
Лишний раз убедился сегодня, что лекция обращена и ко мне, что я из нее "многое узнаю". Своего рода "соборность" – только говоря другим, понимаешь и принимаешь то, что говоришь.
Пятница, 14 сентября 1979. Воздвижение Креста
Вчера на всенощной, очень торжественной, воздвижение Креста совершает Митрополит. Масса народа. Студенты чудно поют. И на какую-то долю секунды всем сердцем ощущаю правду этого обряда. Крест опускается, словно пропадает… И вот снова возносится – победно, радостно. Словно ответ на своего рода уныние всех последних дней – от чувства развала мира, торжества в нем зла и бессмыслицы.
А жизнь "забила ключом". Вот уже три недели, что мы уехали из Лабель, и, в сущности, ни разу не удалось сесть за стол, писать, думать.
Понедельник, 17 сентября 1979
Статья Ольги Карлайл (дочери Вадима, внучки Леонида Андреева, с которой я несколько лет тому назад познакомился у Нины Федотовой). О "новой правой" в России, о скольжении диссидентов направо – к Православию (!), русскому национализму и, конечно, антисемитизму. Статья гнусная , другого слова не найти. Вся она сплошная инсинуация, преподносимая ничего о России не знающему американцу (ибо напечатана в "New York Times Magazine"). Цель – создать недоверие, возбудить против … Марксизм с его интернационализмом и эгалитаризмом куда лучше…
Вчера утром передача по телевизии беседы с А. Гинзбургом (которую я переводил) в моем кабинете в семинарии. Тут, в отличие от подлости, что пронизывает статью О. Карлайл, – подлинный свет.
Спокойный, "рабочий" week-end с чудной солнечно-прохладной погодой за окнами. Бился, если так можно выразиться, над "Таинством покаяния", над его историческими, богословскими, психологическими "метаморфозами". Всегда то же удивление: оказывается, "богословие" попросту ничего путного по этому вопросу не сказало. Как, почему из таинства примирения с Церковью превратилось оно в нашу современную трехминутную исповедь? Как, почему все миряне превратились в "отлученных"? На все это ответов нет, никто этим не занимался, а между тем для Церкви, для ее, так сказать, "повседневной жизни" нет проблемы более насущной. Что такое "разрешение грехов"? В чем состоит власть "вязать и решить"? И так далее. Выходит так, что, за что ни возьмешься – реальное жизненное, – всегда оказываешься перед "целиной" и нужно все начинать сначала, причем и само это "начало" неясно…
Я не сомневаюсь, что, несмотря на все "метаморфозы", в таинстве покаяния есть преемство, есть какое-то основное, глубокое
подлежащее , то есть сама реальность, сама сущность
покаяния , неотделимое от сущности христианства. Христианство
есть покаяние, и потому Церковь
есть таинство покаяния, и потому
в Церкви
есть таинство покаяния. Но уразуметь, вскрыть подлинный смысл и содержание этого тройного
есть нелегко. Ибо тут-то и начинает все двоиться, становиться двусмысленностью. Покаяние – тоска не по "праведности", а по Богу: "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене…"
[1234]. В отрыве же от этого своего "теоцентризма" оно становится "антропоцентрическим" и неизбежно скользит либо к юридизму, либо к психологизму… Но как "реставрировать" это таинство, если сами верующие принимают эту редукцию, ибо ею пронизана вся наша культура?
Начал также "набрасывать" главу "Таинство воспоминания" и сразу же вижу, как это будет трудно…
Вторник, 18 сентября 1979
Письмо от мамы, все в повтореньях, в каракулях…
Несколько спокойных часов вчера и постепенное погружение в "Таинство воспоминания". И, как всегда, только начав писать, узнаю, что я хочу или, вернее, что надо написать. А удастся ли, это совсем другое дело.
Статья Флоровского в старом номере "Вестника" (108-110) "Три учителя" – о Гоголе, Достоевском, Толстом. Защищает подлинность религиозной драмы Гоголя и, так сказать, "неподлинность" ее у Толстого.
Четверг, 20 сентября 1979
Вчера весь вечер с А. Гинзбургом, который ночует у нас перед выступлением сегодня на [собрании] "Freedom of Faith". Хорошее, светлое, но вместе с тем и как бы мучительное впечатление. Мучительное из-за все время "нажатой педали", возбуждения, раскаленности."Или это говорит во мне западная успокоенность, нежелание все время с кем-то "сострадать", о ком-то волноваться? Так сказать, реакция эгоизма?
Моя вечная попытка понять "идейное" положение там . Я спрашиваю его об "удельном весе" разных течений. Группа Литвинова, Шрагина, "Самопознание": устарело, не действует, не соответствует. "Континент": была масса надежд, но журнал оказался не "тамошним", заграничным, голосом добровольно уехавших. Оценки, близкие к солженицынским, но без злобы и презрения. Главное – надо все время быть там ("…я на Америку решил смотреть в полглаза, боюсь увлечься и забыть …"}. Хотел бы личного, человеческого мира, несмотря на разногласия. Вообще все в мире оценивается с точки зрения положения там , все остальное абсолютно вне поля зрения, не представляет решительно никакого интереса. У него нет отталкивания от Запада, наоборот, но Запад, Америка – "не модель". Их диссидентство "там", жизнь в борьбе, в напряжении – это как бы потерянный рай, вне которого они чувствуют себя, как рыба на суше… Не знаю, но после такого вечера чувствуешь огромную усталость и, что еще хуже, внутреннее отчуждение, и это несмотря на симпатию, на то, что человек притягивает к себе.
Вчера же – до Гинзбурга – завтрак с С.М. Опыт другого "солипсизма": весь мир есть только вопрос, будет ли он или не будет рисовать. И тоже впечатление от человека самого – светлое.
После радио "Свободы" – короткая встреча с Владимиром Рифом. Этот уже пробивается, на пути к удаче, если не к успеху.
Вот так за один день погружение в три предельно "личных мира". Если этих трех людей посадить вместе, они решительно не знали бы, о чем друг с другом говорить, поскольку каждый абсолютно занят если не собой (Гинзбург), то
своим . И каждый, наверное, считал бы, что мир и забота других неинтересные, не заслуживающие внимания, потеря времени… Моя же, мною никак не выбранная и всегда меня тяготящая, роль – их слушать. И пока я слушаю, во мне действительно, непонятным для меня самого образом, живет интерес к тому, о чем они говорят, или, точнее, к ним. Но кончается разговор, и как бы ничего не остается. И я опять спрашиваю себя: что это – самозащита, нежелание to get involved?
[1235] Равнодушие? И значит – грех? Да, наверное, и это. Но не только это. А и что-то отдаленно сродни фетовскому – "…жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем". Просиял, сияет – в каждом из них, но как-то попусту (так мне кажется) тратится. Гинзбург говорит, что разделяет солженицынское осуждение, отбрасыванье пустых разговоров, "траты времени", так сказать – "наслаждения Парижем" (мы говорим о его возможной поездке на съезд РСХД в ноябре). Все должно быть "на пользу"
делу . И, пожалуй, именно в этой точке я мгновенно, инстинктивно, целостно "отчуждаюсь" от них. За "делом"-то – самым важным, самым положительным – так часто и не остается времени не просто для жизни, а для
встречи с жизнью или, по-другому, для опытного восприятия того, ради чего – все "дела". Опять мой Жюльен Грин: "Tout est ailleurs…" He знаю, может быть, я "нечестиво" ошибаюсь, но что-то именно такое (груз "дела") мне слышится в словах Христа: "Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?"
[1236]. И это совсем не противоречит Его всецелой любви и самоотдаче этим "вам". Эта скорбь от того, что не видят они "главное", которое уже не есть и "дело", а претворение, увенчание его в жизни, и в жизни с избытком. В мире сем всякое "дело" в каком-то смысле проклято и "спасается" только, когда –
ради жизни, ради приобщения к ней. Без этой отнесенности оно становится "идолом" и мукой. Что для любого "дела" может значить: "В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом"
[1237] или какая польза от того "дивного сна", в который погружает нас "студеный ключ, играя по оврагу…"?
[1238] А между тем все, почти все в нашей жизни зависит от этих "прорывов", ибо в них дается нам опыт жизни.
Суббота, 22 сентября 1979
Распрощавшись вчера, после его выступления в семинарии, с Гинзбургом и длинных с ним разговоров, продолжаю думать о "поляризации" среди диссидентов: о ненависти Синявских к Солженицыну (и vice versa) и т.д. Гинзбург "солженицынец", но хочет остаться в дружбе и мире и с Синявскими. "Моя формула, – говорит он, – это: Солженицын ужасен, но он прав…" В связи с этим читал сегодня утром три номера журнала Синявского "Синтаксис" (купленные мною еще в мае, в Париже, но скорее просмотренные, чем прочитанные). И вот вывод: я не могу до конца принять ни одной из сторон и в их стопроцентном отвержении одна другой вижу ужасающую ошибку. Вот опять – поляризация русского сознания, это несчастное "или-или". Солженицын и вслед за ним Гинзбург
хотят , чтобы было так, как они "переживают". Хотят существования, несмотря на все, на всю тьму, – неразложимой,
невинной России, к которой
можно , а потому и
нужн о вернуться. Если ее нет, если всего лишь усомниться в том, что она есть, – падает, без остатка рушится все их видение, но также и вся их
работа . Поэтому они (но главное, конечно, Солженицын) должны
отвергать таких людей, как Синявский или Амальрик и т.д., отвергать их право на любовь к России. А они ее
любят , и их оскорбляет, да и бесит, это отрицание у них любви: любви, направленной не на какую-то нетленную, почти трансцендентную "сущность" России, а на Россию "эмпирическую", на
родину ("да, и такой, моя Россия…"
[1239]). В замысле я мог бы принять обе установки. Но на практике Солженицын во имя "своей" России выкидывает из нее половину ее исторической плоти (Петербург, XIX век, Пастернака и т.д.), предпочитает ей, в качестве идеала, – Аввакума и раскольников, а "Синявские" все-таки как-никак презирают всякую ее "плоть", остаются безнадежными "культурными элитистами". Разговор между ними невозможен не из-за аргументов или идей, а из-за
тональности , присущей каждой установке. Солженицыну невыносим утонченный, культурный "говорок" Синявского, его "культурность", ибо не "культуру" любит он в России, а что-то совсем другое. Какую-то присущую ей "правду", определить которую он, в сущности, не способен, во всяком случае в категориях отвлеченных, в мысли, но по отношению к которой всякая "культура", особенно же русская, кажется ему мелкотравчатой. В своей "антикультурности" он, конечно, толстовец. Синявскому же ненавистна всякая "утробность" и из нее рождающиеся утопизм, максимализм, преувеличение. В истории, на земле возможно только культурное "возделывание", но не "преображение" земли в небо. Условие культуры – свобода, терпимость, принципиальный "плюрализм", моральная чистоплотность, "уважение к личности".
Понедельник, 24 сентября 1979
Увидеть правду о прошлом можно действительно только "в Боге". А если этого нет, хотя бы в желании, в расположении сердца, в смирении перед Правдой, каждый, во-первых, видит это прошлое в свете своего "сокровища сердца", а во-вторых – путем "прошлого" навязывает всем свое "настоящее".
Кто в русской истории видел и говорил правду о России? Пожалуй, Пушкин, а все остальные, включая даже Достоевского, только "отчасти", только до тех пор, пока не овладевала ими слепота страсти, требующей из России сделать либо идола, либо чудовище.
Нужно "пророчество" (любовь, смирение и ненависть к идолам). Однако пророчество не помогло (!) еврейству, хотя составляет и составляло органическую его часть.
"И на строгий твой рай силы сердцу подай"
[1240].
Пятница, 28 сентября 1979
В среду в Вашингтоне – на Сахаровских слушаниях. Своего рода hit parade
[1241]: налицо все диссидентские ведетты – Гинзбург, Буковский, Амальрик, Синявский, Григоренко, Ходорович, Чалидзе, Литвинов, belle-fille
[1242] Сахарова и великое множество категории "dii minores"
[1243]. Атмосфера праздника: поцелуи, объятия, здоровый хаос. Для каждого нового – медовый месяц, для многих – уже печальный опыт превращения из "звезды" в назойливого "приставалу", до которого Западу в целом и больной Америке, в сущности, нет дела, ибо своих печалей вполне достаточно. И все-таки думаю, что, если бы создали они одну группу, выступали бы единым фронтом, что-то было бы возможно. Но они безнадежные индивидуалисты. Их солидарность – очень-очень подлинная – действует только в атмосфере и реальности преследований. На свободе – chacun pour soi
[1244].
Перечитываю (в связи с курсом) книгу Синявского о Гоголе. То же впечатление: лучшая о нем написанная.
Звонок на днях от Иваска. "Может быть, это нехорошо – так говорить, но мне кажется, что Варшавский жил только для Вашего некролога…" – "Однако, – говорю я ему, – и некролога ведь не было бы, не живи Варшавский и не будь тем, чем он был…"
Чтение газет. Я говорю Тому [Хопко]: их надо читать, чтобы каждый день узнавать, что христианство есть религия спасения …
Воскресенье, 30 сентября 1979
На епархиальном собрании Питсбургской епархии. Вчера говорил на банкете. Чудная вечерня. Масса молодежи. Сплошь молодое духовенство – насчитал до двадцати "своих". Вспоминаю свой первый приезд в Питсбург – в феврале 1952 года. Какая огромная разница!
Понедельник, 1 октября 1979
Покров. За ранней Литургией проповедовал об отвержении нашим миром, современным человеком – страдания. Символ нашей эпохи – pain killer
[1245]. Все направлено на то, чтобы "не страдать". Поэтому и религию воспринимают как pain killer. Отличие этого, поистине демонического, подхода от того, что выражен, явлен в празднике Покрова, во всем образе Богоматери. Да, тут тоже –
помоги , но со знанием глубины жизни и страдания как неизбывной судьбы человека в "мире сем". Стоять у Креста – одно, а "пикетировать" Пилата было бы совсем другое.
Все еще под впечатлением поездки в Питсбург, вчерашней Литургии, общения с духовенством, несомненного и радостного опыта Церкви.
Чтение "Гоголя" Синявского.
Стр. 165 о смехе:
"…если возможен на земле, влачащей в достаточной мере мнимое, злое существование, смех, исполненный святости и благодарности к Богу за дарованное счастье , смеясь, к нему воспарять, – то я осмелюсь сослаться прежде всего на смех "Ревизора". Этот смех, как молитва, воодушевлен добром и любовью уже не только к жалким козявкам, копошащимся где-то на сцене, но к чему-то более истинному, чем Городничий, Добчинский, Бобчинский… Разве это действительность? Мимо, мимо!
Как-то так получилось, что смех в религиозном значении потерялся и не звучит уже в мире…"
Да, смех – любовь, смех – благодарность. Но потому и обличение. Сравни, например, "Чонкина". Обличение не просто зла, ужаса, кошмара, "советчины", но – сначала – ее бездонной, дьявольской пошлости . Пошлость же по-настоящему обличается, разится только смехом.
Падший, греховный смех. Синявский пишет (стр. 165): "Или в самом деле Дьявол сошел на землю и взял в свои руки смех, и запасники ада пусты, оттого что все его воинство ходит между нами и покатывается от хохота?.."
Статьи вчера в "Нью-Йорк тайме" в связи с завтрашним приездом в Америку Папы. Смысл этих статей: опасение, что Папа не понимает современного мира, особенно же Америки с ее "плюрализмом". Не понимает глубины и величия "сексуальной революции", аборта, отвержения "догматизма" и т.д. Авторам ни на секунду не приходит в голову подумать о том, что все это можно оценивать по-другому, изнутри самой веры. Хорошо, правильно это , и тем хуже для Папы, если он этого не понимает. Тут же, однако, пишут, что главные религии – "либеральные" и "умеренные": пресвитериане, методисты, лютеране, католики – теряют людей за счет "консерваторов". И это, конечно, ужасно: нарушается связь с "культурой". А культура – это аборт, адогматизм и т.д. Сказка про белого бычка. Мне иногда кажется, что нет ужаснее категории людей, чем "интеллектуалы". "Слепые вожди слепых" – это сказано в первую очередь о них…
Вторник, 2 октября 1979
Собрание у меня вчера "профессорского семинара" с докладом N. о пастырском богословии. Очень учено, с греческими и психологическими терминами и диаграммами. И все это может быть формально "правильным". Но вот знание этих правил ничему не поможет, никак и никогда не создаст пастырства… Этого не понимают, не видят "ученые богословы". Сумма изложенных научно истин и не открывает, не являет Истины. Сумма знаний о Боге не дает знания Бога… Что-то есть жалкое в этих дебатах, согласиях, несогласиях, поправках и уточнениях. И я с особой силой чувствую это сейчас, час спустя после мучительного изгнания одного из студентов. Всегда то же самое, абсолютное: "без Меня не можете творити ничегоже…".
Тетрадь VI
ОКТЯБРЬ 1979 – ЯНВАРЬ 1981
Среда, 3 октября 1979
Римский Папа в Нью-Йорке. Вечером смотрели по телевизору мессу на Yankee Stadium
[1246]. Впечатление смешанное. С одной стороны – несомненно хороший и светлый человек. Чудная улыбка. Нечто подлинное: человек Божий. Но вот, с другой, начинаются "но". Прежде всего, сама месса. Первое впечатление – как "литургически" обнищала Католическая Церковь. В 1965 году я так же смотрел службу папы Павла VI на том же Yankee Stadium. И это, несмотря на все, было присутствием, явлением на земле надземного, вечного. Вчера же все время такое чувство, что главное – в message
[1247]. A message этот все те же "peace and justice", "human family", "social work"
[1248] и т.д. Словно была дана потрясающая возможность сказать миллионам людей о Боге, явить им, что превыше всего им нужен Бог, а тут, наоборот, вся цель как будто только в том и состоит, чтобы доказать, что и Церковь говорит на жаргоне Объединенных Наций. И все "символы" а l aаvenant
[1249]: чтение Писания какими-то штатскими в ярких галстуках и т.д. И совершенно ужасающий перевод; я даже и не подозревал, до какой степени перевод может быть ересью. "Благодать" – "abiding love"!
[1250]Толпа, ее радость и возбуждение. Подлинные, но вместе с тем так очевидно, что есть тут элемент и массового психоза. "People's Pope…"
[1251]. Что это, собственно, значит? Я не знаю, я не уверен – можно ли, нужно ли служить мессу на Yankee Stadium. А если можно и нужно, то не должна ли она быть, так сказать, "самоочевидно" – предельно надмирной, предельно "отделенной" от секулярного "мира", дабы явить
в нем – Царство Божие?
Четверг, 4 октября 1979
"Папские дни" в Нью-Йорке под аккомпанемент невероятных восторгов и возбуждения. Странный мир: в "Нью-Йорк таймс" статья о причинах этой необычайной популярности Папы. Журналист спрашивает об этом – кого? В первую очередь раввинов! И они серьезно, "научно" объясняют… И все же, какие бы ни были эти причины, остается то, что налицо смесь чего-то очень подлинного (тяга к человеку
добра ) и чего-то столь же очевидно относящегося к самой нашей цивилизации: телевизия, пресса… Единственное, что меня волнует, это вот что: эта популярность падет, как скоро Папа скажет "конкретно", во что он верит… И тут эйфории придет конец… А потом придет черед и "распни Его", и "Не имамы царя токмо Кесаря"
[1252] – то есть все той же "современности".
Пятница, 5 октября 1979
Начала исполнения пророчества пришлось ждать недолго. Вчера Папа говорил – в Филадельфии – против аборта, против священства женщин и т.д. И вот сегодня уже совсем другой тон в "Нью-Йорк таймс". А Оля Поливанова по телефону [из Вашингтона] сказала мне, что сегодняшняя [газета] "Washington Post" обрушилась на Папу за то, что он Израиль не назвал по имени… Sic transit gloria mundi
[1253].
Суета в семинарии – завтра Education Day. Всегда что-то нависает, всегда "дела".
Вчера – целодневная работа над несколькими строчками "Таинства благодарения".
Суббота, 6 октября 1979
Вашингтон. Прилетел сюда прямо из невероятной, но радостной суматохи Education Day. Чудная Литургия – в огромной палатке. Чудный, прохладный солнечный день. Еще раз –
погружение в Церковь и чувство: чем были бы мы, чем был бы я без Церкви? Причащали из четырех чаш… Проповедовал на тему "Не видел того глаз…
[1254]"
Папа продолжает: вчера выступил против гомосексуализма… Поэтому новый "камертон" прессы: он не понял "плюрализма" Америки. Вот, летя сегодня сюда, на встречу с Папой (завтра утром), думал об этом самом плюрализме, который по самой своей сути отбрасывает (не может не отбрасывать) понятие
истины . Плюрализм – это априорное утверждение, что на все существуют разные точки зрения, причем "оперативный" принцип плюрализма в том, что их также априорно не нужно, нельзя "оспаривать". Они –
есть , и этим все сказано. Их нужно "уважать" и, по возможности, "share"
[1255] (по-русски не скажешь). А бедный Папа этого "не понял". Убийственная глупость всей этой велеречивости…
Католики в Америке – если не все, то многие – с каким-то наивным восторгом бросились в этот плюрализм. И вот интересно, удастся ли Папе "повернуть вспять"? Том говорит, что будет раскол. Не знаю. Знаю только, что "плюрализм" этот – для религии – смерть и разложение. Я для того и приехал, чтобы "физически" почувствовать Папу.
Вторник, 9 октября 1979
Папу – в Catholic University
[1256] – пришлось ждать очень долго. Он опаздывал почти на полтора часа. Огромный auditorium
[1257] набит до отказа "академиками" – то есть разноцветными докторскими мантиями, и духовенством. Оркестр играет безостановочно какие-то шумные марши, что делает это ожидание мучительным. Папа почти рядом – в Shrine of the Immaculate Conception
[1258], где – как потом выяснилось – выступали какие-то протестующие монашки…
Наконец он появился. Пароксизм восторга (я такого нигде и никогда не видел). Не думаю, при этом, что люди, собранные там, были специально "паписты". Нет, скорее – типичные американские интеллектуалы, с изюминкой цинизма. Но и они вопили и свои треугольные чепчики бросали в воздух, и при этом долго. Пока он шел – медленно – через аудиторию, хор и оркестр гремели "Tu es Petrus" Листа… И вот мне "почувствовалось" – и не только в воскресенье утром, в "физическом" присутствии Папы, но и до этого, когда я по телевидению следил за ним, – что люди, толпа, впадающие в этот восторг, впадают в него не потому, что видят в нем Петра или Христа, а наоборот – "веря" в него, уж, так сказать, заодно принимают, без особого интереса, и Петра, и Христа, и вообще христианство. Нужен этой толпе он, Папа, нужен как "манна", как присутствие, физическое, "сверхъестественного". Сопротивляются этому психозу, относительно свободны от него те, кто, как эти несчастные монашки, патологически ищущие священства, уже одержимы чем-то другим… Все та же жажда "священного". И мне делается страшно за "религию".
И также другой соблазн ее, который в эти дни был лишний раз "явлен" мне в разговорах о тех или иных "батюшках", – благочестие. Смотря на иных "батюшек", гулявших по саду на Education Day, можно физически ощутить их обожествление ряс, скуфеечек, всего, что составляет это видимое "благочестие". А потом почти о каждом из них узнаешь, что они осуждают всех других за "недуховность", "неблагочестие" и т.д.
Люди мучают друг друга : ощутил это как суть и тяжесть зла после нескольких разговоров вчера, как мучительную, иррациональную силу его.
Днем вчера встреча с Ю.П.Иваском. Постарел, но все такой же. "Сейчас важен теосис… Почему не пишут о теосисе ?" Но человек он светлый и живет светом . И этот свет и меня очищает от всех этих мучительных ощущений…
Среда, 10 октября 1979
Утром в семинарии – прием студентов, вернее – расхлебывание мелких и крупных драм, разыгравшихся в связи с Education Day. И всюду один и тот же двигатель – гордыня, то есть ужасающее, болезненное ощущение своего "я", амбиция, патологическое искание той "деревни", ничтожной и неважной, в которой зато "я" буду первым.
Четверг, 11 октября 1979
Мое несчастье в том, что от меня всегда требуют (и Солженицын, и его противники), так сказать, безоговорочного согласия с их установкой, принятия ее целиком. А это для меня невозможно, ибо, мне кажется, я вижу правду и ложь каждой из них, то есть я понимаю, например, что в "Милюкове" (это почти имя нарицательное) можно видеть и тьму, и свет. Но на это "и… и" русские не способны. Максимализм, присущий русским, распространяется на все области жизни и даже особенно на те, в которых он неизбежно приводит к идолопоклонству. Поэтому русские споры так бесплодны. Борьба всегда идет на уничтожение противника. Упрощенно можно сказать, что если Западу свойственна релятивизация абсолютного, то русским в ту же меру свойственна абсолютизация относительного. И корень этого – в антиисторизме русского сознания, в вечном испуге перед историей, то есть сферой "перемены", сферой относительного. Испуг перед Западом, испуг перед "реформой" – мы так и жили и живем испугом. Власть боится народа, народ боится власти. Все боятся культуры, то есть различения, оценки, анализа, без которых культура невозможна. Отсюда всегда эта пугливая оглядка на прошлое, потребность "возврата", а не движения вперед. Русское сознание ностальгично, ностальгия его по "авторитету", который легче всего найти в прошлом… Не случайно же из всего прошлого – религиозного – России Солженицын выбрал (сердцем, не разумом) старообрядчество, этот апофеоз неподвижности и страха перед историей. И столь же не случайно ненавидит Петра и петровский период – то есть "прививку" России именно истории. Русское сознание "историософское", но не историческое. Все всех зовут куда-то и к чему-то "возвращаться", причем возврат этот – типично "историософская" логика – оказывается, одновременно, и концом, завершением истории посредством апофеоза России. Если будущее умещается в эту схему, то только как конец… И вот потому-то свобода так мало нужна. Она не нужна, если абсолютизируется прошлое, требующее только охранения и для которого свобода – опасна. Она не нужна, если будущее отождествляется с "концом". Свобода нужна для
делания , она всегда в настоящем и о настоящем: как поступить сейчас, какую дорогу выбрать на перекрестке. Но если душа и сердце томятся о прошлом или о конце, то свобода решительно не нужна. "Русоненавистники" ошибаются, выводя большевистский тоталитаризм из самой русской истории, из якобы присущего русскому сознанию рабьего духа.
Это ничем не оправданная хула . Из русской истории, наоборот, можно было бы вывести почти обратные заключения. В русском сознании силен дух оппозиции, противостояния и даже индивидуализма. Мне даже кажется, что стадное начало сильнее на Западе (порабощенность моде – будто то в одежде, будь то в идеологии). Если русский чему-то "порабощен", то не власти как таковой, а "сокровищу сердца", то есть тому, что – большей частью слепо и потому почти фанатически –
любит и чему, потому,
поклоняется … Но вот что страшно: из всех объектов его любви наименьшее место занимает
истина . Я бы сказал, что если говорить в категориях греха, то грех – это отсутствие любви к
Истине . Отсюда то, что я назвал бессмысленностью споров. Ибо спорить можно об Истине, о любви спорить бесцельно (что "красивее" – юг или север, решается не по отношению к Истине, а "любовью" сердца). "Люди более возлюбили тьму, нежели свет"
[1259]. Эти горестные слова Христа как раз об этом. И горесть-то их ведь в том, что любят эти люди тьму не за то, что она тьма, а потому, что для них она
свет … Болезнь, присущая русскому Православию, именно здесь. Меня всегда поражает, как совмещается в ином, самом что ни на есть "православном" и "церковном" русском абсолютизм "формы" (панихидки, обычаи) с невероятным релятивизмом по отношению к содержанию, то есть к Истине. Тот же человек, который требует от меня, чтобы я венчал его дочь с магометанином, может яростно осуждать меня за измену Православию, то есть его форме (чтение тайных молитв вслух, например…). Он может говорить, что богословие не нужно, и фанатически держаться за старый стиль и т.д. Но о чем бы он ни спорил, чем бы ни возмущался и ни восхищался – критерием для него никогда не будет
Истина … А так как именно Истина и только она –
освобождает , русский действительно обычно – раб своей "любви".
Суббота, 13 октября 1979
Полтора дня в Чикаго: встреча с православным духовенством в четверг вечером, лекция в "cluster"
[1260] чикагских богословских школ, завтрак и ужин с богословами, все это в необычайно дружеской и братской атмосфере, некий дар радости и счастья. И на фоне любимого мной Чикаго, солнечного, но уже такого осеннего дня. Словно "передышка", ибо впереди, на следующей неделе, – собор епископов, и на душе неспокойно: так мало среди них единства и так много мелочности, страстишек, недоверия. Однако мой, теперь уже длинный, опыт успокаивает: благодать Святого Духа Церкви не оставляет.
В Чикаго вчера утром – длинное интервью с Roy Larson, religion editor
[1261] чикагской [газеты] "Sun Times". Разговор о Папе и о бурных днях его пребывания в Америке. Я говорю: я убежден, что весь этот феноменальный успех не заставит ни
одной монахини вернуться к рясе. И почти сразу доказательство: на завтраке пять иезуитов и один францисканец – профессора чикагского Catholic Union
[1262]. Все как один выделяются подчеркнутой, почти крикливой "штатскостью" своей одежды: яркие галстуки, светлые костюмы, цветные жилетки. И это иезуиты и францисканцы!.. Тут же две монашки (одна помощник декана, другая профессор…) – и тоже не просто в "цивильном", а в очень обдуманном, так сказать, нарочито "светском" цивильном. Я это пишу не в осуждение им, а только как доказательство правоты моего убеждения: повернуть католичество
вспять Папе не удастся. И, может быть, потому и не удастся, что стремится он именно к такому повороту
вспять , что только в восстановлении
монолитности Римской Церкви видит не только спасение ее, а саму ее сущность. Трагический парадокс католичества: без абсолютного послушания Папе, без культа Папы, это послушание обуславливающего, оно неизбежно распадается. А с этим культом и послушанием – заходит в тупик. И вопрос, как я его понимаю, в том, пойдет ли Папа на то, чтобы за восстановление "монолита" заплатить ценой отсечения неизлечимых членов. Как заплатило папство за "непогрешимость" в 1870 году отколом старокатоликов. Но тогда подавляющее большинство богословов было за ультрамонтанизм
[1263], и откол прошел почти незамеченным. Сейчас же уже не большинство, а все богословие в целом, вся мысль в католичестве –
против монолита, против папства в его "ультрамонтанском" восприятии. Через всего лишь одну неделю после, казалось бы, неслыханного триумфа Папы и папства эти иезуиты и монашки выглядят и ведут себя "как ни в чем не бывало…", точно к ним это не имеет ни малейшего отношения. Такое впечатление, что они даже не сердиты, не огорчены, не обескуражены… Этот триумф, говорит мне Roy Larson, может быть, подействует на молодежь, молодые пойдут в семинарии. Но будут ли это лучшие? А не узкие "религиозники" и "клерикалы"? И я согласен с этим опасением. Вот вчера, на очень дружеском и как-то подлинно "взволнованном" обсуждении моего доклада (о Духе Святом, о Литургии, об эсхатологии), эти самые иезуиты в галстуках спрашивают: да, но мир, где мир, где отношение всего этого к миру? И я отвечаю: да, может быть страшное демоническое восприятие Церкви. Вера в Церковь, заменяющая веру в Бога и просто "исключающая" мир. Тогда как Церковь только потому и нужна, что она не "третий" элемент – между Богом и миром, а новая жизнь (то есть жизнь с Богом и в Боге) самого творения, самого мира. Так вот именно этот "клерикализм" уже не духовенства только, а самого восприятия Церкви составляет всегда, во всяком случае сейчас, главное искушение тех молодых, что "приходят к Церкви". Обожествление Церкви, Церковь – Бог… И не в страхе ли этого искушения, сильнее всего пережитого именно католичеством, почти с ним отождествленного, снимают эти иезуиты рясы и пасторские воротнички и не заслуживает ли этот страх того, чтобы быть понятым, услышанным? Нет, это не просто "либерализм", это также и знание греха, присущего определенному типу "церковности". Не случайно и наши собственные молодые "церковники" с таким пафосом возвращаются к рясам, к камилавкам, ко всему "поповскому обличью". Может быть, я не прав, но мне кажется: если бы они любили "прежде всего" Бога и ближнего, им это не было бы так нужно. Но они любят
Церковь-в-себе (an Sich), ее "триумф" (хотя бы символический) есть их триумф. "А Бог? – хочется перефразировать Розанова. – Что же, о Боге можно тоже поговорить… Но разве в Нем дело?"
Так или иначе, но кризис католичества, который, я убежден, не разрешается, а углубляется этим "монолитным" Папой, есть наш общий кризис, в который мы, хотим мы этого или нет, не можем не оказаться "включенными". Если победит Папа – усилится клерикализм у всех христиан. Если не победит – усилится он, во всяком случае, у нас, православных. Ибо мы окажемся последними, уже поистине апокалиптическими, носителями и поклонниками Типикона, канонического права и клерикального триумфализма . Надо молиться о Церкви.
В аэроплане читал книгу Лидии Чуковской "Процесс исключения". Несколько страниц о Солженицыне, по-моему – удивительно удачных: "Будто он в какую-то минуту – я не знаю за что и не знаю когда – сам приговорил себя к заключению в некий исправительно-трудовой лагерь строжайшего режима и неукоснительно следил, чтобы режим выполнялся. Он был сам для себя и каторжник, и конвойный. Слежка его – за самим собой – была, пожалуй, неотступнее, чем та, какую вели за ним деятели КГБ. Урок рассчитан был на богатырские силы, на пожизненную работу без выходных, а главным инструментом труда была полнота и защищенность одиночества". Я прочел это Л., она сказала: "А ты не думаешь все-таки, что С. попадет в рай и что нечего слушать наветы разных Чалидзе?" Насчет рая, конечно, не знаю, величие и единственность его чувствую, так сказать, всем существом. Но… Ах, если бы все это было так просто!
Воскресенье, 14 октября 1979
Девятнадцатый век – Гегель и К° – обожествил Историю. Теперь, разочарованная ею, часть "властителей дум" ее развенчивает. Как развенчивают ее также и "спиритуалисты" всех оттенков. Одни утверждают, таким образом, что только в Истории, только служа ей – ее "смыслу", – человек находит смысл и своей жизни. Другие теперь с той же страстью уверяют, что только в освобождении от "истории" можно найти этот смысл. И христиане приняли это "или – или" и изнутри, в своем сознании, подчинились ему – ив этом трагедия современного христианства. Трагедия потому, что, в последнем счете, вся новизна христианства в том и состояла (состоит), что оно эту поляризацию, этот выбор снимает . И это "снимает" и есть сущность христианства как эсхатологии. Царство Божие есть цель истории, и Царство Божие уже сейчас "посреди нас", "внутри нас" есть… Христианство есть единичное историческое событие , и христианство есть присутствие этого события – в настоящем – как завершение всех событий и самой истории. И чтобы это было так, только для этого нужна, только в этом – Церковь, ее "сущность" и ее "смысл"…
Все это, казалось бы, – азбучные истины. Но тогда почему они
не действуют ? Не потому ли, что христианство стало, с одной стороны,
восприниматься ("благочестие"), а с другой стороны –
интерпретироваться , объясняться ("богословие") – "по стихиям мира сего, а не по Христу"?
[1264]И тут для меня и заключен весь смысл литургического богословия. Литургия: соединение, явление, актуализация историзма христианства ("воспоминание") и его трансцендентности по отношению к этому историзму ("днесь , Сыне Божий…"). Соединение начала с концом, но соединение сегодня, днесь…
Отсюда сопряженность Церкви с миром. Она для мира , но как его начало и конец, как утверждение, что мир – для Церкви , ибо Церковь есть присутствие Царства Божьего.
В этом вечная антиномия христианства, и тут суть всех современных споров о нем. Задача богословия – быть верным антиномии, снимаемой в опыте
Церкви как "пасхе": переходе постоянном , а не только историческом, мира в Царство Божие. Из мира нужно уходить все время и в нем нужно все время пребывать.
Соблазн благочестия – свести все христианство к себе, соблазн богословия – свести его целиком к "истории".
Четверг, 18 октября 1979
Усталость. Не физическая, а какая-то другая. Усталость от всего того, что все время "съедает" отрывки жизни. Сегодня – мой
единственный день в Нью-Йорке, вечная мечта – засесть за стол, за "Литургию". Но просыпаешься и вспоминаешь: утром – радио "Свобода", в полдень – панихида по Гартман на 2-й улице, в час – завтрак с К.Лютге, а затем когда-то днем – свидание с Ю.Хлебниковым и его невестой. И вот день заранее "съеден", и на душе – уныние. Уныние – я знаю это – всегда греховно. Но оно и оттого тоже, что, за исключением "Свободы", все остальное перечисленное выше не нужно, то есть я для этого не нужен. О.А.Гартман не ходила в церковь и была одним из вождей движения "гурджиевцев". Хлебников женится и без меня. Лютге тоже "случаен"… Но день убит, и не первый, а тысячный, я неделями ничего, что мне кажется
нужным , не делаю… И потому всегдашнее уныние, которое я стараюсь "заговорить" такого рода мыслью: а может быть, не нужно (в очах Божиих) именно "нужное" мне и я должен смириться и, как говорят, "принимать" все это? Л. всегда говорит: "Ты не умеешь говорить "нет"". Но это было бы, возможно, добродетелью, если бы это было от любви – от пастернаковского "Я ими всеми побежден, и только в том моя победа"
[1265]. Однако нет, никакой любви я не чувствую, чувствую, напротив, раздражение. И вот скоро – шестьдесят лет, а я все как-то "петушком, петушком". И еще одно: я совсем не знаю, чем бы я был, если бы Бог дал мне эти, кажущиеся мне вожделенными, "одиночество и свободу". Ceci dit
[1266], надо "начинать день", то есть ехать на радио "Свободу".
Купил на вокзале [газету] "Le Monde". Статья Ганса Кюнга "Jean P. II: une interrogation"
[1267], из каковой interrogation явствует, что Кюнг недоволен Папой со всех точек зрения, ибо Папа – en rйsumй
[1268] – "est un defenseur doctrinaire des vieux bastions"
[1269]. Чего Кюнг не сознает и не чувствует – это
невозможности для Католической Церкви принять его программу, его богословский метод, его понимание Церкви и т.д. Кюнг – это конец католичества, и у Папы просто нет другого выхода, как звать обратно. Кюнг, в сущности, проповедует и готовит новую
реформацию , и этого Папа, ясно, допустить не может. Таков тупик католичества. Единственное, что оно может, – это периодически "выделять" из себя реформацию: в XVI веке – Мартина Лютера, в XIX -Lamennais, затем – старокатоликов, в XX – модернистов, а теперь Кюнгов и К°. Как не понять, что "непогрешимость", то есть абсолютный авторитет ех sese, не ex consensu Ecclesiae
[1270], это не случайность, не девиация, а "норма" и, отступая от нее, Римская Церковь начинает распадаться…
Суббота, 20 октября 1979
В связи с лекцией, в следующий понедельник, о Толстом . Он живая и трагическая иллюстрация "отпадения" как неблагодарения … Его искусство было насквозь пронизано благодарением. И когда он перестал "благодарить" (суть гордыни), он ослеп.
Из письма C.S.Lewis'a: "…it being the rule of the universe that others can do for us what we cannot do for ourselves and one can paddle every canoe
except one's own. That is why Christ's suffering for us is not a mere theological dodge but the supreme case of the law that governs the whole world; and when they mocked him by saying "He saved others, himself he cannot save," they were really uttering, little as they knew it, the ultimate law of the spiritual world" (The letters of C.S. Lewis to Arthur Graves. "They Stand Together", ed. Walther Hooper, Macmilbn, 1979, p.514)
[1271].
Понедельник, 22 октября1979
Крестины в субботу очередного "диссидентского" ребенка (Петр Орлов, десять лет). До этого разговор с П[етром] Винсом, сыном баптистского пастора, высланного из России вместе с Гинзбургом и др. Хорошее, "тихое" лицо, что-то во всем облике светлое…
Вторник, 23 октября 1979
Читаю письма C.S.Lewis'a к его другу, 1917-1918 годы. Революция в России. В письмах – ни одного слова о ней. Только Англия, только английская литература, Оксфорд… Разорванные миры, их самодовлеемость.
Лекции. Они почти всегда дают радость. Вчера вечером – о Толстом. Сегодня – на литургике – о Духе Святом. Почему мне сравнительно легко говорить и, говоря, рождать мысль – и так трудно писать?
Невероятная для этого времени года жара.
Что самое страшное в общественной деятельности, администрации, "власти"? Постепенно разрастающееся равнодушие, некая пассивная жестокость. Чтобы так или иначе удовлетворить всех , нужно "ограничивать" каждого , сводить свое отношение к нему до минимума и до безличия. Ибо каждый требует всего. Тайна Христа: отдача себя целиком каждому…
Среда, 24 октября 1979
В солнечном одиночестве нью-йоркской квартиры. И, как всегда, – так трудно одиночеством воспользоваться, стряхнуть с себя наросшую за предшествовавшие дни суету, погрузиться в работу.
Длинный разговор вчера с нашим студентом-негром из Ганы. О "природном" язычестве африканца, пронизывающем и христианство там. О причинах успеха "пентекостариев"
[1272]…
Четверг, 25 октября 1979
В "Le Monde" (24.10.79) ответы Кюнгу. На бирже "интеллектуалов" Папа явно падает. Им казалось, что они победили внутри Католической Церкви, и они, бедняги, в бешенстве… Но остается, конечно, и то, что ответить на их разложение иначе как "авторитетом" и "осуждением" Папа не может.
Одна радость: прохладный осенний день и такое глубокое, синее, в праздничных облаках небо над Нью-Йорком.
Вчера – много часов над "Евхаристией".
Понедельник, 29 октября 1979
Пятница и суббота – на епархиальном съезде Канадской епархии в Moose Jaw, Saskatchewan. Бесконечно далеко. Несколько часов полета из Нью-Йорка в Regina, а там еще час на автомобиле. Самое сильное впечатление – сама равнина, амбар Канады. И над нею огромное синее небо.
На самом съезде говорил о Церкви. В Канаде наша Церковь едва-едва теплится. На востоке паника перед обвинениями нас карловчанами в "большевизме". На западе яростная атака украинцев. И отсутствие "leadership"
[1273]. Но вот, как в свое время и на Аляске, появляются молодые священники, и, Бог даст, пламя разгорится. Глядя на этих молодых, слушая их, думал: действительно, "врата ада" не одолеют. Совсем, казалось бы, умирает огонек – и опять оживает…
Перечитывал в связи с собственной лекцией "Жизнь Тургенева" Зайцева и "Живые мощи" [Тургенева], которые собираюсь показать как пример "тайного света". И чувствую, что не ошибся, выбрав это заглавие к лекции.
Вторник, 30 октября 1979
Вчера на лекции прочел целиком "Живые мощи". Удивительно – даже по-английски доходит. И думал: вот написано это, написаны, созданы тысячи "светоносных" свидетельств. И отрекается от них наша несчастная "современная культура", просто не видит, не слышит, не воспринимает их… Приходят на ум страшные слова Евангелия: "но люди больше возлюбили тьму, нежели свет…" Вот именно – больше возлюбили . Ибо это – не неведение, это выбор , то есть акт любви…
Среда, 31 октября 1979
Мой вопрос, то есть для меня интересный и бесконечно важный: неужели мы ошиблись в Солженицыне, неужели мое "чтение" его (еще на днях некий диссидент, Орлов, говорил мне, что лучше моих статей он о Солженицыне ничего не читал) – просто ошибка? Сейчас начнется гвалт. Но он не снимает вопроса и не разрешает его. В чем солженицынское "сокровище сердца", что такое "Россия", которую он так страстно и безраздельно любит, ненавидя – тоже страстно – почти все "составные" ее "элементы"? Любит старообрядчество, "крестьянских писателей", "народ".
Четверг, 1 ноября 1979
Ноябрь. С детства один из любимых месяцев. И потому, должно быть, чаще, чем другие, подстрекающий меня к воспоминаниям о детстве. Этот месяц в Париже начинался с Toussaint, то есть с одного-двух дней школьных каникул. В самый день 1 ноября мы всей семьей завтракали на гае St. Lambert у тети Лины и тети Веры и затем ехали на кладбище, на могилу дедушки (а теперь в этой могиле кроме дедушки все три тетушки – тетя Лина, тетя Наташа и тетя Вера – и папа, и дядя Миша Полуэктов!). В 1935 году именно в этот день, после кладбища, у меня случился перитонит, и я почти весь месяц провел в русской больнице. Так хорошо помню мокрые, голые деревья за окном… И это было началом единственного глубокого кризиса, пережитого мною: ужасного до воя страха смерти. Я уверен, что она тогда "прикоснулась" ко мне… В больнице я читал (как? почему?) "Числа"
[1274], то есть квинтэссенцию монпарнасской, адамовичевской, парижской "ноты". И что-то от нее во мне навсегда осталось, ее "тональность". С тех пор, то есть с этого двойного кризиса – духовного и более литературного, воспеваемого в "Числах", мир для меня всегда стал в каком-то смысле "прозрачным", двухплановым, таким, что, живя в нем, можно одновременно смотреть на него "со стороны" и обратно – из него видеть "другое" ("tout est ailleurs" Жюльена Грина). Поэтому, должно быть, и помню я не столько "события", не то, что происходило, сколько, скажем, "воздух", свет, окрашенность – солнцем, дождем, облаками – тех дней, когда это совершалось, а иногда даже и каких-то совсем "незначительных" дней. Все то, короче говоря, что делает таким близким мне и понятным стихотворение Анненского "Что счастье?":
В благах, которых мы не ценим
За неприглядность их одежд?
Вчера – звонок от Сережи из Иоганнесбурга. Они получили визу и 9 декабря едут в Москву! В Москву, которую для себя я чувствую запретной . А вот Сережа и его семья будут там жить. Москва, Россия будут его "профессией". Как все это странно, как причудлива жизнь. И какой тайный смысл (а он есть) заложен в этих ее причудах?
Вчера же – двухчасовой визит в семинарию некоего греческого митрополита Варнавы. Хорошее, доброе лицо. Хорошая улыбка. Но, Боже мой, до чего это человек с другой планеты, до чего провинция, задворки, примитивизм и пыль… Привез в подарок четыре томища своих писаний – об "уставах" патриархатов, которых на деле, в сущности, нет…
Суббота, 3 ноября 1979
Поездка с Л. – "в осень". По 22-й дороге до Бедфорда. Мокрые черные стволы, уже полупрозрачная золотая листва, белое, почти зимнее, огромное небо. Озера. И на небе – "гусей (вернее – уток) крикливых караван…"
[1275]. Завтрак в уютном [деревенском ресторане] Village Inn. Хорошо.
Вчера – звонок от Гинзбурга: арестован о.Г.Якунин…
Понедельник, 5 ноября 1979
Вчера вечером, приводя в некое хотя бы подобие порядка книги (дошло до того, что никогда не могу найти нужную), сделал "открытие". Пожалуй, как и все мои "открытия", оно показалось бы всем "наивным". Мне вдруг стало ясно, что той России, которой служит, которую от "хулителей" защищает и к которой обращается Солженицын, – что России этой
нет и никогда не было. Он ее выдумывает, в сущности, именно
творит . И творит "по своему образу и подобию", сопряжением своего огромного творческого дара и… гордыни. Сейчас начался "толстовский" период или, лучше сказать,
кризис его писательского пути. Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию. Биографию Солженицына нужно будет разгадывать и воссоздавать по этому принципу, начинать с вопроса: когда, где, в какой момент жажда пророчества и учительства восторжествовала в нем над "просто" писателем, "гордыня" над "творчеством"? Когда, иными словами, вошло в него убеждение, что он призван
спасти Россию , и спасти ее, при этом, своим писательством? Характерно, что в своем "искании спасительной правды" Толстой дошел до самого плоского рационализма (его евангелие) и морализма. Но ведь это чувствуется и у Солженицына: его "фактичность", "архивность", желание, чтобы какой-то штаб "разрабатывал" научно защищаемую им Россию, подводил под нее объективное основание.
Сотериологический комплекс русской литературы – Гоголь пишет нравственное руководство "тамбовской губернаторше", Толстой создает религию. И даже Достоевский свое подлинное "пророчество" начинает путать с поучениями и проповедью (включая сюда и Пушкинскую речь, насквозь пропитанную пророческой риторикой). Теперь, по всей видимости, на этот путь вступил и Солженицын. Ходасевич где-то кого-то цитирует, кто в страшные годы военного большевизма писал: "стихам России не спасти, Россия их спасет едва ли" (Муни?)
[1276]. А стихи-то, пожалуй, имеют – в России, во всяком случае, – большую, чем проза, сотериологическую функцию – Ахматова, Мандельштам, Пастернак…
Четверг, 8 ноября 1979
Унижение Америки фанатиком Хомейни: захват американского посольства и шестьдесят заложников в Тегеране… Я переживаю это как позор белого человека , роющего могилу себе и всей нашей западной цивилизации. Европа молчит – боясь потерять персидскую нефть… А ведь, если отбросить всю современную, идиотскую риторику, – общее действие просто "цивилизованных" стран могло бы прекратить, и быстро, это кошмарное варварство. Но эти "цивилизованные" страны не столько не могут, сколько, прежде всего, не хотят . Они боятся, стоят на коленях и дрожат. И от всего этого тошнит… До чего мы дожили! Америка буквально бессильна защитить шестьдесят американских граждан… в Персии… А ошибки! Сначала безудержная поддержка шаха, потом "левые" восторги по поводу "исламской революции", и теперь – разбитое корыто…
"Спор о России". Этот спор есть, прежде всего, спор о Западе, об отношении России к Западу. С одной стороны, налицо – все более интенсивным становящийся припадок антизападничества . Мы хотим свободы, но не западной, хотим законности, но не западной, хотим "народоправства", но не западного… Все это старо, как мир, – поздние славянофилы, Данилевский, евразийцы, Бердяев и вот теперь – Солженицын. Между всеми этими "антизападниками" масса различий и даже – глубоких. Но одно их всех соединяет: убеждение в разложении , если не смерти, Запада, причем источником этого разложения считается как раз западное понимание свободы . Второе обвинение, предъявляемое Западу, – это его "левизна": с Запада пришел марксизм… Третье: нечувствие, непонимание русской драмы… Со всеми этими обвинениями можно спорить, но они, так сказать, реальны , то есть обращены на нечто существующее. С ними, опять-таки с оговорками, согласны многие и на Западе. И, в конце концов, нельзя оспаривать того, что Запад действительно переживает глубокий кризис. Гораздо сложнее обстоит дело с положительной программой этого течения: что оно хочет для России, как представляет себе этот, свободный от западного, свой, чисто русский идеал государственного устройства, общества и т.д. Здесь нет ни ясности, ни согласия, ни даже просто убедительного образа. Русская "авторитарная" идея – власти? Но в чем же она реально состоит? Не права, а обязанности? Народ как соборная личность. "Духовные запросы"… Что все это значит? Все это, в ту или иную меру, в довершение всего увенчивается ссылкой на "религиозное" и "христианское" вдохновение этого идеала. Но при этом ни у кого из этих идеологов "христианской" России не замечается никакого интереса к сущности христианства, кроме как пронизанности русского "национального быта" христианскими символами и обычаями. России нужно Православие – но, пожалуйста, не говорите нам об его содержании, нам не нужно богословских умствований… Вот "данные проблемы". В них ничего нового, и в этом, может быть, самое страшное.
Пятница, 9 ноября 1979
Нарастающая агония тегеранских заложников. Вчера почти все семичасовые новости – об этом. На Картере – лица нет… Манифестации по всей Америке. Но что можно сделать? И если бы этот Хомейни был попросту варваром – каким был, например, Иди Амин. Здесь – ужас, дьявольщина религиозного фанатизма… Урок всем сладким проповедникам сближения с Исламом. Будто вся история его не была историей резни – в буквальном смысле этого слова. А жизнь продолжается: лица заложников с завязанными глазами сменяются в телевизоре рекламами бюстгальтеров и апельсинового сока и вечером все стадионы в Америке будут полны.
Бостон. Суббота, 10 ноября 1979
В Бостоне для хиротонии еп. Марка Форсберга, избранного нашими албанцами. Вчера вечером очень торжественное, очень "подлинное" наречение…
Воскресенье, 11 ноября 1979
Хиротония еп. Марка, вчера, в Бостоне. Большая, чистая, беспримесная радость. В своей речи на банкете (в Anthony's Pier 4 – с океаном и чайками за огромными окнами) я перечислил эти "радости": радость опыта Церкви, проблеска "неба на земле", Пятидесятницы; радость за албанцев и с албанцами; радость о самом Марке; радость за нашу Церковь, за доказательство ее успеха: я сослался на посвящающих епископов: болгарин, румын, техасец, карпаторосс… А посвящали американского финна… Летели обратно с Томом и Губяком и радовались…
Продолжающаяся агония в Тегеране. Зато давно не виданная в Америке картина – молодые на улицах с американским флагом…
Понедельник, 12 ноября 1979
Девятый день тегеранской трагедии, и все тот же тупик. Опять фанатическая речь Хомейни, с осуждением Папы Римского заодно с Картером. Слушая, читая, все больше думаю, что благополучно эта история не кончится, что американцы и вообще Запад не понимают, что они имеют дело с другой, абсолютно другой, "логикой". Вот когда чувствуешь и сознаешь то, что от христианства в мире, пускай едва-едва теплящееся и все-таки живое. Это некий общий язык, которым должны пользоваться даже те, кто на деле не признает не только христианства, но и "ценностей", из него исходящих. Здесь же – стена , абсолютная убежденность в своей правоте. Даже большевики, и те должны держать некий "фасад". В Иране, под Хомейни, – никакого фасада, полная, ледяная искренность. Страшная, непонятная жажда мести , своего рода стра-
490
данье от чувства неотмщенности. Им духовно нужно повесить умирающего шаха. Пост, молитва и убийство принадлежат одной и той же реальности… А столь многие искренне верят на Западе, что все религии – одно и то же.
Сколько бы ни искажали христианство, оно никогда не перестанет обличать неправду, падшесть, античеловечность толпы, массы (и это значит -религиозного фанатизма, тоталитаризма, фашизма и т.д.) и даже нации как "соборной личности", как носительницы в самой себе высших, чем человек, ценностей. Фанатизм, однако, вписан в мусульманство, мусульманин не фанатик – плохой мусульманин. Обожествление нации вписано в ислам, и сколько бы Коран ни величал Аллаха "милостивым", "понимающим" – сам он полон осуждения и фанатизма… В "природной" религии этому противостоит восточный спиритуализм, другая форма расчеловечивания человека. Христианство – обличение всего этого, прежде всего, внутри самого христианства.
Вторник, 13 ноября 1979
Два длинных-длинных дня. Заседания, разговоры, письма, лекции. Продолжал сегодня "встречи" с новыми студентами. До чего же каждый – единственен, со своими реакциями, трудностями, соблазнами. И как каждому трудно, "по-человечески" просто невозможно услышать другого… Думая о тегеранской трагедии, вдруг пришло в сознание: люди не хотят мира, не хотят мириться, не хотят услышать "другого", поверить ему. Или уж тогда впадают в бессмысленное рабство. Том дал мне письмо от одной из монахинь с жалобами на других. Опять до смешного, до отчаяния – мелочно. Что петь или читать так – православно или нет? И Том хочет целого собрания – со мной и др. – для "уяснения". После такого дня тяжелая, близкая к унынию усталость. Желанье от всего этого "религиозного" копошенья уйти как можно дальше… Мне кажется, я почти убежден, что помочь тут невозможно, "разбираясь" во всем этом. Помочь можно только, если явить ужасающий уровень самих этих "враждований".
Четверг, 15 ноября 1979
Литургия вчера в старческом доме на Staten Island (храмовый праздник – свв. Косьмы и Дамиана). Что-то есть страшное в этом собрании стариков и старух в одном месте, в доме, в котором – из-за требований гигиены – все абсолютно безлично, чисто, сверкает каким-то мертвым блеском. На фоне этой чистоты – зрелище разлагающейся жизни . На Литургии присутствуют и приобщаются – митрополит Ириней, о. Прокопий Поварницын, о. Алексей Павлович и о. Иоанн Скотти – четыре, буквально, развалины… Так вот, если бы я встретился с каждым из этих людей – в прошлом мне, в той или иной мере, близких, частей моей жизни (о.Иоанн Скотти – в семинарии в 1951 году!) – в какой-то другой, житейской, жизнью согретой обстановке, то, я уверен, – не было бы этого ужасного впечатления. Впечатление не только смертной камеры, но именно какой-то дьявольской бессмыслицы этого сборища, приго-воренности каждого "насельника" не только к своему разложению и умиранию, но к тому еще, чтобы, как в зеркале, видеть это разложение кругом себя…
Человек должен умирать дома , не должно быть этой страшной отдаленности, этого помножения каждого умирания, каждого разложения на все другие… Только вот – в том-то и весь вопрос – как осуществить это "на практике" в этом страшном в своей бесчувственности мире, состоящем целиком из "экономических возможностей и невозможностей".
Тегеранская трагедия. Американское правительство огорчено молчанием "союзников". И действительно, не может не ужасать эта страусова слепота "белого мира", эта в плоть и кровь вошедшая подлость . Этот мир буквально поперхнулся той самой нефтью , на которой он построил все свое благополучие, всю свою силу. Вот, значит, и есть в мире "имманентная справедливость". Ужас от того еще, что ничто никого не "учит" – ни опыт прошлого, ни хваленый "рациональный подход", ни Мюнхен, ни Октябрь, ничего. Та же слепота, та же губительная логика самосохранения…
Суббота, 17 ноября 1979
Tulsa, Oklahoma: на двухдневный retreat в местном антиохийском приходе…
Воскресенье, 18 ноября 1979
В баре на аэродроме после двух дней невероятной "эксплуатации": вчера двенадцать часов подряд в церкви: Литургия, лекции, беседы, вечерня, общая исповедь… Но и большая радость: вчера Литургия с тремя бывшими студентами, теперь – приходскими священниками. Радость общения, единства в главном. Несколько студентов из Oral Roberts University (!) – обратившихся в Православие (!!). Несмотря на крайнее утомление – сознание пользы от этих погружений в "реальную" Церковь… И всегда – удивление от этих американских просторов, от этого огромного – по-другому не скажешь – неба.
За эти два дня, вернее – ночи (в постели, в усталости), прочел "Le Rhinoceros" Eugene Ionesco
[1277]. Пожалуй, лучшее – в литературе, в театре – обличение "духа времени", похвальной сдачи "интеллигенции" духовному тоталитаризму. Но вот написано, сыграно тысячи раз, имело успех, – а читаешь "Le Nouvel Observateur" или "Review of Books" и видишь, что обличение это нисколько не подействовало. Все тот же левый крен…
Тегеранская трагедия продолжается, и выхода из нее не видно. Все то же чувство: бессилие, подлость, низость "белого мира", особенно Европы. Все по ионесковскому носорогу…
Вторник, 20 ноября 1979
Совершенно бешеные дни – по занятости… Вчера, например (и это после трех дней "интенсивной" Оклахомы), – четыре лекции утром (мои и вместе с И.М.), с 2 до 4 – литургическая комиссия, с 5 до 7:30 – "исполком", с 7:30 до 9:30 лекция (трудная, напряженная) о Пастернаке. В 9:30 – звонок от Наташи Солженицыной – до 10, в 10 – разговор по телефону с Давидом Д…. Ночью из-за этого – бессонница. Пилюля. Проспал… И от всего этого – какая-то внутренняя "дрожь", испуг – что дальше, не пропустил ли я кого-нибудь… Я знаю, что значит рвать на части.
Звонок от Наташи Солженицыной… Почти неприкрытая просьба – "защитить" А.И. против Чалидзе, Синявского и tutti quanti, вмешаться, написать… Разговор меня сильно взволновал, не знаю даже, чем специально. Разве что вечно "пронзающей" меня "уязвимостью" и тем, что это пришло от "неуязвимого". Может быть, потому и не спал: все думал – что и как написать, как остаться на том "плане", который один я считаю своим.
Париж. Воскресенье, 25 ноября 1979
Приехал сюда в пятницу 23-го. Заезд с Андреем к маме. В 4 часа прием в издательстве ["ИМКА-Пресс"] с чествованием П.Ф.Андерсона.
Вчера, в субботу, весь день в Монжероне, на совещании РСХД, имеющем целью вытянуть его из ссор и обид. Слава Богу – успешно, хотя до бесконечности утомительно…
В Тегеране все хуже и хуже. Хомейни объявил "священную войну"… Чем все это кончится, может кончиться – ума не приложу…
Париж – серый, сырой, ноябрьский. Но сегодня был просвет – в высокое-высокое серо-голубое небо.
Париж. Понедельник, 26 ноября 1979
Вчера вечером, [в церкви РСХД] на Olivier de Serres, кончили, слава Богу, и кончили, насколько это было возможно, благополучно, движенские дела. Сегодня – несколько часов у мамы, очень уютно и даже весело. Ей с трудом приходят слова, не говоря уже об именах, и разговор с ней походит на игру, состоящую в отгадывании того, что она хочет сказать. У нас даже один раз случился fou rire
[1278].
Как всегда в Париже, чувствую себя "загнанной лошадью".
Париж. Среда, 28 ноября 1979
Сегодня – ранний поезд в Cormeilles en Parisis [к маме]. Огромное – в тумане – солнце… Затем обратно в Париж: завтрак с Никитой и Машей Струве. Вдоль Сены мимо залитой солнцем Notre Dame de Paris – в "ИМКА-Пресс".
Crestwood. Суббота, 1 декабря 1979
В четверг, после трехчасовой съемки для телевидения в нижнем храме на rue Dara, поездка вдвоем с Андреем в [женский монастырь] Bussy, где я никогда не был. Удивительный солнечный день. "Есть в осени первоначальной…"
[1279]. Поля, перелески, колокольни – та земля, которую покойный Вейдле называл "крещеной землей Европы". Сам монастырь меня очаровал – и внешностью своей, и радостью монахинь. Страшно постаревшая, больная тетя Тоня [Осоргина] (мать Серафима), Елена (только что постриженная в "Елизавету") Лейхтенбергская, мать Феодосия и другие. Духовные "флюиды" хорошие… Возвращение в Париж в тумане. Вечер кончаем с Андреем, страшно дружно и уютно, в "Доминике".
Вчера утром – все под тем же, несколько туманным, солнцем любимая прогулка по Парижу. Такое чувство, что с каждым годом Париж все прекраснее и прекраснее.
В семь вечера – отлет в Нью-Йорк.
В Нью-Йорке в девять вечера (три часа утра по парижскому времени). Радость возвращения домой с Л., умеряемая сознанием темного тупика тегеранской трагедии…
Вторник, 4 декабря 1979
Суетные, переполненные делами и заботами дни… Но в воскресенье кончил переписывать "Таинство благодарения" (год!) и отослал в Париж. И, как всегда, когда в последний раз перечитывал, – думал: а может быть, это совсем, совсем плохо… Но, несмотря на сомнения, радуюсь, что отослал…
В воскресенье крестил правнучку Федотова.
После обеда в Сайосет – на заседание предсоборной комиссии. Льяна в Балтиморе – на "check-up". Скоро годовщина ее операции… И вот зажигаются первые рождественские огни.
Вчера кончил свой "русский курс" – с большим облегчением. Устал, но, слава Богу, через неделю – каникулы.
Понедельник, 10 декабря 1979
Все эти дни, в промежутках между бесчисленными делами, пишу мою "апологию" Солженицына. Пишу с увлечением. У меня с С. свои "счеты". Но низкие нападки на него Чалидзе, Синявского, Ольги Карлайл и К° столь именно низменны, что все остальное отходит на задний план. Это желание – упростить, огрубить, эта все пронизывающая инсинуация – отвратительны… И, увы, "эффективны". Потому и пишу.
Вчера на 71-й улице – крестины двух девочек Сони Ширинской. "Высший свет". Но, увы, нигде я так не чувствую себя "шаманом", совершающим какие-то непонятные церемонии, как именно в этой – русской, "образованной" – среде. Вспоминаю слова священника, сказанные другому священнику, запутавшемуся в службе и спрашивавшему в панике: "Что дальше делать?" Тот ответил: "Do something religious…"
[1280]. Вот мы и делаем "something religious".
Потом зато уютнейший ужин с Трубецкими "у нас" – на Park Avenue.
Книга Cioran'a "L'йcartиlement"
[1281]. Человек, годами пишущий элегантнейшие, отточенные афоризмы – об абсурде, отчаянии, разумности самоубийства, не может быть серьезным. Говорят, его до неба превозносит Бродский.
Все та же прикованность к телевизору в ожидании новостей из Ирана, новостей одна хуже, возмутительнее, бессмысленнее – другой…
В пятницу Christmas Party в семинарии. Два студента играют длинный отрывок из моцартовского концерта для кларнета… Всегда поражающая меня, буквально до слез, преображенность лиц у исполняющих… И ясной становится ложь, поверхностность наших обычных суждений: он, она – "красивые". На каком-то уровне жизни, в редкие минуты, когда она "жительствует", красавец оказывается оскорбительным уродом, а урод – красивым. И это так, когда люди смотрят внутрь и ввысь и отдаются тому, что видят, что слышат…
Приближение каникул: ждешь их как освобождения.
Может быть, не нужно никогда перечитывать написанного, напечатанного. На этих днях "копнулся", почитал себя и впал в уныние. Чувство – ужасное – такое: стоило ли?
Самая насущная из всех молитв: "Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию". Эта молитва в защиту от ветхого Адама в нас, как гной, просачивающегося в наш "организм" и отравляющего его…
Вторник, 11 декабря 1979
Вчера поздно вечером разговор по телефону с "Вермонтом". Митя попал в тяжелую автомобильную катастрофу, страшно изувечен, Н. с ним в госпитале в Бостоне.
Когда-то, очень давно, мы издевались с о. Киприаном над одним афоризмом вл. Иоанна Шаховского: "Есть люди-клинья и есть люди-звенья". Но вот чем больше живу, тем больше убеждаюсь в правоте и точности этой классификации. Пишу это, думая о вчерашнем дне – целиком проведенном в заседаниях и обсуждениях.
По телевизору передавали вчера церемонию присуждения Нобелевской премии мира матери Терезе. Ее короткое, потрясающее, я бы сказал – светоносное, осуждение аборта. Святые не "разрешают" проблем, они их снимают, делая очевидным, что сама-то "проблема" от диавола.
Кончаю (!?) статью о Солженицыне. Решил назвать ее "На злобу дня". Ибо именно злобой пышет каждое слово и Чалидзе, и Синявского, и Ольги Карлайл. Статьей умеренно доволен.
Четверг, 13 декабря 1979
Преп. Германа. Ранняя Литургия. А по старому стилю – св. Андрея Первозванного, именины Андрея…
Понедельник, 17 декабря 1979
Поездка – на субботу и воскресенье – в Новый Скит. Три с половиной часа по залитым холодным солнцем просторам штата Нью-Йорк. На севере уже снег и мороз. Всегда поражает пение – "доксологическое", так сказать, "великолепное". Я говорю Л.: "Мне кажется, именно это пение одновременно и определяет, и выражает тон этого удивительного монастыря". Тон, в котором отсутствует "оборот на себя", типичный для современного православного монашества, занятость собою, постоянная интроспекция. Действительно – погружение в нечто подлинное…
Четверг, 20 декабря 1979
Вчера – первый целодневный снегопад в Нью-Йорке…
Утром – на коротком рождественском представлении спенсовского детского сада, и это, вместе со снегом, с огнями рождественских украшений сквозь снег, дает тон всему дню. После обеда с Л. в магазинах. Невероятная красота Нью-Йорка: сотен тысяч освещенных окон в снежных сумерках, флагов, музыки… Как это ни странно, но, несмотря на кажущуюся бешеную его "занятость", Нью-Йорк мне всегда кажется "праздничным" городом… Момент блаженства: когда мы сидели с Л. в кафе около катка Рокфеллеровского центра. Горящие всюду елки, всегда радующая меня легкость, "фантастичность" конькобежцев, возбужденная, праздничная толпа.
Осуждение Римом Кюнга. Заявление Кюнга: "Мне стыдно за мою Церковь…" И вопли газет о "репрессивности" Рима, о недемократичности Церкви. Он ничем , решительно ничем, не отличается от либерального протестантизма. Но вот нет, вместо того чтобы признать это, он будет "бороться" (за права! за демократию!) в своей Церкви… Все это было бы смешно, если бы не столь бесконечно грустно, симптомом глупости , воцаряющейся, помимо всего прочего, в мире, трагической "спекуляции на понижение". Повторю, однако, то, что, кажется, уже писал: у Рима нет никакого аргумента, кроме "послушания", и притом слепого.
Кончил, позавчера, и отослал в Париж статью – ответ о Солженицыне. И, как всегда, сомнения, нужно ли было это, и то ли это, что нужно, и так ли, как нужно…
"Тихое и безмолвное житие" – это вершина ума, мудрости, радости и, я бы сказал (не знаю, как сказать лучше), – "интересности". Смирение – это не та пришибленность плюс ханжество, чем она стала в церковном "стиле", это царская и царственная добродетель, ибо подлинное смирение – именно от мудрости, от знания, от прикосновения к "жизни преизбыточествующей"… Я все чаще думаю, что не ученые и елейные книги об "аскетическом богословии" нужны сейчас миру, а некий смиренный, божественный юмор . Если бы мир расхохотался на отовсюду лезущее бородатое лицо Хомейни и на толпу "студентов", вот уже год, потрясая кулаками, вопящих лозунги; если бы понял, до чего глупы и смешны слова "народ", "революция", "история" и т.д., то… Я не знаю, что было бы, но этот смех – и это я знаю – был бы умнее и, по всей вероятности, продуктивнее, чем умопомрачительные в своей серьезности разборы каждого
496
слова, "изреченного" Миттераном и ему подобными… Специфические области глупости : "политика", "религия", "проблематика воспитания", "социология", "психология". Это компресс глупости на человечестве.
Понедельник, 31 декабря 1979
Последний день года, промчавшегося, кажется, еще скорее, чем предыдущие. Три дня в Нью-Йорке за чтением студенческих сочинений. В субботу и вчера заходили в Metropolitan Museum. Радость от соприкосновения с искусством – другой "воздух". Праздничная толпа повсюду… А в мире все то же: иранское безумие, советские войска в Афганистане, растерянность здесь, в Америке… Сегодня Сережа "въезжает" в Россию. Как-то все это будет?
Солнечные, сравнительно теплые дни. Еще один год! Жизнь уже не бежит, а убегает… "Душа моя, восстани, что спиши?"
Вторник, 1 января 1980
Ночная обедня. Потом "разговены" у Лазоров, с Дриллоками и Хопко. А утром то самое странное чувство, которое испытываешь в праздничные дни. Чувство пустоты, какого-то а quoi bon?
[1282]Среда, 2 января 1980
Все утро в семинарии, в мелочах – до головной боли… Вчера весь день с детьми, Ваней, Машей, Виноградовыми. Прогулка вокруг озера. Солнце на стволах старых деревьев, на воде – и сразу же радость, знакомое "tout est ailleurs".
События в мире: занятие Советами Афганистана, все тот же Иран. Почти детское любопытство: как все это кончится? Звонили из [агентства новостей] Associated Press: Сережа в Москве, дали номер телефона, но дозвониться до него оказалось невозможным.
Пробежал прошлую тетрадь этих записок. Все вариации на одну и ту же тему, те же жалобы и те же "утешения". Ни в чем, ни в одном из моих "занятий" я не чувствую себя до конца "дома". Странное состояние: вечно ждать, чтобы что-то наконец кончилось : заседание, разговор, встреча. Все "не то". Что это прежде всего от слабости, лени, нелюбви и т.д., я отлично знаю. И все же, думаю, надеюсь, – не только …
Вторник, 8 января 1980
Живем от новостей до новостей, до такой степени сильно ощущение кризиса. Несколько источников возмущения, но главное – бесконечного удивления: – подлость или глупость этого ужасного аятоллы, ни словом не обмолвившегося до сих пор о советском захвате Афганистана;
– подлость (но, увы, не глупость) кандидатов в президенты (Кеннеди, Рейгана и др. республиканцев), осуждающих Картера за то, что он наложил эмбарго на зерно, продаваемое России ("от этого пострадают американские фермеры");
– подлость и глупость Франции, хотящей остаться "верной детанту". Политика не может быть "моральной" (старая истина, но – все-таки -
почему?). Но в данном случае аморализм к тому же и глуп… Одно утешение – интервью по телевизору с простыми людьми, с "улицей". Они неизмеримо и умнее, и моральнее "политиканов".
Статья старика Конгара об осуждении Римом Ганса Кюнга. Но до какой степени эта история ребром ставит вопрос о богословии как "науке"! На днях я заметил Н. по этому поводу: "Вот до чего доводит научность". Н. сердито: "Это – не наука!" Но тогда что же
наука ? Ведь Кюнга весь мир, в том числе и Конгар, прославляет как раз за "научность". Нет, это именно "наука", и казус Кюнга как дважды два четыре доказывает, что в том-то и слабость "науки", возведенной в абсолют, что ею можно доказать все что угодно. Маркс – наука, Фрейд – наука, и Кюнг – в ту же меру – наука. В какую мелкотравчатую эпоху мы живем. Никакого намека на
величие … Думал об этом, читая, вернее – пробегая, новый номер нашего "Quarterly"
[1283]. Неужели это то, что в виде "Православия" предлагаем мы людям? Рекорд: статья какого-то Simmons'a о Православии в Австралии в XIX веке, доказывающая (научно), что Православия в Австралии в XIX веке – не было!
Крещенские службы, их космическое вдохновение… Как все это далеко не только от "внешних", но и от самих христиан… И как понятно, что та "полнота времени", в которую пришел Христос, – до мира газет, интеллектуалов и "науки".
Я не верю ни в какое "возрождение ислама", о котором так много и глубокомысленно болтают все. Ислам – невозможен в мире пулеметов и кинематографа. Всюду и везде борьба "своего" против "чужого". А пулеметы – те же.
Я говорил выше – подлость, глупость. Еще сильнее – какая-то просто невообразимая слепота.
Парадоксы: итальянская коммунистическая партия осуждает большевиков за Афганистан, а французское правительство требует "времени", ибо ему "еще не ясны" мотивы Москвы… И все это пишется, говорится, читается mine de rien. Чувство омерзения. Но вот каждое утро жадно бросаешься на "Таймс", а вечером – к телевизору, чтобы в это омерзение погрузиться. "Чем связаны мы все? Взаимностью непониманья" (Г.Иванов).
Среда, 9 января 1980
В связи с шумихой вокруг Кюнга думал о методе, в сущности отсутствующем у православного богословия. Запад, говоря упрощенно, отождествил богословие с "наукой", то есть прежде всего с определенным методом. Этот метод не мог не привести к современному кризису (как раньше – к кризису "модернизма" и т.д.). Кризис заложен в самой его природе. Спасало от него только искусственное, априорное подчинение богословия авторитету , то есть именно некоему "априори". С той минуты, что богословие "научно" занялось самим этим авторитетом, то есть фактически отвергло "априори", кризис стал неминуемым. Кюнг – вполне справедливо со своей "научной" точки зрения – утверждает, что наука не может не быть свободной, то есть беспредпосылоч-ной, иначе ее просто нет. Рим в ответ твердит, что богословие хотя и наука, но подчинено "авторитету" Церкви. Это разговор глухих. В лице теперешнего Папы, с одной стороны, Кюнга – с другой, два этих утверждения нашли себе достаточно "целостных" и убежденных защитников. Но ни тот, ни другой не понимают, что оба они не правы, и не правы по существу, что сама эта схема – наука и авторитет – и есть западный тупик, только преодолев который можно серьезно "диалогировать"… Папа прав потому, что сведенное к науке богословие перестает быть богословием, изложением веры Церкви, оно распадается на всевозможные догадки, теории и т.д. и, главное, что бы оно ни говорило об объективности, все равно подчиняет себя изнутри тому или иному авторитету (предпосылкам, методу). Не прав Папа глубже: в том, что верит в возможность формально послушного богословия, то есть в саму дихотомию науки и авторитета. Это знает Кюнг, и в этом его формальная правда. Не прав он лишь в том, что называет свою науку богословием, которое, по сути своей, неотрываемо от Церкви. Но он давно уже пришел к выводу (научно не оригинальному), что никакой Церкви Христос не создавал, ибо "верил в близкий конец мира". А так как и создатели Церкви верили в близость конца, то и создание их было временным – и из него мало что можно вывести для современности….
Таким образом, главный предварительный вопрос для богословия – это вопрос о самой его сущности, то есть о связи его с Церковью . Православное богословие этого вопроса не ставит. Оно тоже "петушком, петушком" бежит за "научностью", оговаривая, однако, что наукой этой они говорят только то, чему учи т Церковь. Но где, ка к Церковь учит ? Тут – весь вопрос, и было бы хорошо, если бы православные богословы им занялись. Но он никого не интересует.
Четверг, 10 января 1980
"Раб греха". Это рабство иногда чувствуешь – с такой очевидностью! – как некую внешнюю , но изнутри и целиком опутывающую силу.
Проснувшись сегодня, подумал с каким-то холодным бешенством. Почему вот уже шестьдесят лет царствует в России эта кошмарная власть и не удивляется, не "ахает" этому мир? Вот сегодня в "Нью-Йорк таймс" опять статейка о том, что если, дескать, СССР не чувствовал бы себя окруженным, под угрозой, то, может быть, "напряженность" ослабла бы и т.д. Пол-Европы, пол-Азии, часть Африки – и все, оказывается, комплекс "самозащиты"!
Болтовня о "пробуждении" Востока, Африки и т.д. Какая чепуха! Ни одной своей идеи. Все сплошь – западные. И эти западные идеи не становятся восточными, самобытными, да попросту – другими оттого, что на них извне нахлобучивают ислам.
499
Пятница, 11 января 1980
Вчера по телефону истерические вопли Майи Литвиновой: как это, мол, я принимаю участие в защите Солженицына, который "хуже Сталина", "абсолютно дискредитирован в России", "лгун" и т.д. По-видимому, он и впрямь наступил нашим диссидентам на чувствительную мозоль, если все, что касается его, вызывает такой вопль злобы и нетерпимости. И удивительно, до какой степени эти западники и защитники демократии неспособны на простой спор. Все сразу "принципиально" и "хуже Сталина". Я долго не мог очухаться от этого удивительного взрыва…
Вышла моя книга "Church. World. Mission". Перелистывал со страхом… Но, как всегда бывает, я ее не чувствую "своей". По существу же, пожалуй, ничего, то есть могу под сказанным в ней подписаться.
Газеты полны гаданий о событиях (Афганистан, Иран…). "Эксперты считают, эксперты думают, эксперты предвидят…" Мне кажется, можно было бы научно доказать, что эксперты всегда ошибались, всегда думали не то и никогда ничего не предвидели. Но эта эмпирическая истина ни на йоту не ослабляет почти анекдотической веры американцев в "экспертов". В Европе царствует "идеологическая предпосылка": так, в "Le Nouvel Observateur" для того, чтобы осудить советчиков за вторжение в Афганистан, Жан Даниэль должен сначала долго ругать американцев… И все же, по сравнению с французской прессой ("Le Monde", который меня бесконечно раздражает), американская наивна…
Удивительна эта всеобщая ненависть к Америке. Она действительно иррациональна. И именно с анализа ее, с попытки понять ее иррациональность, думается мне, и нужно было бы начать объяснение "современного мира". Я убежден, что неправильно думать, что вызывает эту ненависть сила и богатство Америки. На глубине и именно в иррациональном своем источнике эта ненависть вызвана тем, что Америка другая – по отношению ко всему остальному в мире, и потому что другая – есть угроза . Одним своим "прикосновением" Америка меняет и, в каком-то смысле, разлагает любое восприятие, любой уклад жизни. И не в том только суть этой угрозы, что Америка несет с собою другой метод , предлагает перемену, всегда вызывающую сопротивление, а в том, что она "перемену" предлагает как метод жизни. Все все время под вопросом , все перестает быть устойчивым, самоочевидным и потому "успокоительным". Парадоксально то, что американцы совсем не говорят о "революции", тогда как европейцы, а теперь и третий мир сделали это слово основой всех своих "дискурсов". Но это так потому, что европейцы и "революцию" понимают как замену одной системы другой системой , иными словами – начинают с системы, с "идеи". Но американец прежде всего не верит ни в какую систему, и потому он, при отвращении от революции "идейной", есть революционер по самой своей природе. Даже сама американская конституция в конечном итоге есть не что иное, как перманентная революция. Не случайно главное занятие судов в Америке – это "испытывать" законность самих законов, и это значит – любой системы. Постоянная революция, обеспеченная конституцией…
500
И вот этого-то и не могут ни понять, ни принять все другие – будь они богаты или бедны, цивилизованны или нет. Как, в свою очередь, этих "других" не могут понять и американцы, ибо американец воспринимает саму жизнь как постоянную
перемену (и стремится к ней даже тогда, когда она и не нужна, – ср. постоянную одержимость педагогикой и всякими curricula
[1284]). Европеец воспринимает ее как что-то радикальное, грандиозное, всеобъемлющее, страшное, даже если и желанное, – это его "Революция"…
И потому смешно, что самое "неконсервативное", самое – по самой природе своей – "революционное" общество в мире – Америку – ненавидят как общество "консервативное" и "антиреволюционное".
Среда, 16 января 1980
Чудное вчера письмо от Сережи – первое из Москвы. О рождественской службе в Елоховском соборе, где они все причащались. О его реакциях на людей, о том, как он чувствует себя там – русским.
Продолжающийся пароксизм безумия в мире. Чувство полного бессилия Запада, поразительной слепоты и страха. Страшное "удивление" перед поведением советчиков и т.д.
В прошлую субботу хиротония во епископа Василия Родзянко в Вашингтоне. Его речь на наречении – о видениях, старцах, чудесах. Лирика и нарциссизм. Явно – он хороший, горячий человек. Но до чего невыносим мне этот сладостно-духовный говорок, присущий православным. Почему этот сладкий тон в христианстве?
Пятница, 18 января 1980
Известие об аресте о. Дмитрия Дудко в Москве. Говорил об этом на радио "Свобода". Должен признаться, что меня больше удивляет, что его не арестовали до сих пор…
Все то же напряжение в мире. В газетах водопад анализов, прогнозов, оценок, объяснений. Впечатление, однако, такое, что Запад больше размахивает руками, чем готовится к "решительному отпору". Европа явно не желает ссориться с Москвой, Япония тоже, третий мир продолжает видеть в Америке врага номер один. Вот уж действительно – "кругом трусость, измена, глупость…"
[1285]. Но, читая и американские, и европейские газеты и журналы, я могу понять раздражение на Америку. То она всех принуждает к детанту, то требует моментальной поддержки против советчиков. То отнимает оружие, то почти навязывает его. Впечатление – полного отсутствия плана, а все так только – рефлексы и реакции. А
там – знают, что делают.
Все размышляю о "духовности". Упрощая, скажу так: меня поражает эгоцентризм этой "духовности", выпячивающее из нее "я". Мой опыт за тридцать с лишком лет: студенты с потугами на "духовность" почти всегда – неприятные, troublemakers
[1286]. "Я буду писать сочинение об аскетическом богословии" – и сразу, автоматически, душок
гордыни (смотрите, какой я!), то есть самого смертельного врага духовности. Священники, ратующие за службы "без сокращений", – почти всегда неважные пастыри. И т.д. Я иногда думаю, что такого рода "духовность" есть самое настоящее искушение, гордыня, самоутверждение. Не знаю. Я знаю, что я человек "не духовный". Знаю точно, что в этой области я чего-то не чувствую (то есть не испытываю никакой тяги к Феофану Затворнику и Игнатию Брянчанинову), что тут что-то меня
отталкивает . Но не знаю, ошибаюсь ли я в этом отталкивании. Может быть, чего-то не вижу, не слышу…
Понедельник, 21 января 1980
Уик-энд в Вашингтоне. Преуютный ужин у Григорьевых, где я ночую. С годами все больше и больше ценю "бескорыстную" дружбу – то есть такую, которая основана не на "делах" или "идеях", а на "хорошо быть вместе". Утром в воскресенье служил позднюю – славянскую – Литургию в соборе. Днем – лекция о "Солженицыне под обвинением" в Литфонде. Много народу. Хлопали, благодарили. Но сам я не очень доволен, даже не совсем ясно зная почему.
Сегодня же – погружение в семинарию: весенний семестр.
Четверг, 24 января 1980
Вчера – воинственная речь Картера. Но все-таки, все-таки – как можно было так легкомысленно насаждать детант, лишать себя армии, разведки, всему верить? Вся иностранная политика США основана на wishful thinking
[1287]. Как мало они по-настоящему знают и по-настоящему думают, как – почти всегда – неглубок их "анализ". И все же чувство такое, что, может быть, они пробуждаются от своего сладкого сна…
Арест Сахарова, вернее – высылка… Что вообще нужно, чтобы Запад понял, что Советы всегда во всем лгут и, еще проще, не могут не лгать? Но эта простая истина развенчана западной интеллигенцией как "примитивный антикоммунизм".
Эти дни путешествовал: в воскресенье в Вашингтоне (доклад о Солженицыне), в понедельник и вторник в Ричмонде (Виргиния) – в пресвитерианской семинарии, в среду в Форт-Уэйне (Индиана) у "болгар"… Привычный и по-своему даже любимый мир аэродромов, одиночества в толпе, какого-то "перерыва". И эти просторы, эти американские города, "Америка" – в ее таинственной сущности, более неопределимой, чем сущность любого другого народа. Где – все "дома" и никто – не "дома", где за вполне искренней togetherness
[1288], легкостью смеха, общения, сближения – всегда просвечивает, всегда звенит (как звон в ушах) одиночество. Где потому так все "громко" (голоса, рекламы, музыка), что все время нужно перекричать, заглушить тишину этого одиночества и страх ее…
В Ричмонде у Де Трана прочел (и записал) поразившее меня стихотворение C.C.Cummings'а
[1289], этот "звон" передающее:
anyone lived in a pretty how town
(with up so floating many bells down)
spring summer autumn winter
he sang his didn't, he danced his did
women and men (both little and small)
cared for anyone not at all
they sowed their isn't they reaped their same
sun moon stars rain
children guessed (but only a few
and down they forgot as up they grew
autumn winter spring summer)
that none loved him more by more
when by now and tree by leaf
she laughed his joy she cried his grief
bird by snow and stir by still
anyone's any was all for her
someones married their everyones
laughed their cryings and did their dance
(sleep wake hope and then) they
said their nevers they slept their dream
stars rain sun moon
(and only the snow can begin to explain
how children are apt to forget to remember
with up so floating many bells down)
one day anyone died i guess
(and noone stooped to kiss his face)
busy folk buried them side by side
little by little and was by was
all by all and deep by deep
and more by more they dream their sleep
noone and anyone earth by april
wish by spirit and if by yes
women and men (both dong and ding)
summer autumn winter spring
reaped their sowing and went their came
Какая щемящая грусть, а вместе с тем – легкость счастья, глубина страсти, любви, верности. Необычность всего: "anyone" и "noone" (он и она) – личности , a "someones" и "everyones" – безличности. И эти колокола, снег, earth by april. Жизнь, смерть. Таких поистине магических стихов я, по-моему, никогда не читал. И это – именно "сущность" Америки, сущность, ей самой неизвестная… "И только снегу дано объяснить…" Поразительно.
Семинария (с 9 утра по 5 вечера). За весь день ни одной "положительной ноты", словно барахтаешься в какой-то серой, беспросветной жиже. И все это с упоением говорит о духовности, о миссии, спорит о вечернях и утренях, о том, что православно и что нет… Мне кажется иногда, что я все меньше и меньше понимаю "религию", или, может быть, лучше сказать – "религиозных людей". Чего в человеке – такая религия – проекция? Во всем этом есть что-то клиническое, больное, извращенное и, главное, ненужное – ни Богу, ни человеку. Ибо где тут "радость и мир о Духе Святом"?
Пятница, 25 января 1980
Старость? Я замечаю, как постепенно растет некое "отчуждение" от меня наших "молодых". Не вражда, Боже упаси, нет, и в "трудные минуты" я им нужен, и времени у меня меньше, чем когда бы то ни было. А просто подсознательное сознание, что теперь их час, их kairos
[1291]. И это правильно, так должно быть, нет ничего ужаснее, чем цепляние за "участие", "влияние", "власть". Положительность этого закона должна была бы быть в таком же
освобождении меня для работы над
главным (сколь бы оно ни было маленьким), то есть над тем, что мне
дано и
задано сказать. Плохо, когда остаешься ни там ни сям, entre deux chaises
[1292]. А именно в этом "ни там ни сям" – трудность, безалаберность моей жизни. Я им одновременно и
мешаю , и
нужен . Думаю об этом, то есть о том, как из этого выйти, часто, но этого как не нахожу. Отсюда – уныние, раздражение, рассеянность всей жизни.
Суббота, 26 января 1980
Удивительная зима. Неделя за неделей солнце! Вчера начал было падать снег, но сегодня утром – опять тот же свет, та же ясность… Все утро за приведением в порядок денежных дел. Вчера все после-обеда и вечер – за разбором семинарских дел. А на столе еще – гора неотвеченных писем… Из-за всего этого живу с какой-то душевной "изжогой".
Четверг, 31 января 1980
В газетах безостановочный поток статей и писем о том, как поступать с "русскими", объяснений того, как и почему поступают "русские", и т.д. Афганистан, увы, является для всех без исключения пишущих, правых и левых, подтверждением отождествления СССР с Россией. Вчера длинная статья, очень научная, о среднеазиатской, бесспорно, очевидно – "империалистической" политике России в Средней Азии в XIX веке, особенно при Александре II. Хива, Коканд – все то, о чем в корпусе мы слушали, разинув рты (помню, нам читали вслух книгу об этих завоеваниях под названием "Храм Славы"). Но, читая все это, я спрашиваю себя не о верности этого отождествления, а о самой сути империализма . Сейчас это – бранное слово, преступление, грех. Но так ли это? Или, вернее, только ли это? В чем, если так можно выразиться, "ценность" афганской независимости, которую тут же все рисуют как что-то дикое, фанатичное и на 60% безграмотное? Иран, третий мир, все эти кишащие народы Азии – Камбоджа и т.д. Что всем им принесла эта злополучная "независимость", кроме хаоса, голода, крови и катастрофического "регресса", кроме Иди Амина, Бокассы и т.д.? Что противополагается этому западному империализму? Ислам! Ни одной идеи, никакого видения, и, наконец, снова зависимость. Одни не могут "пикнуть" против Советского Союза, другие – против Америки. Сами же ничего сделать, создать, построить не могут. "Независимость" – это еще одна отвлеченность, притом – западная, это сведение всего к государству, к этатизму. Ведь ясно, что если что спасает Африку от кровавого потопа, то это "держание" всех этих новых государств за колониальные границы, не имеющие ни малейшего отношения к реальным народам. Рок Запада в том, что он все время рождает идеи , кое-как применимые к нему самому, ибо его собственная устойчивость укоренена не в этих идеях , а в органически созданной им цивилизации (которая построена, как и геометрия, на неких недоказуемых постулатах: личность, свобода слова и т.д.). Но эти идеи вне сферы самой этой цивилизации – не только не действуют, но обращаются в силы разрушения; неужели так трудно понять, что народы могли быть независимы (да и то!) только до машин и оружия… А в сущности, история только и двигалась что "империализмом"… Иногда такое чувство, что мы живем в эпоху сюрреалистическую…
Вчера – общее собрание студентов. Призывал их преодолевать мелочность, клерикализм и т.д. Чувство, что что-то "доходит". Но как трудно, как двусмысленна, опасна, страшна – "религия"…
Сегодня тридцать семь лет со дня нашей свадьбы.
Понедельник, 4 февраля 1980
Читаю (вернее – только начал читать) курс о "литургической перемене", the problem of change
[1293]. И сразу стал ясным невероятный объем проблемы…
Вторник, 5 февраля 1980
Читаю воспоминания И.В.Гессена (переизданные "Имкой"). Эмиграция двадцатых и тридцатых годов в Берлине и Париже. Несмотря на все спокойствие и доброжелательство автора, картина получается страшная: споры, злоба, подсиживание, провокация… А нам-то казалось, что на фоне "третьей" наша "первая" эмиграция… И какая близорукость у всех, какой wishful thinking, какая плененность почти всех своей идеологией, своими идолами.
Со все возрастающим восхищением слежу за Сахаровым. И какая разница с Дудко! Никакой риторики. Никаких "я иду на Голгофу". Спокойно, мужественно, твердо, ясно. Читая Дудко, я всегда "ежусь", читая Сахарова – действительно "вдохновляюсь"…
Среда, 6 февраля 1980
Газеты, журналы – и все то же чувство: бессилия, "тонкой кишки" Запада. Несмотря ни на что, неумирающая вера, что с большевиками можно договориться, все уладить и т.д. Западная интеллигенция запуталась – как это, оказывается, что не все в мире можно объяснить "классовой борьбой"… Отвращение от гниющей Европы. Крушение идолов, которого идолопоклонники не видят ! Не хотят, не могут увидеть…
Четверг, 7 февраля 1980
У арх. Иакова с о.Joseph O'Hare (мой со-президент в "Freedom of Faith") – с просьбой о помощи нашему комитету. Я давно его не видел: он постарел… Но сразу же обещает помочь.
В "Le Monde" – выступление арх. Питирима (зав. отделом изданий при [Московской] Патриархии), защищающее арест о.Дудко и Сахарова. Как удар по лицу…
Вчера в Spence торжество вручения Л. инсигний Palmes Academiques
[1294]. Очень трогательно, выдержанно, "стильно". Невероятная овация Л.
Серая, промозглая – парижская! – погода.
Пятница, 8 февраля 1980
Длинный разговор с Л. сегодня утром о Н. и об его "духовной возне" с монашками. Меня занимает вот что: то, что мне кажется самым трудным, скажу прямо – скучным и бесполезным, все эти "личные" беседы, всякая духовная (!) "интимность", – для Н. его, так сказать, любимая стихия, и он отдается ей с какой-то страстью. Я вполне допускаю, больше того – я убежден, что моя нелюбовь к "духовным разговорам", отталкивание от них – в большой мере от греховного эгоизма, равнодушия к людям, лени и т.д. За вычетом всего этого, однако, остается все-таки вопрос…
Понедельник, 11 февраля 1980
В пятницу вечером – блины у о.К.Фотиева с Штейнами и Бобышевыми; он – поэт, о котором мне много говорил Ю.П.Иваск. Подарил мне свою книгу "Зиянья" – я еще не открыл ее… Тихий, милый. Читал после блинов свою "защиту Солженицына". Реакция очень положительная, даже восторженная.
Второе письмо от Сережи – замечательное по глубине восприятия, по сочетанию отчаяния и надежды.
Среда, 13 февраля 1980
Чтение газет. В "Нью-Йорк таймс" фотография студенческого митинга в Принстоне – против регистрации. Плакаты с надписью "There is nothing worth dying for"
[1295]. Единогласная резолюция Международного олимпийского комитета, осуждающая всякую акцию против Игр в Москве… Сюсюканье французов, немцев, Индиры Ганди и т.д. о необходимости спасать детант от американцев, от их overreaction
[1296]. Письма в редакцию – против всякой "акции"… Трусость, открытое исповедание животного эгоизма, фарисейство (нужно не войну готовить, а заниматься "the poor", "the aged" and "the minorities"
[1297]). Действительно – трусость, подлость, измена. За маленькой вспышкой морального негодования немедленно массовое стремление развенчать его. Все то же чувство – конец, закат Запада. Отказ что бы то ни было защищать, за что бы то ни было "умирать", то есть отказ от какого бы то ни было
идеала прочно вошел в сам идеал жизни. Полная пустота. Все выдохлось. На днях – мне говорил Юра Штейн – выступит Солженицын. И никто его все равно не послушает. "Если соль потеряет силу…"
[1298]. Это о том, что случилось с западной цивилизацией.
Вчера вечером "спенсовская" party в нашей "роскошной" квартире. Удивительно: шестьдесят человек три часа подряд стоят со стаканами в руках и, видимо, находят в этом искреннее удовольствие. Я думал, что умру от скуки, и устал так, как не устал бы, пробежав десять миль…
А за всем тем все так и идут, один за другим, ослепительные солнечные морозные дни.
Четверг, 14 февраля 1980
Длинный разговор вчера с Н.Н. "Я пришла, чтобы ты мне помог…" От чего? От – неизменно – того же самого. Приходит личное несчастье, драма, и вот: "Где же Бог?", "Где Его человеколюбие?", "Я полгода не могу и не хочу приобщаться…". И хуление того счастья, которое "разрушилось". "Значит – все было обманом…" Удивительно, как мало в такие минуты "помогает" все прочитанное, казавшееся усвоенным, частью "мировоззрения". Как от всего – коренным образом – отлична вера , та вера, что не от искания "помощи", "смысла" и т.д.
До этого фактически весь день читал и прочел книгу Geoffrey Wainwright "Eucharist and Eschatology"
[1299], очень хорошую, очень мне "близкую" (да и читал-то ее в связи с главой "Таинство воспоминания"). Но, читая, спрашивал себя:
для кого эта книга написана, к какому читателю обращена? Очевидно, для "богословов", для
ученых . Эти попытки доказать, это постоянное расшаркивание перед десятками "критиков". Между тем его же, автора, обзор трудов этих критиков несомненно доказывает, что не из своей "научной" экзегезы черпали они свои "выводы", а к выводам, пускай даже и бессознательно, направляли экзегезу. Почему – столетиями – читая те же тексты, никто – ни на Западе (католики и протестанты), ни на Востоке (православные) –
не видел, не слышал столь очевидного эсхатологического содержания Евхаристии? И можно с достоверностью предсказать, что и этой книги, в сущности "азбучной", не услышат, не увидят богословы другого "направления"… Думал о том, что нужно будет моей книге предпослать prolegomena
[1300] (из "чего" пишу). Об
опыте Церкви как единственном "источнике" и "критерии" богословия.
Умирает
Тито ! Вспоминаю дни смерти Сталина, и особенно почему-то врезавшийся в память огромный, во всю страницу, заголовок в "Daily News": "Stalin Sinking…"
[1301]. Именно –
утопает, погружается . Так вот теперь и Тито. И окажется, что он ничего не "создал", что все эти сорок лет – "не дым, а только тень, бегущая от дыма…"
Вчера вечером на channel 13
[1302] разговоры со студентами в связи с восстанавливаемой – не воинской повинностью, а всего лишь – регистрацией. Апломб, всезнайство, пророческий тон. Я всю жизнь провел со студентами и, главное, сам был студентом. И когда я думаю о своих студенческих годах, мне обычно прежде всего делается
стыдно – за глупости, которые я говорил, за самолюбованье, за обличение своих же учителей (Зеньковского!), за самоуверенность… К счастью для мира, никакое правительство, никакие радиостанции не приглашали меня "судить и рядить". А теперь нет более важного источника мудрости, чем студенты. Все та же категория –
капитуляции . Капитуляция белого человека. Капитуляция "взрослых". Капитуляция родителей. Капитуляция писателей. Капитуляция христианства. Мы живем "под окриком" и трясемся… Вот "находят" эсхатологию. Быть может, "найдут", наконец, и
диавола , и именно как "князя мира сего". И у ученых богословов сделается истерика…
Закрывал тетрадь, когда – только что – позвонила Н.Н.: "Спасибо". А что я, собственно, сказал?
Вторник, 19 февраля 1980
Великий Пост. Вчера почти весь день в церкви.
В субботу в Бостоне на молении о гонимых. Дочь, вернее, падчерица Сахарова. Ночевал с пятницы на субботу у Померанцевых. Собрание с церковным комитетом. Вопрос о сопротивлении "стариков" переменам: причастие, пение и т.д. Все та же ситуация – как в Монреале, как в Си-Клифе. Русские органически не принимают этого "ключа". Их православие "алогично" – в смысле отсутствия Логоса, "смысла" в буквальном понимании этого слова. Для них "священное" разлагается логосом…
Статья Солженицына в "Time". Ясная, "очевидная", беспощадная – к Западу. И все равно – услышана не будет. И не будет из-за той внутренней капитуляции , о которой я уже писал и которую чувствую почти физически. Вчера по телевизору, между двумя сообщениями о предвыборной кампании, заявление Сахарова, что его и жену били в полицейском участке, ее – по глазам! Били !.. Но какой-нибудь эксперт объяснит и это "комплексом страха" советского правительства. Вот если бы меньше говорили о диссидентах, то, возможно, этот комплекс рассеялся бы. И т.д. – до тошноты. Запад находится в эпохе подлости.
Абсолютная исключительность христианства. Его вызов всем "мировоззрениям", всем "мироощущениям". Его требование обратиться , то есть буквально – перевернуть, поставить вверх дном все "привычное", и в первую очередь, конечно, религию… И его "история" как история компромисса с "миром сим", с его "логиками" и "требованиями". Об этом думал все эти дни, читая "технические" работы по истории богослужения. В чем компромисс? Суть его ясна тогда, когда христианство ощущается как нужное, но перестает мешать жить . Суть, назначение Церкви только в одном: чтобы "мешать", то есть сохранять в мире "огонь" христианства. Однако именно Церковь и стала тем компромиссом, что делает христианство одновременно нужным и "немешающим".
Все то же морозное солнце… Вчера шел в церковь на закате. Ярко освещенные стены домов, верхушки деревьев. И мимолетно – ощущение, со
страшной силой, что тут, рядом, внутри нашей – идет или, вернее, присутствует другая жизнь , вся суть которой в ее отнесенности к чему-то "другому", в – одновременно – свидетельстве и ожидании… То же чувство в субботу, в Бостоне, где шел густой снег, точно рассказ, которого никто не слушает. Удивительно – в природе, в мире все движется . Но в этом движении (падающего снега, солнцем освещенной ветки, луга) каждый момент его являет блаженную неподвижность, полноту, есть "икона" вечности как жизни, и "жизни с избытком".
Другая "странная" мысль: весь мир живет одновременно , у него всего-только вот эта минута . Все же остальное – отвлеченные цифры на календаре.
Среда, 20 февраля 1980
Думал о глупости американской внешней политики. США – великая страна, но не великая держава. Трагедия ее прежде всего в почти удивительном незнании мира и в равнодушии к нему. Америка живет собою не в том смысле, в каком каждая страна – Франция, Англия и пр. – живет собою, а в смысле какого-то блаженного неведения всего остального мира и потому радикального его непонимания. У нее нет с миром никакого общего языка, она всегда и со всеми говорит по-американски . Даже тысячи ее "экспертов" по международным делам заняты только "редукцией" всего происходящего в мире к американским априорным схемам, которые – ив этом все дело -американцы считают универсальными и, в сущности, единственными. Но это-то и приводит к тому, что в мировых делах американцы никогда и ничего не понимают . Отсюда всеобщая ненависть к Америке, ненависть, смешанная с презрением.
Четверг, 21 февраля 1980
Продолжаю вчерашнее. В США более чем где бы то ни было внешняя политика подчинена
внутренней . Все говорится, все делается с оборотом на то теперь фактически перманентное "предвыборное" состояние, в котором всегда находится страна. Картер наложил свое эмбарго на зерно для Советов в момент пресловутых caucus'oe
[1303] в Айове, штате на 99% земледельческом. Этого было достаточно, чтобы почти все республиканские кандидаты немедленно высказались против этой меры. Также с регистрацией молодежи и т.д. Поражает бесстыдство этого процесса и его, в сущности, безоговорочное принятие всеми.
Грубость. Америка меняет свою политику и просто навязывает ее всем. Так она навязала миру Ялту, то есть попросту капитуляцию Сталину (Рузвельт). Потом навязала холодную войну (Трумэн), потом, начиная с Эйзенхауэра, – знаменитый детант. Смешение морали с "делами". И абсолютное презрение к миру, ибо "что хорошо для Америки, то хорошо для всех".
Картер – почти совершенное воплощение этого "американизма". Радикальная некомпетентность (его "огорчил" Брежнев своим вторжением в Афганистан). Безостановочные зигзаги. "Рекламный", "предвыборный" характер всех мероприятий. Морализм без морали и без принципов.
Все это – mutatis mutandis – применимо и к американской интеллигенции, и к прессе. Все пронизано "политикой" – то есть мотивом успеха, признания, соревнования . И вот судьба мира находится в руках, в сущности, малоосведомленных, некомпетентных, психологически "провинциальных" людей, соединенных одним: религией успеха , быстрого, моментального и связанного, в довершение всего, с материальным его выражением. В этой обстановке речь Солженицына, например, просто не звучит.
Первая Преждеосвященная вчера, а до нее, так же как и накануне, бесконечные исповеди. И, как всегда, чувство неясности: в чем смысл исповеди, такой, какой существует и практикуется она сейчас? Понятна мне исповедь католическая ("нарушение закона"), но не понятна православная – ни, так сказать, "догматически" (таинство покаяния), ни духовно. В ней очевиднее всего метаморфоза христианства, Церкви. Церковь родилась как
реальность , противостоящая и внешне, видимо, и еще больше – внутренне, невидимо, –
миру сему . Метаморфоза же ее заключается в том, что она стала постепенно, а теперь уже и окончательно – религиозным "обслуживанием" мира. Изначально таинство покаяния было целиком сосредоточено на одном: на измене Церкви, то есть воплощаемой и являемой ею
реальности . Грех осознавался прежде всего как измена "новой жизни", выпадение из нее. Он был
разрывом, отпадением, предательством , так же как
святость понималась не как "нравственное совершенство", а как "онтологически"
верность Христу и Его Царству. Нравственное учение Евангелия – эсхатологично, а не "этично".
Сущность греха – не просто нарушение "закона", а отпадение от Бога и от жизни, от подлинного "вожделения". И, во-вторых, сущность его для христиан как
измены Христу, отпадения от Него и от Церкви как Им данной жизни. Таким образом, таинство покаяния – это
возврат , это возвращение, путем раскаяния, в "новую жизнь", уже данную, уже явленную… Современная исповедь обращена, однако, не на то, не в этом суть ее, а в некоем "моральном" регулировании жизни в "мире сем", регулировании его собственных "законов". Иными словами, таинство покаяния было вначале
отнесено не к нравственному закону, а к
вере и к греху как отпадению от веры ("верующий в Него не грешит"
[1304]) (см. все первое послание Иоанна). Теперешняя исповедь есть разговор о нарушениях "нравственного закона", о слабостях и греховности, но без "отнесенности" к вере. И ответ в нем – не о Христе, а что-то вроде "старайтесь побольше молиться…", "боритесь с искушениями…". Как и все в христианстве, таинство покаяния –
эсхатологично . Оно есть возврат человека в вожделенное Царство, в "жизнь будущего века". А чем стало оно – я просто не знаю, и как, в каких "категориях" понимать и объяснять это "разрешение грехов" после трехминутного разговора о "слабостях" – тоже не знаю.
Пятница, 22 февраля 1980
Очередной номер "Русской мысли". И опять тот же вопрос: что меня так раздражает в эмигрантской прессе? Часть ответа – язык . Мне кажется, что русский язык – самый трудный в мире. Не грамматически (хотя он и грамматически трудный), а по какой-то легкости, доступности в нем фальши, подделки, инфляции. Он – как разбитое, ненастроенное пианино. На нем легко "бренчать". И потому подлинный писатель должен все время его выверять, настраивать , очищать от легкости и "приблизительности". Быть может, это так потому, что создан он был элитой, но очень скоро попал в руки "неэлиты", того, что Солженицын называет "образованщиной". А тут этот, по Тургеневу, "великий, могучий и свободный" язык моментально "расстраивается", становится той же жижей, подделкой с нажатой педалью, что звучит, например, в стихах Надсона да даже – что греха таить – иногда у Блока. Эта опасность существует, конечно, во всех языках, но в большинстве из них она опознается , ибо им присуща иерархичность, организованность. С русским же языком плохо то, что подавляющее большинство русских распознать этой подделки, пошлости, инфляции не способны, ибо сами говорят на такой вот "жиже". Точность, собранность, дисциплина, "выверение" – не русские качества, и это отражается и в языке. Поэтому всякая русская газета (по природе своей "спешная") – мучение для читателя. Всякий "естество свое на вопль понуждает", и не только на вопль, но и на декламацию, риторику. Поэтому, при полной искренности (ох уж эта русская искренность!), все звучит фальшиво… Вот из о.Дудко (героя, исповедника, все что угодно, но, Боже мой, до чего плохого "писаки"!): "Господи, помоги всем коснувшимся или прислушивающимся к невыносимому стону русских мучеников – быть стойкими, как они…" Не говоря уже о том, что ни на одном языке нельзя себе представить такой грамматической "приблизительности" (если "коснувшимся" – то стона , а не "к стону", и т.д.), все в этой фразе "шокирует": "невыносимый стон мучеников", "касание его", это "журнальное" обращение к Господу и т.д. Но главное – это безостановочно нажатая педаль, сплошная "лирика". "Тысячелетие крещения на Руси (?) должно же значить (?), что не напрасно (?) святой апостол Андрей Первозванный водрузил на киевских горах крест – символ будущего воскресения (?)". "Еще немного осталось, совсем немного (?), когда во всеуслышанье и по слову праведника – преп. Серафима Саровского – запоют на Руси Пасху – Христос воскресе!"
Все это было бы недостойной придиркой к человеку, к людям, у которых – и я пишу это вполне искренне – недостоин развязать ремней обуви, если бы не глубокое убеждение, что слова, слово – не только бесконечно важны, но и являют глубокую, прикровенную сущность . Вот такими, приблизительно, "громогласными" словами всегда говорили и говорят, например, карловчане, и именно в них, в этих словах, раскрывается, как это ни странно, их ложь . "Мы – с Церковью мучеников" и т.д. В них уже – осуждение всех других, которые "не с мучениками". В них гордыня избранничества, особого пути, максимализма и т.д.
Как только молчавшая столько десятилетий Россия начинает говорить, она захлебывается в декламации. И это – и о.Дудко с о.Глебом [Якуниным], и диссиденты (в том же номере длинная статья какого-то новоприбывшего о журнале "Гнозис": "…рассказ… "Приход" открывает неизведанные области
психологической несовместимости душевных пространств, заставляя задуматься над нашей тайной, раскрывая (приоткрывая) нам самих себя в период, когда мы находимся как бы во "взвешенном" состоянии…"), и "талантливая литературная молодежь в поисках своего творческого поля" (из той же статьи).
Но декламация – и в том-то и все дело – всегда плохой признак, дурной симптом. Она всегда прикрывает, "заговаривает" отсутствие чего-то: подлинной глубины, подлинного опыта. Вспоминаются слова Лермонтова в "Герое нашего времени": "…не русская это храбрость…" Самая же опасная из всех "декламаций" – религиозная. А потому и проверка языка должна была бы стоять на первом месте. Увы, даже и это звучит "декламацией"…
Суббота, 23 февраля 1980
Первая субботняя Литургия, с детства как-то особенно любимая. И уже такое чувство весны в сыром, мягком воздухе, в черных, оттаивающих от вчерашнего снега стволах.
Вчера вечером по телевидению – зимняя Олимпиада в Lake Placid. Американская победа над непобедимой русской командой hockey
[1305]. Невероятный восторг во всей Америке. Следили с Л. с замирающими сердцами. Меня всегда восхищает эта победа человека над "плотью". Спорт – это последняя реальность
homo ludens[1306]. Как и в 1976 году, это ежевечернее любование конькобежцами, лыжниками и т.д. По-настоящему
очищает . И еще более страшными, низкими кажутся все время вкрапливаемые в фильм рекламы.
Воскресенье, 24 февраля 1980
Один дома. Л. уехала на три дня, по делам школы, в Колорадо. За окнами уже почти совсем весенний день, и из-за этой мягкости, сырости, робкого солнца – одолевает лень, между тем как на столе несусветная куча начатых и всегда спешных работ…
Сегодня утром разговор с Л. о наших – "респективных"
[1307] – школах. При всем различии между ними и в одной, и в другой – всегдашнее
напряжение , дела, заседания, проекты, так что все сталкиваются, спешат, не успевают – и профессора, и студенты. Это – Америка. Вспоминаю мой [французский лицей] Lyceйe Carnot. В нем царила всегда какая-то непобедимая неподвижность, рутина, отсутствовал всякий "активизм". Было ли это плохо в сравнении с американской школой, всегда расплавленной, с постоянными events и projects
[1308], с беспрерывными обсуждениями, совещаниями, с навязчивым общением? В том, что касается меня, то я совсем в этом не уверен. Если целью и единственным назначением школы считать ученье,
образование , то мой лицей это делал очень хорошо и, главное, без всякой лишней суеты. Не было этой постоянной "проблематики" – как "подходить к детям", к "молодежи". Школа не претендовала быть "всем" и не волновалась, главное, доволен ли я, счастлив ли и т.д. Не вторгалась в мою личную жизнь, не звала меня никуда, не выдавала себя за
жизнь . Да, в ней царила, несомненно, некая доброкачественная скука, казенщина, равнодушие. Но вот главное – она делала свое дело и требовала от меня, чтобы я делал свое. В семинарии, да и в Spence все время какие-то драмы, проблемы, словно все время нажата педаль. Все всё время болезненно "отнесены" друг к другу, все всё время заняты всем. И ученики "с жиру бесятся" и придают себе, каждому своему настроению невероятное значение. Хотел бы я увидеть себя приходящим к Mr. Jarno обсудить мой "potential"
[1309] и мои "frustrations"
[1310]… А теперь я вспоминаю и эту скуку, и тусклые классы, желтые стены, не залепленные, как здесь, promising
[1311] мазней учеников, и этот холодок, а вместе с тем признание за каждым его жизни, вспоминаю все это с благодарностью. Все было серьезно, без болтовни и без риторики, без того инфантилизма, которым пронизана любая американская школа. "Это похоже на тюрьму". Нет, это похоже на школу, в которой никто не обсуждает "проблемы" – нужно ли учить Корнеля и Расина, историю и географию… Здесь я ставлю пятерку с минусом, и студент приходит "to find out"
[1312], в чем дело. Там, получив за сочинение какие-нибудь 13% из 20, мы испытывали гордость, знали, что "недаром".
Но, может быть, все это мое чувство. Может быть, другим не было так хорошо в этом "холодке", в этой скуке, не мешавшей быть занятым своей "мечтой", сохранявшей неприкосновенной внутреннюю жизнь, не навязывавшей мне совершенно ненужных волнений. Зато сколько маленьких и, однако, на всю жизнь запомнившихся праздников, минут блаженства, каждый день ! Выйти из лицея в четыре часа дня – будь то осенью, зимой или весной, будь то в дождливый парижский день или на весеннее солнце, идти по rue Legendre домой, в уличной суматохе, глядеть на все те же парижские крыши, всем существом ощущать свободу, молодость, буквально "отдаваться"" им… Какое это было блаженное и счастливое время. И у меня чувство, что этого блаженства просто как-то не способна испытывать современная молодежь, и не способна потому как раз, что не знала она с детского сада рутины, формы, ритма, не знала никакого "закала"…
Только что смотрел по телевизии награждение победителей hockey, американцев, медалями. Неописуемый восторг толпы – словно победили в мировой войне… Американский гимн поет вся толпа… Простые, "жалкие" лица русских: их никто никогда еще не побеждал…
Вторник, 26 февраля 1980
Понедельник и вторник – два моих "семинарских" дня, переполненных до отказа. Сквозь них нужно, так сказать, пройти "сжав зубы". Одно утешение – лекции, где могу говорить не только даже о главном , а об "едином на потребу".
Пятница, 29 февраля 1980
Я чувствую иногда (сегодня, например) страшную душевную усталость. И я хотел бы разобраться в ней, потому что усталость эта так очевидно связана с "церковью", с "религией". Что это – то уныние, та духовная опустошенность, которая связана с недостатком (точнее – почти полным отсутствием) молитвы, с ленью, с распущенностью? Или же, вдобавок ко всему этому, также и что-то другое? Сегодня, например, причиной очередного припадка такого уныния оказался какой-то случайный очередной православный журнальчик с неизбежными статейками о "духовности". Мне стало мучительно сидеть в своем кабинете в семинарии, быть свидетелем и участником какой-то церковно-религиозной каши, в которой – так мне, во всяком случае, ощущается – приходится жить… Мне все кажется, что все заняты не тем , говорят не о том , интересуются и живут ненужным, неважным. Однако что нужно – я не могу сказать даже сам себе, не знаю . Я хотел бы знать, что делали в будни, ежедневно, с утра до вечера первые христиане, не имевшие еще "церковных дел", "богословия", устава, споров о древних иконах и напевах и многотомной литературы о "духовности". Что значило для них и в их жизни – жить верой ? Я стал священником в двадцать пять лет, потому что мне было очевидно (без всякого раздумья и углубления и проверки), что ничего интереснее на свете нету. Я об этом мечтал, именно мечтал на парте лицея, на танцульках, почти всегда это было для меня "инобытием", тайным сокровищем сердца. А теперь я чувствую себя – и как часто! – как тот чеховский герой, который во имя какого-то "высокого дела" (революции, борьбы за свободу) поступил в лакеи, чтобы за кем-то следить, что-то узнавать, одним словом – служить , и вот постепенно не то что разочаровался в этом "служении", а как-то выпал из него. Ощутил его как ненужное, как не то . Его потянуло на простую жизнь, на просто жизнь. И вот у меня такое чувство, что я живу в безостановочной "риторике", в искусственности… Что всем этим прикрывается, в сущности, все та же мелочность, самолюбие и т.д. и где все это тем более сильно, что все время выдается как раз за служение… Иногда такое чувство, что тот детский и "мечтательный" опыт инобытия , который привел меня к служению , теперь этим самым служением больше всего и затемняется.
В среду полуторачасовая встреча в кафе на [вокзале] Grand Central Station с некими Чудновскими, отцом и сыном. Евреи, диссиденты, друзья Сахарова, ученые (сын – математик в Колумбийском университете). Просят меня "упросить" Солженицына выступить в защиту Сахарова. Впечатление об обоих – такое светлое и чистое, что потом долго хорошо на душе. Встреча – с людьми …
Случайно прочел в номере 129-м "Вестника" отрывки из дневника о.С.Булгакова. Эвакуация из России, первые "беженские" недели в Константинополе. В центре всего – его "соблазн Римом", решение стать католиком. Убийственная характеристика восточного Православия. Немножко коробит эмоциональность тона…
Во вторник вечером почти пять часов в Нью-Йорке с митрополитом Феодосием. Удовольствие от его простоты. Ничего из себя не корчит. По-детски радуется жизни и своему "митрополитству". Но именно по-детски. Может быть, именно
евангельского "будьте как дети" больше всего не хватает современному христианству и Православию. Все в нем так тяжеловесно, все обросло "проблемами", по всем поводам нужно цитировать "авторитеты".
Суббота, 1 марта 1980
Март: "весенний, грустный, ранний" (откуда? не знаю). А у нас "мороз и солнце"
[1313] и дикий холод.
Америка все глубже погружается в свою предвыборную одержимость. Какую непонятную, стихийную силу порождает политика и, особенно, демократия. Во Франции вот уже два года, как все – в политике – подчинено президентским выборам, до которых еще целый год! В Америке, где срок президента всего четыре года, два уходит опять-таки на выборы, на "кампанию". По-видимому, похоть власти действительно обладает огромной – и для меня совершенно непонятной – силой.
Письмо от Мани из Москвы – о Сереже, который после периода возбуждения от новизны находится в состоянии бешенства на все "советское". Л. и Аня получили визы и едут в Москву 15 марта…
Сегодня в газете внушительный перечень турецких дипломатов, убитых в последнее время армянскими террористами. А также список четырнадцати посольств, занятых – с заложниками – всевозможными guerillas
[1314]. Все в мире заняты все больше и больше только
своим . И все во имя
своего убивают, убивают и убивают. И всюду – "освобождение", "справедливость" и "месть". Мир впадает в какое-то племенное состояние. А ученые историки с марксистским уклоном преспокойно применяют ко всему в мире свои "законы исторического развития". В мире рушится и распадается постепенно все то, что так или иначе соединяет людей, кроме одного – национализма: кровного, слепого, дикого. Православные ливанцы вдруг с невероятной силой осознали себя "арабами" и т.д. Из христианства, из Православия во всяком случае, исчезают последние "приметы" вселенскости. Левая интеллигенция – в Америке, в Европе – служит последнему своему "богу" – третьему миру, не видя, не желая видеть, что и он движим исключительно своим первобытным
национализмом , то есть опять
своим , только своим. Мой вопрос: возможно ли еще говорить о вселенскости Православия? И если говорить, то
кому ? Une cause perdue
[1315]. А вместе с тем без своего "сверхнационализма", то есть без чувства несводимости Церкви к "национальному", христианство уже не христианство… Неужели никто не видит
безумия , заливающего мир?
Воскресенье, 2 марта 1980
Сегодня – Литургия с крещением маленькой Димитры М. Всю службу – радость и подъем…
В общем же немножко смешно: Солженицын – мне : "Да порвите же наконец с Максимовым…" Максимов – мне : "Да объясните же наконец Солженицыну…" Литвинов, Чалидзе и К° – мне : "Как Вы можете – с Максимовым и Солженицыным…" Но что же делать, если этого рода целостность – партийная, лагерная – мне не дана и противна. Абсолютная верность нужна, необходима – только по отношению ко Христу. Это свобода не от мира, а в мире…
Понедельник, 3 марта 1980
Из Сережиного письма о поездке в Троице-Сергиеву Лавру: "…I must say that the бабы are a bit vexing. They are an incredibly primitive and barbaric species, somewhat reminiscent of Zulu women, but unfortunately closely involved with our much suffering Church here. They are all over, muttering, haggling with each other, pushing, shoving and squealing in inhuman voices. But all this is un-Christian…"
[1316]. Однако именно в этих "бабах" многие, если не все, видят "залог религиозного возрождения" в России и России, опору и критерий Православия. И в том, пожалуй, и трагедия, что они – действительно
опора и действительно критерий… Даже наши "интеллигенты" если обращаются, то обращаются обычно именно в это Православие, в загадочно привлекательную "ферапонтовщину"…
Среда, 5 марта 1980
Кругом только и слышишь, что о молениях о духовном возрождении России и об исповедниках веры, о готовящейся голодовке перед Объединенными Нациями и т.д. И я все стараюсь понять, почему все это меня внутренне отталкивает. Чувствую (хотя и сам себе не могу чувства этого уяснить), что все это "не к лицу христианам", "по стихиям мира сего, а не по Христу". А может быть, это мой скепсис: что значит "молиться о духовном возрождении России"? На что именно направлена такая молитва? Что в словосочетании этом подразумевается под словом "Россия"? Кратко – о чем нам молиться? И почему голодовка? Не знаю, но все это мутно, неясно, духовно двусмысленно. И мученики могут стать предметом болтовни и, главное, самодовольства…
Уж раз разыгралась желчь… Как мучителен этот "церковный" язык, на котором нужно говорить в Церкви, тон, стиль, повадка. Все условно, полное отсутствие простого, человеческого языка. С каким вздохом облегчения уезжаешь из этого мира ряс, чмоканья рук и церковных сплетен. Только отъехал – и вдруг видишь: мокрые, голые ветки, туман, в котором исчезают поля, деревья, дома. Небо. Наступающие сумерки. И все это говорит какую-то невероятно простую правду.
На днях мне кто-то кого-то процитировал: "Мистика и аскетизм несовместимы" (или что-то в этом роде, но именно это), и я несколько раз задумывался об этом. Тут что-то есть, о чем можно задуматься. "Аскет" – и, может быть, дело как раз в этом – вот той
правды , о которой я только что писал (неба, мокрых веток, туманных сумерек и т.д.), не видит или, вернее, не хочет видеть, отталкивает от себя как нечто "чувственное". Аскет прежде всего
закрывает глаза, слух, то есть все чувства, и
борется с ними… "Мистик" – это тот, кто это
видит , для которого все чувства – общение с Богом (в идеале). Что христианство – "аскетично" или "мистично"? Евангелие: "Смотрите на полевые лилии… (которые) Бог так одевает…"
[1317]. Церковь. Таинства. Слава. Благолепие. И т.д. Выходит так, что
мистично . А Крест ("крестом я распят для мира и мир для меня"
2 )? Но "распят" не значит
отвергнут … И т.д. Все это очень сложно, ибо, с одной стороны, мистицизм требует очищения и проверки (аскетизм), а аскет "аскетствует" для Бога, чтобы прорваться к Нему сквозь
плоть . И все же тут возможны, очевидны два различных
ударения … Где-то аскетизм перестает быть христианским (именно люди этого направления не "чувствуют" таинств, Церкви, их тянет на ригоризм). Где-то, конечно, и мистицизм – двусмыслен, становится именно "чувственным". Но из христианства все же не выкинуть "чувств" (в смысле "пяти чувств"), как не выкинуть из него аскетизма, то есть, попросту говоря, борьбы с собой.
Четверг, 6 марта 1980
Все та же тусклая, греховно-низкая полоса. "Без божества, без вдохновенья…"
[1318]. И ничего не хочется делать, и все откладываешь… Чувствую в себе полное отсутствие
подвига, усилия, собранности , не говоря уже о молитве.
Разговор сегодня по телефону с Андреем. Маме хуже, она совсем плохо видит, плохо соображает, с трудом говорит. Боже мой, как это грустно… Не смерть, а это угасание жизни, заживо – тление…
Пишу скрипты. Пишу
умом . И ум согласен. Но как часто несогласно
сердце . "Lе coeur a ses raisons que la raison ne connait pas"
[1319]. Мне иногда кажется, что у меня наоборот. Верит, и радуется вере, и согласен с верой мой ум. "Сер-
Пятница, 7 марта 1980
Биография Е.Е.Cummmgs'a. Читаю и спрашиваю себя, как когда-то спрашивал себя, читая книги о сюрреалистах, дадаистах, футуристах и всяческих "модернистах": в чем их "движущая сила"? Вот Каммингс пишет своей сестре и исповедует свое кредо:
разрушение (то есть искусство для него – прежде всего разрушение "прежнего") и дальше утверждение: "всё – секс" (удар по голове Фрейдом). Насколько я себя помню, никогда не чувствовал я этой жажды – во что бы то ни стало
разрыва с прошлым, обязательного, радикального
противостояния ему, хотя всегда – и очень рано – чувствовал его давление, и это значит – необходимость переоценок, освобождения от идолопоклонства прошлого, чувствовал наличие конфликта. Непонятен мне, таким образом, радикализм, желание, и страстное, все поставить "вверх дном". Тут очевидна – глупость. И всегда получается новое порабощение – Фрейду, Марксу… Один из друзей Каммингса бросает все, переезжает в Вену, чтобы быть "ближе к Фрейду"… И вот – разрушенные жизни, кабацкое "освобождение" и сплошная душевная "изжога". Приходит тяжелая пора, и читают люди не Хлебникова и не Крученых, а Ахматову, Пастернака. Модернизм – это, однако, явление
духовное , то есть укоренено в каком-то глубоком духовном искривлении… Недаром ключом к искусству (словесному) Каммингс считал
глагол , то есть то, что выражает движение, жизнь, то, что он называл "is"
[1320]. Это восстание против "статики", но восстание внутренне пустое, ибо "is" без отнесенности к, с одной стороны,
кто (who is…), а с другой – к
что (is what…) остается пустым. В пределе, как
слово , оно (is) призвано исчезнуть, как в арамейском и отчасти в русском языках. "Сие – Тело Мое" (а богословы веками толкуют о слове ("есть"), которого Христос, по всей вероятности, не произнес). Но исчезает "есть" (is) потому, что входит как жизнь, как самораскрытие, как исполнение и в
кто или
что (кто
есть , что
есть ?}, и в
что второе: что (кто) – есть что (кто). Модернизм, таким образом, есть
только "есть", и даже больше – отрицание и субъекта (кто), и предиката (что). В пределе – бессмыслица и – что хуже – разложение самого
есть . Можно сказать еще и так: в консерватизме
есть ничего не являет и не исполняет, не "животворит". В модернизме
есть разлагает то, что призвано оно "являть", ибо являет только само себя: "движение движения…" Бог есть предельное, абсолютное совпадение
кто (Аз),
есть (Есмь),
что (Сущий). Судья – и консерватизма, и модернизма, и одновременно – ответ на заключенный в них, их вечно порождающий
вопрос.
Воскресенье, 9 марта 1980
Субботу провел в Луисвилле, Кентукки, с целодневными лекциями и вопросами-ответами. Литургия с нашими alumni
[1321], разговоры. Устал очень, но и доволен днем: сознание, что делаю то, к чему призван…
Комедия в Иране продолжается. Студенты (!) опять отказались передать заложников правительству. Аятолла молчит, все остальные кричат. Мир "надеется". Так ясно, что правительство бессильно и что вся эта "исламская революция" – кровавый балаган и чепуха.
Крестопоклонная. Торжественная Литургия в семинарии. Изумительный весенний день.
Понедельник, 10 марта 1980
Вчера целый день "ничегонеделанья", dolce faraiente. Чтение воскресной "Нью-Йорк таймс", "созерцание мира" – его суеты, страстей, путаницы. Путаницы, не рассеиваемой, а углубляемой бесконечными объяснениями и анализами всевозможных "экспертов" и "специалистов". Все эти объяснения потому ничего и не объясняют, что в них отсутствует главное или, вернее, ссылка на отсутствие в мире главного: общего, единого ощущения, понимания самого мира, самой жизни. Соловьев шутил: "Все в этом мире – только связь трансцендентальных предпосылок…"
[1322]. Однако шутка эта есть совершеннейшая правда. В современном мире этой связи нет. Его от нее "освободили". Освободили якобы для того, чтобы сделать человека наконец хозяином собственной судьбы ("никто не даст нам избавленья – ни Бог, ни царь и ни герой…"
[1323]). Но этот освобожденный человек никакой "судьбы" не знает, ни своей, ни чужой, и оказывается еще большим рабом. Рабом прежде всего всевозможных эгоизмов: личного, национального, расового… Зачем корсиканцам или баскам независимость? Чтобы быть
собой . Но что значит быть
собой ? Вот этого-то никто, абсолютно никто не знает. Поэтому никто и не становится "собой", а, "освободившись", немедленно порабощает себя чему-то другому -социализму, национализму и т.д. Одни еще "борются за существование", и к их услугам марксизм. Другие – американцы и вообще "белые" – борются за право на порнографию, и к их услугам либерализм, борьба за "права личности", причем саму-то личность уж никто давно не может определить. Все идет под знаком
борьбы за что-то, имеющее быть осуществимым, но никогда не осуществляемое, ибо неизвестное и неопределимое ("быть собой"). Потеряв
Бога , отвергнув
Его – человечество и в целом, и в "личности" живет одним всеобъемлющим
оборотом на
себя : эгоизмом в буквальном смысле этого слова. А так как жить собой невозможно, есть reductio ad absurdum
[1324] жизни, которая только потому и жизнь, что живет
другим , то эгоизму приходится все время выдумывать опасности за
себя и
себе , "другое" отождествлять с
врагом , а жизнь с
борьбой.
Вторник, 11 марта 1980
Мое главное и постоянное ощущение – это ощущение
жизни . В словах это очень трудно выразить. Может быть, ближе всего к этому ощущению слово "удивление", восприятие каждого момента и каждого состояния как некоего
дара (в отличие от "само собою разумеющегося", "самоочевидного"). Все всегда
ново , все всегда есть не просто жизнь, а встреча с жизнью и потому как бы откровение… Пишу и сознаю, что это не те слова, но других не нахожу. Знаю только, что этот дар, что это откровение требуют внимания, ответа. Что жизнь, иными словами, есть постоянное "приятие" дара жизни… Может быть, все так чувствуют. Но мне иногда кажется, что нет. Что масса людей, может, даже – подавляющее большинство,
живут, не замечая жизни . Она для них как бы нейтральная, безличная "рама" их самих, "субстрат", но не встреча, не дар. Они ее не видят, как не видим мы зеркало, когда глядимся на себя в нем. Как в зеркале мы видим себя, но не зеркало, так и в жизни можно (и даже очень легко) не увидеть жизни. Или по-другому: она – прозрачный мешок, наполняемый мною: моей деятельностью, заботами, интересами и т.д. Иногда наполнение это дает ощущение "жизни" ("жизнь бьет ключом"), иногда – в минуты ясновидения – почти отчаяния ("дар случайный, дар напрасный…"
[1325]). Думал об этом, читая вчера "на сон грядущий" биографию Каммингса и в ней его стихотворение:
wherelings whenlings
(daughters of if but offsprings of hopefear)
(sons of unless and children of almost)
never shall guess the dimension of
him whose
each
foot likes the
here of this earth
whose both
eyes
love
Это как раз о "жизни". И это, по-моему, неизмеримо ближе к тому, о чем вера, религия, чем богословские книги, которыми завален мой стол (подготовка к лекции о "чинах хиротонии" (!).
Среда. 12 марта 1980
Если продолжить вчерашнее размышление, то не приводит ли оно к восприятию и
смерти как дара, то есть опять-таки как
встречи , как последней, решающей встречи с тем, что одно, в конечном счете, "животворило" жизнь, открывалось в ней, делало ее
даром . "Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение"
[1327], – говорит апостол Павел. Да, если жизнь становится, и в ту меру, в какую она становится, – Христом, если Он есть тот дар, в который все время претворяется жизнь, то тогда смерть есть
приобретение , благословенное условие того
лицом к лицу , жажда которого и есть жизнь в "мире сем". Страх, ужас смерти, думается мне, сосредоточен на одном: "Все будет продолжаться, а
меня не будет… Так же будет светить солнце, так же будут бежать люди по своим делам, а меня
не будет ". "Вкушая вкусих мало меда… и се, аз умираю…"
[1328]. Именно это чувство порождает страх и ужас, и именно ему не помогает "вера в загробный мир". Уж тогда – так думает, так ощущает человек – лучше, чтоб
ничего … И ему не помогают, его не "утешают" сладкие строки о "блаженстве безгрешных духов"
[1329]. Он хочет только того блаженства, которое он знает, а оно только
тут , в опыте этой жизни. Свою вечность мы находим только тут. И христианство утверждает, что находим мы ее во Христе. Он для того пришел к нам, в
эту жизнь, чтобы она стала встречей с Ним и в этой встрече заложенной жаждой последнего исполнения, последней встречи с Ним – в смерти. Она становится "приобретением"… Отсюда – самоочевидность
условия : "Если любите Меня…"
[1330]. Любить же нельзя ни "учения", ни "заповедей", ни "обещаний". Любить можно, только если есть
встреча , если Христос стал "даром" всего в жизни.
Пятница, 14 марта 1980
Снежная буря над Нью-Йорком, и, как всегда, первые часы ее необыкновенно красивы. Легкость, красота падающего снега, торжественная неподвижность уже упавшего.
Воскресенье, 16 марта 1980
В пятницу вечером проводил Л. и Аню в Москву! Необычность одиночества. Я буквально не знаю, что с собою делать. Сильное чувство
отсутствия , его бремени. Вот уж действительно "
нехорошо быть человеку одному…"
[1331].
Вчера поездка в Филадельфию, сегодня в Вилмингтон.
Мой
главный грех: я ни в чем себе не отказываю. Может быть, по сравнению с другими, мне не так уж много
хочется (в отличие от нравственного, волевого – "
я хочу "). Но зато этому "хочется" я совсем не оказываю никакого сопротивления. И когда я это осознаю, мне становится страшно: полное отсутствие борьбы, той "невидимой брани", о которой столько говорится в духовной литературе… Страшно же становится потому, что одновременно осознаешь силу присущего мне
самообмана . Я убедил себя, что я не только хочу, но и мне
хочется неизменно светлого, хорошего, радостного (все-де по принципу: "где сокровище ваше, там и сердце ваше"). И этим как бы "снял" конфликт между
хочу и
хочется . А это конфликт, приводивший в отчаяние даже апостола Павла: "…потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю…‹…› …знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого
хочу , не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. ‹…› Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?"
[1332]Среда, 19 марта 1980
Странное, непривычное сочетание эти дни двойного опыта – страшной занятости и одиночества. Вот уж правда: "un seul etre vous manque, et tout est depeuple"
[1333].
Пятница, 21 марта 1980
В аэроплане над Америкой, на пути в Сиэтл и затем завтра – на Аляску…
В среду читал – с волнением – второй диалог Сартра в "Nouvel Observateur" – об его отречении от марксизма, от "левацкого", его настойчивые повторения: первично в жизни братство и т.д. А вчера, ужиная у Connie Tarasar, узнал по телевидению, что он при смерти, в Париже. Мало кто во французской "интеллигенции" меня так раздражал, как Сартр. Но есть своеобразное величие в этом (иначе не назовешь) раскаянии: "Нет, я так больше не думаю", "Я ошибался".
Американская предвыборная кампания. Победы, все время, Картера и Рейгана. Ужас "Нью-Йорк таймс": такие, казалось бы, ничтожества, примитивы… А вот, думается мне, голосуя за них, люди голосуют за что-то твердое , неизменное, вечное – что оба эти "ничтожества" представляют, в отличие от "блеска" и, главное, "современности". На наших глазах разоблачается дешевка "либерализма", "новизны", "риторики", сочетаемых неизменно с оппортунизмом. Из-за нечувствия этого садятся в калошу "эксперты"… В Картере и Рейгане, сколько ни были бы они "ничтожны", "провинциальны" и т.д., что-то "просвечивает". В Андерсоне, Буше, Кеннеди ничего, кроме самодовольства: "Смотрите, какой я умный и честный". И этот "инстинкт" людей примиряет (относительно) с демократией.
Как раздражительно фальшива вся современная тема "молодежи" как носительницы спасения. Пишу это и думаю: а не старческое ли это уже брюзжание? Но нет, потому что ни о чем не вспоминаю я с таким – буквально – стыдом, как о том времени, когда я сам числился в "молодежи". Стыд за всезнайство, за душевное нахальство, за недостаток уважения – список можно было бы продолжить. А ведь по сравнению с теперешними длинноволосыми, с их надрывным "обличением" – мы были воплощением смирения! В "молодежи" – как этого не замечают психологи? – масса рабства, идолопоклонничества, подчинения моде. И даже действительно присущий ей идеализм неотрываем от ее нарциссизма. Думаю об этом, прочитав в "Time" эссе об ageism (современное презрение к старости).
Воскресенье, 23 марта 1980
Анкоридж (Аляска). В пятницу бурное после-обеда в Сиэтле, у Дерюгиных. Сначала визит молодого слависта, пишущего диссертацию о Шестове: по-моему – умного и проницательного (Шестов – не религиозный мыслитель). Потом – акафист (Похвала Богородицы) в Св.-Спиридоновском соборе. Был рад не пропустить этой любимой с детства службы, хотя бы и в почти пустом храме. Вечерний луч на иконостасе – и минутное ощущение полноты… Потом бесконечный, изнурительный вечер у Дерюгиных: человек двадцать "новообращенных" в Православие с присущей им взвинченностью, максимализмом, "требованиями", обращенными к Православию, – быть "совершенным" (что одно уже выдает непереваренное западничество). Короткий контакт (в подвале) с милейшим и умнейшим профессором Treadgold'oM. Лег – по нью-йоркскому времени – в три часа утра!
Утром в субботу, в восемь часов утра (!), скучнейший завтрак с американскими родителями одного из наших студентов. В одиннадцать утра – отлет на Аляску. В аэроплане начал читать сборник статей Исайи Берлина "Against the Current"
[1334]. Умно и "питательно".
В Анкоридже на аэродроме – владыка Григорий, оо. Н[иколай] Харрис, М[айкл] Олекса и толпа алеутов с детьми. Тут же в толпе – поют кондак преп. Герману, подходят под благословение. Неожиданность, непривычность всего этого. Длинные разговоры с духовенством. Вечером чудная всенощная в переполненной церкви. Опять – умиление алеутскими детьми (их масса!), чувство чего-то подлинного, глубоко отличного от американской "религиозности", даже православной…
Сегодня утром такая же – радостная, полная – Литургия. Проповедовал вчера и сегодня. Потом трапеза, подарки, детскость этих людей, бесконечно трогательная.
После обеда ездили в индейский православный поселок за тридцать миль. Солнце. Снежные горы. Тающий среди берез и сосен снег. И эта древняя часовня…
Понедельник, 24 марта 1980
Кадьяк . Третий приезд сюда. С аэродрома поехали прямо к раке мощей преп. Германа. Приветственные речи владыки Григория и о. И[осифа] Креты. Радостные объятия: Боб и Сюзи Арида, Пост ван Россам, о.Иннокентий Фринцко… В воздухе, однако, волнение, ибо школа, очевидно, в кризисе и мой приезд для Креты и его партии нечто вроде "пренеприятного известия" из гоголевского "Ревизора". С епископом Григорием я имел длинный разговор в Анкоридже. Увидим… Все ждут чего-то от меня. Итак – увидим. Помолился преп. Герману о помощи в этой "дипломатии".
Сегодня утром – полет на маленьком, четырехместном аэроплане в горы. На горизонте ослепительно белая гора МакКинли. Летим над ледником – поразительно голубым. Величие этой природы… Потом снизились (аэроплан на лыжах) на маленьком озере, где у нашего пилота домик. Там нас ждал чудный завтрак. Тишина, заснеженные сосны, далекое серо-голубое небо. Совсем другой мир.
Вторник, 25 марта 1980
Кадьяк . Утром разговор с епископом Григорием и о. И. Кретой о сотрудничестве семинарий. Что-то уж слишком быстро со всем соглашаются… Двухчасовая лекция о Страстной седмице. Завтрак. Интервью с местным журналистом. Поездка с Бобом [Арида] и его женой [Сьюзен], о. М[айклом] Олексой и Иостом [ван Россамом] по острову. Грандиозный, великолепный, "славословный" вид на море, совершенно белые горы и Spruce Island… "Исполнь славы Твоея…" Поразительно. Опять разговор с епископом и Кретой. Ужин у Арид – как в семье. Иду на вечерню, а потом вторая двухчасовая лекция – о Евхаристии… Начинаю чувствовать усталость…
После вечерни, но до лекции. Стоял в церкви – слушал те же напевы, что в детстве слушал на гае Dam, на Подворье, в Кламаре, потом в семинарии, а вот теперь здесь, то есть на Кадьяке, то есть Бог знает где! Молодые священники произносят – и так же, тем же напевом – те же слова. Вечность и радость Церкви. Неиссякаемый источник. Присутствие… Ведь вот казалось – кончилась православная Аляска. И оживает! Двадцать священников. Молодежь, поющая в хоре. "Не оставлю вас сиры. Приду к вам…"
[1335]. Да, конечно, и те же интрижки, та же поповщина. Но что это все по сравнению с
чудом этого "николиже стареет, но вечно юнеется…"?
Через пять дней – возвращение Л. Кажется, никогда так долго не шли дни…
В сущности, это мы, люди, мешаем друг другу быть "хорошими", то есть жить тем "добро зело", которое заложено в каждом. Мешаем недоверием, равнодушием, быстрым и злорадным установлением "дурного", судом и расправой. Но тут недостаточно одного "благожелательства", то есть все того же равнодушия. Нужна встреча , пускай даже внешне ни в чем не выраженная… Итак – на лекцию…
Среда, 26 марта 1980
Кадьяк . Ослепительное утро. Синие главы церкви на фоне снежных гор. Синее взморье… Вчера вечером – лекция о Евхаристии. Полный зал. Католики, протестанты… Вечером сиденье с владыкой и другими. Как быстро "сживаешься" с людьми, начинаешь чувствовать их жизнь. И сразу же спадает та "самозащита", которой почти всегда все обращены ко всем… "Сияющие" личности: милый, старый уже, Фринцко, теперь – архимандрит Иннокентий… Старенький алеут о. Ха-ритон [Кайакоконок], ростом с десятилетнего мальчика (сунувший мне в руку двести долларов – "на покрытие расходов"!). Алеутские дети.
Двухчасовая беседа со священниками (их – двенадцать). Потом исповедь. Преждеосвященная Литургия. Приходская, прощальная трапеза. До этого прошелся по городу, по порту. Почти мороз, но ясно. Огромные чайки, а иногда - столь же огромные орлы. Лес мачт рыболовных судов. А рядом, и также на горизонте, снежные горы. Почему я так люблю эти погружения в чужие города, почти страстный интерес к витринам, к окнам: "вот тут живут – годами, поколениями – люди…" Меня как-то радостно волнует
жизнь , сам факт жизни. И волнение усиливается сознанием кратковременности, мимолетности этого погружения, вплетенного в него чувства разлуки, прощания, всего того, что выражено в любимом стихотворении Малларме: "…je sens que les oiseaux sont ivres"
[1336] и т.д. Жизнь есть прежде всего
отрицание смерти, и жизнь пронизана смертью…
Во время службы не могу оторвать глаз от алеутских детей – с толстыми щеками и узкими черными раскосыми глазами. В особенности одна девочка – не больше трех лет, вся круглая, миниатюрная, бодро поднимающаяся по ступенькам к чаше. Смирение и добро, излучаемые алеутами. Точно я всю жизнь прожил с ними. На них живая печать чего-то самого главного, "уникального" в Православии. Как они сохранили это? Иногда я ощущаю жизнь как какой-то поток подарков.
Лазарева суббота, 29 марта 1980
Наконец дома! Вернулся вчера поздно вечером после бесконечного полета. От Аляски осталось чувство счастья, света, братства. С Кадьяка вылетели – и опять в солнечную, радостную погоду, в четверг в 4:30. В Анкоридже вечером ужин с владыкой Григорием. В час ночи – отлет в Сиэтл, куда (из-за разницы во времени) прилетел в шесть часов утра. В 12:30 отлет в Нью-Йорк, в 8:30 вечера – в Нью-Йорке! Сегодня чудная Лазарева служба в переполненной семинарской церкви. Серенький день, мелкий дождик. И счастье – быть дома, в тишине… Теперь начался countdown
[1337] до возвращения Льяны – в понедельник!!! Сейчас буду ей звонить в Париж.
Вербное воскресенье, 30 марта 1980
Вчера – потрясающая всенощная, иначе не скажешь. Удивительный подъем, радость, торжественность – праздник в глубочайшем смысле этого слова. Так же и Литургия сегодня. Любимейший мой Апостол: "Радуйтесь, и паки реку – радуйтесь…" Удивительный праздник. Им – с детства – освещена вся жизнь…
Великий понедельник, 31 марта 1980
Последний день марта: мокрый снег, слякоть. Смогу ли доехать до [аэродрома] Kennedy, куда в три часа прилетают Л. и Аня? Вчера – последний день моего одиночества – оказался очень "светским": breakfast с К. Кухарчик в Bronxville, чай у Бутеневых в Scarsdale, потом час у Эриксонов, ужин, наконец, у Мейендорфов. Вечером – утреня с "Се Жених…" в до отказа переполненной церкви. Чудное пение.
В "New York Magazine" статья A.Schlezinger Jr. о либерализме и консерватизме, очень умная и, по-моему, в основном правильная. Смена их – своего рода биологический цикл: эпоха "активизма" сменяется эпохой "усталости". Но и то и другое – необходимо.
Другая статья – об аборте. С 1973, когда Верховный суд США "узаконил" аборт, в стране было произведено девять миллионов легальных абортов! Тут – суд над современностью и над ее "гуманизмом", верный указатель некоего мистического разложения.
Продолжаю читать номер "Вестника" об о. С. Булгакове. Все-таки это – "капризное" богословие, очень личное и в каком-то смысле "эмоциональное". И потому – вряд ли "останется". И это можно, мне кажется, распространить на почти всю "русскую религиозную мысль" – на Бердяева, Флоренского, не говоря уже о Розанове. Булгаков употребляет (как и Флоренский) сугубо православную терминологию, все у них какое-то "парчовое". А вместе с тем романтическое, почти субъективное. "Мое богословие…" Вот возьму и навяжу Православию "Софию", покажу всем, во что они на самом деле верят. И вот никому не навязали. И не потому, что "темные" люди, а потому, что это –
не нужно . Как не нужна и бердяевская свобода. И потому на всем этом легкий оттенок "epater la galerie"
[1338]. Тут все дело в изначальном, может быть, даже бессознательном,
выборе1 , темы, тональности, зрения. Всякая "ересь" от такого выбора есть всегда навязывание Церкви –
своего выбора. В булгаковском богословии нету
смирения . Чего бы он ни касался, он должен немедленно переделать это на свой лад, перекроить, объяснить по-своему. Он как бы никогда не "сливается" с Церковью, всегда чувствует
себя – не только в ней, но и по отношению к ней. Он ей, Церкви, объясняет
ее , говорит ей, что ей
нужно … И потому успех его богословия только у горсточки "интеллигентов", ибо интеллигент – это прежде всего гипертрофия
Я . Интеллигент может быть либо "булгаковцем" (
мое богословие), либо же "типиконщиком", который a priori в восторге и умилении от всякой стихиры, даже самой что ни на есть бездарной и многословно-риторической. Интеллигент – идолопоклонник. И если он перестает поклоняться Марксу, он обязательно находит нового идола, новый и абсолютный "ключ" ко всему. Как ни страшно это сказать, но булгаковское софианство – это марксизм наизнанку, это все тот же ключ, открывающий все двери…
Понедельник, 14 апреля 1980
За спиной – Страстная и Пасха: чудные, незаслуженно радостные, полные, "утоляющие"… Сегодня рано утром прилетели с Л. из Вермонта, где провели у Солженицыных два дня. Пожалуй, лучшая встреча из всех бывших. Как будто исчезли всякая напряженность, настороженность, "броня". Просто, дружески, семейно… Он сразу загрузил меня работой: читать рукопись В.Н.Тростникова (очень интересную, но, увы, еретическую…), свои главы из "Узлов". Бесконечные разговоры с Наташей и "бабулей". А в субботу вечером – в нашу честь – "концерт-подарок" трех мальчиков. Обедня – радостная, быстрая. От всего этого в душе остался свет, и тоже – чувство, несмотря на все, его величия …
С утомлением – заранее! – погрузился в семинарию. Еще пять недель, а чувство такое, что пять столетий. Как "выдыхаешься" за год!
Среда, 16 апреля 1980
Известие о смерти Сартра, "человека-эпонима" нашего времени. Этот страстный радикализм, эта путаница мыслей, этот культ "масс", "революций", "левого" – все это, в сущности и прежде всего, ужасно маленькое . Всю свою жизнь Сартр был рабом каких-то априорных идей и также совершенно несусветным болтуном . Но страшен не он сам по себе, а то. что такого человека наша эпоха сделала "властителем дум". Под конец (см. выше) он как будто начинал что-то понимать… Но и тут с какими-то оговорками. Какое самомнение, какая ненависть к Богу, какая ужасающая слепота во всем…
Величие Солженицына: он дает масштаб , и, проведя с ним один день, снова начинаешь ужасаться торжеству маленького в мире, слепоте, предвзятости и т.д.
Четверг, 17 апреля 1980
Вчера – сугубо "поповский" день. В полдень, после "Свободы", завтрак с епископом Петром (L'Huillier). Вечером ужин с митрополитом Феодосием, Губяком и Кишковским. "Церковные дела", "тактика" с греками и арабами и т.д.
В "Time" на прошлой неделе – статья о новой атаке "сексологов", на этот раз на последнее "taboo"
[1339] – incest (кровосмешение). Ничего-де нет плохого, если в семье происходят "сексуальные" сближения, прикосновения и пр. Наоборот, это нужно приветствовать как еще одно "освобождение", как дальнейшее расширение "прав" ("прав" прежде всего детей, которых в этих "правах" нужно во всем уравнять с взрослыми…). "Time" пишет с напускным негодованием, но именно и явно напускным… Устал повторять: разложение, и притом зловонное, нашей цивилизации. За абортом, гомосексуализмом и пр. теперь – кровосмешение… Эта цивилизация
не может выжить… Но все то, что так или иначе противостоит этому разложению, буквально поднимается на смех. В том же номере "Time" гневная, презрительная статья о протестантских организациях, "вмешивающихся" в политику, поднимая вопрос об отношении того или иного кандидата к "моральным вопросам".
Воскресенье, 20 апреля 1980
Два с половиной дня в Канзас-Сити. В четверг вечером лекция в университете в Lawrence – о Солженицыне. В пятницу лекция (о том же) в Канзас-Сити. Потом завтрак с "отцами". Чудная весенняя погода, все купается в праздничном солнце, retreat с всегдашней, в результате, потерей голоса. И опять чувство умиления от этих молодых священников, в трудных, маленьких, полумертвых приходах, загубленных духовенством страшного безвременья, длившегося в Америке два-три десятилетия. Сегодня – передышка дома перед грандиозным наплывом семинарских дел – завтра и всю неделю…
В аэроплане прочитал статью Солженицына в "Foreign Affairs". До слез – правильно… А "для души" – дневник Ж.Грина.
Понедельник, 21 апреля 1980
Глупость Запада. Вчера в "New York Times Magazine" длинная статья W.Craig об Афганистане. И выходит так, что советская власть всегда действует из "страха" и "недоверия". Полмира завоевали только потому, что "боятся"… Вывод: надо их "успокоить"… Автор прямо этого не говорит, но вывод напрашивается сам собою. Как я понимаю бешенство Солженицына!
Вчера перечитывал свои лекции о "liturgy of death"
[1340]. Сегодня – готовил лекцию о "тайных молитвах". Увы, я не могу сомневаться в том, что в нашем богослужении произошло скольжение…
Вторник, 22 апреля 1980
Faculty Seminar. Богословские разговоры. Библейская критика, отношение к ней православного богословия и т.д. Слушая все это, думал и чувствовал, что все это рядом, не то. Но как выразить то?
Изумительные весенние дни. "И зелень рощ сквозила…"
[1341].
"Крестом я распят для мира и мир для меня…"
[1342]. Говорил об этом вчера вечером на лекции о крестных праздниках: Воздвижении и т.д. О том, что крест – это принятие "невозможного призыва" Божьего к человеку, Его замысла… Что крестом исключены религии "эскапизма", с одной стороны, "терапевтики" – с другой. Читал лекцию – очень остро сознавая это – прежде всего себе самому.
Среда, 23 апреля 1980
Сборник "Память" (3). Осколки, фрагменты, запятые – от шестидесяти с лишком лет большевизма в России, то есть не только жестокости, тоталитаризма, подлости, но и страшной, безмерной скуки, серости, пошлости. Скука же эта не от людей, а от того "мирочувствия", из которого родилось и выросло все остальное…
Пятница, 25 апреля 1980
Уныние, отвращение от чтения газет, от новостей, от всего, что извергается на нас извне… Во французских журналах – обожествление Сартра… Всюду, все время восхваляются разложение, разрушение, восстание, развенчание, какое-то стихийное, ненависти и страсти исполненное "против". В чем "гений" Сартра? Ведь он всегда, во всем ошибался. Да, говорят, но он искал , он ненавидел буржуазию , он был носителем надежды . Это человек, сознательно оправдывавший сталинский террор во имя проклятой "Истории"… И спорить невозможно, можно только удивляться и спрашивать себя: как стало возможным это прославление гнили во всех ее проявлениях и измерениях?
Сегодня – сенсация. Американцы сделали неудачную попытку освободить тегеранских заложников силой , попытка провалилась из-за… столкновения американских же аэропланов. Это звучит как скверная шутка.
Пятница, 2 мая 1980
На этой неделе сутки в Новом Скиту. Чувство и радости, но и некоей тревоги за них. Их чувствительность к тому, как к ним относятся, к их "роли" в Церкви, к "их" богослужению… Короче говоря: "оборот на себя".
В понедельник – о. Каллист (Уэр) в семинарии. Его лекция, разговоры. "Филокалия" и ее терминология. Это какая-то "академическая" духовность. В нашей Церкви все размножаются "специалисты по духовности".
В "Le Nouvel Observateur" вчера передовица Даниэля, страшно взволнованного разговорами о каком-то "религиозном" сдвиге Сартра перед смертью (я писал об этом раньше, прочтя его беседы). "Нет, нет, он остался верен атеизму!" Как это показательно: ибо, конечно, то, что объединяет все противоречивое, мятущееся творчество Сартра, объединяет на глубине, – это богоборчество . Но оно-то, по всей вероятности, и "дрогнуло" в нем в конце его жизни… И даже признать эту дрожь – уже измена… Страшно.
"Мир во зле лежит". И вместе с тем опять "блаженство мая"
[1343]…
Вчера, после долгого перерыва, получил два выпуска бюллетеня, издаваемого Граббе. Как можно жить, дышать, работать на этом уровне, да еще, пожалуй, с убеждением, что служишь Богу и Православию. Это кропотливое выискиванье всех "опасностей", "предательств", "отпадений". Прочтя эти страницы, хочется вымыть руки…
Воскресенье, 4 мая 1980
Вчера весь день – за чтением сборника "Метрополь". К.Фотиев уговорил меня принять участие в "круглом столе" 9 мая. Согласившись, по слабости характера, теперь читаю эти почти семьсот страниц!
Понедельник, 5 мая 1980
Обалдел от "Метрополя", но прочел… Что же я скажу о нем? Впечатление у меня от него бледное. Это очень "литература", показуха, забота о "стиле", прущая из всех пор. И, в сущности, ничем, кроме этого, не объединенная. Все концы – трагические, смерть, провал, поражение. Но как-то без причины.
Скорее оттого, что нужно как-то кончить, ибо ничего примечательного в дальнейшем не произойдет. Какая-то лирика , беспредметная, любующаяся сама собою…
Суббота, 10 мая 1980
Все то же "цветущее блаженство мая", все цветет, все изнывает в радости еще не жаркого солнца…
Утром у Н.Н. в психиатрической больнице. Приобщал ее, потом получасовой разговор. Тьма, тяжесть этой депрессии. Хрупкость нашего психодуховного организма…
Вчера, в пятницу, "круглый стол" о "Метрополе". Человек сорок – сорок пять "третьих". Участники обсуждения: некто [Юз] Алешковский, один из авторов альманаха, Наум Коржавин, Е[катерина] Брейтбарт (сестра В. Максимова), я и о. К. Фотиев. Обсуждение, как полагается, сумбурное, но без особой страсти. Не ясно, почему оно вообще понадобилось…
Пятница, 16 мая 1980
Не успеваю не то что писать, а ногти постричь! Такое впечатление, что я попал под какой-то горный обвал и только и успеваю, что как-то прикрыться от очередного камня… Бесконечное чтение студенческих сочинений. Многие из них утешительные: что-то увидели, ощутили, поняли… Вчера очередной прием у нас выпускного класса. Всего – вместе с женами и невестами и гостями (митрополит Феодосии, архиепископ Павел Финляндский) – до сорока человек! И тоже атмосфера по-настоящему семейная, любовная, "братская". Утром – Вознесенская Литургия (архиепископ Павел) – чудная, светлая, сама по себе тебя "несущая"…
Письмо от Сережи: о встречах с Войновичем и Окуджавой и о "диссидентах". Эти последние изолированы, не имеют базы, ибо советская власть, по мнению Сережи, для народа все-таки – "наша". Она, как и народ, "любит дачи, джинсы, автомобили и терпеть не может евреев…"
Воскресенье, 8 июня 1980
Длинный перерыв в записях. Сначала суета конца года, а потом, с 22 мая по 2 июня, десять чудных дней с Сережей в Париже. Жили в отеле "Рекамье", с видом на площадь и церковь St. Sulpice…
Понедельник, 9 июня 1980
Наслаждение от общения с Сережей, от его ума, такта, остроумия и совестливости, делающей его постоянно уязвимым. Рассказы его о России, о мучительной тяжести всего в ней.
Защита диссертации Андрониковым на Сергиевском подворье (вторник, 27 мая). Кроме меня – два католических оппонента: вечный pere Dalmais
и милый pиre Triacca, из Рима. Но Подворье само уже больше не "чувствую"…
Совет РСХД в Монжероне, на Троицу (25 мая). Мало народа и как-то беспредметно.
Зато Париж все эти дни был at its best
[1344]. Солнце, прохлада, и еще праздничное убранство из-за визита Папы.
Мама в [старческом доме] Cormeilles, уже почти совсем "отсутствующая". Разрушение жизни. Много думал об этом.
А вернувшись сюда в понедельник 2 июня, погрузился с головой в наши "проблемы". Я не помню, когда я в последний раз работал!
Ужасные неприятности и у Л. в школе: попытка самоубийства двенадцатилетней девочки. И сразу – отравленная атмосфера в школе: обвинения, обиды… Страшно мне жалко Л., которая все это переживает мучительно. Неужели все-таки удастся уехать в Лабель в четверг?
Чья-то умная статья об иранской "революции". Запад не понял религиозного измерения событий, все думал, что "все образуется": демократия, социализм, "человеческое лицо" и т.д. На деле же корень –
ислам во всем его тоталитаризме и даже "клерикализме". Теократия. И в этом все дело. Западный
либерализм отвергает
конфликт , потому что он прежде всего отвергает и отрицает Истину, саму возможность истины. Обо всем можно "договориться" и "понять друг друга". Но в мире сталкиваются "теократии", абсолюты, и трагическая ошибка Запада прежде всего в ощущении свободы как свободы
от абсолюта . Парадокс (христианской) свободы: она от Истины. "Познаете истину, и истина сделает вас свободными"
[1345]. Человек не желает уравнивать истину и ложь, а именно этому учит его Запад. И потому Запад "гниет" и ложь побеждает.
Среда, 25 июня 1980
"Раскаяние" о.Д.Дудко… И сразу со всех сторон: "Что Вы об этом думаете?.." Мое впечатление от этой печальной истории: мне всегда казалось, что о.Дмитрий нуждается в восторженной поддержке своей паствы, что его несла некая волна энтузиазма и что в этой волне он черпал нравственную силу. Он не одиночка, как Солженицын, которому никакая волна не нужна для того, чтобы быть сильным. А о.Дмитрий вне этой среды, поддержки да, конечно, и успеха (всемирного!) – уязвим. Что с ним делали пять месяцев в тюрьме, мы не знаем… Но в пятьдесят девять лет – после всего этого успеха – идти на десять лет лагеря… Этого он не выдержал. А, может быть, "развенчав" его, сделав "спорным", "они" его просто вышлют за границу.
С воскресенья в Нью-Йорке, вернее – в семинарии после десяти чудесных дней в Лабель. Liturgical and Pastoral Institute
[1346]: толпа, встречи, разговоры, лекции, службы – и все это при нью-йоркской жаре и сырости. В пятницу, Бог даст, возвращаемся в Лабель.
Вторник, 8 июля 1980
Сегодня в Нью-Йорке на два дня: заседания, скрипты и т.д.
Слушая, читая реакции на "самоотречение" о. Дудко, думаю: эмиграция – это самообман …
Письмо – умное – от Никиты С[труве]. Без "самообмана". И в него вложено – длиннейшее [письмо] В.Тростникова из Москвы. Ответ на мое, посланное по прочтении в апреле у А.И. Солженицына] его книги. Очень показательное.
Среда, 10 сентября 1980
С 28 августа в Нью-Йорке после длинного лабельского лета. В этом году оно было "чудесным летом" (название книги Саши Черного, которую мы очень любили в детстве), спокойным, несмотря на четыре поездки в США, рабочим (написал главу "Таинство воспоминания" и почти кончил "Liturgy of Death") и "отдохновительным" – все те же прогулки, тот же особенный, только лабельский мир и покой, то же канадское небо, озеро, сосны, березы. Целый месяц провели с нами Маня с детьми.
Затем десять дней семинарской суеты, новые студенты, "ориентации", "регистрации" и т.д. Все же удалось три раза съездить с Л. на Jones Beach, на океан. Для меня этот огромный пляж, синева океана, люди под разноцветными зонтиками – совсем особый опыт "праздника", того "солнечного и неподвижного полдня", который я всегда очень сильно ощущаю…
Сегодня – первый день в нашей нью-йоркской квартире, с ее тишиной… Первый "перерыв" перед окончательным погружением в семинарскую и церковную жизнь.
Последние недели прошли под знаком польских событий, за которыми мы следили буквально с замирающим сердцем. Каждый раз – все та же надежда, что что-то "лопнет" в кошмарном советском организме, что что-то начнется.
Смерти: тети Любы Оболенской, А.А.Боголепова.
Споры, разговоры об о.Дудко. Мучительный – для меня – тон русской прессы. Углубляющееся отчуждение от "третьих", от их советской тональности. Вчера вечером просматривал, перелистывал новый "Континент". И чувство именно чуждости, как если бы было априори ясно, что для меня во всей этой "ключом бьющей" деятельности словесного потока – места нет…
Вообще "отчуждение" не уменьшается, а если что, то усиливается. Я сносно играю все свои "роли" – семинарскую, богословскую, церковную, русско-эмигрантскую, но все это именно "роли". И я не знаю, как это "отчуждение" оценить , в чем его суть. Может быть, просто лень , может быть – что-то глубже. По совести – не знаю. Знаю только, что это отчуждение не делает меня "несчастным". Я, в сущности, доволен моей судьбой и другой не хотел бы. По-своему я каждую из этих ролей, каждый из этих миров – люблю и, наверное, скучал бы по ним, если бы был их лишен. Но и полного отождествления с ними нет. Я думаю, приблизительно, так: у меня есть "внутренняя жизнь", но "духовная" в страшном загоне. Да, есть вера , но при полном отсутствии личного, жизненного "максимализма", так очевидно требуемого Евангелием.
533
С другой же стороны – все, что я читаю об этой "духовной" жизни, все, что я вижу в людях, ею якобы живущих, – чем-то меня "раздражает". Что это – самозащита? Зависть к тем, кто ею живет, и потому желание denigrer?
[1347] Но вот где-то, случайно, читаю цитату из Симеона Нового Богослова о необходимости
ненавидеть тело – и сразу чувствую, что не только "худшее" во мне, а и что-то другое с этим не соглашается, этого не приемлет…
Простой вопрос о простом земном, человеческом счастье . О радости, преодолевающей страх смерти. О жизни , к которой призвал нас Бог. О том, для чего – "о чем" – сияет солнце, для чего и о чем – эти наши лабельские горизонты, эти мягкие горы, покрытые лесом, это огромное небо, этот блеск лучей…
Почему – в другом ключе – привела эта "духовная линия" к тому, что и самой Церкви, Евхаристии, благодарения, радости как-то не чувствуют, не хотят верующие, а хотят – страха, печали, какого-то почти злорадного отвержения всего этого?
Монастырь Жига, Кральево [Сербия]. Понедельник, 22 сентября 1980
Давно ничего не записывал, но не потому, что ничего не случалось и не о чем было писать, а, напротив, – от нагромождения дел, событий, встреч и т.д.
Начну с конца: пишу это, сидя в огромной трапезной сербского монастыря Жига, на заседании одной из "консультаций" православных богословов. Я, разумеется, в жизни бы не поехал на это собрание, если бы не было оно созвано в Сербии. Итак, во вторник 16-го вечером выехал из Нью-Йорка в Париж, где провел три дня.
С аэродрома Roissy мы поехали с Андреем в Буживаль, где ему очень хотелось показать мне отель, в котором состоялся в июле Общекадетский съезд. Отель стоит на краю имения, где умер Тургенев. После завтрака в отеле мы поднялись по запущенному саду к домам Виардо и Тургенева. Радость Андрея от успеха своего съезда, я не представлял себе, как много все это значит для него… И я долго об этом эти дни думал: что это за "сокровище", что так притягивает к себе? Детство? Бегство из бессмысленной жизни? Радуюсь, во всяком случае, его радости.
Оттуда поехали к маме в Cormeilles. С мамой [ее сестра] тетя Оля, которую всегда так радостно видеть. Мама совсем ничего не понимает, путается в том, кто – кто, но явно довольна и меня узнает.
В 11 часов звоню в Крествуд Льяне: у ее брата Мишки случился в пятницу ночью массивный удар, и он в критическом состоянии.
Четверг, 25 сентября 1980. Патриархия, Белград
Десять часов вечера, в огромной комнате в Патриархии. Приехал в Белград из Жиги сегодня в 12.30 дня. Хочу по порядку хотя бы отметить эти дни, напоминающие сон.
Итак, в субботу утром (20-го) выехал из Парижа. Три часа на венском аэродроме. Увы, в Вену, где я никогда не был, заехать – хотя бы на часок – не удалось. В три часа – в Белграде. Встреча – очень гостеприимная: профессор и какой-то тучный протопоп. Сначала проехали какой-то жуткий "новый Белград", весь из стали, бетона и стекла. Зато потом – вид на старый, знакомый – несмотря на прошедшие сорок лет (лето 1939 года)! Те же желтые, вросшие в землю одноэтажные балканские домики, те же дома, окрашенные в охру… Патриархия. Поцелуи, знакомые…
В шестом часу выезжаем на автобусе в Кральево. Три мучительных, безвоздушных часа. Гостиница-санатория в деревне Манатурска Банья. На всем отпечаток социализма, то есть какая-то почти "трансцендентальная" серость, уродство, подделка, казенность.
Зато следующий день – воскресенье 21 сентября – весь от начала до конца незабываемый, лучезарный… В 6.45 выезжаем в деревушку, в которой патриарх будет освящать церковь. Больше часа по проселочным дорогам среди холмов, тополей, полей, засаженных кукурузой. По дороге идут престарелые сербы в своих войлочных шароварах-галифе, женщины в черном. Все это пребывание в Югославии пройдет под сильным впечатлением от лиц, бесконечно человеческих, печальных, по-своему красивых…
Патриаршая служба длится четыре часа, в мучительной жаре. И, однако, постепенно погружаешься в это торжество, в удивительное, вдохновенное и вместе с тем легкое пение огромного хора священников, в тысячную толпу простых людей, даже существование которых удивляет. Монашки – тоже простые, смиренные, не то что наши "духоносицы" с проблемами… Потом три часа трапезы в абсолютном пекле огромной палатки. Речи, оглушительная музыка деревенского духового оркестра.
На обратном пути останавливаемся на час в женском монастыре "Любовь-стани". Монашки, какой-то прозрачный сад, аллеи, прохлада средневековой церкви. Пение хора монашек… Сплошное "инобытие". Церковь – это не то и не то и не то (определение, богословие), а это , имя чему – благодать . Простота, очевидность, радость этой благодати.
H.L.Mencken: определение пуританизма: "a haunting fear that someone somewhere may be happy…"
[1348].
О самой конференции даже писать не хочется. Это все та же "Женева", какая-то игра, номинальная, ненужная и бесплодная ("Preaching and Teaching Christian Faith Today"
[1349]). Человек тридцать: половина – женевские "профессионалы", которым все равно, о чем говорить, которые в совершенстве усвоили технику такого рода "consultations"
[1350] и отбывают номер, который позволит им продолжить свои "должности". Другая половина – епископы, священники из всевозможных "гетто", для которых вырваться на такую конференцию – это отдушина в их безрадостном и бесперспективном существовании (епископ из Польши, священники из России, Чехии, Болгарии, Румынии), какие-то вечные греческие архимандриты из Греции, Иерусалима, Кипра и вечный контингент эфиопов, коптов, армян – свято ничего не понимающих, но очень гордых своим пребыванием на
Олимпе … Я возглавлял "группу", писал "драфты", заслужил похвалу своему "уменью", не очень, надо сказать, трудному в этакой компании.
Но все это в монастыре, чудном, подлинном, под осенним солнцем, с видом на поля, с тенью тополей, с монашескими службами – все в той же непередаваемой, необъяснимой благодати …
Во вторник вечером торжественный – на двести человек – прием у Кральевского епископа. Тут, как и в воскресенье за трапезой, чувствуешь унижение Церкви. Два раза речь произносит "председник" государственной комиссии по религии, то есть чекист, контролирующий Церковь. Горилла, удивительно похожая на Брежнева, разъевшийся хам. Дьявольская по скуке и какой-то темной слабости речь ("Слобода и мир, мир и слобода в социалистичной Югославии"). Но, Боже мой, как с этой гориллой носятся, как перед ней расшаркиваются и как сладко, почти восторженно ее благодарят. Он сидит на главном месте, между двумя епископами, пускает им в бороды табачный дым, и ему подносит копт какую-то медаль св. Марка ("за слободу и мир…"). Тошнотворно. Но зато как поет хор! Не знаю, случайно ли, но сразу после речи чекиста (с соответствующим громом аплодисментов) они поют изумительный, горестный кондак Канона Андрея Критского "Душе моя, душе моя, восстани: что спиши…" А потом тоже потрясающий по своей скорбности призыв к Божьей Матери: "Радуйся, заступнице и спасительнице рода сербского благо-славного, крестоносного…" И монашки снуют между столами, и так ясно, что вся эта дьявольская гнусь и тьма к "благодати" отношения не имеют, отскакивают от нее, как горох от стены…
А сегодня Белград. После завтрака с епископом Данилой (Крстичем) пошел по той части города, которую помню с 1939 года. Дошел до Теразии, потом по "Кралю Милану" до "Милоша Великого". Тут налево по Таковской – русская церковь, св. Марк и дальше – до Руварчевой брой едан, где жили бабушка и дедушка и где мы проводили с ними то далекое, бесконечно далекое лето. Новые ужасные "социалистические" дома (уже облезлые, грязные, осыпающиеся) и вперемежку с ними – те же желтые хибарки, мимо которых я шел каждый день с дедушкой к обедне… Все это как во сне. Дом на Руварчевой, рядом желтый павильон, где мы жили с Андреем. Все это как во сне, без волнения, без сердцебиения, невероятно спокойно и трезво и одновременно – с чувством какой-то бесконечно важной и решительной встречи с детством, молодостью, с тем temps immobile, что преодолевает "мимолетность", "ско-ропреходящесть" жизни. Для вечности все претворено – в одно вечное, медленное шествие с дедушкой, под руку с ним, высоким, сухим, молчаливым. Сколько событий забылось, а это "несобытие" (ибо само по себе ничем не замечательное и повторявшееся много раз) оказывается неразрушимой частью души. Серый, душный день. Суматоха огромного города. Но "иллюзия" они, а не Таковская.
Возвращаясь, прошел по Косовской, где в маленькой "кафане" в морозные, ветреные ночи осени 1939 года мы с братом Андреем несколько раз слушали
536
Сергея Франка ("и больше всех любил я в те ночи темные золотые, ночные фонари…"). Стоит кафана. Та ли? Не та ли?
Скука, страшная, мертвящая, безжизненная скука всего, порожденного социализмом. Абсолютно достоверное доказательство его дьявольщины. Белград пронизан этой скукой (которую я почувствовал уже при первом соприкосновении с социалистической Югославией в нью-йоркском консульстве, получая визу).
Вечер – неожиданный по своей радостности и уюту – у двоюродного брата Зорана М[илковича]. Пишу это, а через улицу в доме богословского общежития богословы поют свои сербские песни. Только Церковь, только то, что хоть как-то связано с ней, – свободно от этой дьявольской скуки, звучит, пахнет, светится "благодатью".
Звонил Л. и так остро почувствовал, как мне ее не хватает . Мишке плохо… Завтра – последний день в Сербии.
Белград. Пятница, 26 сентября 1980
Сегодня с утра поездка по окрестностям Белграда. Сначала на Авалу: памятник неизвестному солдату. Потом в монастырь Раковица. На Авале десятки автобусов со всех концов Югославии. Надписи вроде "Путь Тито, наш путь…" Создание постепенно этого унылого коммунистического [серого культа]…
Антипод: женский монастырь. С нами молодая игуменья Евгения. Все "классично". Опущенные глаза, походка, тихий голос… Но в душу закрадываются сомнения. Не о ней, конечно. Она, по-видимому, безупречна в этой классике. А обо всем этом стиле. Нагромождение икон, в большинстве своем – ужасных, в церкви. Твердокаменная верность форме , этому абсолютному единообразию типа… Уход не столько от мира, сколько от этого мира, во имя другого, прежнего мира с его архаичностью, непромокаемостью, отсутствием всякого "проблематизма"… Не знаю, не знаю. С одной стороны, восхищение этим всесильным – для этих монахинь и им подобных – "антиподом" дьявольскому уродству и серости социализма. А с другой – чувство, что антипод этот – в этом виде – бессилен, обречен. Разрушь форму – и ничего, пожалуй, не останется…
После обеда визит к о.Василию Тарасьеву, сыну о.Виталия, моего первого в жизни "законоучителя" (в 1929 году). В красном подряснике, заросший, хромой… Ужасающий беспорядок эмигрантской квартиры. Седая мать с гниющими ногами. Больная матушка. Сын, так очевидно обрекший себя на то же "напрасное служение" (service inutile Montherlant'a), на которое обрек себя отец… Все это патетично . Ни одного вопроса, только поток напряженного рассказа об этом служении, об этой атмосфере тонущего корабля с капитаном, остающимся до конца на мостике. Все – из романа Достоевского, все как-то раскалено, напряжено и так очевидно – безнадежно… Тут верность и России, и золотому сну "белого" героического Белграда. И отцу, и этому одиночеству и обреченности… Поехали в церковь. Боже мой, в каком ужасающем она виде, облупленная, грязная, так ясно вся – пережиток, в этом новом социалистическом Белграде. Уезжаю с чувством жалости и неловкости: точно прикоснулся к какой-то трагедии, помочь которой нельзя, но которая требует чего-то… Когда о.Василий, хромой, тучный, вел к автомобилю под руку свою едва двигающую-
537
ся мать, покрикивая на нее – и вместе с тем с такой любовью, хотелось плакать. Духовная красота этой, по-человечески рассуждая, неудачи.
Вечером – под Воздвиженье – всенощная в женском же монастыре Введения, в Топчидере. Патриарх, хороший хор. Но служба беспорядочная, как бы поверхностная. Мало народа в церкви. Патриарх простился со мной очень ласково. Потом трапеза – опять с молчаливыми, с потупленными взорами, монашками.
Завтра рано утром – отлет в Нью-Йорк, через Лондон. Хочется домой, но и, как всегда, печаль разлуки с чужой, ставшей на минуту своей , жизнью. С Белградом, который для меня просвечивает детством и молодостью и который, как черной пылью, покрыт бездонной печалью и скукой своего пакостного социализма.
Вот уеду, и из этих десяти дней вырастет что-то одно и единое, и они претворятся в еще один пласт, образ, неистребимую пометку на памяти – как Галилея и Фавор, Финляндия, Венеция, Рим, Аляска. Может быть, бесконечная, бездонная тишина садов этих женских монастырей. Может быть, больные мать и сын, слитые в ставшем для них всей жизнью безнадежном подвиге, может быть, еще что-нибудь – последние слова сегодняшнего Евангелия: "Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами света…"
[1351].
Нью-Йорк. Среда, 1 октября 1980
В первый раз с начала лета один в нашей нью-йоркской квартире. Из Белграда вернулся поздно вечером в субботу 27-го. Погрузился в семинарские дела, лекции. Вчера, как всегда, бесконечный прием студентов. Телефоны. Вчера вечером обалделые, с головной болью, проводим с Л. вечер у телевизора, смотря комедии…
Война между Ираном и Ираком. Нехорошее, злорадное чувство: удовольствие от этого взаиморазрушения. Как все это – прежде всего – глупо!
Читаю воспоминания Мирча Элиаде ("Les promesses de 1'йquinoxe"
[1352], 1907-1987). Детство и студенческие годы в Бухаресте entre des guerres
[1353]. Интеллектуальная жажда, поиски смысла жизни, история религии, все это с каким-то неслыханным "нажатьем педали", пафосом, "запоем"… Но вот что поражает: тут и мистерии, и орфизм, и отъезд на три года в Индию для изучения йоги, тут все – кроме
Православия . О нем ни одного слова, как будто его нет, как будто оно не имеет, не может иметь никакого отношения к этим исканиям. Когда-то, при встрече, Элиаде сказал мне, что его вера – это вера "румынского крестьянина", что богословия он не знает… И вот всю жизнь пишет о богословии других религий, создал целую школу, в свое понимание религии вгоняет – de facto – и христианство, знает все о малейшей индусской секте, а богословие его "веры" остается вне поля
интереса … Не знаю – пока что прочел полкниги, может быть, дальше он что-либо и скажет о
своей вере. До сих пор – ни слова…
Четверг, 2 октября 1980
Перед отъездом в Syosset на малый синод. Вчера вечером лекция о храме и "храмовом благочестии". В связи с этим – мысли о судьбе Православия. Торжество сейчас – в богословии и в благочестии –
монашеской линии. В Сербии все, что возрождается, связано с покойным о.Иустином Поповичем и его двумя молодыми учениками – о.Амфилохием и о.Афанасием. Повсюду – патристика. Меня беспокоит отождествление этой линии с Православием. Это уже не pars pro toto
[1354], а выдавание ее за само "toto"
[1355]. В Америке – редукция Православия к иконам, всяческому "древнему" пению и все к тем же "афонским" книгам – о духовной жизни. Торжествует "византинизм", но без присущего ему космического охвата. Я не могу отделаться от чувства, что все это прежде всего своего рода
романтизм . Любовь к этому
образу Православия, и любовь потому как раз, что этот образ так радикально отличен от образа
современного мира… Бегство, уход, сведение Православия к себе, защита его всевозможными "рогатками".
Для меня крайне знаменательно то, что повсюду, где эта линия торжествует, как-то выпадает Евхаристия, причастие . И это значит – чувство, опыт Церкви , и опыт ее, который сейчас нужнее всего. "Евхаристическая" Церковь сама себя опознает как "в мире и не от мира". Монашеская линия Церковь – приход, соборность и т.д. – "отдает" миру сему, только личное противостояние ему и уход из него (внутренний) являет как "православный" ответ и путь. Монашеская линия, как это ни звучит странно, "обмирщает" Церковь, так что уходить надо не только из "мира", но и из нее…
Молодые богословы в Сербии строчат диссертации – и все, почти без исключения, о паламизме, о спорах XIV века, о всяких dii minores
[1356] этого движения. Словно ничего другого в Православии нет. Иосиф Вриенний или – из ранних – Евлогий Александрийский и вечный Максим. Не
Церковь , не ее жизнь и не вызов этой жизнью – миру, а только вот этот духовный гнозис… Еще шаг – и психологически, если не догматически, мы в дуализме, манихействе.
Карташев когда-то в каком-то отзыве о кандидатской работе писал: "…где Христос, где апостолы, где Церковь? Все затмила собой огромная тень Старца …" И, конечно, не случайно и то, что эта линия легко, как бы натурально, сочетается с романтикой национальной – "Святая Русь" и т.д., то есть с прошлым , с его "образом" и "стилем".
Как-то, в минуту откровенности, Иван Мейендорф сказал мне, что он совсем не понимает, почему люди занимаются "Отцами". Я боюсь, что притягивает к себе людей не мысль Отцов, не содержани е их писаний, а стиль их. Это сродни православному отношению к богослужению: "любить" его, не понимая, и в ту меру, в какую "не понимаешь", то есть не обязан делать никаких выводов. Сидим в своей раковине, очарованные ее "мелодией", и не замечаем, что разлагается Церковь и давно уже ушла с поля битвы.
Воскресенье, 5 октября 1980
Вчера напряжение Education Day. Торжественная Литургия в огромной палатке. Четыре епископа, двенадцать священников. Несметная толпа. Потом хоры, танцы, сплошные объятия, поцелуи, короткие разговоры. Все под бледным, совсем уже осенним солнцем. И, как всегда, радость и подъем от этого "погружения" в Церковь, от "благоволения", которым пронизан этот день. К вечеру, однако, страшная усталость.
Накануне, в субботу, в больнице у Миши. Все продолжает стоять вопрос: вернется ли он к полному сознанию, к разуму. Сам он очевидно мучается этой внутренней борьбой. Л. говорит – и как это верно, точно: "…в М. есть что-то драгоценное …" Вот приходит такое , и все на своем месте, в вечном порядке: жена, дети, весь глубокий, единственно подлинный пласт жизни.
Сегодня – в чудовищно переполненной церкви – крещение сына Боба Ариды. А сейчас наконец воскресная тишина. Л. спит. За окном желтеющие деревья. Я правлю корректуру "Таинства воспоминания". И все время, хотя и подсознательно, помню, что мне пошел шестидесятый год!..
Понедельник, 6 октября 1980
Воспоминания Мирча Элиаде. Он проводит три года в Индии, изучая всяческую индусскую премудрость, йогу, тантру и т.д. Полгода сидит в келий в "ашраме"… Но нигде, ни разу в этой длиннейшей книге не говорится о Боге. О религии – да, но не о Боге. Это поиски
моего пути. Это мучительный выбор – "святость" или "творчество", это безостановочный анализ разных типов "духовности", но без Бога. Как это далеко от Евангелия с его "если любите Меня…"
[1357].
Во всех этих религиозных "структурах" главное то, что нечего и некого
любить , кроме какого-то отвлеченного совершенства ("la quete de 1'absolu"
[1358]). В них невозможно представить себе обращение разбойника на кресте, Заккея, мытаря… Все нужно "изучать" (молитву, совершенство), все время быть обращенным на себя… На меня от всего этого (от всяческой "Индии") веет какой-то метафизической скукой.
А в Иране и Ираке умирают люди ради какого-то
арабизма , ислама… Слепое подчинение двум сумасшедшим – Хомейни и Хуссейну. И весь мир трясется. Бегин на библейских основах и обещаниях строит секулярный Израиль. В Париже взрываются бомбы в синагогах. Два совершенно случайных человека – Картер и Рейган – борются между собой за президентство… Чем, кем нужно быть в этих условиях, или – еще проще – в чем же смысл жизни здесь, на земле? Понятными, правдивыми остаются только слова Ходасевича: "Зато слова – ребенок, зверь, цветок…"
[1359]. Но и ребенка, и зверя, и цветы нужно поить, кормить,
возделывать, образовывать . И вот- мы в истории, в "поте лица", в "творчестве", а не в неподвижном "ашраме". Остается только и всегда devoir d'etat
[1360], предсмертные слова матроса в бунинском рассказе: "Я думаю, что был неплохим матросом…"
[1361]. Все же, что свыше этого (а тут чеховское "Убийство"), – от лукавого… Онтологическая
скромность христианства, красота Божьего смирения. Без них – все, включая "la quete de 1'absolu", – обман, самообман, фальшь, дьявольщина. Сегодня Л. – пятьдесят семь лет.
Среда, 8 октября 1980
Два дня как болен. Вчера валялся весь день в Крествуде, а сегодня здесь, в Нью-Йорке. Голова трещит, температура, и ни за что не взяться, все, как говорится, валится из рук… Отделываюсь от этого безделья чтением газет и журналов.
Большая статья о Марине Цветаевой как о самом русском поэте (эмоция, крайность, "до конца") в русской литературе. Пожалуй, верно.
В связи со своей книжечкой "Liturgy of Death" думаю и почитываю о смерти, точнее – о подходе к ней в христианском богословии.
Четверг, 9 октября 1980
Сегодня в "Нью-Йорк таймс" короткая заметка о Капитанчуке: вслед за о.Д.Дудко, Регельсоном – "раскололся" и он.
Весь день, лежа на постели, просматриваю старые номера "Нового журнала". Переписка Цветаевой с Ходасевичем, все того же Бунина. Отрывок из дневника З.Гиппиус. Лев Шестов… Может быть, отсюда и уныние. Как все это жило и казалось важным, решающим. А потом становится уделом "академических червей", с восторгом строчащих свои комментарии и примечания.
Зато тихая и веселая радость от антологии Генри Менкена. Это мой американский Поль Леото.
Пятница, 10 октября 1980
Четвертый день болезни, лежания на кровати, выпадения из привычной жизни. Как быстро превращаешься в vegetable
[1362], привыкаешь к безделью как "нормальному" состоянию. И уже только мысль, что нужно возвращаться в жизнь, приводит в некую панику…
В газете ("Нью-Йорк таймс"): Нобелевская премия польскому поэту Милошу. Статья о нем Бродского: "…он понял необходимость трагической интонации" и т.д. Самого Милоша показывали по телевизору: хорошее, человеческое лицо. Он переводит Библию на польский язык.
Английская комедия вчера [по телевизору] ("Faulty Towers"
[1363]). Как свежий воздух – умно, смешно, быстро и т.д. Затем интервью главного актера-режиссера. Наслаждение от его "манеры". Подумал – англичанину не нужно быть умным. "Умна" цивилизация, в которой он живет. В Америке все и обязательно отмечено "оборотом" на американские
табу (негры, евреи, женщины, религия, политика). Чуть-чуть не то сказал – и шум, адвокаты, equal time
[1364]. В Англии функцию "сглаживания углов" исполняет юмор. В "мире сем" – это огромное достижение, я бы сказал – почти духовного порядка.
Капитанчуку в Москве вынесли условный приговор.
Обычная схема : человек отдает себя какому-то делу , отдает себя служению тому, в важность чего верит. Затем, почти неизбежно и обычно неведомо для него самого, происходит превращение этого "дела" и "служения" в самоцель, фактический отрыв их от того , чему они служат. И тогда от других требуется, чтобы они начали служить служащему … Эта схема применима почти ко всему: к "спасению России", "возрождениям" всех видов и оттенков и т.д.
Христианство условием всего ставит отречение от себя. И это в христианстве самое трудное.
Разгром, падение церковного "диссидентства" в России – о.Дудко, Регельсон, Капитанчук и др. – остро ставит вопрос, нужно ли, возможно ли такое диссидентство в Церкви. Трагедия русского диссидентства в целом в том, что оно не имело и не имеет фактически никаких корней, никакой поддержки в народе, поддержки, которую в Польше имеет Католическая Церковь. Это обрекло русских диссидентов искать свою "базу" на Западе, что сразу же превращает их в преступников политических, а кроме того – в, так сказать, "присяжных болтунов и крикунов". До чего мучительны были письма и о.Дудко, и о.Якунина, и до чего нереальны.
Суббота, 11 октября 1980
В Крествуде. Первый серый, сырой, "нахохлившийся", по-настоящему осенний день… Продолжаю бороться со своим омерзительным гриппом.
Разговор с Л. сегодня утром о женщинах в Церкви (она пошла на собрание, устроенное в семинарии Томом [Хопко] для подготовки женской конференции в Кливленде, перед Всеамериканским Собором). Мои "тезисы" (ad hoc
[1365]):
– Нужно весь этот "дебат" освободить от "клерикалыцины", "церковности" в плохом смысле этого слова (оборот Церкви на себя) – от вопросов о "правах" женщины в Церкви, о том, что она может "делать", каково ее служение в церковных, то есть клерикальных, структурах. Все это тупики, все это продолжает быть изнутри подчиненным категории "прав", "борьбы" и т.д.
– Само сведение жизни исключительно к "структурам", безличным и "объективным", и есть основной
грех мужского мира, мужского восприятия жизни (Маркс, Фрейд…). L'esprit de geometric
[1366]. Отсюда – главная ошибка современного феминизма: принятие им этого "структурального" подхода, борьба за место в "структурах" (мира, Церкви, государства и т.д.).
– Тогда как подлинная "миссия" женщин – это явить недостаточность, односторонность и потому страшный вред и зло этого сведения жизни к "структурам".
– Женщина – жизнь , а не – о жизни . Потому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни. Ее категории те, которым априори нет места в структуральных, "мужских" редукциях: красота, глубина, вера, интуиция. Всему этому нет и, что еще важнее, не может быть места в "марксизмах", "фрейдизмах" и "социологиях".
– Мужчина ищет "правила", женщина знает "исключение". Но жизнь – это одно сплошное исключение из правил , созданных путем "исключения исключений". Всюду, где подлинная жизнь, – царит не правило, а исключение . Мужчина: борьба за "правило". Женщина: живой опыт "исключения".
– Но "исключение" это и есть глубина христианства как жизни . В жизни, созданной и дарованной Богом, – все "исключение", ибо все – единственность, неповторимость, из глубины бьющий ключ.
– Секс – правило, любовь – исключение. Но правда о жизни и правда жизни – любовь, а не секс.
– Человек призван не к осуществлению правил, а к чуду жизни. Семья: чудо. Творчество: чудо. Царство Божие: чудо.
– Смирение женщины не "перед мужчиной", а перед жизнью и ее тайной. Это смирение самой жизни, и оно оказывается единственным путем к полноте обладания ею – ср. Божия Матерь.
– Божия Матерь не "укладывается" ни в какие правила. Но в ней, а не в "канонах", – правда о Церкви.
– В ту меру, в какую мужчина – только мужчина, он прежде всего скучен : "принципиален", "мужественен", "порядочен", "логичен", "хладнокровен", "полезен"; интересным он становится только тогда, когда хоть немного "перерастает" это свое, в последнем счете юмористическое, "мужество". (Даже слово "мужчина" чуть-чуть смешное, во мне оно всегда вызывает образ, запечатленный на фотографиях начала века, – этакий усач в котелке, "покоритель" женщин, наводняющий мир своей звонкой и пустой риторикой.) В мужчине интересен мальчик и старик и почти страшен (на глубине) "взрослый" – тот, кто во "всеоружии" своей мужской "силы"…
– Мужская святость и мужское творчество – это прежде всего отказ от мужской "специфичности". Ни одно великое произведение искусства не воспевает сорокалетнего "мущину". Оно вскрывает его как "неудачника", как падение "мальчика" или как – обманщика, узурпатора и садиста.
– В святости – мужчина меньше всего "мужчина".
– Христос не "мужчина" (поскольку "мужчина" есть имя падшего человека). Он "Отрок Мой" (мальчик), "Сын Единородный", "Сын Марии". В нем нет главного "ударения" и главного "идола" мужчины – "автономии" ("я сам – с усам"). Икона Христа-младенца на руках у Марии – это не просто икона Боговоплощения. Это прежде всего икона сущности Христа.
543
– Все это нужно знать и чувствовать, говоря о "женском вопросе" в Церкви. Церковь отвергает "мужчину" в его самодостаточности, силе, самоутверждении. Мужчине она говорит: "Сила Христова в немощи совершается…"
[1367].
– Человек как образ и подобие Божие – это в равной мере и мужчина, и женщина. Образ же "мужчины" в спасении – Ш: Отрок, Сын, Брат, все что угодно, но не "мужчина".
Четверг, 16 октября 1980
Встречи с [епископом] Г.Ходром во вторник в семинарии, а вчера на его чествовании в Антиохийской архиепископии. Сам он очень милый, тонкий, дружественный. Но вот вчерашняя многочасовая болтовня о Ближнем Востоке: "исламизме", "арабизме"! Болтовня не Ходра, а двух посланников – Ливана и Арабской Лиги – в ООН. Безудержная риторика, мифология, самообман при помощи красивых фраз… Слушая посланников, приходишь к заключению, что Ливан каким-то образом спасет мир. И длилось все это шесть часов кряду!
Понедельник, 20 октября 1980
В пятницу утром – в семь часов – телефон от Сережи из Франкфурта: он вылетает в Нью-Йорк. В шесть часов вечера он с нами в Крествуде! Длинные разговоры, обсуждения… По его мнению, диссидентство кончено, раздавлено, ликвидировано. Ликвидировано потому, что с самого начала у него не было никакой базы, никаких корней в народе. Фактическая солидарность народа с властью – например, в вопросе о захвате Афганистана. Все боятся войны и желание ее видят не у советской власти, а на Западе. Своеобразное "благополучие", основанное прежде всего на опыте неслыханных перемен, происшедших со времен Сталина. Настолько легче жить! Шизофрения "аппарата" (глава ТАСС, признающийся Сереже, что слушает мои передачи). Неуспех правозащитников объясняется полным отсутствием опыта прав, отсутствием их издревле… Сережа считает, что западные корреспонденты фактически свободнее советских журналистов здесь. Полное непонимание России на Западе.
Россия Солженицына, Россия Зиновьева ("Зияющие высоты"), Россия русских эмигрантов. Все это "формулы" и "редукции". И всем этим Сережа безостановочно мучается, стараясь пробиться к "объективной" правде сквозь мифы, преувеличения и т.д. Меня больше всего и поражает, и радует в нем это постоянное напряжение совести , нежелание голословно обвинять даже советский режим…
Все эти дни продолжал побаливать. Пенициллин, ватные ноги, язвы на пальцах. И главное – нежелание за что бы то ни было взяться, засесть. Сразу кажется: не то; затем, нет ни в чем никакой уверенности. Страх, ужас при одной мысли о погружении в "дела" – семинарские, церковные… Чувство такое, что кругом все знают, что делать, и как, и зачем, а вот я только притворяюсь – привычно, рутинно, что знаю, а на деле – не знаю ничего, не уверен ни в чем, себя и других обманываю. Не обманываю только – когда служу Литургию, но ведь я сам всю жизнь пишу, что из Литургии вытекает, с ней связана вся жизнь… Упадок душевных сил, о "духовных" и говорить не приходится. Mutatis mutandis, и не без юмора, – хочется, как Толстому, уйти из Ясной Поляны…
Четверг, 23 октября 1980
Вчера вечером Сережа показывал нам свои русские slides
[1368]: Суздаль, Москва, Владимир… Слов нет: да, все эти церкви, сияющие куполами сквозь березы и закаты, сильно "действуют". Внутренне соглашаешься с Тютчевым: "…что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной"
[1369]. А с другой стороны – какой-то почти
испуг : для чего, из чего – в сознании и в подсознании – это нагромождение церквей, иначе не скажешь? Нагромождение – внутри – иконостасов, икон, украшений, золота. Какая-то вакханалия священного! И рядом с ней грязь, убожество, нищета. Завороженность "храмом" соответствует какому-то духовному, религиозному опыту, какой-то очевидной
нужде . Какой? Прежде всего (и об этом где-то когда-то очень умно писал Вейдле) тут все подчинено
внешнему впечатлению. Храм
извне , как видение, присутствие, как призыв, что-то в этом роде… Во-вторых – соответственно – несоответствие внутреннего внешнему. Теснота, загроможденность внутри. Такое впечатление, что если извне храм как бы организует, фиксирует собою пространство, становится центром и смыслом ничем не ограниченной, бесформенной
равнины , то внутри вообще никакого пространства нет, так все мало и тесно, если же не мало, то обязательно загромождено. На эти храмы хочется смотреть, но в них как-то "не хочется" войти. Они умиляют, утешают, вдохновляют сами собою, но не тем, что в них происходит и совершается… Я не устану спрашивать: почему храмовое благочестие так ослабило в Церкви евхаристическое сознание, удалило Евхаристию? Ибо именно этот вопрос, я уверен,
центральный сейчас. О чем бы ни спорили, спорят об этом, сами того не сознавая.
Пятница, 24 октября 1980
В двенадцать часов дня звонок от Сережи: он принят в "Нью-Йорк таймс". Размышлял в связи с этим об Америке. Сережу приняли исключительно on merits
[1370], ибо я не знаю человека более скромного, чуждого интригам, не способного ни на какое подлизывание, партийность и т.д. И вот – в тридцать пять лет – на "вершине"… Значит, не все в Америке – политиканство, связи, деньги…
Начал писать главу "Таинство Святого Духа" – после почти двухмесячного – с Лабель – перерыва в работе. И сразу чувствую себя лучше, чувствую своего рода духовное "исцеление".
Понедельник, 27 октября 1980
В связи с "Таинством Святого Духа" читаю, перечитываю написанное об эпиклезе, об освящении Даров и т.д. (о.Киприана [Керна], G.Dix, Atchley, Карабинова и т.д.). Какая разноголосица и какая путаница! Лучше, умнее всех – Dix, но и он, мне кажется, чего-то не видит, не чувствует. Я думаю, мало примеров в истории Церкви такого разрыва между самой Литургией и ее богословским истолкованием.
Сначала возникает вопрос: когда и как освящаются Святые Дары. Dix относит это к четвертому веку, больше всего к Кириллу Иерусалимскому. И здесь начинается путаница (Дух, Троица, Христос). Ранняя Церковь, по Диксу: Христос приносит, Христос освящает, Христос причащает (поэтому слово Дух у ранних учителей означает "Христос"). Что делает Кирилл? "Применяет" к Литургии троичное богословие, в котором освящение – это всегда Дух . Тут из начала активного (освящающего, ибо приносящего) Христос становится "пассивным". Дух Святой освящает и претворяет хлеб и вино в Его Тело и Кровь. Так, на Востоке, в истолкование Литургии входит двойственность : Литургия – приношение Сына (и Церкви, Его – Отцу), но претворяемое в Тело и Кровь Его Духом, посылаемым Отцом. Отсюда система : учение об эпиклезе Дамаскина, Кавасилы и т.д. Запад же остается чуждым… Все это, по мнению Дикса, от вопроса, возникающего в четвертом веке: когда ("момент").
Все это, мне кажется, богословский крах . И причина его для меня очевидна. Евхаристия может быть правильно истолкована только в категориях эсхатологических. Совершаемая во времени (нет, не вне времени), она во времени являет, предвосхищает и дарует Царство будущего века . Поэтому таинство Евхаристии , хотя и состоит оно из последовательности актов , есть одно и неразделимое таинство. Если в целом она отнесена ко времени, то внутри нее категории времени ("момент") неприменимы, ибо суть ее в выхождении из падшего времени (раздробленного) во время, восстановленное во всей полноте своей. В этом смысле она вся – в Духе . Христос присутствует, собирает, приносит и раздает Духом Святым , как и на Тайной Вечере. На Тайной Вечере не было "эпиклезы", и она являет "прославление" Сына Отцом в Духе. Поэтому различение в Евхаристии "действий" трех Лиц Святой Троицы неправильно и приводит к тупикам. Каждое Лицо Святой Троицы действует троично.
Отсутствие во всех этих "тупиках" главного вопроса – что такое освящение . Если оно – в "сотворении" святых "реальностей" (Тела и Крови Христа, например), создание "святого", то тогда естественно "освятительную" функцию приписывать Духу Святому. Но если оно – явление, показание, дарование Царства Божьего, Троичной Жизни, то тогда освящение есть всегда причастие этому Царству как благодати Сына, любви Отца, причастия Духу… Отец являет Сына, Который являет Отца, Который посылает Духа как само это знание, общение, причастие.
В Евхаристии все это (Царство Отца, Сына и Святого Духа) совершает Сын, все это являет Дух Святой.
Благодарение возвело нас, Церковь, на небо, к небесному престолу. На небе – нет иной Пищи, иного Пития, как Бог, даровавший нам как нашу жизнь
546
Сына Своего. Поэтому хлеб и вино претворяются этим восхождением нас, в Сыне, к Отцу. И Дух Святой являет нам его как совершенное, исполненное, завершенное – дарованное нам как причастие ("якоже быти причащающимся", "нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся…").
Цель творения исполнена и явлена… Что происходит с хлебом? Он исполнен : сие есть самое честное Тело… Что это значит? То, что его назначение – предвечное, Божие – исполнено . Он приобщает нас – во Христе – Богу, делает нас тем, для чего мы созданы. Это значит, что в "мире сем", в его категориях с ним – хлебом – ничего "не происходит", ибо то, что происходит, духовно , в Духе. Тут "плоть не пользует нимало", и все разговоры о субстанции ничего не разъясняют, как не разъясняют ничего и разговоры о "моменте". Но зато "блаженны вы, что видите…" Нельзя Царство Божие объективно "вставить" в рамки, законы, связи "мира сего". Потому и Христа ученики не узнавали "объективно", но знали , что это Он, – духовно.
Ранняя Церковь поэтому никогда не говорит о Евхаристии в отрыве от Церкви, собрания . Объяснить Евхаристию в отрыве от того, что совершается в ней прежде всего с самой Церковью, – невозможно . И потому как только такое объяснение началось, оно неизбежно привело к тупику.
Но как все это сказать в моей главе? Чувствую, реально чувствую – бессилие слов . Тут нужно тоже "в Духе", иначе же "удобнее молчание". А между тем я убежден, что все это бесконечно важно именно сейчас, что от этого все зависит в самой Церкви.
Вчера днем – поездка с Л. в Найяк, в госпиталь к Мише. Осеннее солнце, золотые холмы за Гудзоном, водная ширь. Как я люблю эту печалью и смирением, но и каким-то таинственным торжеством пронизанную красоту осени.
Денвер, Колорадо. Суббота, 1 ноября 1980
В Денвере на очередном retreat. Все эти дни, в связи с "церковными" делами, размышления о том, что в каком-то разговоре я назвал "романтическим Православием"… Мне кажется, что это определение удачно тем, что оно обнимает собою многие как будто и не связанные друг с другом "проявления" и "тенденции" современного Православия:
– "номинализм" (все эти "Антиохии", "Александрии" и пр.);
– литургический слепой консервагизм;
– культ "прошлого";
– богословская возня почти исключительно с Отцами;
– апокалиптизм;
– ненависть к современному миру (а не к "миру сему");
– эмоционализм;
– культ "внешнего" (бород, ряс, "стиля").
Все то, что, иными словами, делает Православие бессильным , не только внешним, но и внутренним гетто (а не вызовом, борьбой, ответом, жизнью ).
"Романтизм" – это прежде всего – и в жизни, и в культуре – мечтание , примат "чувства", "сердца" над "различением", истиной и т.д. Это отталкивание от реальности во имя мнимой реальности, это вера в иллюзию.
547
Среда, 19 ноября 1980
Вся прошлая неделя (с 9 по 15 ноября) в Детройте, на Всеамериканском Соборе. Первые три дня с Льяной. Комната на двадцать восьмом этаже, с огромным видом на реку и на канадскую равнину за рекой, на небоскребы, улицы… И все время, все эти дни, все залито солнцем… Обычная суматоха, заседания, кулуарные и ресторанные разговоры, интервью. Но каждое утро – Литургия с огромным – в сотни голосов – хором, а каждый вечер – вечерня, и все время, несмотря на отель и на суету, чувство Церкви. Все прошло хорошо и гладко. Но противное чувство осталось от маленькой, но агрессивной группы "правых" фанатиков, от их криков в микрофон, от их совершенно идиотского "максимализма". Вечный, отвратительный полюс "религии" – фанатизм, страх, слепота, самолюбованье. И, ко всему этому вдобавок, – бетонная глупость и узость. Но, повторяю, это маленькая группа, а большинство Собора здоровое.
Новые наши звезды: епископ Василий (Родзянко) – "лирический тенор", но и тенором этим, и, главное, видом (борода, волосы до пояса, деревянный посох и т.д.) чарующий наших ортодоксов. Епископ Петр (L'Huillier) – знающий наизусть все номера всех канонов… Все это удовлетворяет вечную жажду демократической Америки – жажду "вождей", "моделей"… Увы, оба этих новых наших владыки – боюсь – неисправимые
нарциссы , однако хотя бы добрые, культурные и кровно любящие "церковность". Quod erat demonstrandum
[1371].
В пятницу, после конца Собора, переезд в другой отель. Наречение и хиротония нового румынского епископа – Нафанаила. Все прошло хорошо, и не только внешне, а и на глубине …
Четверг, 20 ноября 1980
Купил вчера Набокова "Lectures on Literature" (Austen, Flaubert, Kafka, Joyce. Proust)
[1372]. Пока что пробежал две-три страницы посередине книги. Все тот же блеск и какая-то странная навязчивая защита литературы от самого понятия "содержания". Это как бы
кулинарный подход к литературе. От хорошего завтрака в первоклассном отеле ничего не требуется кроме того, чтобы был он
вкусным . Отсюда великое французское искусство соусов и всяческих "заправок". Но ресторанное искусство, действительно, и не требует "оправдания", отнесения себя к чему-то "высшему" (разве что с аскетической точки зрения, с которой требует оно не оправдания, а осуждения). А литература, слова и ими воплощаемое видение мира? Мне ясно теперь, что моя вечная любовь к Набокову, вернее – к
чтению Набокова, – того же порядка, что любовь к хорошему ужину. Но если так, то не применима ли и здесь "аскетика"? То, что так сильно мучило Толстого, – не мучит Набокова. Или, может быть, сама его ненависть к истолкованиям и оценкам литературы по отношению не к "кухне" и "ресторану", а вот к тому, ненавистному ему "свыше" – и объясняется таким "подавленным" мучением? Не знаю, нужно будет вернуться ко всему этому по прочтении книги.
Понедельник, 24 ноября 1980
Два тихих, спокойных дня дома. Написал очередной скрипт для "Свободы". Прогулка – вчера – по Крествуду темным ноябрьским днем. Вечером – [о.] Иоанн] М[ейендорф] и Том с Аней ([мои] именины). Все те же, как всегда, разговоры – о только что уехавших московских архиереях (епископ Хризостом), о наших епископах, обо всей церковной "эмпирии" со всеми ее мелкими и крупными страстишками. Раньше все это меня волновало, раздражало, мучило. Теперь чувствую все большую "отрешенность". Человеческий анализ к Церкви не то что неприменим, он заведомо частичный и уж, во всяком случае, не решающий. По-человечески рассуждая, все наше "православие" hasn't got a chance
[1373]: если Папе не "справиться", то куда уж нам… Поэтому беспокойство за Церковь, не желающую так очевидно быть "спасаемой" по нашим рецептам, в конечном итоге – греховно, от гордыни… Ибо "ничего не значащее избрал Бог"
[1374]…
Двусмысленность
ума ("надмение") и его главной функции –
анализа . В этом
умном анализе обычно все верно, в целом же он почти неизбежно
темный, разрушительный и плоский . Ум знает только одно измерение. И потому его анализ в конечном итоге, и как это ни страшно, совпадает с анализом дьявола. Все верно и все
ложь . По отношению к этому уму не только поэзия, но и богословие, и все остальное должны быть
глуповаты , ибо ум и есть носитель и рассадник гордыни в человеке, то есть того, что привело к падению. В этом я убеждаюсь каждое воскресенье, читая Book Review Section
[1375] в воскресной "Нью-Йорк таймс". Как вчера в отзыве о последней книге Сьюзен Зонтаг: "Модернизм призван, прежде всего,
разрушать …" Так разрушает Божий мир и человеческий ум, пока не станет "глуповатым о Боге".
Завтра на пять дней в Париж – на съезд Движения, на "прояснение" этой второй моей "эмпирии" – парижских "трудностей" (все как одна от все той же гордыни).
Означает ли написанное выше "апологию глупости"? Нет, ибо глупость в нашем падшем мире тоже от диавола и тоже – гордыня. Больше того – в пределе своем она как бы совпадает с умом. Не случайно в нашем мире глупые преуспевают ничуть не хуже умных, а часто и лучше. И это так потому, что то, что мы называем глупостью , есть на самом деле разновидность того же самого падшего ума. На деле ум только кажется "умным". Его глупость замазана, замаскирована "анализом", то есть умением приводить, так сказать, в порядок мысли, идеи, факты, представлять глупое как умное. Что, Маркс, Фрейд, Гитлер, Сталин – были людьми "умными" или "глупыми"? А также – Набоков, Гарнак, Валери, Андре Жид, Хемингуэй и т.д.? В пределе, по отношению к главному – очевидно глупыми . По отношению к неглавному – умными. В падшем мире ум – это грандиозная и, повторю, демоническая операция по маскированию основной и "существенной" глупости, то есть гордыни , сущность которой в том, что, будучи глупостью – слепотой, самообманом, низостью, она "хитроумно" выдает себя за ум.
Это значит, что в мире противостоят друг другу не ум и глупость (они "вместе", предполагают друг друга, укоренены друг в друге), а ум-глупость – то есть гордыня – смирению . Смирение – Божественно и потому одно преодолевает и побеждает ум-гордыню и глупость-гордыню.
Среда, 3 декабря 1980
В понедельник 1-го вернулся из Парижа, где провел пять дней. Из них два с половиной в Монжероне на общем съезде РСХД. И если все, по выражению Стивы Облонского, в конце концов "образовалось" (принятие нового устава, избежание "уходов с треском" и резкостей), то общее впечатление все же грустное.
Два раза был у мамы. Очень грустно. Она похудела, мало кого узнает, и бывают у нее какие-то припадки галлюцинаций. Уезжал от нее с тяжелым чувством бессильной жалости.
В Париже было холодно, промозгло. Единственная радость – ужин с Андреем в "Доминике". Нам всегда так хорошо вместе.
Читаю второй том книги Л.Чуковской об А.Ахматовой.
В семинарии – заседание за заседанием: вчера Building Committee
[1376], завтра – Board of Trustees… Но после Парижа – как свежий воздух.
Сегодня был на "Свободе". Нью-Йорк: яркое солнце, синее небо и ледяной, с ног валящий ветер.
Пятница, 5 декабря 1980
Не могу оторваться от книги Чуковской, от этой поразительной "записи" живой Ахматовой, от всего этого ужаса, позора, страдания. И все же все время как бы спрашиваю себя: да как все-таки мог этот ужас длиться так долго? Откуда столько подлости, страха, ненависти? Откуда это "палачество"? До – во время – и после Сталина. Вот что, между прочим, меня поражает: отрыв всей этой до предела утонченной элиты от "народа". 99% русского народа не имели – и, наверное, не имеют и сейчас – никакого отношения к ней. Необычайная хрупкость, оранжерейность русской культуры. Писатели в России гибли и гибнут, как птенцы, выпавшие из теплого гнезда. Когда читаешь о французских писателях, например, чувствуешь их защищенность – не "народом", конечно, а самой культурой. У меня впечатление такое, что в России всегда много отличных писателей, поэтов и т.д., но при этом нет "культуры" как элемента, в котором они могут жить и дышать. Выкорчевывая, уничтожая писателей, власть – любая власть – делает это не потому, что боится их, – ну чем был опасен Мандельштам для Сталина? – а потому, что чувствует их абсолютную инородность и за нее их ненавидит. Но то же самое и в эмиграции, и в Церкви. Все и всюду мерится по "низу", это какая-то утробная ненависть к "высшему". Выносят только штампы: священника, поэта (общедоступного, "своего"…). Отойди от штампа, и ты – враг… На культуру, на качество очень мало "клиентов". Нет спроса, и предложение поэтому оказывается отвергнутым…
Вот читаешь об Ахматовой, как годами исправляла, оттачивала она – несмотря на все ужасы – свою "Поэму без героя". И с каким отвращением думаешь о своей "работе", обо всем написанном, всегда в спешке, всегда приблизительно, всегда на "фру-фру", и становится бесконечно грустно. Все случайно – и именно грустно думать об этом в шестьдесят лет…
Всякий "микрокосм" (например, семинария) соткан из тех же страстишек, амбиций, зависти, страха, что и "макрокосм" – то есть человеческое общество в целом. Во всяком есть – потенциально – и аятолла Хомейни, и Сталин, и Смердяков и т.д. "Развитие" их ограничено только одним: отсутствием у них власти . Страшна в мире, страшна для человека только власть. И в ограничении ее, в сущности, единственная заслуга, а также и призвание скучнейшей во всех других отношениях демократии.
Ахматова :
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное слово.
Боже мой, до чего это прекрасно!
Трудность, поистине уникальность христианства в том, что оно обращено к личности , но дарует ей как ее исполнение – Церковь . Личность, не принимающая Церкви, извращает христианство, претворяя его в духовный нарциссизм и эгоизм. Церковь, не принимающая личности, извращает христианство, снижая его до "толпы", до "массовой религии". В такой Церкви личность заменена благочестивым штампом ("церковный человек"), а в такой личности Церковь, в лучшем случае, воспринимается как раздаятельница "духовного питания". Эта путаница, соблазн, искушение и обман – вечные, но в наши дни они особенно ясны. С одной стороны – поиски "личной духовности", а с другой – какой-то "церковной активности", Церкви как активности, как "коллектива". Отражение двух сопряженных одна с другой современных болезней: индивидуализма и коллективизма. Тайна христианства: "внутри себя собор со всеми держать". Но именно внутри себя , а не в религиозном коллективизме.
Нужно всегда помнить, что в категориях "мира сего" христианство не может не быть парадоксальным , и там, где этого парадокса нет, оно в чем-то ущерблено и подменено . Сочетание личности и Церкви – один из таких основоположных парадоксов.
Суббота, 6 декабря 1980
Вчера за ужином разговор с Томом [Хопко] о западных богословах (большинстве), которые провозглашают как нечто самоочевидное, что – ввиду "cultural mutation"
[1377] нашей эпохи – нужно радикально перестраивать все богословие и всю жизнь Церкви. Богословие должно, так сказать, сделать выводы из того, что
произошло , что
есть … Мой вопрос
1 но что же именно произошло, в чем содержание этой "мутации"? Мне кажется, что, прежде чем делать
выводы и самим "перестраиваться", богословы должны были бы заняться именно этим вопросом. Я вижу, однако, только две реакции – на Западе, Православие не в счет, ибо оно еще просто "не в курсе", не знает ничего о какой бы то ни было "мутации". Это – либо принятие, безоговорочное и безо всякого предварительного анализа, этой самой "мутации", либо же – ее столь же безоговорочное отвержение.
Но тут возникает еще предварительный вопрос: о сущности прежде всего самого богословия. В том-то и все дело, мне кажется, что на Западе богословие с самого своего возникновения как "науки" (то есть с появления схоластики) поставило себя в зависимость от "мира сего" – от его категорий, слов, понятий, "философии" в широком смысле этого слова. Отсюда постоянная необходимость в "адаптации", в
проверке – не "мира сего" христианским благовестием и опытом, а самого этого благовестия и опыта – "миром сим" и его "мутациями". На этот раз мутация касается как раз самой веры, и потому паника от "несоответствия" веры – миру и его мудрости – особенно интенсивная. И ведет она к двум ориентациям, к двум выборам. Либо к растворению веры в этой "мутации" (как, например, theology of liberation
[1378]), к утверждению, что сама эта мутация – на глубине своей – соответствует христианству (которое-де, мол, тоже заботится прежде всего, скажем, о "свободе, равенстве и братстве", или о
здоровье и
счастье , или о "земном рае" и т.д.). Либо же к духовному эскапизму, к освобождению христианства, раз и навсегда, от какого бы то ни было интереса к каким бы то ни было "мутациям" или, попросту, – к миру и к судьбе человека в нем. Первый выбор "реализует" себя при помощи перетолкования веры (которая, если ее правильно понять, должна оправдать "секс", "аборт", "эвтаназию" и "революцию"), а второй – сведением всего христианского предания, скажем, к "Добротолюбию".
Обращается ли христианство к миру – благовестием или богословием ? Продолжить.
Понедельник, 8 декабря 1980
Вчера днем на заседании вновь образованного "Консультативного комитета" правозащитных организаций, заседании, на которое, неожиданно для себя, мы получили приглашение. Все "тузы" – Чалидзе, Гинзбурги, Н.Горбаневская, Л.Алексеева, А.Вольпин, К.Любарский и т.д. Общее впечатление – это все-таки и несмотря на все чистое дело , ибо движимо оно состраданием, жалостью, обращенной к лицу заключенного…
После этого ужин с Л. на 107-м этаже Trade Center
[1379]. Поразительный, сногсшибательный вид на Нью-Йорк.
Благовестие или богословие (см. выше). Благовестием я называю не "библеизм" сектантов всех оттенков, а свидетельство об опыте Церкви , о вере как не просто изложении того, "во что верит Церковь", а о том также, чему она радуется , чем живет и что знает как спасение всего в Боге. Например, победа над смертью, воскресение во плоти и т.д. Ведь примечательно, что "научное" богословие именно эти главные темы оставляет как бы в гени…
Вторник, 9 декабря 1980
Л.Чуковская о Набокове: "Не по душе мне та душа, которая создает набоковские книги…" ("Записки об Анне Ахматовой", II, 382).
"Нью-Йорк таймс" полна тревожных известий о движении советских войск на польской границе. Снова тот же вопрос (как в 1968 году с Чехословакией): войдут или не войдут? В том же номере газеты известие об убийстве вчера на Манхэттене Джона Леннона, одной из звезд Beatles. Половина первой страницы и целая страница внутри! Я помню беснование миллионов при одном виде этих длинноволосых пророков и возвестителей – чего? Мне всегда казалось, что rock является наиболее очевидным выражением коллективной одержимости, бесовщины в самом сердце нашей больной цивилизации.
Вчера вечером кончил второй том "Записок" Л.Чуковской об Анне Ахматовой. Книга замечательная по своей правдивости . Но вместе с тем по мере чтения я все сильнее чувствовал пронизанность ее какой-то гордыней . Я знаю, и А.А., и Л.Ч. жили в аду, в ужасе сталинщины, мучаясь за близких, и что ад этот ни с чем не сравнишь… И все же эта постоянная занятость собой , каждой строчкой, каждым отзывом… А также презрение, постоянный гнев… Не знаю. Судить невозможно. Величие – несомненно. Но несомненен также своеобразный нарциссизм, знание о величии и его, так сказать, создание… "Литературность" жизни.
Страницы о первой встрече с Солженицыным: "Он – све-то-носен ". Много о России, но как-то "развоплощенно". Судьба России, отождествляемая – или так это кажется – с судьбой "Поэмы без героя" и "Реквиема". Русского народа, живых людей нет. Есть только преломление России в стихах. Но – читал и не мог оторваться…
Среда, 10 декабря 1980
Телевизия показывает толпы плачущих людей около дома, где жил Леннон. Л. говорит, что в Spence девочки не могут от горя держать экзамены! Я мало что знаю о нем как человеке. Но я думаю, что всегда применим принцип – "по плодам их узнаете их…"
[1380]. Каковы же плоды этих "шестидесятых годов", эпонимом которых был Леннон
1 ? Именно тогда началось разложение Америки, рождение "молодежи" как судьи всех "традиционных ценностей". Тогда черное стало белым и наоборот, и все во имя какого-то "счастья", какой-то "жизни". Трагедия Вьетнама, наркотики, "половая революция", самоуверенность и самодовольство "молодежи", вся дешевка этих лет… И вот об этой "мечте", об этих "обманутых надеждах" теперь плачут, и "взрослый мир" страшно этим умилен. Польша, Афганистан – все бледнеет перед этим горем…
Завтрак сегодня с Б[орисом] и И[раидой] Пушкаревыми в индусском ресторане на Восьмой авеню. Разговаривая с ними, очень дружески, так ясно почувствовал, до какой степени люди живут не разными "идеями" и "убеждениями" – эти последние могут быть теми же самыми, а разными тональностями , разными восприятиями, прежде всего, самой жизни.
Четверг, 11 декабря 1980
"Changer la vie", "projet de sociйtй"
[1381]… Невозможность, невыносимость жизни, построенной по ритму "dodo, metro, boulot"
[1382]. Неделя за неделей, год за годом – все те же причитания и обличения, все те же требования, обращенные к политике, – коренным образом изменить жизнь, изменить отношения между людьми,
освободить женщину,
освободить детей,
освободить любовь, и вера в возможность такого "освобождения" при помощи политики, экономики и т.д. "Так больше жить нельзя!" При этом половина журналов, безостановочно вопиющих о таком "освобождении", отведена под программы концертов, выставок, представлений, телевизии, кинематографа, спортивных состязаний и т.д. И "хлеба", и "зрелищ" – какое-то невероятное изобилие. Но все – от мала до велика – ненавидят это "общество", ненавидят свои школы, работы, профессии, и все ждут какого-то чудесного "освобождения", заря, предчувствие которого вспыхнули в пресловутые майские дни 1968 года. И, однако, положительного содержания этой vita nuova
[1383] никто не описывает, не определяет… Напротив, все те, кто якобы "освободился", – тонут в отчаянии и скуке. Или, по уже какой-то совершенно непонятной слепоте,
обожествляют – то Советский Союз (вся западная интеллигенция в 20-е и 30-е годы), то Мао Цзедуна и Китай, то еще какую-нибудь "революцию", при ближайшем рассмотрении оказывающуюся смрадной кровавой кашей. Часть христианства на это, так сказать, "согласилась", другая часть – "правая" – рассматривает и отбрасывает сам мир как непоправимый и любую мечту об его улучшении как греховную и дьявольскую…
Как найти слова, чтобы в этой запутанности, в этой страшной лжи – с обеих сторон, и "правой и "левой", – сказать правду ? Правда же эта, как всякая правда, одновременно и проста , и сложна , так что при изложении ее нужно всячески бороться как с ненужным усложнением (одно искажение и искушение), так и с ненужным упрощением (другое искушение). Правда о жизни проста в своей сущности и сложна в своем применении к каждой конкретной жизни…
Пятница, 12 декабря 1980
Первый тезис:
Христианство есть
счастье и создает, рождает
счастливого человека . Определить это счастье ("радость, которой никто не отнимет от нас…"
[1384]). Знание Бога во Христе, Христа. Дух Святой. Знание "смысла жизни". Знание победы Христовой. Знание вечной жизни: "поглощена смерть победой…" "Как будто" противоречит этому счастью:
– слабость, грех и т.д.,
– знание о страданиях людей,
– о зле, в котором "мир лежит". Разъяснение этого противоречия.
Четверг, 18 декабря 1980
А вот и "разъяснение" – но от жизни, от Бога, не от "умствований". В прошлый понедельник в [госпитале] John Hopkins доктора, осмотрев Л., пришли к выводу, что опухоль на pituitary gland
[1385] выросла, и теперь решают – резать или нет… И вот снова эта всю жизнь разъедающая жалость, припадки отчаяния у Л., это
присутствие , невидимое, но такое явственное –
печали … Все переменилось, исчезает "животная радость жизни". И начинается внутренняя борьба – за свет, за приятие, за очищение души от уныния и сомнений… И все это как бы "омывает" и, омывая, являет во всей своей – удивительной, чудотворной, радостной – силе:
любовь … А вот это и есть "разъяснение"…
Пишу все это в маленькой студенческой комнате в Св.-Тихоновской семинарии. Погребаем владыку Киприана (†14 декабря). Вчера вечером – отпевание… Три часа. Чудное пение. Десять архиереев. Радостность, "очевидность" этой службы. А сегодня утром – солнечный мороз. Перед службой говорил краткое слово. Только сейчас со всей силой ощутил, что вот – раздражались мы на владыку Киприана, а был он частью нашей жизни, и было в нем Божие, доброе, светлое, в самом лучшем смысле этого слова – церковное.
В субботу 13-го декабря приехали и водворились у нас на Парк-авеню Сережа и Маня с детьми. Сережины рассказы о Москве и вообще России я могу слушать до бесконечности и всегда, больше всего, с удивлением : как все это возможно?
Понедельник, 5 января 1981
Эти недели без записей прошли под тройным знаком:
– Льяниной болезни: за три-четыре часа до Нового года – звонок из Балтимора: доктор Nager: опухоль выросла, нужно резать. С тех пор – это присутствие тяжести, рока… Л. удивительно мужественно себя держит. Но – вдруг – припадки страха, горя ! И тогда такая жалость, такое желание, чтобы со мной – но только не с ней! – случилось что угодно… И от этого над всей жизнью дымка печали, но – и чего-то высокого, очищающего.
– Праздников – предпразднеств, всенощных, литургий. Все знакомое, с детства любимое, но вот из нашего "горя" все звучит, очищает, возносит по-новому… "Приближается Христос!"
– Писания "Таинства Святого Духа" , с внутренним подъемом и муками, как всегда, невозможности выразить всего того, что "очевидно" – уму, душе, сердцу…
Присутствие Сережи и его семьи. Четырехдневное пребывание с нами Вани, Маши и Веры [Ткачуков]. Елка. Новый год. Снег. Мороз… Невероятное чувство борьбы между жизнью смертной и "жизнью жительствующей". Знания ее и одновременно слабости, трагической слабости, почти невозможности жить ею.
Сегодня – Литургия Василия Великого, водосвятие в залитом зимнем солнцем храме. Радость этого, не исключающая, а всасывающая в себя тревогу, жалость, сострадание…
Пятница, 9 января 1981
Трудные дни. Присутствие в самом воздухе, все время, этой грядущей операции, как надвигающейся тучи…
Со вторника в Нью-Йорке и почти все время за столом – за писанием моей главы. Боже мой, как медленно она подвигается, как почти невозможно находить нужные слова и фразы – и это при ясном знании того, что хочешь сказать. Иногда хочется все бросить, освободиться от висящего на шее камня. И нужно усилие, чтобы вернуться к столу, засесть, опять погрузиться в мучительное искание…
Суббота, 10 января 1981
Е.Замятин "Лица". Чеховское издательство, Нью-Йорк, 1955 ("Федор Сологуб"):
Стр.34: "Всегда говорят о бессмертии великих людей, героев – это, конечно, ошибка: герой неразрывно связан с трагедией, со смертью, неистребимо живуч, бессмертен – мещанин. …За цветами нужно ухаживать, чтобы они росли; плесень растет всюду сама. Мещанин – как плесень. Одно мгновение казалось, что он дотла сожжен революцией, но вот он уже снова, ухмыляясь, вылезает из-под теплого еще пепла – трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий…" (написано в 1924 году).
Mutatis mutandis, это можно применить и к религии, к определенному, массивному типу "церковности". Тип "церковного мещанина".
Четверг, 15 января 1981
Прощальная речь президента Картера вчера вечером по TV. Сдержанная, возвышенная, об идеалах Америки, "…не Америка создала human rights
[1386]… Верно обратное: human rights создали Америку". Все это тоже отчасти риторика, но это не ложь. И как ни верти, а все-таки ключ один:
личность . Не ставя ее во главу угла, ничего не выходит…
Понедельник, 19 января 1981
Вся Америка прикована к радио и телевизору в ожидании освобождения заложников… Удивительная страна: она уже готова все простить и завтра начать помогать Ирану.
Вчера длинный разговор о политике с Сережей. Приходим к простому и страшному выводу: никогда в истории мира не было угрозы, подобной советской… И ахаем! Как много людей – на Западе – этого свято не понимают… Не понимают, что дестабилизация – везде и повсюду – нужна советской власти по внутренним, а не внешним причинам и именно потому так и страшна…
Мучительные переписывания и передумывания моей главы.
С избранием Рейгана начался, впервые за десятилетия, серьезный спор о "правом" и "левом", или – в американской терминологии – между
консерватизмом и
либерализмом . Спор если не идеологический, то, во всяком случае, "мировоззренческий". Лет пятьдесят подряд – с Ленина и, позднее, Гитлера – все "правое" только "защищалось", инициатива, монополия идей, планов и т.д. безраздельно принадлежали "левому". И вот вдруг мир как бы ахнул, внезапно увидев плоды "либерализма": политические, экономические, моральные, духовные. Плоды, которые можно определить одним словом:
гниение . Всеобъемлющее гниение. Плюс – лицемерие, самодовольство, фарисейство. "Левому" удалось отождествить все правое с "неприличием", глупостью и злом. И вот приходит пробуждение. Увы, нет, конечно, никаких гарантий, что это воскресение "правого" принесет хорошие плоды. Пока что побеждают не правые идеи и принципы, а все возрастающее отвращение от "левого". Не ясно, есть ли у "правых" идеи и принципы, кроме старого "enrichissez-vous…"
[1387], ставки на спасительный эгоизм. Иными словами, неизвестно – "реакция" ли это или же действительно пробуждение… Но само изживание либерализма, его
ереси – уже само по себе как свежий воздух.
Если бы "правые" поняли, что сила их должна быть не в триумфализме, а в смирении . В смирении перед – на последней глубине – Божиим законом, в отвержении – духовном – утопизма, прометейства, греховного "оптимизма" во всех их проявлениях, в отвержении дьявольского "мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем , тот станет всем ". Увы, до сих пор правая риторика была не лучше левой.
В одном американский консерватизм лучше европейского. В нем нет обожествления
государства , как, скажем, у де Голля (с каким смаком он произносил "L'Etat!"
[1388]). В нем нет якобинской традиции. Но нет также и идиотской идеи "отмирания государства", этого "рикошета" якобинства. Государство должно быть на своем месте, не больше и не меньше. Это место – что очень важно – не исключает обязанности государства не только "администрировать", но и
вдохновлять ("leadership"
[1389]): не случаен своего рода "харизматизм" президентской функции. Президент в Америке не
есть государство (как в деГодлевской конституции), он не "l'etat c'est moi"
[1390]. Он –
вождь в хорошем, не гитлеровском, не тоталитарном значении этого слова. Во Франции президент действительно либо
ничто (Третья республика), либо
все (Пятая). В Америке – ни самый слабый, ни самый сильный президент
не может стать ни "ничем", ни "всем".
Над Рейганом издеваются: он играл в фильмах ковбоев. Но ковбой – это неизмеримо больше символ, мироощущение, восприятие жизни, чем ученый социолог из Гарварда. Ковбой включает в себя мораль, то есть различение добра и зла, природу (животные, лошадь, прерии…), красоту и уродство, помощь, справедливость, веру в силу добра и т.д. – то есть все то, над чем Гарвард издевается и, в общем, ненавидит (все это мешает "научному анализу" общества).
Картер тоже не был "Гарвардом". Но он, в известном смысле, был даже хуже (не в личном или моральном смысле). Он воплощал в себе другую американскую традицию – пуританизм . Не случайно столько ведущих либералов в Америке – сыновья пасторов (ср. МакГоверн), то есть носителей жестокого, "законнического" добра… Для них добро – не присутствие , а отсутствие: отсутствие греха. Они верят – в не куренье, не питье, не блуд, и это свое скучнейшее добро навязывают миру как его спасение. Не случайно именно при Картере американский пафос регулирования всей жизни по отношению к здоровью , понимаемому как не , достигло своей высшей, идиотской точки. Эти сотни бегающих по улицам людей! Эти бесконечные разговоры о том, что "полезно" и что "нет", и бессилие пойти дальше. Им докажут, что аборт полезен, и они будут насаждать его как евангелие и не понимать, что они служат злу больше, чем проститутки и пьянчужки… Картер – это отрыжка Америки "сухого режима", пришедшая к власти только из-за Никсона, из-за Уотергейта.
Рейган-"ковбой" сочетает в своем image
[1391] веру в добро с возможностью какого-то
праздника (реальности, абсолютно непонятной пуританизму). Это было уже и у Кеннеди, но
лично . Идеологически он все-таки был "Гарвардом", то есть человеком, научно проповедующим "уравниловку", но с Олимпа, то есть в полном сознании, что он-то сам никакой "уравниловке" не подлежит, ибо принадлежит к "элите".
В Рейгане нет ничего от "Гарварда" и ничего от "пуританизма", и я убежден, что именно за это его и полюбили, именно полюбили. Кеннеди полюбили за гибель, но не погибни он смертью юного героя, то, думается мне, он мало чего бы достиг. Никсона и Джонсона просто не полюбили, ибо сами они чересчур любили власть и только власть , голую власть. Картера готовы были полюбить (его триумфальное шествие в день инаугурации по Пенсильвания-авеню…), но потому, что не знали его и "думали", что он – Рейган.
Рейгана полюбили. Но то ли он сам, что любят в его "образе" (image), остается тайной. Эта тайна начнет раскрываться завтра.
Вторник, 20 января 1981
Вчера весь день suspense
[1392] в эпилоге дела заложников. Выпустят их или не выпустят до инаугурации Рейгана? Отвращение от Ирана, от варварства всей этой истории, в которую все эти кошмарные бородачи вмешивают Бога.
Две монашки ушли из монастыря А (восемь монахинь), приехали в общину Б и отправились дальше, чтобы пытаться создать общину В. И так все время. Всюду "скиты Преображения", и скоро в каждом из них будет по одному монашествующему лицу, а этих последних будет ровно столько, сколько "скитов". Мне все чаще кажется, что "возродить" монашество (о котором все с упоением говорят) или хотя бы пытаться возрождать его можно, только предварительно ликвидировав монашеский "институт", то есть весь этот водевиль клобуков, мантий, стилизаций и т.д. Если бы я был "старцем", то я бы сказал кандидату, [кандидат]ке, "взыскующим иночества", примерно следующее:
– поступи на службу, по возможности самую простую, без "творчества" (в банк к окошечку, например);
– работая, молись и "стяжай" внутренний мир, не злобствуй, не "ищи своего" (прав, справедливости и т.д.). Воспринимай каждого (сослуживца, клиента) как посланных, молись за них;
– за вычетом платы за самую скромную квартиру и самую скромную пищу – отдавай свои деньги бедным, но именно бедным, личностям, а не "фондам помощи";
– ходи всегда в одну и ту же церковь и там старайся помочь реально (не лекциями о духовной жизни или иконах, не "учительством", а "тряпочкой" – ср. преп. Серафим Саровский). Этого служения держись и будь – церковно – в полном послушании у настоятеля;
– на служенье не напрашивайся, не печалься о том, что не "использованы твои таланты", помогай, служи в том, что нужно , а не там, где ты считаешь нужным;
– читай и учись в меру сил – но читай не только "монашескую литературу", а шире (этот пункт требует уточнения);
– если друзья и знакомые зовут в гости, потому что они близки тебе, иди – но с "рассуждением", и не часто. Нигде не оставайся больше полутора, двух часов. После этого самая дружеская атмосфера – вредна;
– одевайся абсолютно как все, но скромно. И без "видимых" знаков обособления в "духовную жизнь";
– будь всегда прост, светел, весел. Не учи . Избегай как огня "духовных разговоров" и всяческой религиозной и церковной болтовни. Если так будешь поступать – все окажется на пользу…
– не ищи себе "духовного старца" или "руководителя". Если он нужен, его пошлет Бог, и пошлет, когда нужно;
– прослужив и проработав таким образом десять лет – никак не меньше, спроси у Бога, продолжать ли так жить или нужна какая-нибудь перемена . И жди ответа: он придет – и признаками его будут "радость и мир в Духе Святом".
Только что смотрел по TV инаугурацию нового президента. Как всегда – чувство подлинного величия Америки, являемого в этой – очень, в сущности, простой и скромной – церемонии. Это величие – от согласия в главном, в том, что по ту сторону идеологий и политики, от безоговорочного приятия всеми "правил игры", от живого чувства преемственности, традиции…
Речь Рейгана – посредственная, но сила ее в отсутствии "педали". Это то, что и как он чувствует и верит.
А заложники, как будто, – летят…
Завтра на заре – в Балтимор, на операцию…
Балтимор. Суббота, 24 января 1981
Длинные, мучительные дни в госпитале и напротив – в отеле. Всю среду и четверг Льяну мучили всевозможными осмотрами. Ее напряжение, "держанье себя в руках", мужество делают минутные послабления особенно жалкими, невыносимыми. Вчера – совершенно как два года тому назад – операция. Длилась она четыре с половиной часа. Наше с Аней сидение, как тогда, в waiting lounge
[1393]. Недвигающиеся часы. И вокруг у всех то же мучительное ожидание. Наконец – хирург, улыбающийся и довольный: все прошло хорошо… Через полтора часа второй – хорошо… Еще два часа, и нас пускают в Intensive Care
[1394]. Бедная моя Ляля – вся в перевязках на лице, с тюбиками, торчащими из окровавленного носа, с поднятой и завязанной губой. Но – живая, даже с юмором… С тех пор – по три раза в день десятиминутные визиты. Боже, как жаль ее, как лечение
мучительно . И все время – маленькие волнения, в ту минуту не кажущиеся маленькими, а космическими, по сравнению с которыми весь мир ничто…
Только что проводил Аню на вокзал. В такие дни все грустно – грустно и это расставание с Аней, ибо мучительно отельное одиночество. Проводя ее, пошел по Charles Street до downtown'а
[1395], где взял такси. Ветреный солнечный день, с далеким бело-голубым небом. Пустые улицы. И всюду – с горы – шпили церквей. И на минуту чувство вечности, благодарности, ощущение близости того, что
одно важно и куда поднимает, возносит все – и острая жалость к Л., и "держанье" ее все время всем существом, и вечная боль расставания, даже как будто безболезненного, и это небо, и, главное, эти шпили, весь смысл которых, что они
вверх, горй …
Типично американская и, увы, по-американски идиотская возня с заложниками. Их держат в Висбадене, как в тюрьме, и с ними проделывают всякие опыты – психиатры ! И люди, которым нужно только одного – дома, семьи, жены, детей, начинают впадать в депрессии, звереют, осуждают, и все это тут же раздувается сотнями журналов… Психиатры, эксперты и журналисты – это сущность "американского идиотизма". Говорю это, зная, что мой сын достиг вершины – "Нью-Йорк таймс".
А в [газете] "Baltimore Sun" сегодня на первой странице (!) – четыре (!) фотографии Картера, падающего во время jogging
[1396]. Зачем эта жестокость (лишь бы news!
[1397])? От всего этого, от "американизации" человеческой драмы – заложников, Картера, – мутит душу…
Сообщение о разводе Эдварда Кеннеди. Печальный, недостойный эпилог кеннедианской саги. Но пресса серьезно обсуждает, повредит ли это его кандидатуре в 1984 году! Что еще нужно, чтобы ей повредить?
"На сон грядущий" читаю (главное, чтобы победить бессонницу) монументальную биографию Уолтера Липмана (Roland Steel. "Walter Lippmann and the American Century"
[1398]). Прочел пока что первые главы (детство, Гарвард, социализм, радикализм…) и думаю: до чего – mutatis mutandis – судьбы и дух американской интеллигенции схожи с судьбами интеллигенции русской. Та же беспочвенность, то же бросанье в крайности, тот же оптимизм и, прибавлю, на глубине – та же как бы "дешевка". Дешевка от утери религиозного измерения, отрыва от Бога, хотя бы как "идеи". Тогда вместо Бога появляются "массы".
Балтимор. Понедельник, 26 января 1981
Шестой день, четвертый после операции. Des hauls et des bas
[1399], но не медицинские, ибо, слава Богу, медицински все как будто идет хорошо, а в настроении. Неудачная комната, шум телевизора у соседки, музыка. От Льяниных отчаяний сердце разрывается от жалости. Но все время благодарность Богу за главное…
Только что телефонные разговоры с Spence, с семинарией. Мне самому странно, до какой степени мне не только не трудно мое вынужденное "detachment"
[1400] от "моего" мира, попросту "приятно". Уже страх, что скоро нужно опять погружаться в него и в его заботы, которые с годами я выношу не лучше, а хуже… Здесь, в воскресной, солнечной пустыне госпиталя, незнакомых улиц, в одиночестве отеля – то "ailleurs", о котором говорит Жюльен Грин: "tout est ailleurs…" По природе je suis un flaneur
[1401]. He "мечтатель", а именно flaneur. Мечтатель "не замечает" окружающего его мира, он живет в своей "мечте". Но у меня никакой мечты нет, она мне не нужна. Напротив, я все замечаю – дома, окна, оттенок света, луч, падающий на крышу. Flaneur – это тот, кто сильнее всего ощущает le temps immobile.
Книга о Липмане. Близость его, молодого, к Вильсону. Страстная вера в "мир всего мира", интеллигентская идейная суета, вера в себя как в "администратора" мира и в нем человеческого счастья. Иллюзорный мир, вечная вера, что мы накануне какого-то решительного "разрешения всех проблем"… Но сколько крови с тех пор – и, в значительной мере, как раз от этих мечтаний, от этой веры в иллюзию. Так ясно, что в них – корни и Ленина, и Сталина, и Гитлера, и трагедии "третьего мира", всей той каши, в которой мы теперь барахтаемся. Но этого не признают, в этом не сознаются. И сейчас так же суетятся новые липманы и новые вильсоны.
Как ни раздражительна возня с заложниками своей сентиментальностью, неизбежным претворением в "big show", в зрелище для толпы, остается во всех смыслах замечательный факт: никто из них не сдался, не вел себя недостойно. И это свидетельствует о какой-то подспудной силе homo americanus.
Вторник, 27 января 1981
Думал о том, почему мне так трудно дается богословское "изложение", почему с мученьем рождается каждая фраза. Понял: потому что язык богословия по самой природе своей есть язык
символический . От этого языка отреклось "научное" богословие в убеждении, что
символ можно – и не можно, а должно – разъяснить при помощи несимволического, дискурсивного языка. В этом сущность и первая ошибка всяческой схоластики. На деле, однако, этот язык
не может этого сделать и потому it explains the symbol away
[1402]. Объяснение не объясняет, а подменяет вопрос, чтобы затем ответить на него при помощи логических категорий. Утверждение "Аз есмь хлеб сошедый с небеси" при таком объяснении становится "метафорой": "здесь-де Христос уподобляет Себя…" и т.д. Современное богословие есть прежде всего
искание языка . И это не случайно. Но в том ошибка или тупик этого искания, что оно оторвано от той
реальности , которую язык должен передать, объяснить, но прежде всего –
явить . Получается дурная бесконечность – искание языка для объяснения языка, а не реальности, хранимой верой, укорененной в Церкви.
Вчера ночью буквально с ужасом читал главы о Версальском мире в книге о Липмане. Почему в XX веке Европа взяла да и покончила самоубийством? И сделала это при помощи Америки (Вильсон). Вильсон привез с собой в Париж делегацию в 1200 человек! И все дружно сели в лужу. Ни одного мудрого решения. С одной стороны, жажда мести и просто жадность (Англия и Франция), а с другой – интеллигентская слепота американских "идеалистов". Потом подождали двадцать лет – и снова сели в лужу. И, однако, миром правят люди все того же типа, с той же безнадежной неспособностью понимать.
Тетрадь VII
ФЕВРАЛЬ 1981 – ИЮНЬ 1982
Воскресенье, 1 февраля 1981
Кончил книгу о Липмане, которая навела меня на всевозможные размышления и вообще взволновала. У меня чувство, что я как-то "породнился" с ним, ибо в книге шестьсот страниц и я несколько дней как бы жил с нею, и это значит – с Липманом. Автор (Стил) пишет о его смерти: "…never did he speak of prayer, or of God, or of afterlife… To the end he was like a mature man"
[1403]. A между тем чем больше я вчитывался, тем сильнее чувствовал, что драма Липмана (как и каждого человека) – религиозная, что всю жизнь он подменял – бессознательно, инстинктивно – Бога чем-то другим, что его не удовлетворяло. "Людям нужна религия" – это его слова.
Понедельник, 2 февраля 1981
Сретение. Возвращение в семинарию. Литургия.
Вернулись из Балтимора в субботу днем. Льяне плохо, отравление антибиотиками, синус, отвратительное самочувствие. Вчера весь день около нее.
Липман: национализм сильнее и постояннее идеологии. Я думаю, в этом он прав. Далее: его постепенное разочарование в демократии, во всяческом культе "масс"…
Вчера, кончив Липмана, читал в новом номере "Континента" стихи Бродского: "Эклога IV (зимняя)". Не понимаю, не слышу, не чувствую. Ощущаю как набор слов, наверное, с очень тонкой игрой всяческих аллитераций. Но по мне это – утонченность ради утонченности. Его ранние стихи (то есть более ранние) мне очень нравились. "Остановка в пустыне", "Сретение", "На смерть Элиота", "На разрушение греческого храма в Ленинграде" и т.д. Может быть, он – одна из жертв успеха?
Темный дождливый день. Л. лежит наверху. В доме тихо. И ужасно не хочется – после этих двух недель в "нигде" (отель, больница, Балтимор) – возвращаться в "деловую жизнь". Уже сегодня, после Литургии, она ринулась на меня со всех сторон…
Вторник, 17 февраля 1981
Вот и февраль перевалил за половину. Время бежит, и ничего не успеваешь… Три дня в Бостоне – на retreat, очень удачном, но и смертельно утомительном. 132-й номер "Вестника". Tout compte fait
[1404] – доволен своим "Таинством воспоминания", а также некрологом Н.М. Зернова (по этому поводу получил взволнованно-благодарственное письмо от его жены Милицы).
"Вестник" в общем удачный, но не без "никитизмов" – он открывается акафистами некоего о. Г. Петрова (давно погибшего). Я считаю саму "формулу" акафиста искусственной и неудачной и не очень понимаю причин их опубликования. Письма (двадцатых годов) 3. Гиппиус и Е.Л. Лопатиной. По-моему, давно пора понять легкомыслие всех этих ожиданий "третьего завета", фатальную несерьезность всей "гиппиус-мережковщины".
Среда, 25 февраля 1981
Кризис в Spence. Воспринимаю его почти как Божье указание, чтобы Л. бросила этот каторжный труд. Сам кризис, однако, поражает нас обоих своей бессмысленностью и если что являет, то поразительную незащищенность в Америке того, кто не принадлежит к денежному establishment
[1405]. Жалоба – мелкая, глупая, нестоящая – трех родителей, то есть "клиентов" (из тысячи!), и начинается паника и заодно сведение всех мелких счетов… Чувство отвращения от всего этого и настоящего восхищения мужеством и терпением Л., "избитой" операцией, слабостью, мелочностью друзей и, несмотря на это, остающейся настоящей "ванькой-встанькой". Сегодня – решительное заседание.
В связи со смертью Н.Я.Мандельштам перечитываю ее "Вторую книгу". Удивительный человек, удивительное ясновидение в главном. Как поразительно ее убеждение в том, что духовная "двусмысленность" символизма сделала их [поэтов-символистов] слабыми в распознании большевизма, а духовно трезвый акмеизм Ахматовой, Гумилева и Мандельштама – сделал их стойкими. Думая о Блоке, Белом, Брюсове – прихожу к выводу, что – в основном – анализ этот верный.
Скоропостижная смерть в Париже 12 февраля Репнина. В моей жизни он занимал особое и, я убежден, для других
необъяснимое место. Он неотрывен от того таинственного праздника, которым были для меня, я уверен – для нас, пять лет корпуса в Villiers le Bel. 1930-1935, то есть годы между девятым и четырнадцатым годами моей жизни. В корпусе была священная мифология России, служения ей, ее спасения. Корпус был не для нас, не для нашей "подготовки к жизни", не для просто образования, учебы, воспитания. Он был – для России, служение ей. И потому что нам это внушалось денно и нощно нашими воспитателями, потому что вся наша ежедневная жизнь была насквозь пронизана символизмом этого служения, его "священностью", потому что цель и содержание нашей жизни были предельно ясны, но при этом и предельно высоки:
служить России и, конечно,
умереть за нее ("И смерть дорога нам, как крест на груди"
[1406]), потому что, сами того не сознавая, мы жили в некоем грозном, сияющем и безнадежном мире, – эта атмосфера определяла в каком-то подсознании и наши личные отношения, делала их "романтическими". Не то что мы воспринимали дружбу как "служение России", но она – повторяю: подсознательно – делала друга, товарища, "кадета" больше чем "copain"
[1407]. Иными словами, кроме всех обычных мальчишеских, детских измерений эта дружба имела еще и иное, высшее измерение, жила отсветом той высокой дружбы, на которой – так нас учили – держалась Россия, дружбы освященной, скрепленной на полях сражений смертью друг за друга, смертью
вместе , дружбы, в которую наша "кадетская дружба" была посвящением. Дружба по самой своей природе не может быть "безличной". Она воплощается во всей полноте своей – в другом, в друге единственном, таком, дружба с которым жаждет какой-то непонятной абсолютности. Таким другом и был для меня в те, в сущности, немногие [годы], но теперь кажущиеся самым длинным, почти вечным периодом моей жизни, Репнин. Потом, вскоре, из моей
реальной жизни он выпал, несмотря на его учение в Богословском институте, встречи и т.д. Он не занимал никакого места в этой реальной жизни, как и я в его жизни. Но память об этой дружбе, неистребимая
метка ее на душе остались. И вот – эти встречи в каждый приезд в Париж, вчетвером, впятером (Андрей, Петя Чеснаков, Репа, я, в последние годы – Траскин). Ужинали в ресторане, сидели в кафе, провожали друг друга "до метро". Разговаривали о пустяках, общих интересов было так мало. Репнин жил со своей душевнобольной женой на каком-то чердаке на Ilе St. Louis, работал где-то ничтожным gratte-papier
[1408] – ив эту свою "реальную" жизнь нас не пускал, хотя мы уже знали, что эта мелкобуржуазная жизнь на деле светила подлинным героизмом, святостью: ежедневной, ежечасной заботой о больной жене. Встречались и расходились, словно исполнив некий самоочевидный, хотя словами и неопределимый долг. Теперь, однако, я чувствую, что к этим встречам применимы слова любимого мною стихотворения Адамовича:
Но реял над нами
Какой-то таинственный свет,
Какое-то легкое пламя,
Словно по-своему мы совершали таинство "причастия" этой дружбе, уже свободной от всего "житейского", почти – от самой жизни, уже до конца преображенной… И если, как я думаю, о дружбе можно сказать, как и о любви, что настоящая дружба – единственна, как единственна и подлинная любовь, то таким единственным другом – в моей жизни, для меня – был Репнин.
Другая смерть, тоже в Париже, – о.Леонида Могилевского, с которым связаны все [последние] "лекурбские" годы маминой жизни.
Воскресенье, 1 марта 1981
Прочел – из-за любви моей к биографиям и автобиографиям – книгу о последних годах Эдмунда Вильсона (его книги в 50-х годах были для меня "введением" в американскую литературу) (R.H.Costa "Edmund Wilson. Our Neighbor from Talcotville", University of Syracuse, 1980
[1410]). Как и при чтении биографии Липмана, меня поразило в Вильсоне, этом "властителе дум", создателе репутаций и "трендов", шаткость, если не отсутствие, сколько бы целостного мировоззрения и, следовательно, критериев, перспективы, всего того, что необходимо для
оценок и
понимания . Увлечение коммунизмом, разочарование в коммунизме, дешевая ненависть к американской "системе" (главным образом из-за столкновения с налоговым ведомством). Капризные "любви" и "нелюбви". И, под старость, алкоголь и порнографические фильмы, и, несмотря на это, всеобщее кажденье: "greatness!"
[1411]. Пустота, знающая свою пустоту и на ней, ничтоже сумняшеся, строящая какие-то оценки, принципы и т.д. Вечное круженье вокруг религиозных тем (Пастернак, "Доктор Живаго", свитки Мертвого моря) при
нежелании – нежелании, а не невозможности – продумать, прочувствовать… Вечное "заполнение пустоты". Грустно. "Религиозная драма Запада", ее отличие от "религиозной драмы Востока": это сейчас краеугольная тема.
Запад: не отказ от Бога (как думают обычно), а разделение – внутри религии – "трансцендентного" от "имманентного", от эсхатологической сущности христианства. Отождествление его либо с "неотмирным", либо с миром и историей. Потеря при этом и "неотмирного", и "мирского". Пустота, образовавшаяся от этого разрыва, и "культура" как попытка эту пустоту не преодолеть, а "заговорить" объяснениями ее. В сущности, шизофрения . Новая западная культура – шизофреническая и потому клиническая . Всегда на грани безумия, саморазрушения, самовзрывания… И самое жалкое, самое пустое в ней – именно ее "рационализм", который, потому что он ничего не разрешает, вечно размывается "иррационализмом". Ах, если бы было время всем этим по-настоящему заняться…
Среда, 11 марта 1981
Не пишу, но не потому, что нет времени или нечего писать, а потому что не хочется писать о главной заботе этих дней – о Льяниной трагедии в Spence. Вчера все кончилось – она уходит 1 июля. Но так жаль ее, оскорбленную, обиженную в своих лучших чувствах. И еще – опыт чистого зла , необъяснимого, иррационального. И, наконец, облегчение, ощущение, что сам уход – освобождение от этого страшного, воцарившегося и торжествующего зла.
5-7 марта в Монреале на retreat, устроенном Ваней [Ткачуком]. Эти дни – большая, чистая радость. Прикосновение – на этот раз – к добру, к свету. Масса молодежи. Чудные службы. И все это – в канадском захолустье, хотя и два шага от Монреаля. Тишина, белизна заснеженного монастырского сада. Прогулка по кладбищу, где тесно стоят ряды могил – монашки…
Третий день Великого Поста. Retreat в семинарии. Сегодня, полагая двенадцать поклонов на "Господи и Владыко живота моего", так ясно ощутил, что грешен всеми главными грехами.
Прочел книгу В.Levy "L'ideologie franchise"
[1412], о которой с невероятной страстью спорят во Франции. Прочел с волнением. Сколь бы ни была она заостренной, сама – страстной и в чем-то, возможно, и несправедливой, на глубине своей это книга
о главном , о том, о чем обычно мы не "додумываемся".
Март мне всегда кажется непреодолимо длинным "антрактом" между зимой и весной. Какой-то глыбой, через которую никак не перелезть. Вчера и позавчера – совсем весеннее солнце. Сегодня за окном – дождь, мокрый снег, зима, как засидевшийся, надоевший гость.
В такие дни кажется, что все, о чем люди спорят, чем они живут и интересуются, – невероятно скучно.
Пятница, 3 апреля 1981
Подряд – почти летние дни: солнце, жара, начинающие зеленеть деревья. Чувствую страшную усталость от этой зимы – операция Л., драма в Spence, a сейчас – спешная работа над новым уставом семинарии и т.д. Потому ничего и не пишу сюда: жизнь вся из каких-то обрывков…
В прошлый понедельник (30-го) – покушенче на президента Рейгана. Несколько часов у телевизора, где снова и снова показывают все подробности. Убийца, или тот, кто хотел убить, – типичный продукт 60-х годов: нечто безвольное, бесцельное, бессмысленное. Неужели никогда не поймут эти поклонники "молодежи", что они с этой молодежью сделали, во что превратили?
Personal impressions
[1413] Исайи Берлина. Воспоминания о встречах с Ахматовой и Пастернаком в 1946 году. Но меня еще больше интересует сам Берлин. Талантливый, блестящий, умный, правдивый – все на месте. Но как может он
не верить ! Мне все чаще кажется, что настоящий вопрос – не о том, как возможна вера, а о том. как возможно неверие.
Вторник, 7 апреля 1981
Напряжение в Польше, растущее каждый день. Брежнев в Праге. "Предостережение" Рейгана и др. Как все это напоминает мне август 1968 года, день накануне советского вторжения в Чехословакию, когда я сидел в Париже у Вейдле и он, в ответ на мою тревогу, говорил: "Да что Вы, голубчик, да ничего не будет – ведь времена-то другие!.." А на следующее утро при пробуждении – первая весть: "Вторглись!" И потом я гулял по солнечному, августовскому Парижу, и все было спокойно… Запад – это история предательств. В Париже главное – это чтобы "la gauche"
[1414] пришли к власти. В Америке – купюры в бюджете. И если чем взволнована "совесть" западной интеллигенции, так это американской поддержкой хунты в Сальвадоре. Так ясно: если захотят – войдут, если войдут – не остановятся перед кровью. А Запад будет пищать о serious consequences
[1415]. Как хотел бы я быть в этом прогнозе – неправым…
Среда, 8 апреля 1981
Думал сегодня – в который раз – о неумирающей левой мечте. Ни западная интеллигенция, ни значительное число диссидентов так-таки и не могут с нею расстаться. Несмотря на Сталина, на ГУЛаг, на провалы социализма везде и всюду –
нужно быть левым, голосовать за левых и, главное, ненавидеть по-настоящему только
правое . Если же "левый" становится "правым" до конца (как nouvelle droite
[1416] во Франции), он становится расистом, антилибералом, почвенником… Таким образом,
два идола . И между двумя этими идолами разделилось и христианство – стало либо левым (с недавних пор), либо же еще более правым, чем было.
Я думал давно уже и продолжаю думать, что христианство (Церковь) одно могло бы "экзорцировать" оба этих идола, и то, что христиане этого не делают, то есть не предают анафеме обоих идолов и не раскрывают сущности их как идолов, – есть указатель "выдыхания" христианства.
Изумительные дни. Ярко-желтые, цветущие форситии повсюду. И такое страстное желание тишины, упорного труда над "Литургией", как бы "безмолвия" жизни. А вместо этого обычная великопостная суета. Завтра еду в Terryville (Коннектикут) (духовенство). В пятницу в Питсбург.
Пятница, 10 апреля 1981
Между поездками. Вчера в Terryville у о. Коблоша, "говение" коннектикутского благочиния. Служил Преждеосвященную – один, и это, после нашей обычной толпы в семинарском алтаре, непривычно. Говорил о горестях и радостях священства. Потом очень дружный ужин и вечер у Коблошей с другими отцами. "Прикосновение" к сущности Церкви…
Ехал туда дождливым, но таким весенним днем. И думал, как я люблю эту Америку старых "поношенных" городов, и о том тоже, сколько с ней связано "кровных" воспоминаний за эти тридцать лет.
Сегодня Похвала Богородицы, на которой я не буду, так как уезжаю на – последний – retreat в Питсбург.
Понедельник, 13 апреля 1981
Вчера все после-обеда сидел над налогами. К вечеру просто обалдел. Вечером, тем не менее, праздновали рожденье Сережи: тридцать шесть лет! Приближается их отъезд в Москву, и становится все грустнее: опять разлука…
В пятницу вечером и в субботу на retreat в Питсбурге. Светлое впечатление от о.М.Мацко, от людей, так очевидно "алчущих" и "жаждущих". И, как всегда, эта необъяснимая радость от соприкосновения с "питсбургной", с этой особой Америкой "иммигрантов", с их храмами – безобразными и трогательными одновременно… Все уродливо – домишки, улицы, здания, и вот чувствую, что "веет над этим какой-то таинственный свет". Тут много страдали и много молились. И несмотря на ограниченность этого
Православия, насколько здесь все
подлиннее , чем в новых, асептических "suburban"
[1417] приходах.
Разговор вчера с Колей Озеровым о словах . Он пишет какой-то "еретический" синтаксис, но мысли высказывал интересные и мне близкие, ибо применимые к моим размышлениям об "объяснительном" богословии. "Слова, – говорит Коля, – имеют смысл только в определенном контексте ". Но то, что он называет контекстом, я, применительно к богословию, называю опыто м Церкви. Богословие есть постижение непостижимого (а не его "объяснение"). Постижение же это возможно (и необходимо), потому что "непостижимое" дано и раскрывается в опыте Церкви – он "животворит" слова. Объяснительное же богословие навязывает слова извне.
Я знаю твердо, что до смерти мне нужно кончить мою "Литургию"
[1418], ибо в этой книге и нужно сказать все это (об опыте, о богословии, о словах). Но мое горе в том, что погрязаю в "делишках", от которых не имею права отказаться. So it's up to God
[1419]. Если нужно, напишу. А если не нужно и недостоин, то – не напишу. It's as simple as that
[1420]…
Вторник, 14 апреля 1981
Крестил вчера внука Юры Степанова, "однокашника" по корпусу. Смотрел на него и думал, что вот все эти пятьдесят лет, прошедшие с тех пор, что мы жили под одной крышей, одной жизнью, он жил – и недалеко, рядом, но совершенно независимо, отдельно от меня. Потом жизнь свела на два часа, года два тому назад, на свадьбе его дочери и теперь еще раз – на крестинах, и это все…
Пятница, 17 апреля 198 1
Сегодня утром проводили в Москву (!) Сережу со всей его семьей. Я ставлю восклицательный знак, потому что не могу привыкнуть к тому, что мой сын живет и работает в Москве…
Последний день Великого Поста. "Заутра Христос приходит воскресить умершего брата…."
Страстной понедельник, 20 апреля 1981
Службы Лазаревой субботы и Вербного воскресенья прошли как-то особенно радостно. В Вербное до Литургии крестили маленького Эндрю Дрил-лока. И этот "Апостол всех Апостолов": "Радуйтесь… и паки реку, радуйтесь…" Действительно – Царство Божие "среди нас", "внутри нас"… Но почему – помимо минутной радости – все это не действует ! Сколько кругом, совсем близко – злобы, взаимного мучения, обид, сколько – можно без преувеличения сказать – скрытой violence. Чего человек хочет, жаждет – больше всего, чего не получая – превращается в "злого" и – получая это – оказывается ненасытным? Признания , то есть "славы друг от друга". Быть для другого, для других – чем-то : авторитетом, властью, объектом зависти, то есть именно – признания , вот, мне кажется, главный источник и сущность гордыни. И именно эта гордыня превращает "ближних" – во "врагов", именно она убивает ту радость, к которой призывает нас вчерашний Апостол.
В Церкви – потому что она "микрокосм" и, главное, потому что она призвана являть в "мире сем"
новую жизнь, то есть жизнь, источник, сущность которой не гордыня, а любовь (к "врагам"), – все это особенно очевидно. Вне Церкви, в "мире сем", гордыня, как и смерть, как и власть, как и "похоть" –
узаконены и для них, так сказать, найдены формы, их как бы "сублимирующие", превращающие в phaenomenon bene fundatum
[1421]. Отсюда в наши дни, например, эта возня с "правами" и с "демократией". Главная движущая сила этой возни совсем не "свобода", как это принято думать, а
уравнение . Это – страстное отрицание
иерархичности жизни, защита совсем не права каждого быть "самим собой", а подсознательное утверждение, что, в сущности, все –
то же самое и, значит, нет на самом деле "первых", нет незаменимых, единственных, "призванных". Американские писатели и поэты, например, подрабатывают тем, что преподают в университетах "creative writing"
[1422]. Тут поразительна – до смешного – сама идея, что любого человека можно
научить быть Шекспиром, достаточно только научиться у "эксперта".
И все же в падшем мире, "во зле лежащем", и права эти, и демократия оказываются относительным добром, относительной регуляцией той вражды всех против всех, что является, на глубине, законом мира сего. Зло они только в ту меру, в какую исчезает понимание их "относительности" и они обожествляются. Добро они, иными словами, только по отношению к тому злу, которое они регулируют и, так сказать, "ограничивают" в его всесилии. Так, они – добро в тоталитарном государстве или расовом, но они сами превращаются в зло там, где они побеждают и становятся "самоцелью", то есть идолом. А становятся они идолом всякий раз, что, переставая быть защитой слабых , становятся орудием уравнения и тем самым – духовного расчеловечивания, в конечном итоге "гордыни"…
В том-то и все дело, однако, что к Церкви все это абсолютно неприменимо. Ибо она не знает никакого иного "закона", кроме закона любви или, лучше сказать, кроме самой
любви – отрицанием, оскудением которой, отпадом от которой и является гордыня ("похоть плоти, похоть очей и гордость житейская…"
[1423]). Любви как Божественной жизни. А в этой Божественной жизни
нет гордыни. Отец есть всегда Отец, но
все отдает Сыну, Сын "не претендует" на "право" быть Отцом и есть
вечно Сын, а Дух Святой – сама Жизнь, сама Свобода ("дышит где хочет…"
[1424]) – есть Сама Любовь Отца к Сыну, Сына к Отцу, сама Божественная самоотдача и послушание. Эту любовь дарует, ей приобщает Бог человека, и это приобщение есть Церковь. И потому в ней нет никаких "прав" и с ними связанного
уравнения . Нет уравнения, и потому нет "сравнения" – этого главного источника
гордыни . Призыв к совершенству, обращенный к каждому человеку, есть призыв найти
самого себя , но найти не "по сравнению" и не по "самоанализу" (в чем мой potential
[1425]) – а в Боге. Отсюда парадокс: найти себя можно
только потеряв себя, и это значит – отождествить себя до конца с "призванием", с замыслом Бога о себе, но раскрываемом не в "себе", а в Боге…
Любить Божьей любовью . И себя, и других… Как нужно было бы – в наш век почти полного непонимания любви – поглубже вникнуть в радикальную "особенность" Божьей любви. Мне иногда кажется, что ее первая особенность – это жестокость . Это значит – отсутствие в ней той "сентиментальности", с которой уже давно отождествил ее (и потому – само христианство) "мир сей". В любви Божьей нет обещания "земного счастья", нет и заботы о нем. Или, лучше сказать, оно целиком подчинено обещанию и заботе о Царстве Божьем, то есть о том абсолютном счастье, для которого создал, к которому призвал человека Бог. Отсюда первый, основной конфликт между любовью Божьей и падшей любовью человеческой. Отсечь руку, вырвать глаз, оставить жену и детей, идти узким путем и т.д. – все это так очевидно несовместимо с "житейским счастьем". Именно от всего этого в ужасе отшатнулся "мир сей", этого не захотел, это возненавидел. Но – и это самое важное – отшатнулся тогда, когда в самой Церкви что-то переменилось, что-то "отшатнулось". Что? В этом весь вопрос. Но об этом, как говорят в таких случаях, – в другой раз… Надо идти в церковь, "включаться" в Страстную неделю…
Великий вторник, 21 апреля 1981
Что потеряло христианство, прежде чем "отшатнулся" от него им вскормленный мир и начал свой
суд над христианской верой? Оно потеряло
радость , но опять-таки не радость "природную" (как и природную любовь), не радость-оптимизм, не радость
от земного счастья, а ту Божию радость, о которой Христос сказал, что ее никто не отнимет от нас. Только эта радость знает, что любовь Божия к человеку и миру
не жестокая, знает же потому, что сама
от того "абсолютного" счастья, для которого создал нас Бог. Христианство (не Церковь в своей мистической глубине) потеряло свое эсхатологическое измерение, обернулось к миру как "закон", "суд", "искупление", "мздовоздаяние", как религия "загробного мира", в пределе – запретило "радость" и осудило "счастье". И тут нет различия между Римом и Кальвином, мир восстал против христианства во имя земного "счастья" – и все его вдохновение, вся его мечта – утопии, идеологии и т.п. – нужно ли доказывать это? – в сущности своей суть "земная эсхатология". Парадокс истории христианства: перестав быть "эсхатологичным", оно сделало "эсхатологичным" – мир! Ибо, horribile dictu
[1426], прав Набоков: "мир создан [в день отдыха]"
[1427] ("и хочется благодарить, да некого"). Мир создан
Счастьем и для счастья, и об этом счастье все в нем "вещает", все к нему призывает, все о нем свидетельствует самой своей "хрупкостью". В падшем, утерявшем счастье, но о нем тоскующем, им – несмотря на все – живущем мире христианство открыло и даровало счастье, его во Христе как "радость" исполнило. И потом само же "закрыло". И тогда мир возненавидел христианство (именно – христианский мир) и вернулся к своему "счастью". Но, уже отравленный неслыханным обещанием абсолютного счастья, стал его строить, к нему "прогрессировать", ему – будущему – подчинять настоящее… И вот теперь, замыкая этот круг, само христианство, чтобы завоевать себе обратно свое место в мире и в истории, принимает эту земную эсхатологию, начинает уверять себя и других, что именно к этому земному счастью оно всегда на деле и стремилось и что ни о чем другом не учили ни Христос, ни Церковь.
Оно расколото на "консерваторов" (тоскующих по религии закона и мздовоздаяния, которую они-то и создали) и "прогрессистов" (служащих будущему счастью на земле), но вот что любопытно: и те и другие ничто так не ненавидят, как призыв к радости, как напоминание о той "радости великой", с возвещения и дарования которой начинается Евангелие, которой христианство живет (радуйтесь, радуйтесь о Господе и паки реку – радуйтесь!) и которой (а не награды) оно чает . Одни говорят: "Как можно радоваться, когда миллионы людей страдают! Нужно "служить миру"…" Другие говорят: "Как можно радоваться в этом мире, во зле лежащем?" Не понимают, что если на какую-то минуту (длящуюся, тайно и подспудно, в святых) Церковь победила мир, то победила только Радостью и Счастьем.
Тупик мира со своим "прогрессом". Тупик религии с ее "законом" и терапевтикой. Из обоих этих тупиков вывел нас Христос. И это вечно празднует Церковь, и этого столь же вечно не хотят и потому не слышат люди.
…не ктому в земный Иерусалим,
за еже страдати,
но восхожду ко Отцу Моему
и Отцу вашему,
и Богу Моему,
и Богу вашему,
и совозвышу вас
в горний Иерусалим,
Великий четверг, 23 апреля 1981
Христианство прекрасно . Но именно потому, что оно прекрасно, совершенно, полно, истинно, – приятие его и есть прежде всего приятие этой прекрасности , то есть полноты, Божественного совершенства. Между тем сами христиане, в истории, "раздробили" его, стали и сами воспринимать его, и другим предлагать – "по частям", и по частям, часто не отнесенным к целому. Учение о том, о сем, доктрина того, сего… Но в этом раздробленном виде оно теряет главное, ибо только в том, чтобы приобщить нас к главному , – смысл каждой "части".
Великая пятница, 24 апреля 1981
Вчера – в Великий четверг! – между службами длинный, тяжелый, мучительный разговор с Н. Поразительно его полное, абсолютное непонимание себя самого, своего отношения к жизни, к другим. Это не человек, а какая-то лейбницевская "монада", без антенн к внешнему миру, без какого бы то ни было понимания других людей. А это, в сочетании с "максимализмом", и "догматизмом", и "морализмом", превращает все в некое жуткое кривое зеркало. Так как "я все сужу с христианской точки зрения", то "я всегда прав". И вот всякий разговор становится кошмаром – от полной невозможности что-то объяснить, дать почувствовать. Выходит так, что можно всю жизнь отдать на "изучение Бога" (то, что Н. утверждает о себе) и ничего, решительно ничего не понять ни в жизни, ни в людях… И корень тут, конечно, опять в гордыне. В данном случае гордыня – это изначальный выбор своего подхода к Богу и к "изучению" Его, выбор метода . Когда между Богом и человеком стоит метод , то и Бог отражается в кривом зеркале… Метод – это гордыня разума, это навязывание Богу моих категорий. Метод – это идол …
Великая суббота, 25 апреля 1981
Перед уходом в церковь на любимейшую из любимейших служб: крещальную, пасхальную Литургию Василия Великого, когда "спит живот и ад трепещет…"
И пишу только для того, чтобы сказать это. Это день моего "обращения": не от неверия к вере и не от нецерковности к церковности и т.д., нет, – обращения внутри веры, внутри Церкви к тому, что составляет "сокровище сердца". Несмотря на греховность, лень, равнодушие, на почти постоянное, почти сознательное отпадение от этого сокровища, на небрежение в буквальном смысле этого слова. Не знаю как, не знаю почему, действительно, только по милости Божией, но Великая суббота остается средоточием, светлым знаком, символом, даром всего . "Христос – новая Пасха…" И ей, этой "новой Пасхе", что-то во мне говорит с радостью и верой: Аминь.
Светлый понедельник, 27 апреля 1981
Изумительная Пасха: по радости, по торжественности, по лучезарным весенним дням. И, главное, эта толпа молодых, празднующих Пасху с такой силой, так действительно всем существом. И после длинной субботы и длинной ночи та же толпа и на вечерне, и сегодня на Литургии.
Днем вчера у тети Марины Трубецкой, нашего "последнего из могикан". Вечером – в счастливой и шумной толпе внуков у Хопок. Звонок от Мани и
Сережи из Москвы (а сегодня – его статья о Пасхе в Москве в "Нью-Йорк тайме"). Звонок от Маши и Вани [Ткачуков] из Монреаля, восторженный – о Пасхе в их приходе.
Во Франции прошли Жискар и Миттеран (28% и 26%). "Разгром" коммунистов – меньше 16%. Но, увы, сколько раз уже говорили об их разгроме… И все-таки у "левых" почти 50%.
Приближаясь к шестидесяти годам, думал, все время "подумываю" о разных "слагаемых" моей жизни, то есть о тех ее полосах, периодах, "состояниях", которые входят в синтез , если о таковом можно говорить. О том, иными словами, что осталось, что так или иначе сыграло "роль" и так или иначе живет на подспудном уровне, всегда входит в настоящее и действует в нем.
Раннее детство (1921-1929, то есть Эстония, Белград и год Парижа до корпуса) – очень мало. Несколько "мгновений", оставшихся живыми образами. Затем:
Корпу с (1929-1935), то есть детство и отрочество. Очень важно, ибо – Россия, зарождение двупланового опыта жизни. И также – Церковь (о.Зосима, о.Савва), литература и поэзия (генерал Римский-Корсаков и его чтения и его "тетрадка" стихов, которые мы должны были зубрить на память).
Париж и Франция (1935-1940). Lycee Carnot. Жизнь на Clichy. И – одновременно – [собор Александра Невского на] rue Daru, прислуживание и т.д.
Богословский институт (1940-1951) и все, что он "соединял". Женитьба. Кламар. Богословие.
Америка , (а) Нью-Йорк: Флоровский и семинария, русский Нью-Йорк ("кружок", Карпович, Новицкий, Гагарины, Bridgehampton, Labelle, Денике, Варшавский, ужины у Терентьевых и т.д.); (б) Крествуд, православная Америка, Солженицын…
Настоящее . Книги, мечты и разочарования. Прошлое, будущее… "Синтез".
И вот, если подумать, – жизнь сложилась буквально почти до мелочей так, как "хотелось" и "виделось" ("мечталось" в скучные часы за партой в лицее). Сложилась одновременно единой в своей основе (Церковь) и многообразной, многоплановой (карпатороссы в Огайо и… Солженицын… Россия, Франция, Америка). За что особенно благодарить Бога (кроме, конечно, благодарности за сам дар жизни)? За свободу от идолов . За почти всегдашнее ощущение в жизни – другого, главного , что во всем присутствует, но и ни с чем не отождествляется, за радость . В чем особенно каяться? В самосохранении, в бегстве от подвига и связанного с ним страдания, в равнодушии и потому в компромиссе.
Понедельник, 11 мая 1981
Во Франции победил Миттеран (51,
8 !). Победила усталость от Жискара, победила "левая мечта", победило извечное "они любить умеют только мертвых…"
[1429]. Я никогда не был поклонником Жискара, но он так или иначе воплощал некую традицию, или – по-другому, по-теперешнему – его "дискурс" был традиционным. Теперь к власти пришла прежде всего
демагогия , вся гнилая, плоская социалистическая мифология. Эта мифология, эта демагогия размывали уже и жискаровский "дискурс". Теперь он воцарится… Победа Миттерана на глубине есть победа
глупости , победа извечной французской консьержки: "ils nous roulent"
[1430]. Конечно, всякая власть roule
[1431] народ. Но в лице Миттеранов к власти приходит сам обман, обман как таковой. И в этом вся разница…
Сутки в Вермонте у Солженицыных – 6 мая. Литургия утром. Изумительная весна, солнце, горы. Сам С. все больше и больше превращается в подлинного отшельника . Но радостный, спокойный… Длинный разговор с ним о "канонизации" царской семьи.
В четверг утром, забрав Никиту Струве, возвращаемся в Крествуд. Два дня очень радостной, "освежающей" дружбы с ним.
Вчера на торжественном служении в St. John the Divine no случаю приезда в США нового архиепископа Кентерберийского. Пышная служба. Сотни священников. Кардинал. Ладан. Хор, орган, процессии… Но не могу отделаться от впечатления, что все это игра , что вся эта средневековая пышность – игра , что она ничему не соответствует в реальности . И когда архиепископ открывает рот и проповедует – нас заливает все то же подлизывание к "миру сему".
На Фомино воскресенье удрали с Л. в наш любимый Easthampton. Утро на совершенно пустынном пляже, перед синим океаном, под голубым небом. Блаженный опыт "одиночества и свободы".
Я не могу отделаться от убеждения, что Церковь (Православная, хотя и не только она, конечно) съедается "благочестием". Вся эта болтовня о монашестве, об иконах, о духовности – до какой степени все это мелко, фальшиво, есть игра самолюбий… Все эти разговоры для меня стали совершенно невыносимыми. Мы живем в мире подделок.
Среда, 13 мая 1981
Ужин в Syosset: опять патриарх Александрийский. На этот раз он мне показался очень симпатичным старичком – я сидел рядом с ним. Но остается вопрос: для чего нужен патриарх Александрийский? И горе Православия в том, что вопрос этот просто никому не приходит в голову…
Все эти дни в семинарии, в суете последних дней учебного года. И к вечеру спрашиваешь себя: чем люди живы ! Все мелочное, неважное, личное, с подоплекой обид или "рвачества". Чувство такое, что ни одного глотка свежего воздуха. Вечно "спертый" воздух. А ведь все о религии, Церкви и – страшно сказать – Боге…
Четверг, 14 мая 1981
Покушение на Папу. Шок во всем мире… И немедленно "философствования", "поспешные выводы" (выражение о.В.Зеньковского). На деле же, мне кажется, все просто. Это нежелание бороться со злом. И нежелание – под давлением тех, кто после каждого покушения глубокомысленно рассуждает о "духе нашей эпохи". Этот турок был приговорен к смерти в Турции за убийство. Он бежал, неизвестно как, из тюрьмы. Он за последние месяцы свободно въезжал в Италию и из нее выезжал. Он еще два года тому назад открыто заявил, что убьет Папу. Можно подумать, что весь мир только и занят что защитой human rights террористов – в Германии, в Ирландии, в Италии. И вот, по Розанову, "мерзавцы разрывают мир…"
Ворчу и даже унываю, ибо смертельно устал от последних дней учебного года, недоразумений с епископами, от всей донельзя мелочной суеты. Нужно было бы "воспарить духом", а на это – ленюсь…
Воскресенье, 17 мая 1981
Этот день – Commencement, который месяцами и неделями кажется недостижимой мечтой, – всегда так-таки приходит! И вдруг после невероятного напряжения, волнения, суматохи, страха, что забудешь что-то, – вот это тихое солнечное утро, блаженное ощущение свободы. И хотя отъезд в Лабель – вторая мечта, вторая "недостижимость" – еще так далек: шесть недель! Хотя еще много дел, и даже неприятных, трудных, на очереди, "главный груз" – присутствие, давление ста студентов – за спиной…
Поразительно, как в такие напряженные дни каждый показывает, являет себя – свои маленькие страстишки и "одержимости". Можно было бы книгу написать…
"Дома", "самим собой" я осознаю себя только когда читаю лекции. Какой бы он ни был, но это, в сущности, мой единственный дар. Все остальное – руководство, "духовная помощь" – все с чужого голоса и потому такое тягостное. Лекции – я всегда с удивлением ощущаю это – я читаю столько же для себя, сколько студентам. В них я не кривлю совестью, и не кривлю потому, что их читает во мне кто-то другой, и часто они просто удивляют меня: вот, оказывается, в чем вера или учение Церкви… Мне иногда хочется встать и громко заявить: "Братья, сестры! Все, что я имею сказать, о чем могу свидетельствовать, – все это в моих лекциях. И больше ничего у меня нет, и потому, пожалуйста, не ищите от меня другого". Ибо во всем другом я не то что лгу, но не чувствую того "помазания" ("помазанное слово" старой семинарской гомилетики), которое необходимо, чтобы быть подлинным. Быть может, что-то вроде этого имел в виду апостол Павел, когда говорил, что Бог послал его не крестить, а "благовествовать"
[1432].
Все это, чтобы объяснить, почему мне так трудно весь год. Душа моя "прячется" от людей, и все, что я делаю кроме "благовествования" (больше всего личные разговоры, советы), для меня так бесконечно тяжело. Я играю роль , навязанную мне извне и не играть которой не могу, и потому – такую для меня тяжелую…
"Батюшка, научите меня жить
духовной жизнью …" Вот тут, с этой "духовности", о которой все безостановочно говорят, и начинаются мои "трудности". Тут я в чем-то слеп и глух. У нас теперь "духовность" вошла в состав богословских дисциплин. Никому не кажется смешным выражение – "Spirituality 101"
[1433]. Бюллетенчик французского прихода на rue Daru почти целиком состоит из цитат из Добротолюбия. Я знаю людей, которые регулярно летают в Лондон к митрополиту Антонию Блуму исповедоваться, ибо он их "ведет". Одна из наших студенток накатала триста страниц диссертации об "одиночестве в аскетической традиции"… и т.д. Вот тут я упираюсь в какую-то стену. И не потому только, что, по моей интуиции, эта студентка если чем и одержима, то страхом одиночества и страстной тоской по дружбе, любви и т.д. Не потому также, что я никогда еще не видел ощутимых результатов этого духовного "вождизма", а видел, наоборот, немало духовных катастроф, с ним связанных. А потому что мне кажется ошибочным само выделение этой "духовности" в какую-то Ding an Sich
[1434], некий – или это мне только кажется – тонкий "нарциссизм", во всем этом разлитый…
"Будьте как дети…"
[1435]. Но разве дети "духовны"? А с другой стороны – разве не
детскостью своей победило христианство мир? Но, создав "нравственное богословие" и "духовность", стало терять его? Ибо "духовность" получить можно и от буддизма, и на худой конец от разных William James'oв
[1436], а вот детскую радость христианства…
И чем они больше исповедываются, чем напряженнее изучают (!) "духовность", тем сильнее в них та религиозная "сумасшедшинка", которую я ненавижу…
Понедельник, 18 мая 1981
Вчера бесконечные торжества интронизации епископа Петра (L'Huillier). Двойное чувство: с одной стороны – радость о возрождении народа церковного, Церкви как общины, семьи и т.д., о своеобразной ее "деклерикализации". А с другой – печаль о поверхностности всего этого, о неистребимой "банкетности" этой Церкви. И все-таки радость преобладает…
Вчера же – большая статья Сережи в "Нью-Йорк тайме" о весне в Москве, статья, из которой пахнуло "вечной" Россией, несмотря на все – пушкинской, чеховской, тургеневской…
Теперь только одна мечта – засесть за мою "Литургию", "отряхнуться" от нескольких месяцев суеты, борьбы и вообще – внешнего.
Вторник, 2 июня 1981
В воскресенье с Л. в Lafayette College (Истон, Пенсильвания), где мне давали Doctor Honoris Causa
[1437]. Старый, по-своему уютный город. Лучезарный день. Праздник, как бы наполняющий собою пространство и время. Речи, socials
[1438], церемонии.
А вчера на несколько часов в Вашингтоне у Поливановых, справляющих на этой неделе свою серебряную свадьбу. Сереже предстоит летом сердечная операция. На ужине и Григорьевы, другая мною венчанная пара. И чувство: как быстро проходит, как быстро прошла жизнь. Все мы за столом – седые, у всех к вечеру "приклонился есть день", у всех прошлого неизмеримо больше, чем будущего. Но потому, должно быть, так сильна и радость быть вместе, быть в le temps immobile. Обо всем этом думал, летя обратно в Нью-Йорк в полупустом аэроплане.
На прошлой неделе – трагедия аборта Н. Ужас зла, ужас бессмыслицы, так легко воцаряющихся в мире, в жизни, ужас этой легкой сдачи дьяволу.
А до этого, с четверга 21-го по вторник 26-го, – в Лабель. Солнце, озеро и еще ранняя весна! Блаженство и бесконечная благодарность.
"Сегодня дождь идет с утра и сосны мокрые унылы…" Так, я помню, начиналось стихотворение, написанное мною летом 1936 года (!), когда мы с мамой жили в Villiers le Bel "на даче" и я постепенно исцелялся после двух операций, от той "тьмы и сени смертной", что на несколько месяцев сделала мою жизнь настоящим адом (тем более "адским", что о нем никто никогда, кругом меня, даже и не подозревал…). Дальше в этом стихотворении было что-то вроде:
…все говорит мне: невозможно,
Все невозможно: и заря,
Что так сияла накануне…
От писания стихов я исцелился раз и навсегда, прочтя в какое-то вот такое "невозможное" утро начало "Медною всадника" ("если это и так написано, писать стихи тоже невозможно "). Вспомнил же эту "пробу пера" сегодня совершенно невольно (лет сорок не вспоминал), потому что именно такое утро: барабанный дождь на крыше и мокрые сосны за окном.
Чтение газет. Разговоры – здесь, там – о русских, американских, польских и т.д. "делах", о кризисе, о всевозможных
нужно (нужно, господа, наконец!!! и т.п.). И все, в известной мере, интересно и, пожалуй,
нужно . Но за этим всегда – отрешенность, даже удивление, что люди и впрямь считают столько разного "нужным". С годами я все больше, все сильнее чувствую, что Церковь и – в ней – Евхаристия
оставлены и
пребывают в мире, чтобы была в нем, чтобы
могла быть вся эта
отрешенность , чтобы на самой последней глубине, нам самим часто неведомой, могла наша жизнь быть "скрытой во Христе с Богом"
[1439].
"Чаях Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури…"
[1440]. Вспомнишь эти слова и удивляешься: зачем существуют кроме псалмов еще какие-то другие молитвы?
Среда, 3 июня 1981. Отдание Пасхи
Отдание Пасхи. Я только что вернулся из церкви, с чудной пасхальной службы, и хочу просто подтвердить написанное вчера: да, для этого и в каком-то смысле –
только для этого оставлена в мире Церковь. Чтобы снова и снова могли мы сказать: "Хорошо нам здесь быти…"
[1441].
На днях визит молодой греческой "матушки", жены бывшего нашего студента. У них "проблемы". Но откуда? Из разговора выясняется, что она начала читать "Добротолюбие", вообще занялась "духовностью". И вот – жалобы на мужа, недостаточно-де "духовного", на прихожан, на жизнь… Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но до сих пор [всегда было так]: как только появляется эта "духовность", моментально возникают "проблемы", и возникают потому, что "духовность" эта в наши дни есть еще одно выражение, форма того патологического "оборота на себя", которым буквально больна современная молодежь, да и не только молодежь… Почему это понимал неверующий Чехов ("Убийство") и не понимают наши новоиспеченные "старцы"?
Я все чаще думаю, что священство не должно было бы быть "профессией", то есть что священники должны работать, иметь другое
дело . Иначе они саму церковную жизнь превращают в какое-то "дело", или лучше – "деятельность", которой, в сущности, просто не нужно. Создают же они ее просто потому, что им самим нечего "делать", а вместе с тем неудобно получать жалованье за ничегонеделанье… Что "делали" первые христиане в промежутках между "собраниями в Церковь"? Об этом ничего не говорится в дошедших до нас "документах". По-видимому, создавали семьи и старались жить "по-христиански", то есть прежде всего
относить все к "единому на потребу", к присутствию Христа среди них, к опыту Царства Божьего… И опять-таки все это очень хорошо показано в чеховском "Архиерее". Радость Церкви и тяжесть, и уныние, и бессмыслица архиерейской "деятельности". Все, что имеет Церковь
сказать и
явить , все это – в богослужении, в собрании, в "исполнении" Церковью самой себя… Включив же "деятельность", мы докатились до приходских лотерей, а в Америке даже и до приходских "dinner dance"
[1442], все это, конечно, в виде "заботы" о Церкви… Знаю, что то, что пишу, всем покажется невозможным…
Пятница, 5 июня 1981
Утро в Бостоне, в греческой семинарии на съезде OTS (Orthodox Theological Society
[1443]). Доклад о браке… Увы, этих американских греков ощущаю как людей с какой-то другой планеты. "Греческое" в них как бы съело "опыт Церкви". Зато поездка – рано утром – на аэроплане, потом автомобилем в Бруклайн, и все это ликующим, солнечным, летним днем, – одно сплошное наслаждение.
Завтра утром лечу на пять дней в Санта-Барбару (Калифорния) для встречи с главарями Orthodox Evangelical Church
[1444]. Ощущаю это – в конце учебного года! – как тяжесть, бремя. Пять дней на людях!
Санта-Барбара. Воскресенье, 7 июня 1981
Вчера к вечеру приехал сюда (через Лос-Анджелес, где меня встретил о.Войчик) и сразу же погрузился в мир этих "православных евангеликов", которые серьезно хотят войти в нашу Церковь. Началось с ужина с шестью из их девятнадцати епископов, ужина очень дружного, веселого, простого. Он рассеял мой страх, что все это какие-то двойные фанатики – американского "евангелизма" и… Православия. Нет, слава Богу, ничего подобного. А есть доброкачественная серьезность, желание говорить "начистоту", без дипломатии.
Сегодня утром – на их богослужении. Оно у них двойное: сначала в их центре, то есть в большом зале, – синаксис с молитвой, псалмами, чтением Священного Писания и проповедью. Потом все разъезжаются на Евхаристии, которые совершаются "по домам", в гостиных. Конечно, внешне, так сказать, "непосредственно", все это бесконечно далеко от православного "литургического благочестия", в особенности – Евхаристия. Прежде всего отсутствие храма и потому – какой бы то ни было священности (кроме облачения предстоятеля, кажущегося в этом контексте почти странным…). Но если преодолеть это первое "утробное" впечатление, то за всем этим – та же серьезность и больше того – некое здравое благочестие. В моей голове (а мне предстоит два дня обсуждать все это с их "синодом" девятнадцати епископов) встает вопрос: способна ли Православная Церковь увидеть их православие, православие без "византинизма", без "мистериальности"?
И другой вопрос: чего здесь, у них, определенно не хватает? Сегодня их Пятидесятница . И проповедовал их епископ, и хорошо, – о Святом Духе. Но отсутствовал при этом сам опыт Пятидесятницы, который так изумительно даруется самой службой этого дня.
Санта-Барбара. Вторник, 9 июня 1981
Сегодня окончил мое "дело" здесь. Остался последний ужин и прощальный прием. Много мыслей, интуиции, впечатлений, но пока что хаотических. Главный вопрос остается тоже: способна ли наша Церковь серьезно отнестись к этим православным "евангеликам", распознать подлинность их "жажды" Православия, но не экзотического, "восточного", а тоже подлинного?
Только что с о.Войчиком провели два часа вдвоем в кафе на пляже. Синий океан. Дымкой подернутые горы с их сухой растительностью. Это "роскошество" солнца, синевы, белизны домов, праздничность, разлитая в воздухе… Сидя там, отдышались от напряженного утреннего заседания.
Читал вчера "Русский альманах", тоже необычайно "роскошно" изданный в Париже З.Шаховской, по-видимому назло и как урок "третьим", монополизирующим своим жалким "модернизмом" эмигрантскую литературу. Но, увы, и от этого "памятника" первой эмиграции, ее культурному уровню, ее качеству – отдает именно могильным памятником. Все сплошные fonds de tiroir
[1445], какие-то оставшиеся по сей день неизданными записочки и письма, библиографии, странички разорванных воспоминаний. Но ведь все уже сказано, все известно, и уж если что и писать и говорить о "золотом веке" нашей эмиграции, то
оценочное и
целое , а не эти membra disjecta
[1446], не эта поминальная тризна.
Вчера – с визитом у владыки Иоанна Шаховского. И впечатление светлое . Поистине духовная красота в старости. Я никогда не мог читать ею без раздражения на его вычурность, маньеризм, но человек он светлый и Божий и Христов. Увидимся ли снова?
Четверг, 18 июня 1981
Письмо от Никиты: Аллой подал в отставку (одновременно – письмо и от самого Аллоя, какое-то жалкое). Еще одна парижская "каша", в которую я буду непременно втянут… Далее Никита пишет:
"…как ни странно, но победа Миттерана – это победа старого над новым, мы вернулись на тридцать, пятьдесят, а иногда и сто лет назад. Недаром он пошел поклониться могилам столетней давности, да и вообще в нем что-то "наполеоновское" vu par Tolstoy: "ma pauvre mere"
[1447] и прочая сентиментальная риторика. Возврат к лаической религии более чем парадоксален в нашем быстро шагающем вперед времени. Следовало бы написать этюд на тему "Le socialisme – une evolution regressive""
[1448].
Согласен вполне. Все эти дни работа над четырьмя keynote lectures
[1449], которые должен прочитать на следующей неделе в нашем Pastoral and Liturgical Institute. Тема – брак, и, как всегда, только начнешь вдумываться, вглядываться, раскрывается в нашей вере что-то огромное, прекрасное, подлинно животворящее…
Пишу, однако, урывками из-за тысячи забот. Вчера и позавчера – ликвидация нью-йоркской квартиры, возня с перевозчиками и т.д. Суматоха в семинарии – Институт, бюджет, building projects
[1450]. Жаркие, солнечные дни.
Пятница, 26 июня 1981
Сегодня закончили Институт. Было много народа и потому много разговоров, встреч, суматохи. И четыре трудные лекции: по одной в день… Устали мы с Л. невероятно от этого труднейшего года и только и считаем часы до Лабель…
Завтра приезжает Андрей, и, как всегда, радостное ожидание. Лекциями своими о браке я доволен. И доволен, главным образом, потому, что читал их "сам себе", переживая их как "откровение" прежде всего самому себе.
Четверг, 10 сентября 1981
В Лабель тетради этой я с собой не брал. Поэтому начну эту – первую "осеннюю" – запись с летней сводки.
Смерть мамы . Она скончалась в понедельник утром 17 августа, будучи уже несколько недель в полусознании. Мы знали, что она умирает, и весть о ее смерти не была неожиданной. Как это ни странно, весть эта с тех пор как бы растет в душе, словно каждый день заново узнаешь…
Мы с Л. уехали в Париж 18-го вечером, с остановкой на день в Нью-Йорке. В среду 19-го (Преображение) – в три часа дня – было положение во гроб в церкви в Cormeilles. Я так рад, что мы застали маму еще не в гробу, а на постели. На положении во гроб была и [ее сестра] тетя Оля. А утром 20-го я служил там же Литургию – Преображенскую, с освящением яблок, со всей радостью этого праздника… Отпевание на rue Daru, и это значит – в детстве , в самой его сердцевине… Погребение на [русском кладбище] Ste. Genevieve. Тут, как и в день папиных похорон, пошел дождь. Вечером у Андрея на Parent de Rosan – тетя Оля, Тихон с Мариной, Жорж с Тони, Нина и Отар и совсем высохшая, малюсенькая Шура Габрилович.
Мы остались в Париже до девятого дня. Жили одни в квартире Саши Толстой. Стояли чудные, прохладные, солнечные дни.
Может быть, странно, но после ее смерти мама стала мне не только ближе , но как бы снова вошла в мою жизнь, стала присутствием… Все эти годы, особенно с переезда в Cormeilles, ее просто не было . Были эти, жалостью пропитанные, заезды к ней, горечь от созерцания этого разложения, распада жизни. А теперь вся она опять со мной, во мне, в том temps immobile, которое уже собрано для вечности… Смерть матери – это настоящее возвращение в детство, в обладание им, это восстановление – концом – начала…
Масса писем.
Суббота, 12 сентября 1981
Завтра – шестьдесят лет! А это, как ни верти, – старость. Чувствую ли я себя "стариком"? Нет, не чувствую. Чувствую ли, что мне шестьдесят лет? Да, чувствую. Но это совсем не то же самое. Ощутимее стало время: его хрупкость, его драгоценность. Ощутимее стала жизнь – как дар. И, конечно, ощутимее стала смерть, моя смерть, смерть как вопрос, как экзамен, как своего рода зов.
Чудное, длинное – и такое короткое! – лабельское лето. Прогулки каждый день. Три недели с Андреем. Какая-то все возрастающая потребность, необходимость в этом ежедневном причащении "аи doux royaume de la terre"
[1451].
И – часы за столом, за мучительно-блаженным писанием "Таинства Святого Духа" (так и не кончил!).
Теперь – десять дней суеты. Семинария, начало года, разрушение старой церкви, проблемы построения новой. Телефоны. Но все это пока что неспособно преодолеть, разрушить накопленной за лето радости, внутреннего мира, спокойствия.
Л. радуется "освобождению" и с уютом "строит" нашу по-новому свободную жизнь вдвоем в Крествуде.
Вторник, 15 сентября 1981
Первая передышка. А то – все торжества. Мое шестидесятилетие (очень веселый и дружеский прием у нас всей семинарской "семьи"). Длинные службы Воздвиженья. Две хиротонии. Заседание совета и т.д. К тому же – отвратительная мокрая духота… Теперь нужно найти ритм. Хотя на носу уже – поездка в Сиракьюс (юбилей о. А. Воронецкого) и на Аляску…
Вчера вечером начал свой курс "Liturgy of Death". Шестьдесят четыре студента! А курс elective
[1452], то есть необязательный.
Все это на фоне резни в Иране, социализма во Франции, игры с огнем в Польше, голодных забастовок в Ирландии, бешеной атаки "либералов" на Рейгана.
Много писем в связи с маминой смертью. И все очень хорошие, не казенные.
Недели две тому назад в воскресной "Нью-Йорк тайме" лекция Набокова о Достоевском, рекордная, с моей точки зрения, по своему злому легкомыслию. Боюсь, что от Набокова мало что останется, что все в нем исчерпывается его "блеском".
Книги (прочитанные "случайно", в минуты отдыха):
П.Б.Струве "Дух и слово" . Сборник его газетных статей и застольных "речей". Особенного интереса не возбудила.
Странник (ел. Иоанн Шаховской) "Переписка с Кленовским" . Переписка двух удивительных эгоцентриков. Одного – вполне счастливого в этом своем эгоцентризме, другого – отчасти несчастного (потому что недостаточно признанного…).
Письма Мориака ("Lettres d'une vie"[1453]).
О Достоевском:
"…je viens d'achever "Humilies et Offenses" de D. et j'en sors humiliedenotre litterature. Sa qualite essentielle est d'etre superficielle. Le classicisme frangais – c'est Г etude des apparences de 1'homme – que Moliere est done plat!.." (p.69, juin 1914 a R.Vallery-Radot). [Grasset 1981]
[1454].
О Ницше:
"…et le mystere de Jesus dans Nietzche: qu'une certaine negation vaut mieux quecertaines adorations! Que certains refus sont des signes d'un plus profond amour que les adhesions des philistins avares et sournois. Je ramene tout au Christ, malgre moi" (p.277)
[1455].
Четверг, 17 сентября1981
Опять уныние от надвигающихся поездок – в Сиракьюс, на Аляску, от этого вечного "сгорания времени", напора дел, мелочей, от опустошения всем этим души, от сознания, что из-за этого напора, наплыва все делаешь впопыхах, неглубоко, поверхностно…
Вчера – завтрак с С.С.В. Полная дружба, полный мир, и меня это страшно радует. Столько лет вместе! Вечером в Syosset у Трубецких.
Безнадежные попытки наладить "ритм" жизни.
Пятница. 18 сентября 1981
Вчера – ужин у нас с о. Д[аниилом] Цубяком]. Разговор до этого – о положении в Syosset, особенно о двух монашках. Они были у меня на прошлой неделе. Впечатление не столько путаницы, сколько своего рода "прелести", в которую, мне кажется, как-то почти автоматически впадают все эти специалисты и специалистки по "духовной жизни".
Суббота, 19 сентября 1981
Я говорю о.Д[аниилу]: что меня поражает больше всего в этих безостановочных "трудностях" – будь то Сайосет, будь то любой из бесчисленных и "скоромимопреходящих" скитов, обителей и т.д. – это неблагодарность . Всем этим монахам – всегда плохо. Их "не понимают", им не дают "монашествовагь", их обижают и т.д. Всегда какой-то "кризис", и всегда, увы, эгоцентризм…
Говорил с о.Д[аниилом] о Церкви, об ее "состоянии". Грустный разговор. Все какие-то интриги, ущемленные самолюбия, амбиции, борьба и – главное и самое страшное – удивительная мелочность интересов и "проблем". И все оттого, мне кажется, что сама Церковь воспринимается как какая-то безостановочная и лихорадочная "активность". Это умножение "департаментов", "комиссий", собраний, заседаний. Этот поток документов, меморандумов, информации. Для этой активности нужны деньги, для добывания денег нужна опять-таки активность. Вечно-порочный круг.
В ее данном состоянии Церковь – карикатура на мир. С тем различием, однако, что в миру все это – и борьба, и "организации" и т.д. – реально , так или иначе относится к "борьбе за существование". В Церкви же все это иллюзорно , ибо не отнесено ни к чему. Для "спасения" суета эта не нужна, для "радости и мира в Духе Святом" тоже не нужна, для "тихого и безмолвного жития" тоже не нужна. И все это сводится к вопросу: для чего нужна Церковь? Вот вопрос, который Церковь должна ставить перед собой всегда, все время – перед началом каждой акции . Церковь – это отнесенность и отнесение всего – ко Христу. А это-то и отсутствует, потому, прежде всего, что считается "самоочевидным". Зачем об этом говорить, давайте прямо начнем с денег или с каких-нибудь организационных задач… Или "юбилея"… И тогда все пронизывается самой ужасной из всех – "клерикальной" – скукой…
Прочел новую книгу Буковского "Cette lancinante douleur de la liberte"
[1456]. Почти вся – о безнадежном непонимании Западом советской опасности. Все книгу хвалят, и все продолжают неудержимо ползти в пасть дракона. Удивительно.
Расставил на своем письменном столе фотографии. Папа в последний год своей жизни, на скамеечке [на кладбище] в Ste. Genevieve – перед могилой, где теперь он лежит. Мама – в Лабель с Аней и Машей, еще подростками. И настольные часы дедушки Николая Эдуардовича, которые помню с самого начала моей жизни. И – "все блаженней дышать прошедшим на земле…"
[1457].
1 ноября – это сообщено официально – карловчане канонизируют "новомучеников", и среди них царскую семью. Меня все время спрашивают, что я об этом думаю. А думаю я прежде всего, что важно не только кого прославляют, а и – кто прославляет. И вот за теми, кто совершает это прославление, я не признаю права делать это. Не права юридического, а нравственного, духовного. Они, то есть карловчане, делают это не для Церкви и не для России, а для себя . Это акт их самоутверждения, или – на духовном языке – гордыни . И потому это акт ложный.
Воскресенье, 20 сентября 1981
Только что вернулся из Сиракьюс, с празднования тридцатилетия на приходе о.А.Воронецкого. Торжественная архиерейская Литургия, бесконечный банкет – все как всегда. И сильное утомление… А послезавтра – на Аляску!
Никак не могу вернуться к "Таинству Святого Духа". Перечел и – никакой искорки. Все кажется ненужным, вымышленным.
Осень. В Сиракьюс – вся листва уже желтая. И высокое, печальное небо. И воскресная пустота улиц. И, может быть, потому – внутренняя отрешенность, при полном участии в праздничной суете.
Вчера, роясь в столе, нашел записную книжку лета 39 года (когда мы до декабря застряли в Париже). Нужно было бы всю ее переписать, да лень…
Нашел в ней цитату из Достоевского ("Подросток"): "Ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском".
До чего же это верно! На каком ужасающем языке пишется, например, все газетное, даже когда пишут "интеллигенты". Все как-то рядом, либо же одно сплошное клише. Исчезает, выдыхается мелодия языка. Все как будто переведено с какого-то другого, ужасающе бедного и грубого языка. В русском современном языке разрыв между "высоким" языком и "низким" (явление, общее для всех языков) более резкий, чем в каком-либо другом.
Анкоридж. Вторник, 22 сентября 1981
Весь день в аэроплане – и вот, опоздавши на последний – из Анкориджа в Кадьяк, сижу в отеле в Анкоридже. Тут все золотое (листва), синее (море) и белое (горы). Поразительная красота…
Понедельник, 28 сентября 1981
Четыре дня Аляски – с 22-го по пятницу 25-го сентября. Епархиальное собрание, начало учебного года, пастырский "семинар". И, как всегда, впечатление света, благодатности, радости. Особенно – службы в набитой алеутами церкви. А также незабываемая поездка (спустя одиннадцать лет после первой – в дни канонизации) на Еловый остров. Всегда, все время: "хорошо нам здесь быти…".
Книга некоего George Woodcock о Thomas Merton ("Monk and Poet")
[1458] дает новую пищу размышлениям – привычным, всегдашним – о "духовности", о месте и значении этого огромного по своему объему монашеского, духовного "сектора" в христианстве. Все это можно свести, мне кажется, к одному основному вопросу: о смысле слов Христовых "если же хочешь быть совершенным, отдай все и
следуй за Мной "
[1459]. Что значит это следование, в чем
тотальность христианской жизни? Куда и как нужно
следовать "? И в чем это "раздаяние всего"?
Вторник, 29 сентября 1981
"Упадок душевных сил". От суеты, от съедания по частям моего времени, от мучительной невозможности чем-то заняться, от звонков, требований, проблем… "Le propre du pretre est d'etre mange par les hommes"
[1460]. Кажется, это или что-то вроде этого сказал Мориак. И вот меня "съедают". Только охоты быть съеденным у меня нет, и от этого – упадок сил.
Прием, одного за другим, новых студентов, первое, поверхностное знакомство с ними. Почти все – "конверты"
[1461], то есть "максималисты", но без корней, без кровного, будничного опыта Православия. И у них все "полочки": иконы, "духовная жизнь", догматы… Трудность Православия здесь в том, что Америка живет в непрерывном нервном возбуждении, в какой-то психологической взвинченности. Все время что-то "происходит" или "должно произойти". И этому возбуждению поддается и Церковь – все время какие-то заседания, встречи, завтраки. Все время тебе о чем-то напоминают, что нужно сделать. Голова и сердце засорены, напряжены до предела. И вот я живу под этим
напором , при котором ничего по-настоящему
сделать , даже с самим собой, как раз и нельзя. Но, может быть, в этом и состоит – "отвержись себе". Может быть, это желание "сделать" что-то – написать, создать, воплотить, – и есть грех: "придавание себе значения". Может быть, прав Пастернак: "Я ими всеми побежден и только в том моя победа"? Не знаю и вот живу на непрекращающемся сквозняке.
Среда, 30 сентября 1981
Все эти дни – искушение мыслью о том, что вот жизнь проходит, а я трачу ее не на то, чтобы делать
свое (писать, "оставить после себя" и т.д.), а на других – на поездки, доклады, семинарскую суету и прочее. А сегодня утром ответ в апостольском чтении из Послания к Галатам о том, чтобы не считать себя "чем-то"
[1462]. Не в бровь, а в глаз, и искушение исчезает. Сколько раз в жизни я замечал это: если слушать Священное Писание как
личный ответ, личное обращение , оно всегда таковым и оказывается…
Читал, просматривал вчера книгу епископа Игнатия Брянчанинова о смерти. Как можно такие книги писать? Как можно во все это верить ! Ад внутри земли… с цитатами из каких-то странных документов. Решительное непонимание этого подхода. Он-то и породил Бультманов. "Фундаментализм", распространенный на все…
Пятница, 2 октября 1981
"Как пишется статья, как сочиняется доклад или "берется слово" в прениях? К сожалению, это почти всегда театр – и оттого настает время, когда это перестает интересовать" (Г. Адамович в сборнике "СМОТР", 1939).
Случайно прочитал эти слова, но прочитал вовремя: мучительно сочиняя доклад для украинско-русского диалога в Hamilton на следующей неделе, затем – доклад, который я должен прочитать в Wilmington послезавтра, и т.д. С каждым годом писать, сочинять все большая пытка. Все кажется, во-первых, не так написанным и, во-вторых, ненужным : либо уже сказанным, либо "несказанным". "Удобнее молчание…"
Вчера – заседание у меня в кабинете, посвященное пересмотру нашей программы. Каждый предлагает что-то, в общем, правильное, полезное. А я думаю о "предварительном" вопросе – о том, что такое "богословие", да еще академическое, и можно ли "преподавать" его буквально так же, как преподается химия. Я так остро чувствую, что богословие – это передача в словах – не других слов, идей, верований, а того опыта, которым живет Церковь, живет сейчас, являет сейчас, приобщает себе сейчас. Но богословие – теперешнее, "преподаваемое" – отчуждило себя от Церкви и от этого опыта, стало самодовлеющим и, главное, хочет быть "наукой". Наукой о Боге, о Христе, о жизни вечной!..
Понедельник, 5 октября 1981
В субботу – целодневный, до одури утомительный Orthodox Education Day. С восьми утра до восьми вечера на ногах, приветствуя, целуясь, разговаривая. И, как всегда, с одной стороны – не только утомление, но и "тяжесть" от всего этого, а с другой – радость праздника, общения и, главное, – бескорыстности всех этих людей, которым просто "хорошо здесь быти".
Вчера в Wilmington. В поезде читал главы о Юго-Западной Руси в "Истории Русской Церкви" Карташева в связи с моей украинской авантюрой в конце этой недели. Какая грусть! Какая ненасытимость в этих преследованиях христианами друг друга! Какая подчиненность всех "своему", только своему! Какое постоянство ненависти! Как безнадежно далека история Церкви от павловского: "Говорите правду друг другу…"
[1463].
Действительно, пора задать главный, единственный вопрос: где это "Православие", в чем "оно", как выделить его из истории Православной Церкви, прежде всего для того, чтобы историю эту наконец увидеть во всей ее нищете?
Каждый понедельник то же чувство – погружения в какую-то, с головой захлестывающую тебя, волну, направленности всех сил только на то, чтобы держать голову над водой и плыть и не утонуть.
Hamilton, Ontario [Канада]. Четверг, 8 октября 1981
В Гамильтоне на конференции русских и украинцев!
Во вторник утром – как гром! – известие об убийстве Садата. Дьявольская тупость террора. И самое ужасное, самое отвратительное – это ликующая, танцующая толпа в Бейруте, в Триполи. Действительно, на всем этом – печать дьявола…
Сегодня – тут. Несколько знакомых. Доклады (весь день!) и их обсуждение – скучные. Украинцы (они в большинстве) очень милые "хлопцы", гордые своим профессорством. И, однако, все, что они говорят, – даже верное, – a priori испорчено их утробной ненавистью к России. Ненавистью при этом мелочной, исключающей всякое стремление хоть что-то пересмотреть, переоценить, увидеть в России хоть что-нибудь хорошее. Русские (их мало) – вроде как бы офицеров или "бар", которых самотеком судят… Пожалуй, все-таки полезно узнать, что не все на земле любят Россию. Узнать, что говорит другая сторона…
Суббота, 10 октября 1981
Один дома. Льяна – в Лабель. За окнами настоящий золотой пожар. Вчера поздно вечером вернулся из Гамильтона. Может быть, потому, что у меня был "личный успех" (почти овация после моего доклада), от съезда осталось, в конце концов, светлое впечатление. Такое чувство, что присущая всем этим украинским интеллигентам ненависть к России – не такая уж глубокая, не такая "кровная" и что больше всего в ней обиды на непризнание, на то, что русские не принимают, не приняли их и вообще все "украинство" всерьез. Но "горизонтально" – академическими спорами о том, был ли Гоголь русским или украинцем, – трагедии этой не разрешить. И, может быть, и мой "успех" был лишь в том, что я говорил о "вертикальном" измерении, хоть как-то "отнес" всю тему к тому, что над и Россией, и украинством… И, увы, нужно признать, что русское презрение – действительно "гоголевских" размеров.
Воскресенье, 11 октября 1981
Вчера – мучительно-блаженный день за письменным столом, возвращение после более чем двухмесячного перерыва к работе над моей книгой. Начал с того, что перечитал ворох "драфтов", черновиков. И сначала просто не мог понять: о чем это и что я пишу, что так мучительно хочу выразить. Но постепенно мысль заработала. О, если б я мог иметь каждую неделю один такой пустой день!
Вечером, после всенощной, просмотрел-прочитал книгу Martin Malachi "The Decline and Fall of the Roman Church"
[1464]. Книга журналистская, но, увы, убедительная, во многом, несомненно, верная. Римскую Церковь погубил дар земного владычества. Получив власть земную, она постепенно утеряла власть духовную. Схема простая, но Malachi талантливо ее "драматизирует".
Сегодня – наплыв исповедников. Исповедовал до Великого Входа (служил с о.П.Л[азором]). Я иногда думаю, что до бесконечности развившееся чувство "прегрешений" столь же сильно ослабило чувство, понимание, сознание
греха . Ослабело евангельское: "Согреших на небо и пред тобою…"
[1465]. Усилилось – "
мои недостатки,
мои слабости…", то есть всяческая интроспекция. Грех – это прежде всего неверность по отношению к Другому,
измена . Но уже давно грех оказался сведенным к морали. А ничто так легко не уводит от Бога, от "жажды Бога", как именно мораль. Достоевский: "Без Бога все позволено…" Можно также сказать, что без Бога "все запрещено", ибо всякая мораль состоит, в первую очередь, из запретов и табу. "Поссорился с женой": но в ссоре с женой, которую любишь, почти всегда неважно
содержание ссоры , то, "из-за чего" она произошла. Важен, мучителен, невыносим
разрыв , сколь кратким он ни был. И мирятся муж с женой не потому, что они нашли правого и виноватого, а потому, что они любят друг друга, потому, что сама жизнь каждого из них – в другом. Сведенное к морали, к норме – христианство оказывается "непрактикуемым", ибо ни одна из заповедей Христовых неисполнима без любви ко Христу: "Аще любите Меня, заповеди Мои соблюдете…"
[1466].
Есть тип морального "чистюли", бегающего исповедоваться потому, что ему невыносимо всякое "пятнышко", как невыносимо оно для всякого разодевшегося франта. Но это не раскаяние, это ближе к чувству "порядочности". Однако про святого не скажешь: "Он был глубоко порядочным человеком". Святой жаждет не порядочности, не чистоты и не "безгрешности", а единства с Богом. И думает он не о себе, и живет не интересом к себе (интроспекция "чистюли"), а Богом…
Мораль – это направленность на себя. В "церковности" ей соответствует "уставничество". Но в ней нет того сокровища, про которое сказано: "Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше…" Церковь: ее призвание не в "морали", а в явлении и даре сокровища.
Понедельник, 12 октября 1981
Вчера опять целый день за столом. Результат: надо заново начинать "Таинство Святого Духа", по-другому строить и т.д. Моя ошибка была в том, что весь спор об эпиклезе я сводил к спору – уже средневековому – между схоластикой и Византией. Вчера, проверяя всю эту схему, понял, что эпиклеза как "консекрация" (то есть "и сотвори…") появляется не только очень рано (это я знал), а и "понимается", так сказать, "тайносовершительно", то есть как момент (до… после, только хлеб… и т.д.). Иными словами, нужно пересмотреть подход. У меня чувство, что тут "подкачали" и Отцы, и все по той же причине: упадка эсхатологического опыта Литургии. Увидим.
Devoir d'etat. Я люблю это французское определение долга.
Среда, 14 октября 1981
Биография W.H. Auden'a (Humphrey Carpenter)
[1467]. Описание public school
[1468], потом Оксфорда. Я никогда не перестаю удивляться Англии. Чему-то в ней, что я не могу определить. Такое чувство – может быть, абсолютно неверное, – что, несмотря на подлинную, старую, настоящую культуру, Англия и англичане чем-то и как-то безнадежно ограничены, по-своему "тупы". Прежде всего ограничены сами собой, своей самоуверенностью, абсолютным "эгоцентризмом" Англии. Недаром Англия дала разных Локков, Юмов и Спенсеров – философов как раз тупой самоуверенности, философов без "печали по Богу". Low key
[1469]: но не от смирения, а от презрения…
Вчера – лекция о таинстве брака в Little Falls, Нью-Джерси. Вопросы – молодых, старых – все по существу.
Четверг, 15 октября 1981
Получил № 29 "Континента". В нем некий Сергей Сабур, в статье "Всерьез о "Свободе"" (то есть о радио "Свобода"), очень подробно разбирает кризис радиостанции и, ссылаясь на высокий тон и содержание ее передач в прошлом, пишет:
"Но, быть может, самым крупным достижением радиостанции стали передачи на религиозные темы. Главная заслуга в этом принадлежит о.Александру Шмеману… Феноменальная особенность выступлений о.А. в том, что они обращены равно как к верующим, так и неверующим или даже убежденным атеистам. Как только этот интеллигентный, словно размышляющий вслух человек произносит первую фразу – ваше внимание приковано: просто нельзя не дослушать до конца. Его Бог – это истинная Любовь, но это еще и мысль, и смелость проникновения в самые глубины сомнений человеческих" (29, 351-352).
Что греха таить – всегда приятно, когда хвалят, хотя и знаешь – в шестьдесят лет! – цену этих "скоромимопреходящих" похвал. Эта цитата, однако, для меня не просто похвала. Читая эти строки, радуюсь, что этот не известный мне Сабур почувствовал то, что я сам хотел от моих "бесед". А это значит, что, хотя бы отчасти, – это удалось…
Вчера вечером лекция о православном
опыте Евхаристии в Trinity Church
[1470] (на Уолл-стрит!). Не знаю, кто эти люди. С виду – "деловые" люди, "уоллстритовские". И потому так приятно поразили их интерес, их воодушевление…
Еженедельное чтение французских журналов. Непреодолимое чувство заката Европы. Бескрылость, безрадостность, мелочность и убожество мысли… Запад умирает от рака крови , и имя этому раку – левизна. Левизна построена на ненависти , она вся без остатка движется рабьей ненавистью, которой диавол возненавидел Бога. И по сравнению с этой дьявольской ненавистью все "эксплуатации", все неравенства, все грехи – ничто.
Все эти дни – мир словно застыл в блаженстве света, золота листвы, бездонного неба.
Пятница, 16 октября 1981
Вчера Л. заставила меня пойти на [фильм] "Москва слезам не верит", и я очень этому рад. Вижу массу недостатков – советский эквивалент "мыльной оперы", много ненужных длиннот, ненужных эпизодов и т.п. И, однако, сквозь все это что-то "пробивается": теплое, русское, даже смиренное и доброе. Что-то, чего не найдешь на нашем sophisticated
[1471] Западе. Особенно сильно чувствую это, читая биографию Одена. Чувствую чуждость этого мира и пустоту его и разложение, прикрываемые снобизмом и блеском. И это невыносимое вездесущие гомосексуализма.
Сегодня на утрене опять то же "чудо". Мысль где-то далеко, в какой-то суете, подозрительности, расчетах, в чем-то, во всяком случае, – низком . И вдруг сквозь этот липкий туман, как бы пронизывая его, доходит одна евангельская фраза, несколько слов Христа – ив них прямой, буквальный ответ , призыв, разрешение всех вопросов. Удивительно.
Бог никогда не оставляет Церкви, но, так сказать, и не "поощряет" ее. Сила Бога в Церкви совершается только в немощи . Поэтому все внешние успехи вредны для нее. Ибо всякий такой "успех" – пища для гордыни и, в пределе, для умирания души.
Я люблю биографии. Но редко читал я биографию человека более несимпатичного, чем Оден. Читаю же я ее потому, во-первых, что ее очень хвалила рецензия в "Нью-Йорк тайме", а во-вторых, потому, что в пятидесятые годы несколько раз встречал, вернее – видел его [в Нью-Йорке]. И все тогда говорили: великий христианский поэт. Не знаю, до христианства его еще не дочитал. Но как человек – неприятный.
Стихи Бродского в "Континенте" ("О зимней кампании 1980 года") – не понимаю. То есть все понимаю и все остается непонятным. Что открыто, что даровано в них?
У большинства знакомых мне христиан мне всегда хочется спросить: радуются ли они своей вере?
Воскресенье, 18 октября 1981
Поездка сегодня после Литургии в Wappingers Falls к Алеше и Лизаньке [Виноградовым]. Ярко-красная, желтая, золотая листва на фоне серенького, дождливого дня. Воскресная пустыня. Хорошо.
Проповедовал сегодня на текст [Послания к] Кор[инфянам]: "…доброхотно дающего любит Бог"
[1472] – - и о Петре (в связи с Евангелием: "отойди от Меня…"
[1473]). Щедрость Бога: из воды – вино, двенадцать корзин хлеба после того, как напитались все, столько рыб, что тонуть начинают суда рыболовов. Все – как и сама жизнь – "с избытком".
Вторник, 20 октября 1981
Перед отъездом на синод. Все эти дни телефонные звонки от Губяка, от Кишковского о "заговоре епископов" – против центра, против "богословов", против чего бы то ни было, что якобы ограничивает их власть.
Почти кончил прием новых студентов. Сколько в Церкви доброй воли, желания служить, заботы о "душах".
Сколько мыслей, сколько "откровений" приходит, пока читаешь лекцию. Вчера ("Литургия смерти") говорил о "проблеме" спасения, воскресения некрещеных. И вдруг таким ясным становится, что дело не в том, знали они или не знали Христа, поверили ли в Него или нет, были крещены или нет, а в том, что Христос знает их и Себя отдал им и за них. Поэтому и их смерть "поглощена победой", поэтому она и для них встреча со Христом.
Так же и суд. Он не о догматике, а о "сокровище сердца". Суд – это сама их встреча со Христом.
Но тогда, скажут, зачем Церковь, зачем таинства и т.д.? Ее призвание космично и эсхатологично . Она меняет мир своей от него свободой, своим свидетельством о Христе: "яко Ты еси един Господь". Без Церкви мир был бы до конца идолом . По отношению к "миру сему" Церковь pars pro toto. Она всегда "за всех и за вся". Каждая ее молитва, каждое "аминь" – от лица мира. Она "священник", и мир – ее "приход". Только не знают этого сами христиане и все думают, что дело Церкви – "обслуживать их духовные нужды". И если суд неверующих, не знавших Христа, в том, хотели ли они Его, любили ли – даже и не зная Его (в другом , в ближнем }, то суд над христианами – это суд об их измене Ему. Но это значит, в конце концов, что если христиане, встретившие Христа, могут быть Его врагами, то и встреча неверующего со Христом в смерти может быть отвержением Его, ненавистью к Нему. Одни "увидят день Его" и возрадуются, другие увидят и возненавидят, ибо ненавистью к Нему, не зная Его, жили уже и здесь…
Победа социализма, во главе с присяжным демагогом Папандреу, в Греции. И опять все то же объяснение: "желание перемены". Объяснили и успокоились: значит, дело не в любви к социализму, а в "усталости" от прошлого. Успокоились и не понимают, что социализму в высшей мере наплевать на то, любят ли его или нет… Что принятие его есть принятие зла , ибо лжи о мире, о человеке и о Боге, о смысле жизни, о смысле буквально всего. Это принятие идола , ложного бога и поклонение ему. В тиране зло являет себя как зло, в самом распознании его как тирана это зло уже и разрушается. Социализм же добр Антихристовым добром, и потому не распознают его люди как зло . Ибо зло его в подмене цели жизни. Социализм, говорят, против "частной собственности", а этому и Христос учил. Но это и есть "фокус" социалистического зла. Ибо Христос учил не тому, что мир есть коллективная собственность, а тому, что он, мир, – Божий . Не говоря уже о том, что понятие "коллективной собственности" абсурдно, ибо противоречиво. Собственность может быть только личной . И откровение Христа в том, что каждому дарует мир в "собственность" и таким образом каждого делает совладетелем мира с Богом. Подлинная собственность – в признании всего Божиим даром, путем к общению с Богом. Обладателем мира, царем его может быть только личность. И всякий коллектив есть всегда, в той или иной мере, кража . Кража у Бога. Кража у человека.
Ну, а капитализм – этот рост денег из самих себя, это страстное "обогащение", что же – христианский? Нет, не "христианский" в ту меру, в какую нет ничего "христианского" в этом падшем и грешном мире. Но сколько бы капитализм ни был уродливым и карикатурным, он есть уродливая карикатура, извращение чего-то, присущего творению Божьему. Ибо Бог дает нам мир именно как капитал – дабы мы дали его в рост и вернули его Богу с "процентами". Сама идея роста, накопления, возрастания есть, если так можно выразиться, "Божья идея", соприсущая Божьему замыслу о мире. Жизнь – это постоянное "капиталовложение". Таковым являются и образование, и культура, и земледелие, и всякое "возделывание", заповеданное человеку. И единственная заповедь Божия только в том, чтобы мы "не в себя, а в Бога богатели", и это значит: богатели бы вместе с Ним, чтобы всякий рост был
во славу Божию, был накоплением "нержавеющим". Потому инстинкт "капитализма" правильный, хотя сам капитализм, как и культура, как и все в мире, есть падение подлинного капитализма, подлинного образования, подлинного "роста".
Социализм ничего не возделывает . Он статичен, как статична смерть; он смертоносен. Все раз и навсегда "распределить" между всеми и всех уравнять в этом "счастье". Ни цели, ни риска, ни – в сущности – труда, то есть всего того, что заложено в самой природе человека. Сплошная "гарантия". Нет, это уже не карикатура, не извращение. Это коллективная смерть. Социализм – это принятие падшего мира, неведение его как падшего. Это смертоносная зараза. Это ответ Антихриста – Богу…
Пятница, 23 октября 1981
Все заливающая суматоха в связи с приближающимся днем прославления "новомучеников" и царской семьи. Получил доклад по этому вопросу архиепископа Антония Женевского. Поражает в нем да и в других карловацких документах какой-то тон самозащиты, самооправдания, ответа кому-то, уговаривания. Казалось бы, если ты уверен – то радуйся и восхваляй Бога. А тут все время тайная полемика. На радио "Свобода" меня спрашивают: "Может быть, Вы бы что-нибудь сказали… не за, конечно, а о "за" и "против"". Я ответил: "Дайте им всю программу этого дня". Очень быстро согласились. В мире по-настоящему сильны, по-настоящему торжествуют только крайности . Только те, кто орут . Хомейни в Иране за один 1981 год убил больше людей, чем все страны и правительства вместе взятые. Но об этом пишут почти с каким-то потаенным уважением. А про какую-нибудь Чили, где сейчас вообще не убивают, – со скрежетом зубовным…
Вторник, 27 октября 1981
Кончаю биографию Одена (455 страниц мелкого шрифта), кончаю с отвращением. До какой же степени все, что описано в этой книге, то есть наша
культура , – прежде всего
несерьезно . Я не знаю поэзии Одена: может быть, он и велик, когда его призывает к "священной жертве" Аполлон. Но вся эта сордидность
[1474] – мальчики, пьянство, увлечение "либретто" для опер с разглагольствованиями, одновременно, о христианстве…
Страшное утомление от всего этого… И такое чувство, что "некому руку подать в минуту душевной невзгоды"
[1475]. Конечно, это от слабости, маловерия, духовной и душевной распущенности. И все-таки мучительно это созерцание зла, которое так легко торжествует и в мире, и в "культуре". "Но люди больше возлюбили тьму"
[1476]. Как это страшно: именно
возлюбили , а не просто, по слабости, сдались ей…
Четыре часа дня. Только что вернулся из поездки – с Д[авидом] Дриллоком и Ж.Дворецким в имение этого последнего, которое он хочет подарить семинарии. Изумительное место: озеро, четыреста акров, уютнейшие каменные постройки. Был туман, полное безветрие, совершенная тишина. И все это как некое несомненное утешение. И такое же утешение – Д.Дриллок, его дружба, доверие, щедрость.
Среда, 28 октября 1981
Расстался наконец с Оденом. Последние главы – о старении, о приближении к смерти, о растущем одиночестве. Тайна человеческой жизни. И какими ничтожными и попросту греховными – в свете этой тайны – становятся наши оценки, суждения и приговоры. "Мне отмщение – и Аз воздам"
[1477]. И что-то – да,
великое – начинает просвечивать под конец… Наверное, из чувства этой тайны – моя любовь к биографиям. Ибо по-настоящему, духовно, интересен в "мире сем" только человек, только его "единственность" и в ней – "избранность". Только человек всегда, вечно, изначала – "трансцендирует" мир сей, ибо по самой природе своей он – "жилище двух миров". И Евангелие – благовестие – обращено к этому второму (или первому), то есть тайному, трансцендентному человеку, как к нему обращена, для него существует и сама Церковь. Возвращаясь к Одену, можно тогда сказать так: этой "трансцендентной" сущности своей он пребывает – пожалуй, сквозь всю свою жизнь –
верным , ей служит своим поэтическим даром. Более верным, чем "моральные" люди, которые в
мире сем у себя дома, для которых христианство само без остатка укладывается в "мораль", в "как", а не в "что"…
"Как будто душа о желанном просила…"
[1478]. В этом сущность поэзии, ее тайна, ее единственность, ее призвание. Она знает что-то, свидетельствует о чем-то, чего "научное богословие" не знает, о чем, во всяком случае, не "свидетельствует".
В понедельник, служа раннюю Литургию (св. Димитрий Солунский), вспоминал о смерти в этот день в 1933 году генерала Римского-Корсакова. Это он, пичкая меня – одинадцатилетнего мальчишку – стихами, "привил" мне не просто любовь к поэзии (или к "культуре"), а. сам того не зная, некую "печаль по Богу", которую – это я твердо знаю – я все время предаю и заглушаю в себе, но которая, тем не менее, мне была дана и остается "данной".
Понедельник, 2 ноября 1981
Погружение – молниеносное, на два дня! – в Париж. В пятницу и субботу в Монжероне: заседание совета РСХД, коего председателем я стал в результате всех парижских трагедий. Все прошло мирно и даже, по-своему, конструктивно. И все же в итоге этих двух дней ощущение конца, умирания. И рассуждали мы, в сущности, об "искусственном дыхании". Движение, как и все другие "деятельности", было органической частью так называемой "первой эмиграции". А она-то и "кончается". И потому и заседаем мы, и рассуждаем в безвоздушном пространстве. Тут действует закон, согласно которому организация, "деятельность" переживает то, что она "организует", то дело, ради которого она была организована. Есть что-то в этой "верности" высокое и благородное, но вместе с тем и вредное, ибо она лишает возможности распознать то "дело", что приходит на смену бывшему, распознать саму реальность, ее нужды, ее смысл.
Не замечают православные, что к ним с Запада приходят "любители" этого "старения", ностальгии, духовного романтизма, люди, выключающие себя из ответственности , люди, для которых вся проблематика сводится к проблеме, когда закрывать и когда открывать за Литургией Царские врата… Идея "молодых": организация паломничества в Константинополь(!?). Это поистине символично: нас всегда тянет туда, где что-то было , но чего больше нет.
В аэроплане, возвращаясь в Нью-Йорк, читал книгу Raymond Aron "Le spectateur engage"
[1479]. С каждой строчкой этого неверующего человека я соглашаюсь, соглашается
христианин во мне . "L'homme est dans 1'histoire, 1'homme est historique, 1'homme est histoire"
[1480] (57). Тут все: и связь человека с миром, и свобода его от мира, и цель его жизни… Свобода, ответственность, различение добра и зла… И все – в отличие как от утопистов (Сартр и К°), так и эскапистов ("религия") –
светлое …
Париж: серый, задумчивый, бесконечно прекрасный. Ничего ему не подходит так, как осень, как это серое небо, через которое нет-нет да и прорываются бледные, слабые лучи солнца – и тогда так ощутимо становится le temps immobile.
Среда, 4 ноября 1981
Тридцать пять лет сегодня с моего дьяконского рукоположения на Сергиевском подворье… Служил утреню. Евангелие о Христе, заснувшем в бурю, о страхе и панике учеников. "Где вера ваша?" (Лк.8:25). Вот так и я – в унынии, в обиде, в гневе все эти дни. Страх за Церковь, за семинарию. Сегодня с утра повторяю себе: "Где вера твоя?"
Расстался вчера с R.Aron – как с другом. И опять, опять чувствую – насколько это ближе к христианству, чем эта все разрастающаяся "псевдодуховность".
Почти весь день вчера и несколько часов сегодня разбор книг, расстановка их на новых полках. Расставлял и думал: сколько написано! Сколько усилий, страсти, времени вложено в каждую из этих книг. И как быстро "проходит образ их", и стоят они на полках, словно на книжном кладбище. Да, несколько сот, может быть, несколько тысяч из них остались так или иначе живы . Но на каждую – сто тысяч безнадежно забытых… А все-таки все вместе они "создавали культуру", каждая, умирая, погружаясь в забвение, оживала и живет в целом. Каждая в чем-то, в ком-то, как-то прибавляла в мире либо света, либо тьмы. Как редко, например, я читаю Блока или даже Пушкина. Но был бы я тем же самым, если бы не прочитал их когда-то? Да что Пушкин и Блок. Даже Мегре с его дождливым Парижем где-то вошел в меня, в мое "мироощущение". Отсюда – страх за теперешнюю молодежь, ничего не читающую, живущую без памяти, вне памяти, но "интересующуюся Церковью". Но чем можно "интересоваться" в Церкви? И потому интерес этот растворяется в клерикализме, в сплетнях о епископах… Скажут, никакой "культурой" Христос не занимался. Неправда. Каждое слово его – о Царстве Божьем, о Давиде, о "древних" – предполагало знание, понимание, память о том, что Он говорил, к чему звал, что обличал. А современному человеку нужно три года богословия, чтобы понять Послание к Галатам.
Отзывы в газетах на прославление "новомучеников": "Russian sect canonizes Nicholas II…"
[1481]. Как не понять, не почувствовать, что "прославлять" Государя в Нью-Йорке, да еще с банкетом в Hilton –
нельзя!
Суббота, 7 ноября 1981
В английских лекциях Набокова о русской литературе – неожиданная для меня глава о Чехове, о глубине, о человечности его. Неожиданная потому, что я начал эту книгу "кровожадно" – и вдруг…
Вчера вечером в Бостоне: русская вечерня, русская лекция для "третьих". Человек шестьдесят. Удовольствие, радость от "русскости", от той смеси – чего с чем? – которая, как ни верти, единственная в мире. Пожалуй, нужно признать существование этой пресловутой "русской души". Потом ужин у Померанцевых. Продолжение "того же", той же смеси. "Русские разговоры".
Красота Бостона в скупом свете ветреного сумрачного дня. Вечером, в постели, перелистывал старые-старые номера "Современных записок". Стихи Поплавского. Рецензии Ходасевича, Адамовича, Бицилли. Русский Париж в короткую минуту его расцвета… "Невероятно до смешного – был целый мир и нет его…"
[1482]. И как я рад. что хоть краешком юности, мало что понимая, я "вкусил" от этой неповторимой минуты…
Вторник, 10 ноября 1981
Занятость. Мелочи. Разорванное время. И от этого – "заботливость" души, связанность, безжизненность. Урывками читаю американские лекции Набокова о русской литературе. Талантливо, умно и все-таки безнадежно поверхностно. И как много – для "красного словца"…
Отзывы о "канонизации" в "Time". С сарказмом, с иронией, как о каком-то чудачестве. В тоне "такое ли еще бывает в Нью-Йорке…" Иногда хочется куда-нибудь убежать от этого православия ряс и камилавок, бессмысленных церемоний, елейности и лукавства. Быть самим собой, а не играть вечно какую-то роль, искусственную, архаическую и скучную. Одно утешение: Послание к Колоссянам, которое в эти дни читается в церкви
[1483].
Среда, 11 ноября 1981
В 134-м номере "Вестника" замечательная статья Б.Михайлова об эстетизме и его родстве с социализмом. Против "Синтаксиса", А.Синявского и К°.
Сегодня Armistice, день с детства памятный. Это были первые vacances
[1484] с начала учебного года и потому особенно радостные. И мне достаточно сказать это слово – armistice, чтобы так живо ощутить мокрый, черно-серый Париж, и уют дома, и блаженное ничегонеделанье.
Пятница, 13 ноября 1981
Отдышался от всех забот вечером за общей исповедью и сегодня – на ранней Литургии (св. Иоанна Златоуста).
В "Русской мысли" две страницы убористого шрифта отведены под письма в редакцию о русско-украинских отношениях. Россия и Украина: эту проблему я ощущаю как пример громадного и трагического недоразумения.
Длинная гряда ослепительно-солнечных дней. Сейчас уезжаю на очередной retreat в Ричмонд. Неделя целиком ушла на мелочи…
Воскресенье, 15 ноября 1981
Поздно вечером, вчера, вернулся из Ричмонда, где в субботу – однодневный retreat (о браке). Уютнейший вечер в пятницу у De Trana, где мне всегда хорошо и приятно. Как всегда, разговоры о Церкви, о трудностях и т.д. Приехал о. Шеллер с группой своих прихожан. Кончили около четырех. Де Трана по пути домой, к ужину, провез меня – по уже установившейся традиции – через старый, исторический Ричмонд – столицу южан во время Гражданской войны.
Плохая полоса – если не уныния, то какого-то окаменения, нежелания, невозможности за что бы то ни было взяться. Знакомое искушение: ощущение, что все кругом – и "религия", и "политика", и пр. – игра в солдатики, что все "истекает клюквенным соком…"
[1485].
Голые, мокрые ветки на фоне серого неба. Горы тлеющих, гниющих листьев. "Le doux royaume de la terre". Оглушительное карканье ворон. Где-то далеко – воскресный звон колоколов… И груды опостылых папок на столе.
Понедельник, 16 ноября 1981
Вчера, поработав часа три (переписывал русский перевод "Водою и Духом"), читал – с огромным интересом – четвертый выпуск "Памяти". Реакция русской интеллигенции на Октябрь, длящаяся сквозь 20-е годы, "приятие" революции и советской власти, разгром культуры, воспоминания "выживших". Путь интеллигенции: от веры в народ (опрощение, экономика и т.д.) к вере в культуру.
В воскресном "Тайме" объявление-призыв на целую страницу: "Religious Coalition for Abortion Rights"2 . Подписанное сотней пасторов, епископов, богословов и раввинов.
Понедельник: "il faut tenter de vivre…" Но, Боже мой, с какой неохотой, с каким "изнеможением" принимаю я это "tenter"…
Вторник, 17 ноября 1981
Письмо от старушки, живущей в Торонто. Ей восемьдесят лет, и всю жизнь – с отъезда из России в 1919 году – она собирала стихи русских поэтов о России. Собирала, чтобы сохранить своих детей и внуков – русскими. Удалось ли ей выполнить эту вторую (или первую) задачу – она не пишет. О самих стихотворениях (их набрала она десять тысяч!) она замечает, что о том, хороши ли они или плохи, она не заботится. Важна лежащая в их основе "идея". Просит издать их в "ИМКА-Пресс". О том, чтобы таким образом заработать (!), не заботится…
Пятница, 20 ноября 1981
Я стал гораздо чувствительнее к тому возбуждению, постоянному, непрекращающемуся, в котором мне приходится жить – ив семинарии, и в Церкви, и вообще. Это, конечно, духовное состояние нашего мира.
Понедельник, 23 ноября 1981
Пятница и суббота – в Спрингфильде (Вермонт). Старый, заброшенный приход с молодым и деятельным священником. Я ему обещал приехать уже несколько раз и всегда обманывал. И как рад, что на этот раз поехал. Есть что-то пронзительное в этих полумертвых и вот все не умирающих "этнических" приходах. И как радуются эти люди, что вот-де – обратили на них внимание… Старый дом-церковь, здесь когда-то был женский монастырь и приют. И все кончилось как-то мрачно и некрасиво. "Память" отравлена. А теперь молодой "конверт" пытается снова влить жизнь в эти руины. Всенощная (под Введение) – два с лишком часа. Малюсенький хор. И постепенно входишь в эту жизнь, то есть прежде всего чувствуешь, что, несмотря на все, – жизнь эта есть … Весь следующий день – в церкви: Литургия, лекции… И расстаемся к вечеру в радости и чувстве, что что-то, по милости Божьей, сделано.
На субботней Литургии и первой лекции – Наташа Солженицына с матерью и двумя сыновьями – Ермолаем и Степаном. Спрингфильд всего в пятнадцати-двадцати милях от Кавендиша. Разговариваем в перерыве между лекциями. "Я, – говорит Н., – не все понимаю по-английски, но достаточно, чтобы почувствовать, что это (то есть моя лекция. – А.Ш.) потрясающе *."
А для меня главное – это сама поездка, темноватым ноябрьским днем, по просторному, пустому Вермонту. Закат сквозь тучи. Тишина, прикосновение к temps immobile.
Вчера после Литургии интервью для канадского радио – о моем понимании "экуменизма". Полтора часа – и самому наконец становится более или менее ясным это мое понимание.
После обеда поездка с Л. в Принстон на торжественную панихиду – в университетской часовне – по о.Георгию Флоровскому. Но до этого (мы поехали рано) ужин вдвоем в итальянском ресторанчике, прогулка по Принстону. Морозный вечер, и уже все окна сияют рождественскими огнями, подарками, праздником. До чего я люблю эти "выпады" из жизни, пускай самые мимолетные, но погружения в иное.
Сама панихида была очень торжественной. Митрополит с двумя епископами, тридцать священников, семинарский хор, полная народу огромная готическая chapel
[1486], "мощное пение" и т.д. Из тридцати священников дай Бог пять прочли хоть несколько строчек Флоровского. И вся служба как будто никакого отношения к нему не имеет, вся выросла из каких-то мелких амбиций, желания покрасоваться не где-либо, а в самом Принстоне! И все расходятся очень довольные, как после удачного спектакля… После службы был какой-то прием, но мы уехали.
Знаю, что ворчу. Знаю, что это во мне самом – тьма, которой я поддался и которая не дает видеть хорошего, положительного, пробиться сквозь всю эту ужасающую дешевку. Но, увы, есть и она.
Вторник, 24 ноября 1981
Вчера весь день в семинарии, два часа лекций, завтрак с Н. (который я откладывал раз шесть). Прием студентов. Один – бешено влюблен и не может учиться… Другая должна рассказать – и этим "экзорцироваться" – об одержимости матушки Б. Третий – уже посвященный – рассказывает о трудностях в приходе… Н.Н. – о своих планах на будущее… Полтора часа дома в обалдении и – с 7.30 до 8.30 вечера – лекция ("Литургия смерти") и – в конце концов – деловой разговор с о. П[авлом] Л[азором]. Вот день – не "нетипичный".
Среда, 25 ноября 1981
В двенадцать часов дня – начало первых в учебном году каникул – День благодарения. Я думаю, учителя, профессора любят каникулы, ждут их, радуются им гораздо больше, чем дети или студенты. Сегодня, уйдя в час из семинарии, радовался этой короткой свободе так же, как радовался ей в Париже, уходя из Lycee Carnot в канун Toussaint или Armistice.
В "Nouvel Observateur" – диалог Сартра с Симоной де Бовуар. Сравнительно незадолго до смерти Сартра. Странный человек. Сочетание в нем свободы, очень, по-моему, подлинной, с порабощением (идеям, отвлеченностям), столь же подлинным. А в последних его выступлениях, как вот в этом разговоре, опять-таки истинное смирение … Подумать только, если бы человек с такими дарами был, в наш скорбный век, свидетелем Христа ! Но откуда же, откуда эта стена, это "окамененное нечувствие", отдача всей жизни на чепуху. И выходит, что то, что его всемирно прославило, – экзистенциализм, "левизна" и пр., то же будет и причиной его забвения. Не стареет только то, что свидетельствует о вечном, что само причастно вечности. И это совсем не значит "религиозное" в узком смысле этого слова. Не устареет, например, Чехов, то есть те "маленькие люди" под осенним дождичком, которых он описывал. Потому что они – вечны , не как "маленькие", а как люди…
Замечание Сартра о глупости . Она не может быть соприродной человеку. Она всегда – извне , всегда результат "опрессии", то есть – и этого он, конечно, не говорит – порабощения человека дьяволу.
Миттерана я все больше ощущаю как квинтэссенцию амбиции, гордыни. По нутру своему он такой же социалист, как я. Несет, движет им другое – страстная вера в "роль личности в Истории". Он инстинктом понял, что эта роль для него возможна только внутри "социалистической риторики". Правое сейчас "не берет", не зацепляет людей. Но верит он не в эту риторику – это всего лишь средство, а в себя, в "трансцендентность" своей личности по отношению к обществу, толпе, всяческой истории с маленькой буквы. Он – внутри нее – История с большой буквы.
Воскресенье, 29 ноября 1981
Вчера к вечеру вернулись из Сан-Антонио со свадьбы [племянника] Николая Озерова. Depaysement – в незнакомом городе (хотя я и бывал там когда-то, и даже два-три раза, но на конференциях), я это очень люблю. С нами были Аня и Маша, и мы все наслаждались друг другом, [отелем] Hilton, прогулками по городу… Свадьба – в греческой церкви – прошла очень хорошо. А сейчас ездили в Syosset к Трубецким.
Холодный, ветреный день. Синее-синее небо и черные тучи и огромный желтый закат. Непередаваемая прелесть того, что французы так удачно называют arriere-saison
[1487].
В дорогу (шесть часов аэроплана в каждый конец) брал с собой том "Литературного дневника" Поля Леото, моего постоянного друга. Сегодня впервые подумал, что одна из причин моей (до конца не объяснимой) любви к нему – это отсутствие у него – абсолютное – того, что принято теперь называть "discours" – "идеологического" языка, или языка, подчиненного системе отвлеченных понятий, языка с ключом … Чтение Леото – это изумительное "экзорцирование" такого языка.
Понедельник, 30 ноября 1981
Тридцать пять лет со дня моего рукоположения на Сергиевском подворье в священники. Служил сегодня утром Литургию (Андрея Первозванного по новому стилю, Никона Радонежского по старому).
Все эти дни, в связи с моим "ничегонеделаньем", мысли о том, что я
ничего не сделал . Словно до шестидесяти лет все ощущал как еще только будущее, к которому готовишься. И вдруг – совсем новое ощущение: все уже позади и пора подводить итоги… Это
не хорошие мысли. Мысли от гордыни. И в ответ сегодня
хороший Апостол – о соре, всем миром попираемом…
[1488]Среда, 2 декабря 1981
"La parti socialiste est partout le naufrage d'un pays"
[1489] (Поль Леото "Литературный дневник", XVII, 160).
Исповеди. Очень часто речь идет о "состояниях", которых я не припомню в моей молодости. Очень часто это состояние страха . Страха самой жизни. Страха не преуспеть , ударить лицом в грязь, что-то вроде этого. Не является ли это состояние результатом современного "культа успеха", который, в свою очередь, выражается в постоянном чувстве соревнования, в безостановочном сравнении ? Люди буквально распадаются, раскалываются от этого страха. А другая реакция – это аррогантность, самоутверждение путем смешивания с грязью других. Н.А., студент, которого мы только что попросили "уйти" из семинарии. Наглые реплики в классе смиреннейшего, благожелательного проф. Кесича. "Я все это уже знаю! Все это ниже моего уровня! Я ожидал от семинарии большего!" и т.д. Человеку тридцать лет! А он все хорохорится, все "показывает себя".
Современная молодежь, прежде всего, несчастна . Несчастна потому, что живет в мире, в котором один критерий – успех . Отсюда тоже невероятный разлив всяческого самозванства, учительства… "лидерства". В Церкви это приводит ко все разрастающемуся "младостарчеству".
Я не хочу сказать, что мое поколение было свободным от самопревозношения, хвастовства, присущей молодости хлестаковщины. Мы все, вне всякого сомнения, любили "покрасоваться". Но это не затрагивало глубины жизни. Наедине с собою мы очень хорошо знали, что это хлестаковщина. И потому это не было, как теперь, какой-то душевной болезнью, какой-то мрачной тяжестью страха.
"Власть над душами" – какая это, по-видимому, страшная и ненасытная страсть, как съедает она душу прежде всего самого того, кто ею одержим. На днях мне довелось прочитать письмо одного такого младостарца. Студент, получивший его, дал мне его – сомневаясь в уже не помню каком "поучении" этого тридцатидвухлетнего учителя духовности. Какая поразительная самоуверенность, какое полное абсолютное самоотождествление с истиной. По прочтении письма мне стало просто страшно. И если бы это был единичный случай. Нет, я мог бы, не напрягаясь, назвать десять таких "старцев", безнадежно калечащих души своим псевдомаксимализмом… Как будто они никогда не читали, что "Господь гордым противится, а смиренным дает благодать"
[1490].
Четверг, 3 декабря 1981
Засел снова за "Таинство Святого Духа". Мне вдруг стало ясно, что я отложил, отказался из-за лени и малодушия. И тоже маловерия. Но почему все-таки с каждым годом писать мне все труднее и труднее? Думаю – и долго! – о каждой фразе. Одна из причин этому – я думаю – в том, что богословие, то есть богословское "писание", "выражение", я с годами тоже все больше ощущаю как "искусство"… И вот на искусство это, пожалуй, не хватает сил и дара.
Вчера, уже уходя на лекцию о таинстве елеосвящения, к которой я даже и не готовился, ибо читал ее несчетное количество раз, вдруг осенило – что все богослужение этого таинства (чтение Апостолов, Евангелий, молитвы и т.д.) раскрывает это исцеление, это сама Церковь как новая жизнь новой твари, в которой претворяется и болезнь, и страдание… Вне Церкви они – поражение, в ней – победа и свидетельство Царства.
Завтракал вчера у нашего студента Н. (из Техаса, с женой – беременной – и тремя детьми). В углу – икона: три "героя Православия" – Палама, Фотий, Марк Ефесский. Икона, иными словами, анти католичества, и при этом воинственного. И Н., и его жена – бывшие католики.
Не удержался и купил сегодня в Нью-Йорке новую толщенную биографию William Carlos Williams…
Пятница, 4 декабря 1981
Вчера, почти внезапно, стала для меня ясной моя ошибка в "Таинстве Святого Духа", тупик, в котором я оказался. Я все сводил, то есть спор об эпиклезе, к конфликту Восток – Запад. Но это неверно и потому – тупик. На деле же нужно рассуждать так: если исчезает или хотя бы слабеет эсхатологическое понимание таинства и это значит – и самой Церкви, то вопросы о моменте и способе преложения Святых Даров становятся необходимыми, логическими, так же как и понятие "пресуществления". А это ослабление эсхатологической сути христианской веры началось очень рано и совсем не только на Западе. Уже Кирилл Иерусалимский, в четвертом веке, – пример этого ослабления… И тогда сразу же Дух Святой и Его действия в Евхаристии начинают пониматься как "инструментальные". Таким образом, я, в общем, зря написал неимоверное количество страниц. Все это объяснял сегодня милейшему о.Ариде. Теперь со страхом и трепетом сажусь за писание нового начала. По такому, приблизительно, плану:
– Спор об эпиклезе как спор бессмысленный.
– Церковь и Дух Святой.
– Дух Святой – в Таинстве Церкви – Евхаристии.
– Евхаристия и время.
– Евхаристия и преложение.
Понедельник, 7 декабря 1981
Этот уик-энд провел с нами Д[митрий] О[боленский], которого я не видел лет пять. Постарел (ему шестьдесят три года), лицо в морщинах. Но все тот же шарм, юмор, "аристократизм" (ему это слово действительно подходит). Только вчера, гуляя со мной, рассказывает во всех подробностях о своих треволнениях: развод с женой, пятилетняя любовь к другой женщине, планы, трудности, сомнения, мучения… Все это в тональности – неподдельной – "о, как на склоне наших лет…"
[1491]. Жалость к нему, к его – и тут выражение это звучит правильно – вечно
разбитой жизни.
Размышления, в связи с этим разговором, о личном счастье. Парадокс: с одной стороны – абсолютная единственность, единичность каждой жизни, а с другой – применимость к каждой одного и того же духовного закона, его внутренняя правда . В случае Д.: его неприятие с самого начала трудного брака. Эмпирически: это тупик. И, однако, выход из этого тупика был бы только один: принять его во всей его "неудачности", вытерпеть, выстрадать, победить. Но для этого, конечно, нужно духовное усилие. Все это звучит как прописи. И, однако, это правда. Христианство: преодоление тупиков. Грех нашей цивилизации: отрицание возможности такого преодоления. Уверенность, что, отбросив тупик, можно по-другому, с другим, с другой – найти счастье. Вечная правда "Анны Карениной": найти его нельзя…
Два дня невероятной бури и тоже невероятных, удивительных, "патетических" закатов.
Вторник, 8 декабря 1981
Вчера вечером кончил курс о "литургии смерти". Теперь надо бы заняться приведением его в порядок… Но когда?
Думал о Д.О. – уже с некоторой "дистанции". Кроме всего прочего, налицо здесь невероятный "оборот на себя". "Мы полюбили друг друга…" Хочется грубовато спросить: "Ну и что?" Здесь вопрос "планов". Это "мы любим друг друга", в сущности, на другом плане по отношению к браку. Это несоизмеримо… Его отец – три брака, мать – два, один брат – три, другой – два. И если отождествлять каждое "мы полюбили друг друга" с браком, то нет основания останавливаться… Но брак – это любовь одновременно данная и заданная . А "мы полюбили друг друга" – это любовь, так сказать, "свалившаяся на голову". Брак требует усилия и подвига. "Мы полюбили друг друга" – требует капитуляции. Я знаю, что все это легко говорить… Но как бы в подтверждение моей мысли – вчера же трагическое письмо от [бывшего студента] Н.
Пятница, 11 декабря 1981
Сегодня получил от "ИМКИ", из Парижа, первые девять томов общего собрания сочинений Солженицына. Расставляя их на полке, подумал: вот бы написать теперь статью "Девять томов"… Не уравновешивает ли один Солженицын всю русскую эмиграцию? Не грандиозны ли эти девять томов? Но чтобы написать – нужно перечитать. Когда?
Вчера полуторачасовой разговор с какой-то молодой канадкой, собирающейся крутить фильм о Русской Церкви. Разговор вскрывает ее абсолютное незнание – России, Церкви, советской жизни. Все, что я и о.Л.К[ишковский] ей говорим, она судорожно записывает в записную книжку, восклицая при этом: "How formidable!"
[1492] или "How lovely!"
[1493]. Непонятно, как люди идут и соглашаются на такие вещи. Пример западной самоуверенности, объясняющей, в свою очередь, хроническое непонимание чего бы то ни было касающегося России…
Вчера же годовое собрание наших директоров. Все, затаив дыхание, слушают объяснение банкиров, ведающих нашими, то есть семинарскими, денежными делами. Признаюсь, что не понял ни одного слова, ни одной фразы. Боюсь, что именно так же – катастрофически! – ничего не понимают современные люди в языке богословском.
Суббота, 12 декабря 1981
Впервые за много недель спокойное, солнечное утро дома, за письменным столом… Вчера ужин у нас с Кесичем и Эриксоном и их женами. Очень весело и дружно… Все та же мучительная работа над "Таинством Святого Духа", работа также по преодолению в себе какого-то духовного паралича, лености, ничегонеделанья…
Среда, 16 декабря 1981
Счастливые два дня в Балтиморе. В понедельник приехали в наш, теперь уже такой знакомый, [отель] Sheraton, где я ждал результатов Льяниных операций два раза… На этот раз все в порядке. Чувство огромной благодарности.
Для меня навсегда [больница] John Hopkins останется местом благодатным . Не случайно в ротонде – эта статуя Христа.
Вечером в понедельник ужин с Алешей Б[утеневым] и его невестой. В старом портовом ресторанчике. Во вторник утром – короткий прощальный визит к хирургу. Завтракаем в порту, в греческом ресторане. Дождь, серое небо, залив в тумане. И чувство bliss'a. И, наконец, прощальное: хор девочек поет Christmas carols. Почти все – черные. Все в красных платьях. И это остается таким праздничным светом в душе.
Вечером прямо с [вокзала] Penn Station, под все тем же дождем, в Syosset на празднование семидесятипятилетия Сережи Трубецкого. Сегодня – погружение в исповеди, экзамены, приготовления к концу семестра.
Восторг [сына] Сережи – по телефону – от двухнедельной поездки в Сибирь.
Четверг, 17 декабря 1981
События в Польше. И усилия Запада – ne pas aggraver la situation
[1494]… Вчера получил "Русскую мысль". Объявление ревнителей памяти Государя – о
панихиде 19 декабря на rue Daru.
Четверг, 31 декабря 1981
Последний день года. Серый, холодный, с надвигающимся снегопадом. В гостиной елка. И, как всегда в этот день, ощущение времени , сущности, опыта его как конца и как начала.
На этой неделе два дня (по несколько часов) на съезде ассоциации славистов. Много знакомых и незнакомых. Подходят, представляются: "Я так давно мечтаю с Вами познакомиться…" Чувствую себя маленькой "знаменитостью".
Вторник, 5 января 1982. Навечерие Богоявления
Вчера, после двух недель с нами, уехала в Париж [племянница] Наташа. Кончились также "бурные" дни: елка со родичами и внуками, Новый год. Л. сегодня поехала в школу. В общем, праздники прошли хорошо, дружно, счастливо. Мы с Л., кажется, никогда так не ценили наш "уют", как в этом году.
Одно плохо – работа. Бывает такая полоса: "не идет". И, главное, в голове не только масса мыслей, но и более или менее ясно, что сказать. Не выходит только "как". И это мучительно.
Старость: забываю имена , не всегда сразу приходят слова.
Польша. Россия. Церковь.
К 31 марта мне нужно написать статью (или главу) в двенадцать тысяч слов (!) о современной православной "духовности" (коллективный труд англо-американский). Проснулся сегодня и думал (с ужасом) о том, что сказать, о чем писать.
Предварительные думы:
1. Может быть, отличие "современной" духовности в том, что она как раз
выделена , стала какой-то Ding an Sich
[1496]. Причины этому: огрыв Церкви от современного мира. Духовность – одна из "алиенации"
[1497]. Не только путь к Богу, но и бегство от "современности" (не от мира, следовательно, а в другой – прошлый – мир…).
2. Раздробленность, плюрализм этой "духовности".
3. Один тип – "ученая" духовность (молодая монахиня: "Я не могу быть монахиней, не изучив досконально Оригена…").
4. "Старец".
5. Яеевхаристичность.
6. Форма и содержание.
7. Западные влияния. "Зои"
[1498] в Греции, харизматизм.
8. "Возрождение": Афон.
9. "Снобизм".
10. Положительное и отрицательное.
11. Двусмысленность.
12. "Пути…" (куда? что надо? и т.д.).
Суббота, 23 января 1982
Hotel Rodenway. Боулдер, Колорадо.
Семь часов утра, и за окном буквально вспыхивают розовой зарей Скалистые горы. Пишу это перед отъездом на аэродром. А сюда – в университет Колорадо- приехал вчера читать лекцию о Солженицыне… До этого -два с половиной дня в Лос-Анджелесе, pastoral institute
[1499], до этого – целая неделя, ухлопанная на конференцию – в семинарии – "Синдесмоса", посвященную богословским школам. Так что январь вышел невероятно занятым, беспорядочным, разорванным. К тому же еще – ледяным, снежным и потому трудным. В понедельник – новый семестр, и это значит – напряжение до конца мая!
Понедельник, 1 февраля 1982
Только вчера уехал от нас Д. Оболенский, только вчера, таким образом, пришла к концу полоса суеты, невозможности работать. А потом был Синдесмос, поездка в Лос-Анджелес и Колорадо и – наконец – Оболенский, милый, жалкий, как бы затравленный обстоятельствами своей жизни… На все это ушла куча душевной энергии. А сегодня, сейчас – иду читать первую лекцию второго семестра. Итак, нужно восстанавливать "ритм" жизни, что в моей жизни и, Бог знает, не по моей воле – самое трудное, самое безнадежное.
Если что-нибудь "прояснилась" во мне за этот месяц суеты, то это, мне кажется, сознание, что время того вечного "компромисса", в котором я жил в Церкви, кончилось. Кончилось, так сказать, не по моей вине. Ибо кончилась, прежде всего, длинная-предлинная эпоха моей "деятельности" в Церкви как советника, влияния на архиереев, на "церковные дела", всего того, что само собою сложилось в правление митрополита Иринея. Попервоначалу мне это было – чего греха таить – обидным, "несправедливым", непризнанием моих "заслуг" и пр. Теперь, в итоге этого месяца не то что борьбы с собою, то есть с поставлением в центре всего – самого себя (на глубине я знаю , что "власти" я не люблю), а с грустью, путаницей в душе и т.д., я почувствовал своего рода освобождение . Раньше, то есть с 1956 года, – я всегда чувствовал свою ответственность за все в нашей Церкви. И вот словно кто-то ответственность эту с меня взял и снял . Попервоначалу трудно было не давать советов, не вмешиваться. А теперь легко … Еще остается, увы, ответственность за семинарию, но это особая статья…
Другой "компромисс", пришедший к концу, – это компромисс богословский и, можно даже сказать, компромисс
евхаристический . Мне вдруг стало ясно, что на последней глубине дьявольская борьба внутри Церкви идет с Евхаристией и что это, конечно, не случайно. Без поставления ее во главу угла Церковь – "религиозный феномен", но не Церковь Христова, "столп и утверждение Истины…"
[1500]. Вся история Церкви отмечена поэтому "благочестивыми" попытками "редуцировать" Евхаристию, сделать ее "безопасной" и для этого растворить ее в благочестии, свести ее к "говению", оторвать ее от
Церкви (экклезиология), от
мира (космология, история), от
Царства (эсхатология). И ясным стало, что если есть у меня "призвание", то оно тут, в борьбе за Евхаристию, против этой редукции, против расцерковления Церкви – путем ее "клерикализации", с одной стороны, ее "обмирщения" – с другой.
Вторник, 2 февраля 1982. Сретение
Клерикализм вбирает, всасывает в себя всю священность Церкви: власть как "священную власть" – управлять, вести, администрировать и т.д., власть совершать таинства, вообще всякую власть как "власть, мне данную…". Клерикализм, далее, всю священность отделяет от мирян: иконостас, причастие (только по разрешению…), богословие… Короче говоря, клерикализм де-факто отрицает Церковь как Тело Христово, ибо в теле – все органы однородны и разнятся друг от друга по функции, а не по "естеству"… И чем больше клерикализм – "клерикализируется" (традиционный образ епископа, священника – подчеркиваемый одеждой, волосами и пр.; ср. епископа во всей его внешней славе…), тем больше сама Церковь "деклерикализируется", обмирщается, духовно подчиняет себя "миру сему". В этой связи характерна параллельная с духовенством клерикализация монашества: изначально мирянского движения par excellence. В Новом Завете "духовенство" представлено как, так сказать идеальное мирянство. А затем почти сразу начинается его все более и более радикальное отделение от мирян, и не отделение только, а противопоставление мирянам.
И опять-таки очевиднее всего это – в отделении мирян от причастия как исполнения ими своего членства в Теле Христовом. Вместо "образ буди верным" возникает образ отделенного от верных священного властителя, раздаятеля "благодати" по своему усмотрению.
Вот откуда – борьба духовенства против причастия, ограждение его исповедью, "разрешением" – "мне данной властью" и т.д. Борьба, так очевидно усиливающаяся сейчас под влиянием одержимых своей властью, своей священностью молодых епископов. Ничто не угрожает так этой их власти, как возвращение Евхаристии – Церкви, возрождение ее как Таинства Церкви, а не "одного из средств освящения…"
Трагедия "богословского образования" в том, что молодые, "ищущие священства", сознательно или подсознательно именно этого отделения, власти, возвышения над мирянами и жаждут, и ищут, и эгу жажду в них усиливает, ее буквально порождает вся система богословского образования, a priori присущий ей клерикализм. Как в этой системе могут они понять, не умом только, а всем существом, что от власти, всякой
власти нужно бежать, что она всегда соблазн, всегда – от диавола. Что от нее освободил нас Христос словами: "дадеся Ми всякая власть"
[1501] и явлением власти – светом власти как власти любви, власти жертвенного самоприношения… Что дал Он Церкви не "власть", а Духа Святого: "Приимите Дух Свят…"
[1502]. Во Христе власть вернулась к Богу, была исцелена от "властвования" ("а среди вас да не будет так"
[1503]).
На шестьдесят первом году жизни вдруг спрашиваешь себя: как могло все это оказаться столь извращенным? И становится просто страшно.
Среда, 3 февраля 1982
Возня бедного Т. с монашками. Одна из них (учащаяся в семинарии, женщина средних лет) утверждает, что у нее дар слез, мешающий ей слушать лекции… Т. предлагает ей поговорить с монашкой Е. Гневный ответ: "Never!"
[1504]. Полное отрицание, ненависть… Откуда эта страсть, это странное извращение, присущее всем этим "духовным"? Их постоянные кризисы, поиски новых помещений, конфликты? Казалось бы, человек получил от Бога "дар слез". Радуйся! Нет, и этот дар оказывается "проблемой". Какой-то темный, злой мир этой "духовности", отрицания друг друга, бесконечные споры о "monasticism"
[1505]… Вспоминаю свой собственный страшный (иначе не скажешь) опыт с матушкой С. в пятидесятые годы: ее вечные звонки, искушения, падения, отрицания, подозрения – и все, все время, с магическим словом "духовная жизнь"…
А вчера вечером ужин у о.В. Сарказмы о приходе, очевидная, хотя и затаенная, нелюбовь к прихожанам, не желающим просто подчиниться …
Кто-то, тоже вчера, рассказывает мне о Н.Н., чистом американце, ставшем сначала "мелхитом", потом перешедшем в Православие, учившемся несколько месяцев у нас, получившем приход, затем – с треском и проклятиями к нам – ушедшем к карловчанам, а теперь – в сане "архимандрита" – возглавляющем во Флориде какую-то старостильную греческую секту! Вопрос: почему это неудержимое стремление – у молодого, нормального американца – к этим крайностям, к этим постоянным обличениям и проклятиям, к столь очевидно сектантскому духу? Да, конечно, Америка – страна сект, но то же самое происходит и в Европе. Почему? Не знаю. Знаю только, что не без дьявола, знаю, что религия – столько же от Бога, сколько и от дьявола. И что нету ничего страшнее жажды власти над душами . Это жажда Антихриста…
Воскресенье, 7 февраля 1982
Вчера целый день в Орландо, во Флориде, в приходе "западного обряда" (антиохийского). Нужно ли это? Важно ли это? Так и не пришел к окончательному выводу. Одно ясно: какой бы ни был
обряд – он нуждается в "ключе", то есть в богословском, духовном
контексте . Наш хваленый византийский не помешал глубочайшему перерождению литургического чувства и восприятия, развитию "культов", "храмового" благочестия, буквально обратного опыту раннего lex orandi
[1506]…
Странно из заледенелого Нью-Йорка попасть – за два часа – в жаркую (тридцать градусов) летнюю погоду, в заросли апельсиновых деревьев и в толпы едва одетых людей. Но, Боже мой, какое жуткое уродство – этот мелкобуржуазный рай, разрастающийся не по дням, а по часам во Флориде.
Кончил (в аэроплане читанную) толстую книгу J. Le Goff "Histoire du Purgatoire"
[1507]. Необычайно интересно, но приводит к горестным раздумьям о богословии в Церкви.
Мне кажется, что первым и решающим плодом знания Бога, знания Истины не может не быть некое блаженное смирение . Смирение не "волевое", не самоуничижение, а смирение благодатное, смирение как "радость и мир в Духе Святом", как освобождение от мучительного, присущего падшей личности владычества над собою – себя, своей самости, самоутверждения, некоей постоянной мучительной лихорадки (желание Петра Ивановича Бобчинского, чтобы "высокое лицо" в Петербурге знало о его существовании).
Понедельник, 8 февраля 1982
Вот уже несколько – недель? месяцев? – у меня чувство, что я разучился писать, что не могу написать самой простой, короткой фразы…
Понедельник, 15 февраля 1982
Утомление. Вчера весь день – "общее собрание" Св.-Владимирского богословского фонда. Длиннейшая архиерейская служба… Завтрак… Бесконечное заседание и наконец столь же бесконечный ужин. Утомление от стиля всего этого и тоже – от безнадежно растрачиваемого времени.
Среда, 17 февраля 1982
Случайно попался в руки бюллетень [бывших учеников школы св. Марии в Париже], и в нем письма к кому-то Поля Клоделя: "Surtout penetrez vous de 1'importance des
devoirsd'etat sur lesquels mon premier confesseur ne cessait d'insister". "Le Christ est mort – me disait il, en accomplissant ses devoirs d'etat". "La cause de touts les maux physiques et moraux, c'est de se regarder soi-meme"
[1508].
Кенозиз Церкви в истории… Как если бы Бог спасал Церковь от внешних успехов. Ибо при внешнем успехе она есть только этот успех: земной, человеческий, преходящий и, главное, придающий "гордыню". "Преуспевающая" Церковь служит Антихристу.
Свидание вчера с Сашей Дорманом (мужем Лены Штейн). Просит крестить и его, и жену. Так очевидно, что желание это порождено не внешним успехом Церкви. Успех Церкви – это вот эта "тайная передача" – Церковью, в Церкви – знания Христа, желания . И она происходит все время. Но тут сразу начинают "определять" это как "духовное возрождение", "объективировать", анализировать степень "возрождения", и вот уже расцветает махровым цветом – гордыня.
Очередная "Русская мысль". Кажется, понял, что раздражает меня в ее тоне. Это газета только и исключительно
анти (антибольшевистская). Поскольку, однако, все ее читатели тоже
анти , то все эти еженедельные доказательства зла советского режима утомительны и однообразны и, главное, не нужны. Порочный круг: эмиграция в ту меру эмиграция, в какую она
анти . "Анти" это, однако, в ту меру, в какую оно становится ритуальной, словесной риторикой, эмиграцию эту как бы "иммобилизирует"
[1509]. Все тот же однообразный, безжизненный, привычный
крик . А крик, когда он становится привычкой, мучительно надоедает. Я, например, крик этот слышу шестьдесят лет! И без малейшего признака, что им что-либо осуществляется… Получается что-то вроде той "возни с Болгарией" Инсарова, о которой со скукой говорит один из героев "Накануне" [Тургенева].
В "Вестнике" замечательная глава Солженицына – о последних неделях Думы. Читая, подписываешься под каждым словом.
Пишу все это, чтобы "включиться", чтобы хоть как-нибудь преодолеть овладевшую мной lassitude'
[1510], безблагодатность, опустошающую душу.
Вчера целый день дома, за письменным столом. И сразу другое настроение… Вечером Л. убеждает меня не поддаваться – в связи с церковными делами – раздражению, ворчанию, негативизму, горечи. Она права – самое ужасное было бы спуститься на тот уровень, на котором все эти дела "делаются". И лучшее средство от этого – работа, "воплощение" тех нескольких "видений", что составляют мое мироощущение.
Соблазн активизма в Церкви. Том рассказывает вчера об одном из нами "сформированных" молодых священников. У него всего двадцать прихожан. Но он неустанно рассылает им какие-то циркуляры, формуляры, опросные листы, требует, чтобы они на все это реагировали тоже в письменной форме, и т.д. В теперешнем мире, особенно же в Америке, Церковь воспринимается как "предприятие", как "деятельность". Священник все время тормошит людей, чтобы они что-то делали для Церкви . А это дело, в свою очередь, измеряется, так сказать, количественным критерием: сколько заседаний, сколько долларов, сколько "дела"… И все это, несомненно, нужно. Опасна не сама эта деятельность, а редукция к ней Церкви, отождествление с ней церковной жизни . Между тем как "идея" Церкви, сакраментальный принцип ее жизни в том. что, с одной стороны, она как раз уводит нас от "дел" (отложим попечение), дает нам приобщиться "новой жизни", вечности, Царству, с другой же – требует от нас, чтобы этот опыт новой жизни мы вводили в мир . Чтобы "мир сей" мы очищали, просвещали "неотмирностью" опыта Церкви. А выходит наоборот: на деле мы "деловитость", в конечном итоге – суету мира сего вводим в Церковь, ей подчиняем, ею отравляем жизнь Церкви. И получается порочный круг, и таинство "повисает в воздухе". Получается не воцерковление жизни, а обмирщение Церкви.
Пятница, 19 февраля 1982
В "Orientalia Christiana Periodica" (vol.47/2, 1981) рецензия неизвестного мне G.Nedungatt, S.J. о моей "Church. World. Mission". Выписываю заключение:
"Schmemann's is one of the most powerful voices of Orthodoxy today, which ought to be heard. He is provocative, prophetic and paradoxical. ("There is no real freedom outside the Church," he writes on p. 184. Before objecting – "if so, equally, extra ecclesia nulla damnatio", go and read the whole essay on "Freedom in the Church" and try to see what he means to say.) His theology is an antidote to the shining stone that is often proffered as living bread to a consumeristic society by a commercialized theology"
[1511].
П[етр] М[икуляк] рассказывает мне сегодня о церковном "пожаре" в Пенсильвании в связи с декретом наших владык о новом стиле. Сто лет этих несчастных карпатороссов и галичан не учили ничему, кроме "старого стиля", в нем учили их видеть сущность Православия. И вдруг – опять-таки без всякой подготовки – переходить на новый стиль!
Исповедь, сегодня после утрени, одной из наших "семинаристок". Американская болезнь: патологическая боязнь не быть
популярной , выпасть из круговой поруки того социального микроорганизма, к которому принадлежишь. Сколько в Америке "держится" на этой псевдодружбе, псевдоинтересе друг к другу, на своего рода "ритуальном" или "символическом" единстве. И все это из-за боязни, столь же патологической, остаться, хоть и на короткое время, в одиночестве. У американцев предельно неразвита внутренняя жизнь. Ее сознательно заглушают, заговаривают этой вот "круговой порукой". И когда она – внутренняя жизнь – пробивается через все это, человек впадает в самую настоящую панику и бежит к психиатру излечиваться от нее… Это же относится и к американскому браку. Он либо распадается, либо же муж и жена живут в какой-то мучительной, тоже "панической" зависимости друг от друга. И это так потому, должно быть, что американца со дня рождения учат adjustment to life
[1512]. Учат и в семье, и в детском саду, и в школе, и в университете. Поэтому всякое выпадение из социума американец переживает и воспринимает как угрожающий симптом maladjustment
[1513], требующий моментального лечения. Я часто спрашиваю себя и даже писал об этом: почему в семинарии такое
напряжение ? Ответ прост. Потому что все живут только "по отношению" к другим, ко всем, им все время "дело" до других… Они думают, что это христианская любовь. Но это совсем не христианская и не любовь. Это все время на деле предельно эгоистическая забота, страх о себе, боязнь не иметь в других свидетельства, удостоверения своего собственного существования. Высшая похвала: "Не relates well to people…"
[1514].
Среда, 24 февраля 1982
Вчера – в Балтиморе. Лекция в Loyola College. Лучезарный – первый подлинно весенний – день! Я приехал заранее и с вокзала пошел пешком – километра четыре, если не все пять. Наслаждение от солнца, от утренней городской жизни, от одиночества, как бы всему, что видишь, – благодарно открытого. "Удачная" лекция. Уютный завтрак с профессорами, разговор живой, но серьезный и подлинный и о подлинном с людьми, задающими себе вопросы о Церкви, о мире, о людях, а не просто разводящими свой елейный и – одновременно – садистский триумфализм, не играющими в "духовность"…
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас…" (Мф.23:15).
Четверг, 25 февраля 1982
Вчера за блинами у Юры и Вероники Штейн разговор о "захвате" "Нового русского слова" какими-то диссидентскими, "третьеэмигрантскими" жуликами, об изгнании Виктора Соколова (у которого мы ужинали в прошлое воскресенье) и т.д. Ускоряется процесс гниения эмиграции, и от него нужно держаться как можно дальше… Эмиграция, всякая эмиграция – болезнь, ибо – состояние ненормальное. Но она осмыслена, она совершает свою "миссию", пока она преодолевает себя как "болезнь", претворяет себя в какое бы то ни было, но служение . Этим держалась первая эмиграция, обреченная на "служение" уже хотя бы тем, что никто на Западе – ни правительства, ни литература, ни политика – ею не интересовался, денег ей не платил и на службу к себе не пускал. Все было "героизмом" – и школы, и газеты, и издательства, и "политика". Все это начало меняться уже со второй волной, попавшей на Запад в эпоху холодной войны и в нее включившейся, но уже по заказу (см. радио "Свобода"). С появлением же третьей волны произошла радикальная метаморфоза, потому что 95% ее и эмигрировали-то не для того, чтобы "служить" – России, свободе и т.д., а для себя , для возможности делать то, чего "там" они делать не могли. Они эмигрировали во имя своего личного, житейского успеха … Поскольку, однако, успех этот зависит, в большинстве случаев, от их "представительности", от признания их Западом как "представителей" порабощенного Советского Союза, то создалась и не могла не создаться атмосфера самозванства, главное же – рвачества во всех его видах, формах и степенях. И все стало фальшиво . В первой эмиграции многое было ненужным. Но не было – в теперешнем размере ее – фальши . Люди верили в то, что они как эмигранты делали, даже если то, во что они верили, каким "ценностям" служили, было ошибочным или ненужным… Да, и тогда эмигранты писали друг на друга доносы, но писали их "бескорыстно", ибо донос не мог привести к службе, пенсии, мягкому редакторскому креслу. И, наконец, морально ни доносы, ни рвачество не оправдывались. На самом высоком уровне эмиграции, там, где "давался ей тон", идеал эмигранта был идеал "рыцарский". Конечно, по-настоящему жили этим идеалом и воплощали его. как всегда и всюду, немногие. Важно то, однако, что и не воплощавшие его должны были по нему равняться. А теперь этого идеала нет, и, потому что его нет, все "идеалы" стали фальшивками. И в этой атмосфере жить нельзя и не нужно.
Бурный, неистовый роман между Н. и Н.Н., в который я почему-то оказываюсь вовлеченным. Слушая их "излияния", думаю о том, что как история никогда никого ничему не учит, так же непередаваем и личный опыт, никакая другими накопленная мудрость. Каждый в минуту жизненной бури – один, вне достижимости, и ему ничего не говорит, ни в чем не убеждает чужая мудрость, чужой опыт. Как если бы каждый человек должен пройти через все стадии "человеческой истории".
Понедельник, 1 марта 1982. Великий Пост
Вчера – Прощеное воскресенье. Соответствующие службы, соответствующие проповеди. Но как трудно сквозь привычные слова пробиться к подлинной сущности, например, прощения. Прощения как "события" Божественно-
го, творческого. Что значит: "Бог простит…"? В Церкви все время к чему-то главному, "последнему" прикасаешься или, вернее, это главное тебя "объемлет". Но тут же, увы, и выключаешься…
Понял вчера, вдруг, [первую ошибку] моей главы о таинстве Святого Духа. Я все хотел православное приятие "тайносовершительного момента" вывести из западных влияний. И вот нет, должен признать – из самой Византии-матушки, из мистериологии и символизма, а в конце концов все из того же "краха" эсхатологии. Переписывать! В который раз?
Длинный разговор в субботу перед всенощной с Н. Еще раз убеждаюсь в том, как далек le discours
[1515] Церкви от "воспринимательных категорий" современного человека, даже родившегося и выросшего в Церкви. Например, исчезли совершенно, без остатка, категории
гибели и
спасения . Исчезли вместе с категорией "мздовоздаяния". И исчезли в ту меру, в какую в Церкви эта категория – мздовоздаяния – воцарилась, превратилась в некое самодовлеющее целое. Ибо на деле современный человек имеет опыт
гибели – распада, убывания, разложения жизни – и также если не опыт, то жажду
спасения . Но если за помощью, за спасением от гибели он обращается не к Церкви, а к психотерапии, то потому, что Церковь, христианское учение он воспринимает как систему каких-то непонятных, а потому и бессмысленных
можно и
нельзя . Христианство спасает светом и радостью пришествия в мир Христа. Он
есть спасение. И только это знание объясняет, осмысливает все "можно" и все "нельзя", ибо все они – по отношению ко Христу, по отношению к единственному выбору
во Христе или
вне Христа …
Мучительное "раздражение", с которым "церковные" христиане, и в первую очередь духовенство, относятся к миру . Он им так очевидно мешает, и они решительно не знают, что с ним делать. Если бы его не было, как упоительно можно было бы погрузиться в "церковные дела" – то есть в то, что единственно и интересует по-настоящему "владык" и прочих "церковных" деятелей. .. Миряне в Церкви нужны только как оправдание "церковных дел"… Сами-то церковные дела эти не имеют к мирянам ни малейшего отношения. И потому в Православие на Западе обращаются либо "клерикалы", то есть любители "церковных дел", либо же "мистики" – то есть любители смаковать тонкости церковного учения об "обожении" и т.д. Каноны и духовность …
Вторник, 2 марта 1982
Первый день Поста. Длинная, "уставная" утреня. И, как всегда, восхищение силой, красотой, каким-то удивительным, потрясающим порывом псалмов и, далее, ветхозаветных песен . Вчера пели первую – песнь Моисея. И как почти жалки вкрапленные в нее тропари Триоди. Там – живой Бог , здесь – пускай и высокая, но риторика. Там – тот "я", который "вопиет всем сердцем к щедрому Богу", живой человек, весь человек, все в нем. Здесь – "благочестивый" человек, говорящий благочестивыми "словесами". Там – в хвалу, в борьбу, в отчаяние, в радость вовлечен весь мир. Здесь – шепот "души".
Вечером – канон Андрея Критского. Лишний раз – убеждение в том, что все это абсолютно "непереводимо" и для современного человека чуждо. В этом смысле восточное Православие остается – и не может не остаться – чужим тому "Западу", который покрывает собой сейчас весь мир. Встреча с Западом, обращение Запада могут произойти только на почве Библии и Евхаристии , но никак не на почве византийской "мистериологии".
Днем – несколько часов мучительного раздумья над эпиклезой, над всей "проблемой" ее. Для меня все более и более очевидным становится, что корень того "зла", о котором я пишу (отрыв Евхаристии от ее эсхатологического, но потому и космического и исторического смысла), не на Западе, а в самой Византии, в непереваренном ею платонизме, в платонической ереси о времени.
В почте вчера – воззвание гарвардских богословов: бороться с nuclear arms
[1516], за разоружение и т.д. Это – утверждают они об атомной войне – противно воле Божьей. Догадались! Исповедали? Как будто все это происходит в мире, в котором еще только ставится вопрос, обзаводиться ли атомной бомбой или нет, как будто речь идет о двух абсолютно тождественных забияках – СССР и США, как будто в первый раз в истории мира происходит что-то, не угодное Богу… И какое в документе этом самодовольство, какая препарация рекламы… Все та же "интеллигентщина", рецепт которой: во-первых, страстное желание быть
виноватой , во-вторых –
ненависть к себе и своему (в данном случае – к Америке), в-третьих –
самодовольство (сознанием вот этой "вины" и "ненависти"). И, в-четвертых,
нечестность (они ведь знают, что СССР ни на какое разоружение не пойдет и что призыв их поэтому есть на деле призыв к капитуляции, к уже давнишнему better red than dead
[1517], но вот пишут и рассуждают так, что нет, это возможно…).
В "Нью-Йорк тайме" почти каждый день статьи Сережи. Откуда в нем это непобедимое духовное здоровье, это умение быть действительно объективным, правдивым, честным?
Среда, 3 марта 1982
Холодные дни, даже с морозом, но уже весеннее солнце. Начал – в который раз? – "Таинство Святого Духа", до такой степени стало мне очевидно, что я шел до сих пор по неверному пути. Может быть, антитеза Восток – Запад ("западная ересь", подход, категории), посредством которой я так часто, чтобы не сказать – всегда, оперирую, не имеет, не может и не должна иметь такого рода универсальной "оперативности". Во всяком случае, в том, что касается меня лично, то с каждым годом я все сильнее ощущаю свое собственное "западничество" – не в "метафизике", не в "догматах", а в том смысле, что на "Западе" я чувствую себя дома. Тогда как "Восток" я так часто ощущаю мучительным, в самом деле безнадежно запутавшимся. А иногда вдруг простая, глубокая, светлая мысль – как ветерок в жаркий и изнурительный день.
Православный не скажет, не признает, что Православие может быть упадочным , что огромная часть увесистых томов "Минеи месячной" состоит из подражательной и часто пустозвонной риторики. Он само раздумье об этом обличит как еретическое и греховное. И выходит так, что человек, приблизившийся к Церкви, ставший "церковным", все время напяливает на себя узкий кафтан, не на него сшитый, и уверяет себя, что тут – в этом безоговорочном принятии всего – спасение. Отсюда его воинственность, фанатизм, постоянное обличение всех и вся. Это не спокойная, ясная и счастливая уверенность, рождающаяся из подлинного опыта. Нет, это он себя бичует, самого себя уверяет в своей правоте и потому заранее ненавидит всякого, кто еще даже и не задал "вопроса", но может поставить его… Но потому же такой человек и так легко "сжигает то, чему поклонялся", уходит, бросает… Вот несколько лет тому назад на карловацком соборе в Нью-Йорке был такой фанатический [новообращенный]. Он только и делал, что вопил, обличал, анафематствовал всех во имя стопроцентного Православия. И вдруг, в один прекрасный день, исчез и где-то оказался католиком.
Исповеди. Хорошие мальчики, хорошие девочки. Но как чувствуется в них эта постоянно нажатая педаль, неспособность к зрячей простоте, придавание всему в себе огромного значения. Они говорят, в сущности, не о грехах, а о failures – о неудачах: слово, которое в американском его звучании насквозь пронизано гордыней, ибо противопоставляется внешнему успеху, то есть своему успеху, а не успеху Божьему в себе. Студент пишет плохое сочинение и получает неважную отметку. И это сразу травма, проблема. Эта отметка подрывает его "веру в себя", приводит к "негативизму", грозит "цинизмом" – превращает его в "failure"
[1518].
Четверг, 4 марта 1982
Снова снег, зима, холод…
Я определенно начинаю чувствовать себя "пророком". Ср. письмо Georges N. Nahas, председателя "Синдесмоса": "…се que je tiens a vous affirmer, mon Pere, c'est 1'immense plaisir que j'ai eu a vous connaitre personellement apres vous avoir lu maintes fois… L'aspect, oserais-je dire, prophetique de la plupart de vos interventions dans nos reunions, ainsi que le sens profond de 1'importance de Favenir immediat de 1'Orthodoxie que j'ai entrevue dans votre keynote…"
[1519] и т.д. (лень дальше писать).
Если так, однако, то "пророку" нет места в своем отечестве и, следовательно, то, что происходит со мной в ОСА, – вполне закономерно. Et voila, le tour est joue. II faut ce qu'il faut…
[1520]Decidement
[1521], мы живем в эпоху "религиозного возрождения". После ислама, после всевозможных "востоков" – статья сегодня в "Нью-Йорк тайме" об "уходе" в религию, в самый фанатический, средневековый иудаизм – израильской молодежи.
Суббота, 6 марта 1982
Пишу, вернувшись с первой великопостной субботней Литургии. Всегда в этот день думаю о бабушке Елене Александровне и о маме: это они говорили об особенной радости этих суббот и мне ее передали.
"Утешения":
– Вчера письмо из Израиля, от совершенно незнакомой мне женщины: "Only a few lines to thank you for what you share with all of us in your writings. I've read already several books of yours and have no other words to express my gratitude as to say a very heartfelt
thank you … I might never meet you personally, but I can form myself in Chist's spirit and yours through the reading of your words. May God keep you and give you long life and good health to continue his work… "
[1522] (Maria Zehenmayz. Box 41, 16100 Nazareth).
– Сегодня звонок от старой знакомой по собору, благодарность за главу "Великого Поста", напечатанную в прошлое воскресенье в "Новом русском слове", и просьба прислать саму книгу.
Воскресенье, 7 марта 1982
"Торжество Православия". Нужно ехать в Нью-Джерси и повторять то, что повторял уже тридцать лет и что, кроме минутного энтузиазма, никогда ни к чему не привело…
Вчера получил толстый пакет из Syosset. Доклады собору епископов от всевозможных департаментов, комитетов, казначеев и т.д. С. а у est!
[1523] Мы "достигли" наконец того, о чем, по всей вероятности, тайно мечтали. Достигли редукции Церкви к бюрократии, администрации, бумажному водопаду и прежде всего – к скуке. Теперь у нас царит салон Бергов: все как у всех, все как в приличных домах. Бюрократия стоит дорого (совещания, дорожные расходы, секретарские расходы). Потому она прежде всего весь свой пафос направляет на финансовую сторону дела. Но финансовая "техника" требует людей, специалистов по воззваниям и т.д. Следовательно, нужно больше денег… Получается тот вечный cercle vicieux
[1524], а на языке Макса Вебера "бюрократизация харизмы"… После своего рода "гласа хладна тонка"
[1525] повеявшего на нашу Церковь, началась "нормализация". И, просматривая все эти доклады, резолюции, протоколы, вспоминаю Владимира Соловьева: "Скучно, как в консистории".
У каждой нации есть свой
тотем , своя система символов, архетипов, символического языка и свой, так сказать, "специфический" центр. Во Франции этот тотем – политический, политическая стихия и музыка (не обязательно – идеи…). В Америке та же музыка льется из слова "бизнес". Для американца это совсем не проза, не будни, а, наоборот, романтика, эстетика, "сокровище сердца". В приемной Brown Brothers (нашего investment bank
[1526]) на столе лежит роскошно изданная история этого банка. И написана она в ключе mysterium tremens, как была в Европе написана история крестовых походов или ордена траппистов. Слово "бизнес" – сакраментального порядка и тональности. Но поэтому и превращение Церкви в "бизнес" американец не ощущает как профанацию. Это единственный "сакральный" язык, который он знает: "Money makes money"
[1527] – чем не таинство? Все это я пишу без всякой иронии. Ибо деньги и впрямь имеют сакраментальный характер и в них действительно нуждается Церковь. Весь вопрос в том только, как они делаются и для чего, или, по-другому, что с ними самими "совершается" внутри Церкви. А сейчас мы видим, что происходит с Церковью, когда она
свой язык и тем самым свою сущность "подчиняет" деньгам…
Среда, 10 марта 1982
Разговор вчера с нашим студентом из Техаса, только что вернувшимся из шестимесячного пребывания в Греции. Конечно, Афон, конечно, увлечение им. "What we need here is monasticism…"
[1528]. Умный, хороший мальчик, и лишнее свидетельство – о путанице в нашем американском Православии… Все мечта о каких-то варягах, стремление новое вино влить в ветхие мехи. Становится понятной американская тяга к "экспатриированию"… Вспоминаю какого-то американского аббатика, запрашивавшего меня письменно, продаются ли у нас четки, освященные каким-нибудь "старцем".
Ктстати, о "мехах". Читал вчера "Церковную иерархию" Псевдо-Дионисия Ареопагита. Что может все это значить в современном мире? А также – что могло все это значить в мире, в котором все это было написано? Что означает успех этого "corpus"'а в Византии? Если применять к такого рода истолкованию христианства основной евангельский принцип – "по плодам их узнаете их", то плодами его в истории христианского мира была редукция Церкви к "мистериальному" благочестию, отмирание эсхатологической ее сущности и миссии и, в конце концов, дехристианизация этого мира и его секуляризация. Но вот зовут нас обратно именно к этому "наследию"…
Пора признаться самому себе – я ощущаю своим именно этот "секуляризованный" мир и ощущаю чуждым и враждебным себе гот мир, который сам себя называл "христианским". Ибо этот секулярный мир – единственно реальный . В него пришел, ему говорил Христос, в нем и для него оставлена Церковь. Если говорить парадоксами, то можно сказать, что всякий "религиозный мир", в том числе и "христианский", легко обходится без Бога, но зато минуты прожить не может без "богов", то есть идолов. Такими идолами становятся понемногу и Церковь, и благочестие, и быт, и сама вера… Секуляризованный мир самим своим отречением вопит о Боге. Но, зачарованные своей "священностью", мы этого вопля не слышим. Зачарованные своим "благочестием", мы этот мир презираем, отделываемся от него поповскими шуточками и лицемерно "жалеем" людей, не знающих прелестей нашей церковности. И не замечаем, что сами провалились и проваливаемся на всех экзаменах – и духовности, и благочестия, и церковности. И выходит, что ничто в этом "секуляризованном" мире так не подчинено ему изнутри, как сама Церковь…
Пятница, 12 марта 1982
Только что отвез Л. и Машу на [аэродром] Kennedy: завтра после обеда они будут в Москве!
Вчера на лекции католикам. Всегда, несмотря ни на что, чувство близости к ним.
Суббота, 13 марта 1982
Литургия с очередной хиротонией. Каждый раз, что участвую в рукоположении и пока стоит посвящаемый на коленях у престола, и голова его покрыта омофором, и лежат на ней руки епископа, думаю, спрашиваю себя: что происходит, что совершается? С одной стороны, потрясающая сила и глубина этого, никогда не прерываемого, преемства – на протяжении двух тысяч лет! А с другой – и слабость этого "преемства", человеческая ограниченность – в истолковании, в опыте, в "реализации".
Только что звонил в Москву. Л. и М. только что приехали. Благополучно. Садятся – "за горячий борщ". Странно подумать – вот они в той самой России , которую я никогда не видел и которой, тем не менее, так или иначе определенной оказалась вся моя жизнь. С волнения – в детстве – когда слушал избитый романс Плевицкой "Замело тебя снегом, Россия" или при чтении стихов парижского поэта:
Это звон бубенцов издалека,
Это тройки размашистой бег,
Это – черная музыка Блока
На сверкающий падает снег…
[1529]И вот – туризм, борщ… Может быть, потому мне и не хочется ехать в Россию туристом, что подсознательно боюсь потерять ту Россию, вся сладость которой и была в ее недостижимости, занесенности снегом и т.д.
За литией сегодня (родительская суббота) так живо вспомнил – и как-то сразу, в один и тот же момент – так много лиц , ликов: о.Киприана (под мелким парижским дождем на пути к метро), о.Савву, о.Зосиму, Василия Абрамовича (сторожа на rue Dam) и других. И вспомнил их не "абстрактно", а каждого в какой-то реальный миг реального дня… Как если бы вспомнить этот миг, заново "воплотить" и "пережить" его потому и можно, что он реален, есть, и все вместе, если по-настоящему помнить и переживать их, они и составляют мое "тело воскресения". Церковь – это память и поминовение, но в свете уже – воскресения.
Воскресенье, 14 марта 1982
Сегодня за Литургией: "…да убо не един пребуду кроме Тебя Живодавца, дыхания моего, радования моего, спасения мира…" "…Ты бо еси истинное Желание… любящих Тя…"
В раздумье все о той же "тайносовершительной формуле". Не то "удивительно", что Дары прелагаются. Это уже совершил Христос и не этого "ищет Евхаристия", а исполнения всего в Духе Святом и самого Духа Святого. Вот подлинный смысл эпиклезы. Соединение – Духом Святым – со Христом, и в этом соединении со Христом – дар Духа Святого.
Можно ли, нужно ли распущенность, лень, сластолюбие и грех преодолевать и побеждать радостью о Господе? Мне кажется – да.
Понедельник, 15 марта 1982
В субботу и вчера писал предисловие к "Родословной большевизма" Варшавского. Думая, вспоминая о нем, пришло в голову, что не плохо было бы написать – не просто "воспоминания" ("автобиографию") – это звучит помпезно, а как бы некий отчет, свидетельство о том, что так щедро, всю мою жизнь, давал мне Бог, о том луче света , который я почти всегда чувствовал, видел…
В поезде, вчера вечером, из Wilmington разговор с негритянкой, милой скромной матерью пяти детей. Ездила в Трентон, где сегодня оперируют ее дочь. В который уже раз – удивление природному аристократизму черных. По сравнению с этой женщиной жирные, преуспевшие белые suburbanites
[1530] – настоящая, вульгарная чернь.
В Wilmington до лекции ("Faith and Doubt in Dostoevsky"
[1531]) традиционный ужин с Томом Кларком. На этот раз он пригласил молодого (сравнительно) судью с женой. И тоже удивление – как мало они все
знают , просто знают о мире, о Европе, о России, о всем том, что вне их "профессиональной" и "социальной" жизни. То же самое, конечно, можно сказать и о французах, и о других народах… И все-таки я всегда поражаюсь тому, до какой степени современный мир –
провинциален . И это – несмотря на поток информации, льющейся из газет, телевизора и т.д.
С каким трудом, с каким усилием я начинаю, каждый раз, новую неделю! Включаюсь в суету, в разговоры и "напряженность" жизни… Каждый раз цитирую себе Валери: "Le vent se leve, il faut tenter de vivre…"
Вашингтон. Четверг, 18 марта 1982
В Вашингтоне на два дня: две проповеди у епископалов, вечер в Николаевском соборе. Вчера поздно вечером звонок от о.Д.Г[убяка]. Синод принял документ, по существу лишающий Митрополита всякой власти, и не только власти, но и просто возможности "направлять", вести Церковь… Что делать? Думал об этом вчера, думал сегодня – в аэроплане. Бороться? Но как? Свидетельствовать? Но как… И что все это означает для семинарии, ибо у меня нет никаких сомнений в том, что борьба сосредоточится на ней. Унываю? Нет, не унываю, но не знаю, не хуже ли уныния то отвращение , которое я испытываю. Ибо с унынием можно бороться, а как бороться с отвращением?
"Имиже веси судьбами…" Повторяю в себе эти слова молитвы. Не "равнодушен" Бог к судьбам Церкви. И потому и этот черный и смрадный тоннель нужно "принять". Только тогда и свидетельство (пока неведомо мне какое) будет свидетельством, а не борьбой, не спусканием на тот уровень, которым тоннель этот порожден.
Суббота, 20 марта 1982
Сегодня утром вернулся из Вашингтона. Вчера вечером – служил Преждеосвященную Литургию в Св.-Николаевском соборе и читал лекцию. Много молодежи, "утешительная" служба… Потом – далеко за полночь – вечер у Григорьевых. Днем успел забежать на час в National Gallery
[1532], посмотреть на Рембрандтов… В Вашингтоне уже совсем весна и как бы праздник в воздухе.
Всюду – и у епископалов, и в нашем соборе – подписываю, "автографи-рую" свои книги. И это каждый раз радость: кто-то прочел, полюбил книгу, она "принесла пользу". И, пожалуй, во мне эта радость почти совсем без тщеславия, пишу "почти", потому что, наверное, оно где-нибудь и есть. Но первый порыв этой радости – чистый.
Первый день весны…
Понедельник, 22 марта 1982
Устал от телефонов, от суеты, от одиночества. "Покоя сердце просит". Но, может быть, и усталость эта – греховная, от лени, пустоты, постоянной капитуляции страстишкам.
Вчера Том передал мне переплетенный перевод на румынский язык моего "Водою и Духом". Удивительно!
Телефон – длинный – от о.Д.Г[убяка]. "Postmortem"
[1533] синода.
Уютный ужин вчера у Анюши.
Телефон из Москвы: Л. перед отъездом на три дня в Петербург.
Вынос Креста, чудные, полные смысла службы.
И, last but not least, весна…
Среда, 24 марта 1982
Только что звонок от Л. из Москвы, после трехдневной поездки в Петербург. Полный восторг!
Ужин вчера у Н. До этого разговор с A.Z., еще раньше исповедь и разговор с Н.Н. У всех "трудности", все в какой-то депрессии или delusion
[1534]. Как все-таки трудно живется людям в "мире сем". Сколько кругом одиночества, уныния, безрадостности.
Четверг, 25 марта 1982. Благовещение
Жду возвращения Л. со все большим нетерпением. В тягость мне не одиночество, а ее отсутствие, и тут огромная разница. Одиночество, то есть выключение из суматохи, человеческих "контактов", я очень люблю, и мне его не хватает. Сегодня, идя со службы из solarium
[1535], в котором мы служим, пока строится церковь, – в мой кабинет, я был остановлен шесть-семь раз, и это на протяжении пятнадцати шагов. А вот отсутствие Л. – это "изъян", это ненормальность, ущерб жизни.
Вчера вечером Лариса Волохонская со своим новым мужем – очень симпатичным и красивым. Поэт. Говорили о Бродском, Набокове, Одене – обо всем том, о чем в семинарии никогда не говорят. Как все сильнее я чувствую, что богословие без культуры – фактически невозможно и даже при формальной "правильности" звучит иначе, не так, как нужно…
Воскресенье, 28 марта 1982
С Аней и [ее сыном] Джонни убрали и пропылесосили дом к возвращению Л. Яркий, холодный день.
Ваня Ткачук прислал мне "кассеты" с голосами Толстого, Блока, Пастернака и т.д. У Толстого – высокий тенор! (Я это знал, но все равно удивляет…) Блок читает свой "Синий плащ". Хотя и неважно слышно, но, слушая, понял Вейдле, который говорил, что никто не читал свои стихи так, как читал свои Блок. Пастернак: "В больнице", но ужасный "советский" акцент, или, может быть, советский только для нас.
Грех –
только – в отрыве от Бога, в измене Христу. Эту измену Иоанн Богослов называет "похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской"
[1536]. И, Боже мой, до чего это точно и исчерпывающе… "Светлое око" – око без похоти. Вообще вся тема
зрения в христианстве.
Понедельник, 29 марта 1982
Волнуемся о Л. и Маше, которые никак не могут улететь из Парижа: не то забастовка, не то mechanical troubles
[1537]. Страшно подумать, как они устали сидеть на [аэродроме] Charles de Gaulle…
Пятница, 2 апреля 1982
"Малодушие и буря"… Увы, я не могу иначе назвать состояние моей души, когда я думаю о нашей Церкви, о "делах", но также и о семинарии. Христа убила и Христа убивает религия . Религия же – это тот "орган" в нас, который, как это ни странно, одновременно бесконечно усиливает и скрывает от нас наши самые глубокие страсти и грехи: гордыню, фарисейство, самодовольство, самолюбование и т.д. Религия есть постоянное наше самооправдание перед Богом, замазывание для самих себя наших грехов и искушений.
Том рассказал мне, что произошло с Williams, протестантом, который принял Православие и был дьяконом в Тулсе (Оклахома), где я его и встретил года два-три тому назад. Оказывается, с тех пор он бросил свою жену и детей и живет в каком-то карловацком "скиту" и пишет в их журнальчиках рецензии на, скажем, Каллиста Уэра с обвинениями его в недостаточном "православии". И я спрашиваю себя: почему, как это могло случиться? Почему чем больше он соприкасался с Православием, тем сильнее его тянуло к этому темному, страшному "фанатизму", к обличениям и проклятиям? И если бы он был один… Реакция на "минимализм" Церкви, приходов и т.д.? Да, наверное, так. Но все-таки кто же мешает им да и каждому из нас внутри этой "минималистической" Церкви жить светом и радостью веры во Христа? В том-то и все дело, что в какой-то момент они начинают ненавидеть именно свет и радость этой веры, и это-то и страшно…
Ну, хорошо, мы живем в страшном мире. Но ведь не страшнее же он, чем тогда, когда распинал он Христа? Что можно прибавить к этому ужасу, к этой "страшности"? И не для того ли отдал Христос Себя на распятие, чтобы могли мы ходить в обновленной жизни? Жизни, а не религии – от страха, законничества, власти которой "свободи нас Спасова смерть". Что делали они в промежутках между "исполнениями" Церкви – за трапезой Христовой, в Его Царстве?
Жили , каждый – той жизнью и теми devoirs d'etat, которые дал каждому человеку Бог. Да, скажет какой-нибудь Williams, но Христос сказал, что если мы хотим быть совершенными, то мы должны бросить все и следовать за Ним. И вот я бросаю мою семью и следую за Ним… На это хочется ответить: pas si simple!
[1538] Ибо что значит – следовать за Ним? Значит ли это, как теперь многие думают, становиться священником, монахом, богословом? Означает ли это, иными словами, какую-то "институционную" перемену? Думаю, что значит это – в контексте всего Евангелия – как раз обратное. Ибо Тот, за Кем мы следуем, не
уходит , а
приходит . И приходит, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком… То, что – для следования за Христом – нужно "бросить", Христос отождествляет с имуществом и семьей. И действительно, в падшем мире это те две тяжести, которые мешают человеку, связывают его, являются
препятствиями следованию за Христом. Ибо они стали "идолами". Но потому-то и говорит Христос о них, что именно в извращении двух этих основных "координат" жизни раскрывается вся глубина падения человека и мира, отпадения их от Бога. Ибо в том-то и все дело, что и
имущество , и
семья – от Бога. При сотворении мира Бог дает его во владение человеку ("яко царя твари…"), [делает] его – человека – имуществом. И при сотворении человека создает Бог
жену , ибо нехорошо быть человеку одному. Но тогда в том и состоит
падение (первородный грех), что мир как "имущество" захотел человек
для себя , а не для Бога, для жизни в Нем, и жену сделал объектом
любви , оторванной от любви Божией, опять "для себя". Но вот Сам Христос отдает,
бросает жизнь – но для того, чтобы воскресить ее, освободить от смерти, чтобы перестала она быть сама источником смерти, чтобы она, жизнь, воцарилась и была "поглощена смерть победой". Значит ли это, что Он зовет нас к самоубийству? "Бросить" мир, раздать "имущество", "оставить" семью – все это значит тогда не отождествление их со злом, которое нужно "отбросить", а значит освобождение и преображение их в то,
чем и для чего создал их Бог. Как "раздающий" свое имение по-настоящему богатеет, ибо снова мир – раздаваемый, отдаваемый – делает Божьим, так и "оставление" семьи есть ее воскресение, очищение, преображение, а не "уничтожение". Ибо как могла бы Церковь совершать таинство брака, если бы брак был "злом"? Но брак потому и таинство, что в нем совершается отдача его Богу, Христу, Духу Святому… Тут все свети, как и в призыве Христа – раздай, оставь… Все
положительно , все свет – а не тьма и разрушение.
Суббота, 3 апреля 1982. Похвала Богородицы
"Le retour de Dieu"
[1539]… О нем, этом retour, пишут все больше и больше и повсюду. "Религиозное возрождение…" и т.д. Казалось бы, можно и нужно только радоваться. Но во мне нет радости. Вчера я писал о случае Williams'a. Но это совсем не единичный случай. "Retour", который я вижу, это какая-то эмоциональная волна, псевдомистика, фанатизм, в пределе – ненависть. Ненависть к миру, ненависть к тем, кто думает иначе, сектантство, псевдостарчество, кликуши… А вне христианства – бегство в буддизм и тоже в какую-то тусклую мистику.
Причина этого "возвращения Бога", конечно, – крах рационализма во всех его видах, крах того дурацкого оптимизма и утопий, к которым он привел. И вот – "бегут в горы…" Бегут к любому credo, quia absurdum
[1540], к любому типикону или талмуду, к любой "духовности". И характерно – чем образованней человек, чем больше он вкусил "позитивизма" и "рационализма", тем более "глупую" религиозность он выбирает. В Америке как грибы растут какие-то подозрительные "скиты" и все разрастается совершенно бессмысленная "харизматика". И все это сразу обличает друг друга, старается переплюнуть друг друга. То же самое среди неофитов в России. Ставка на Православие, то есть на кликуш вроде Льяниной няни, которая ездила отдыхать "на лоне Авраама природы".
Все это не только не радостно, все это страшно. Все это сродни "Темному лику" Розанова – та же атмосфера, тот же страшный накал, безрадостная, паническая апокалиптика.
И вот чего не понимают все эти "неорелигиозники": да, рационализм, позитивизм, оптимизм – провалились, и провалились ни больше ни меньше как в служение диаволу. И, однако, в сущности своей они были порождены христианством. Христианство без разума, без "света" разума – уже не христианство, а антихристианство. Отцы Церкви никогда не были против разума, и ни с чем христианство, Церковь не боролись так упорно, как с ложной мистикой, с псевдомаксимализмом: докетизм, манихейство, монтанизм, донатизм и т.д. Христианство – если сказать просто и точно – боролось с "религией", с "религиозностью в себе" и потеряло эту битву тогда, когда само себя – в Средние века – превратило в "религию" (см. книгу Ле Гоффа о Чистилище). И именно этa крайность привела к крайности обратной – к "рационализму" и чаду его – "гуманизму". Эту правду о себе христианство еще не раскрыло, ее, так сказать, не приняло. И вот теперь радостно приветствует "религиозное возрождение".
И как на фоне всего этого, на фоне этой тоски – удивительно, радостно, "экзортически" звучал вчера акафист Похвалы: "Радуйся еюже радость воссияет…" Как мало радости этой сияет над миром и как непрерывно мы сами изменяем ей.
Четверг, 8 апреля 1982
Во вторник – неслыханная, для апреля, снежная буря. И все до сих пор занесено, все белое, и стоит сильнейший мороз!..
Вчера утром – телефонный звонок из Чикаго, от Brace Rigdon, который в 1963 году "подбил" меня написать "For the Life of the World". Теперь он высокий чин и в экуменизме, и в американском пресвитерианстве. Пресвитериане сейчас пересматривают – по его словам – свое учение о таинствах, особенно о крещении, и основное пособие их в этом пересмотре – моя "Of Water and the Spirit". Просит приехать в октябре на конференцию, на которой пересмотр этот будет обсуждаться "на высоком уровне". Говорит, что постоянно перечитывает мои книги, что они переменили, определили его богословское сознание и т.д. Такие "утешения" – вот что странно – приходят ко мне, когда сам я, как в эти дни, недели – в унынии. В унынии от слухов, сплетен о моем якобы уходе из семинарии, чуть ли не отъезде в Париж… Я знаю, что все это вздор, но вот – нагоняет уныние, предчувствие какого-то (какого?) надвигающегося краха. Умом я знаю и понимаю, что все это даже хорошо, перст Божий, сбивающий гордыню, привычку "быть важным", если не "единственным", и даже чувствую своего рода "освобождение". Но вот "ветхий Адам" во мне – огорчается и унывает. И тогда Бог "утешает" – смотри, мол, не совсем зря ты жил, вот и пресвитериане…
Мученье, настоящее мученье над "Евхаристией". Как будто ясно мне то, что я хочу сказать, ясен образ . Но как только дело доходит до как – какие-то
сплошные тупики. Может быть, это на уровне – "да никакоже коснется рука скверных…"
Нарастающее столкновение между Англией и Аргентиной. Как в сказке из прошлого: великобританский флот движется по направлению к Фолклендским островам, захваченным Аргентиной. Аргентина "оскорбила честь" Англии, Англия борется за свою честь. Глупо сказать, но я испытываю радость. Когда в последний раз мы слышали о чести !.. А не о торговле и нефти. Словно вместо Фрейда и прочих психопатов читаешь старый, добротный "авантюрный" роман. Все во мне – за Англию… И только боязнь: хватит ли у нее нервов?
Рассказы Л. о России, о Москве, Ленинграде, прогулках, поездках, церквах… И то самое – и у нее, и у меня – чувство. Близость, кровная близость России нам и, одновременно, ужас от нее…
Читаю книгу Н.Струве об Осипе Мандельштаме. Подлинно человек этот – свет во тьме. В "Континенте" (36) рассказ некоего Козловского "Красная площадь". Интересно. Хорошо написано и т.д. Но все время чувство, что это "под кого-то" (даже смутно чувствуешь, под кого, только не знаешь имени), что все это какое-то странное "эпигонство". У новой русской литературы – или это я так, предвзято чувствую – нет темы . И потому все – "а lа"… То же самое я чувствовал, читая "Метрополь", Битова и других.
Пятница, 9 апреля 1982
Конец Поста. Лазарь.
Ища сегодня одну цитату в Евангелии от Иоанна, прочел в прощальной беседе все утешения Христа. Они не увидят Христа и потому "исполнися печали сердца ваши". Но "Я не оставлю вас сиротами, Я приду к вам…" и т.д.
[1541]. И как бы мгновенная молния: все в христианстве зависит от
любви ко Христу . Смерть – встреча с Ним и потому вся – радость… Но, Боже мой, как мы далеки от такой любви. Любви, которой Он победил смерть, любви, которая в нас побеждает смерть…
Великий понедельник, 12 апреля 1982
Вербное воскресенье – праздник Царства, праздник воцарения. Так ясно, празднуя его, ч го вся Страстная – это явление Царства . Вход Господень в Иерусалим: явление Царя. Тайная Вечеря – явление Царства. Крест – воцарение, победа Царя. Пасха – начало вечной Пасхи, вхождение на небо… "И отверз еси нам райские двери…"
Все труднее, все болезненнее – соприкосновение с людьми в неизбежно "суетном" измерении жизни: решения, разговоры, планы. Все сильнее жажда du temps immobile… Из нашего временного алтаря, с того места, где я стою, когда не служу, видно высокое, высокое, еще по-зимнему обнаженное дерево. И если долго смотреть на него, начинаешь чувствовать его таинственное присутствие, как если бы оно – это присутствие – совершало для меня, для нас что-то важное, чего в суете мы не замечаем… Вот сейчас, пока пишу, за окном залитая солнцем тишина пустого Крествуда. И где-то медленно звучит колокол… Можно сказать так: вся природа, все "естественное" – океан, закатные лучи и тени, прогулки в Лабель, – все "обличает" нашу порабощенность "суете", которая, в сущности, и есть "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская", из них, во всяком случае, родившаяся. Тварь, поработившая себя тлению, – суета и есть "тление жизни", бегущее по ней, как по нитке, пламя.
Великий вторник, 13 апреля 1982
Купил вчера в Нью-Йорке и одним махом прочел книжечку J.F.Revel "La grace de 1'etat"
[1542], выпущенную им вскоре после победы социалистов во Франции. Читая, думаешь: почему не видят люди
самоочевидности всего этого, не видят страшного зла социализма и т.д.? Потому что социализм – это Антихристово добро и проповедует и привлекает к нему сам дьявол. Ni plus ni moins
[1543]. Ревель бьет логикой, рационализмом, всем своим французским картезианством. Увы, все это бьет безошибочно, но не "действует".
Социализм – это освобождение от эгоизма (выгоды, "профита"
[1544] и т.д.), но путем убийства личности. Личность
должна богатеть, если она жива, но богатеть в Бога. Однако если она отпала от этого "богатения в Боге", то не спасет ее "социалистическое ее убийство"… Святой занят собою, но обогащает мир… Социализм занят миром – и всюду от него тление, страх, ненависть, порабощение.
Великая среда, 14 апреля 1982
Aller-retour
[1545] в Чикаго, на отпевание владыки Иоанна (Гарклавса). Вчера очень длинная, очень благолепная служба в соборе. Я проповедовал. Потом трапеза. Объятия с давно не виденными знакомыми, батюшками и т.д.
Над всем этим – как фон, как радость – изумительный, действительно первый весенний день. Я всегда радуюсь, проезжая через Чикаго, через все эти бесчисленные кварталы маленьких рабочих домиков, мимо столь же бесчисленных, с потугами на роскошь церквей.
Погружение также – вчера вечером и сегодня утром, перед отъездом – в удивительное семейство Гарклавсов, излучающее добро, жизнь, радость жизни. Вечером – опять расспросы про Париж, про поэтов, про "цветение" русской эмиграции.
Великая пятница, 16 апреля 1982
Двенадцать Евангелий. До этого – Литургия Тайной Вечери: "Не бо врагом Твоим тайну повем…" Сегодня – еще впереди – Плащаница и погружение в "сия есть благословенная суббота"… Который раз в жизни? Но вот всегда в эти дни память воскрешает то время – момент? год? не знаю, – когда все это было
явлено в моей жизни, стало любимым, "абсолютно желанным" и хотя бы подспудно – живет в душе как решающее событие: rue Daru, весна, avenue de Clichy, юность, счастье. Тогда дарован был "ключ" ко всему. Как священник, как "богослов", как "автор" и "лектор" – я, в сущности говоря,
только об этом и "свидетельствую". Я почти совсем не молюсь, моя "духовная жизнь" – в смысле "подвига", "правила", всякого там "умного делания", всего того, о чем все всё время говорят кругом меня, –
ноль , и если есть, то есть "наличествует", то только в виде какого-то созерцания, подсознательного чувства, что "tout est ailleurs…" С другой стороны, однако, я только этим и живу, на глубине, или, может быть, "это" живет во мне. По Достоевскому? "Наберет человек эти воспоминания и спасен…" (или что-то вроде этого)…
[1546]Простые вопросы:
Чего хочет от нас Бог?
Чтобы мы Его любили, чтобы приняли Его как источник, смысл и цель жизни: "душа души Моей и Царь…"
Как "можно" полюбить Бога, где locus этой любви?
В Его самораскрытии, самооткровении нам в мире и в жизни.
Вершина и полнота этого самооткровения – Христос.
Все – "отнесено" к Нему. Для этого воплощение, вхождение в мир природы, времени, истории.
Следовательно, любовь к Богу – Христос.
Радость о Нем.
Любовь к Нему.
"Отнесение" всего к Нему.
Собирание всего в Нем.
Жизнь Им, узнаванием Его во всем Духом Святым.
Церковь: возможность и дар этой любви и жизни.
Аминь.
Светлый понедельник, 19 апреля 1982
Чудная Пасха. Лучезарная весна.
Жениховство В. и Е. и моя "вовлеченность" в него. Днем вчера – почти сразу после официального провозглашения их женихом и невестой – он бьется в истерике в моем кабинете. Больше всего меня поражает во всей этой истории то, что, когда подходишь вплотную к любой человеческой драме, она оказывается "уникальной", несводимой ни к каким прецедентам, не укладывающейся ни в какую "накопленную мудрость". Как помочь и чем? На глубине – я "не верю" в это жениховство, мне кажется, что это ошибка … Но достаточно ли этого моего – "субъективного" – неверия, чтобы пытаться разрушать этот "роман"? Как "распознать" тут волю Божию? Чувство бремени… А тут еще – в доме проводит Пасху с нами Д[митрий] О[боленский], и тоже со своей драмой…
И, как бы в противовес бремени, – чудный вечер в Аниной семье.
Светлый вторник, 20 апреля 1982
Письмо из Оксфорда от некоего Dr. Nicholas Dewey, новообращенного православного: "…thus… I came… to read "Of Water and the Spirit," "The Great Lent" and "The World as Sacrament." Your historical sense and deep understanding of the liturgical origins, and the marvelous way that your knowledge is related to the present needs of the Church – and indeed,
of the world …"
[1547]. Вот эта последняя фраза и радует меня. И тоже огорчает, ибо кругом себя я вижу повальную "регрессию" в узкое, самодовольное Православие или же в "теплый уголок" с болтовней о византинизме и облачениях.
Иван М[ейендорф] все огорчается, что в письмах из России защищают и превозносят канонизацию царской семьи. А мне это кажется нормальным, во всяком случае – для "кающейся интеллигенции". У нас всегда так – или "апостазия", или же тогда истерический "максимализм". Не дается, не дается русским "свет разума".
Странно, до какой степени за последний год я чувствую себя отрешенным от этих страстей, от той возни – духовной, канонической, литургической, – что так видна в современной православной "эмпирии".
Пасхальная открытка от Солженицына. Читал в [журнале] "National Review" его критику "Голоса Америки" и радио "Свобода". В пункте о религии – надо матерям помочь в том, как учить детей, и т.д. Все это звучит в тональности народных церковных школ, приглаженного сусального Православия нашего детства. Солженицын не знает, конечно, что за ужас был так называемый "Закон Божий", сколько детей именно он навсегда отвратил от Церкви… Вспоминаю протодиакона Тихомирова: раз в год, в нижней церкви rue Daru, он читал доклад "О превосходстве христианства над прочими религиями"., Читал двадцати старушкам, которые ни о каких других религиях никогда ничего не слышали.
Британский флот приближается к этим несчастным Фолклендским островам… Аргентина бряцает оружием и грозит союзом с СССР… Израиль бомбардирует южный Ливан… Арабы дрожат перед усилением Ирана и его пропагандой исламской революции. В Тегеране не сегодня завтра расстреляют Годзабе – несчастного министра иностранных дел, которого каждый вечер мы и видели в телевизии во время кризиса заложников. В Польше – никакого просвета… В Америке – улюлюканье Рейгана… Во всем мире возрастающий шум и гам длинноволосых студентов, защищающих мир… Ни у кого – во всяком случае в "свободном мире" – ни одной идеи, никакого плана. Маленькие люди, маленький мир, до зубов вооруженный атомными бомбами.
Понедельник, 26 апреля 1982
Вчера – свадьба Алеши Б[утенева] в Балтиморе. Выехали туда в субботу после последней пасхальной обедни. Чудесная поездка: все вдруг зазеленело – "и зелень рощ сквозила…"
[1548]. Чудесные весенние дни. После свадьбы (в греческом соборе), когда подходили, один за другим, неправославные гости, искренне "зачарованные" нашей службой (а свадьба "действует" безотказно), думал лишний раз о нашем собственном упадке, нерадении, угасании… Утром длинный разговор на эту тему с Алешей Виноградовым. Я говорю: первое, что нужно было бы выяснить, это – почему Православие перестало "действовать" на самих православных. Будь то у русских, будь то у карпатороссов, греков, албанцев, но у всех между ними и Православием, то есть собственной верой, стоит какая-то стена, которой не разрушить никакими проповедями, книгами, никакой "религиозно-просветительской" деятельностью. И это так потому, что стена эта и есть, в сущности, их – уже существующее, и веками! – восприятие Церкви, богослужения, "духовности", самой веры. Тут не просто пустота, отсутствие знания, интереса и т.д. Нет, тут своего рода
полнота , наполненность до краев, не позволяющая проникновения в сознание ничего "нового". Можно, да и нужно, было бы составить своего рода "типологию" этих стен, ибо "русская" разнится от "греческой" и т.д. Единство их, однако, в подспудном, глубоком, можно сказать –
органическом отвержении с
мысла , безотчетной боязни его: "Чур меня!" Православие в этом восприятии сведено до конца к
чувству , чувство же, в свою очередь, определено, создано самыми разнообразными причинами, но не "знанием" и не "верой". Так, например, чин бракосочетания воспринимается абсолютно безотносительно "смысла", "веры", "учения", его создавших, можно было бы сказать –
без Христа … Но так же воспринимается почти все остальное, включая Пасху, Литургию, погребение и т.д. Ставши религией, христианство стало – неудержимо – "естественной" религией. И потому – tout est fausse
[1549]…
В пятницу 23-го вечером выступал с докладом у очень страшного сборища. Попал туда по рекомендации sister Cora Brady, которую знаю давно… Это не больше не меньше как школа "старчества", то есть духовного руководства. Человек тридцать, в большинстве женщины… И, Боже мой, какую ахинею они несут и какой ахинеи, по-видимому, ждали от меня… Я уже давно понял, что распознание лжедуховности просто: ей сопутствует странная скука , скука, от которой, выражаясь русской пословицей, "уши вянут". И так ясна в этой ахинее страсть к "духовной власти", к руководству душами… Едва досидел два часа и удрал, предварительно и инстинктивно поговорив как раз о "демонической" духовности. Не знаю, думаю, что ничего не поняли, ибо пребывают в самой настоящей "прелести".
Четверг, 29 апреля 1982
Некто Карл Pop, тридцать семь лет, – просит меня подготовить его к присоединению к Православию. Образованный, объехал весь мир, был на Афоне, в Индии, в Джорданвилле, в Новом Скиту и т.д. Зарабатывает как шофер такси. И такое из него изливается спокойствие, такая радость и мир… Ждал его со скукой, провожал как близкого человека.
Телефон от некоего Н. Женится на лютеранке. Сам – хотя и крещен в Православии – представляет себя как "confirmed Episcopalian"
[1550], хотя в церковь почти не ходит. Нужна ему – главным образом для родителей, по-видимому, – "русская свадьба". Культурная семья, все на месте, но вот оно – отношение к Церкви. Исполняй мои желания… и поскорее!
Англичане начали высадку. Почему это меня так волнует, почему с таким интересом бросаюсь на газеты, к телевизору? Боюсь или, вернее, знаю: не из христианских чувств, которые должны быть миролюбивыми… А от отвращения, ненависти к тому хамству , что торжествует в мире, к этим цирковым "нациям", как Аргентина и прочие "банановые республики". Помню, как в 40-м году, когда немцы заняли Париж и казалось – ничего не могло их остановить, предотвратить высадку в Англии, я тревожился за Англию. Много у этого народа грехов. Но есть что-то в нем, что только в нем, и мне казалось исчезновение этого "что-то", разгром его грубой и механической немецкой армией – непоправимо, означает гибель мира, в котором можно жить и дышать. И вот теперь мне страстно хочется, чтобы старый, потрепанный, облезлый лев проучил этих брюнетов с усиками, этих варваров и пошляков… А ведь вот-вот прольется кровь. Из-за чего? Из-за Фолклендских островов!
В "L'Express" статья Солженицына. Все о том же: о непонимании Западом России, сущности коммунизма и т.д. О нравственном падении, об извращении свободы… Все абсолютная правда, все верно. Но можно заранее сказать, что
не подействует . И не только не подействует, а окажется counterproductive
[1551]. Почему? Да потому, что все в этой статье пронизано нелюбовью к Западу, к Америке, почти нескрываемым презрением ко всему "западному". И это не может не почувствовать читатель. А вот в России все серьезно, все на глубине, все "настоящее". И в семидесятилетнем владычестве большевиков повинны все – кроме России и русских…
В Америке, в "диаспоре" Православие, впервые за много веков, получило свободу . Свободу от империй, от государственной власти, от земледельческого гетто, от этнического гетто и т.д. И вот, попробовав этой свободы, стихийно ринулось назад, в гетто , и предпочитает жить так, как жило под турецким игом, под петровской реформой, во всех видах рабства. Закройте все двери и окна! Из них дует! И постепенно закрывают. И молодые американцы с восторгом устремляются в это гетто, в мракобесие, обсуждение "канонов", облачений и где можно купить настоящий афонский ладан…
Пятница, 30 апреля 1982
Что это – старость? Ахматовское "маразм крепчал"? Я сижу часами над маленькой статьей, переписываю все тот же первый параграф первой страницы и… ни с места. То же самое с главой "Таинство Духа", с моей keynote address
[1552] на "Синдесмосе" и т.д. Или же это потому, что я достиг возраста, когда хочется либо "настоящего", либо ничего… Не знаю, но проходят дни за днями, и как будто все растет этот паралич. Вот и сейчас я взялся за эту тетрадку, чтобы "оттянуть" момент очередной встречи с постылой первой страницей.
Вчера – старый приход [в Коннектикуте]. В нем долго служил о. П[авел] Л[азор]. И все равно все то же самое: петиции прихожан (не говорящих по-русски) увеличить число чтений и пения на церковно-славянском языке, те же сплетни, та же бессмысленная борьба со священником, короче говоря – то же "гетто", о котором я писал вчера. Какой-то абсурдный мир. Стена, которую ничто не пробивает. С другой же стороны – приходы, в которых как будто стена "пробита", где, внешне хотя бы, все в порядке. И тут тоже какой-то тупик. Не потому ли это, что вне органического "православного мира" Церковь воплотилась, да и не могла не воплотиться, – в приход , и это значит – в организацию , с точно определенным членством, необходимостью заботиться об "имуществе", с властью, административными заботами и т.д.? Церковь стала организацией среди организаций, активностью среди активностей. Но она этим никогда не была. В первохристианский период, в эпоху отвержения ее миром она была эсхатологической "реальностью" и никакой специфической "мирской", то есть в мире, "активности" не имела да и не могла иметь. Средоточием ее жизни была Евхаристия – таинство претворения не только хлеба и вина в "небесную пищу", но и самого мира, самой жизни в нем – в предвосхищение, предвкушение грядущего Царства Божьего. Поэтому Евхаристия была таинством Церкви – Церкви как общины (синаксис), Церкви как любви (милосердие, агапи), Церкви как знания (Слово Божье), Церкви как "исполнения" всего во Христе.
Затем наступила "христианская эпоха". Все в данном народе стали христианами, возникло "мирянство" как новая форма христианской жизни. "Мирянин" – это не тот, кто вне Церкви (как в раннем христианстве), а тот, кто, в отличие от "клира", живет жизнью мира, его, так сказать, "освящает" верой, знанием, молитвой и т.д. Освящение мира неотмирной верой, времени – эсхатологией, земли – небом. Церковь освящает мирянина – причащая его Царству Божьему, но тем самым освящая и его жизнь в миру, указывая ему – хотя бы в идеале – смысл жизни: "Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте". Да, Церковь стала храмом, культом, "прикасанием мирам иным", но этот храм и этот культ – это "касание", эта эсхатология – были отнесены к миру как откровение, дар, возможность "новой жизни", знания самой жизни как нового творения.
Этот христианский мир, мир, Церковью "сопряженный" с чаянием Царства Божия, на наших глазах пал. Но парадокс и трагедия этого падения, этого распада в том, что распался он как раз в ту самую меру, в какую сама Церковь отказалась от своей эсхатологической функции в нем, приняла участие в его "активности", отождествила себя с этой активностью, стала буквально частью мира, его организации и деятельности.
"Секуляризация" мира началась как освобождение от "Церкви" – не от веры, от "клерикализма" – не от "мирянства". Но Церковь-то в том и виновата, что она в каком-то смысле уничтожила "мирянство". Уничтожила, с одной стороны, превратив их в "клиентов" клира, а клир в жрецов, обслуживающих
их "духовные нужды", с другой же – потребовавши от них "религиозной" деятельности, сделав их "обслуживанием" нужд Церкви, членами "церковной организации".
Вот, следовательно, два полюса мирянской психологии , особенно очевидные в диаспоре, то есть там, где отсутствуют даже "развалины" органического христианского мира.
(а) Это, во-первых, психология "клиента", самого решающего, что ему от Церкви нужно и в каком виде. Он может хотеть и того, чтобы "Церковь" была его связью с родиной, детством и т.д., и того, наоборот, чтобы она была, скажем, "стопроцентно американской". Он хочет либо "русской" – полуночной Пасхи, либо "карпаторосской" – с обедней в пасхальное утро и т.д. ad infmitum
[1553]. А так как он "клиент", за все платящий и содержащий на свои средства "обслуживающий" его клир, то всякое сопротивление клира, ссылки на какие-го непонятные и никому не нужные "правила" и на "дисциплину" кажутся ему, клиенту, абсолютно ненужными, злой волей священника, проявлением его "властолюбия".
(б) Это, во-вторых, психология "церковного активиста" – "помогающего" Церкви, активного члена организации. Это Церковь ему сказала, что суть его мирянства – в "обслуживании" им нужд Церкви, что он должен "помогать" Церкви. Вот он и помогает. Поскольку, однако, "работа" эта главным образом "административная", "хозяйственная", "финансовая" – он не понимает, почему "клир" должен руководить ею…
Целью Церкви стала сама Церковь, ее организация, ее "благосостояние", ее "успех".
Суббота, 1 мая 1982
Продолжение. Западная Церковь участие в жизни "мира" поняла как "клерикальную власть" над миром, когда же "мир" власть эту отверг – она прибегла к прямому участию в
политике : сначала "правой", потом "левой". Но это участие обрекает христианский Запад на своего рода шизофрению. Ибо та "политика", в которой Церковь принимает участие, так сказать, a part entiere
[1554] горизонтом своим имеет – и не может не иметь – только "мир сей". Эсхатология тут сведена к утопии, но утопия с христианской точки зрения есть не только ошибка, но и
ересь , подлинная ересь нашего времени. Ересь тем, что ударение в ней перенесено с личности, с человека на "структуры" – общественные, идеологические и т.д. Не случайно те христиане, что всецело отдаются утопии и борьбе за нее, принимают марксизм, "исходят" в своем поведении из "классовой борьбы", одним словом – целиком принимают идейно-эмоциональную сущность "утопизма". Подлинная христианская эсхатология здесь не только замалчивается, но и отвергается, но и обличается как постыдное пятно на исторической Церкви. Эсхатологическая сущность и функция Церкви ("в мире сем, но не от мира сего") замалчивается, и Церковь постепенно отождествляется с одним из средств в борьбе за "свободу, равенство и братство", за защиту "третьего мира", за любую "утопию", написанную на тех или иных "знаменах".
Православным этот уход в "борьбу" и в "утопию" остается чуждым. Но опять-таки не потому, что они остались верными эсхатологической антиномии христианства, а из-за постепенного перерождения Православия либо в клерикальную, ритуальную и магическую "религию", либо же в мироотвергающую "духовность". Под "клерикализмом" я разумею здесь не власть клира над мирянами (этой власти клир давно уже не имеет), а ту сосредоточенность на "церкви" и "церковности", на "администрации" и пр., о которой я писал вчера. Целью христианской общины становится она сама. И не случайно так модно сейчас дебатировать вопрос о "lay ministries"
[1555], о мирянах как своего рода разбавленном, разведенном "клире". Чем занимаются церковные "центры": синоды, департаменты и т.д.? "Церковными делами": дипломатией, финансами, назначением и переводом клириков и т.д. Откуда бездонная скука и нищета церковной "прессы": из сведения "содержания" церковной жизни к торжествам, юбилеям, собраниям и т.д.
Мой вечный вывод: если не вернутся богословие, церковность, духовность и т.д. – к подлинному христианскому эсхатологизму (а признаков возвращения этого я не вижу нигде ), то суждено нам не только оставаться гетто , но и претворять себя, Церковь и все ими заключаемое в духовное гетто… Начинается же – и это мой второй вечный вывод – возвращение это с подлинного разумения Евхаристии – таинства Церкви, таинства новой твари, таинства Царства Божьего. Здесь альфа и омега христианства.
Среда, 5 мая 1982
Война между Англией и Аргентиной. Настоящая война. Уже сотни погибших… Опускаются на дно величественные, сказочные крейсеры… Все в этой войне как-то нереально , словно страшный сон…
Если взглянуть на нашу, весной цветущую, планету, выходит так: кровь и мрак в Иране, кровь и мрак в Афганистане, кровь в Ливане, кровь в Палестине, террор в Польше, большевизм в России, сумасшедший Каддафи в Ливии, война в Сахаре, война в Южном Атлантическом океане, террор в Центральной Америке. И спокойные, рациональные советы обо всем этом в передовицах "Нью-Йорк тайме": сядем и поговорим в духе компромисса, и все образуется… Ах да, забыл еще армянское подполье, решившее перебить всех турецких посланников в мире.
Что реально ? Все перечисленное выше или же вот этот момент? Пустой, залитый солнцем дом, деревья в цвету за окном, далекие белые тучки, плывущие по "лазури", тишина моего кабинета, безмолвного присутствия – дружеского, радостного – книг на полках.
Четверг, 6 мая 1982
По телевизии уже несколько дней передают зрелище польских манифестаций, сотен тысяч людей, не желающих быть рабами… Казалось бы, так все ясно и просто. Но вот те же западные социалисты будут твердить, что и там - спасение в социализме. Неужели не очевидно, что при первом же реальном соприкосновении с ним его "изблевывает" сама природа человека, что его можно навязывать только силой ? Что самая "падшая" собственность ближе к замыслу Божьему о человеке, чем злостное равенство? Собственность – это то, что дал мне Бог (и чем я обычно очень плохо, себялюбиво и греховно пользуюсь), а "равенство" – это то, что дает мне "правительство", "общество" и т.д. И дает из того, что им не принадлежит . Равенство – от диавола, ибо оно все, сплошь, целиком – от зависти , а это и есть сущность диавола… Что такое "право на равенство"? И никто с такой яростью не борется за чины, титулы, отдельные кабинеты и т.д., как поборники равенства. Неужели и это не видно, не очевидно?
Воскресенье, 9 мая 1982
Два дня в Кентукки, в лесном отеле, на retreat, организованном приходами этой области. Прикосновение, хотя бы краткое, к "глубинной" Америке, к ее "холмам" и "лесам". В ней, или, может быть, мне это кажется, нет того напряжения, чего-то почти истерического, что я всегда ощущаю здесь и от чего устает душа. Физически устал: сплошные лекции и дебаты, но "нервами" – отдохнул.
В Кентукки почти все священники "конверты". И меня лишний раз поражает их "погруженность" во все – для меня – "темные" стороны церковной жизни: интриги и пропаганда карловчан, сплетни об архиереях и т.д. Какой это душный, безрадостный мир – Церковь, сведенная к "церковности" и клерикализму.
Понедельник, 10 мая 1982
Я не успел вернуться из Кентукки, как был погружен в мучительные перипетии "жениховства" В. и Е. Бесконечные телефонные разговоры, визит ее в субботу поздно вечером… Вот уж действительно – "житейское море, воздвигаемое зря"…
А вчера вечером, за ужином у Хопко, рассказ Тома о его богословских спорах с В. Тоже что-то трагически безнадежное, бессмысленное и, главное, злое. Это обличение, этот тон возмущения, непримиримости – и о чем? О том, является ли Дух Святой "ипостазированной" жизнью или же жизнь – это Сын… Пример такого богословия: "Все атрибуты, о которых нет явного свидетельства Писания – к какому Лицу Троицы они относятся, должны быть автоматически отнесены к Отцу…" Богословская гоголевщина.
Но, одновременно со всем этим, – все чаще странное чувство отрешенности, на глубине – свободы от всего этого "напряжения". Словно уже не касается оно меня, словно я уже по ту сторону какого-то гребня, не до конца – участник этих бурь. Еще совсем недавно они были моей жизнью, и я мучительно ощущал их как долг, как ответственность. И вот это бремя как бы тает, превращается в объект скорее – созерцания, но извне, не изнутри… Гордыней было бы сказать по-ходасевичевски: "…и небом невозбранно дышит по-
чти свободная душа". Нет, увы, не небом еще, но уже и не суетой житейской, не муравьиной борьбой, не ее приливами и отливами… Что это – старость? Если да, то я иногда чувствую своего рода прикосновение ее "блаженности".
Гордыня, плоть, леность : триединый источник греха, три основных измерения
падшести мира и жизни. И разрушаются они только Божественной любовью, изливаемой в сердца людей: любовь – смирение, любовь – чистота, любовь – делание. "Аще любите Меня…"
[1556].
"Сами себя и друг друга и всю нашу жизнь [Христу Богу предадим]…"
Среда, 12 мая 1982. Преполовение
Вчера опять целый день волнений о Е. Вечером длинный разговор с ней, слава Богу, как будто удачный… В связи с этим думал о пресловутом "pastoral counseling"
[1557], о котором все болтают, не очень зная, в чем оно, собственно, заключается… И вот я думаю: может быть, лишь в одном – в борьбе за сеет, а не за "разрешение трудностей", за изменение
уровня души . Ибо в том-то и все дело, что на том уровне, на котором возникают эти пресловутые "трудности" или даже "трагедии", они как раз и неразрешимы Для того чтобы их разрешить, нужно
подняться , и дело "counseling" – помочь в этом "подъеме", а не
копаться во всевозможных "миазмах" падшего мира.
Заседание committee on instruction1 . Доклад о новых студентах, разбор их прошений. И всегда от этого – некое уныние. Когда видишь, что интересует студентов или – во всяком случае – значительную часть их в религии вообще и в Православии в частности, то страшно делается за Церковь…
Читал вчера письма Б.К.Зайцева к Бунину, 1943-1944 годы ("Новый журнал"). Как хорошо я помню парижскую атмосферу тех лет. Беспрерывные воздушные тревоги, страх, очереди, слухи и т.д. И то тоже, как легко все это было для нас, молодых, в отличие от "старших" (Зайцева, Бунина…). Январь 43 года – свадьба, 44 год – рождение Ани… Почти совсем не помню голода, хотя помню, какую дрянь мы ели. Помню, как много мы танцевали, веселились и как мало думали о происходящем, в каком пребывали твердокаменном оптимизме – во "все образуется" Стивы Облонского.
Четверг, 13 мая1982
Вчера заехала Е. "I don't know what is it that you said to me yesterday, but it worked…"
[1558]. А я и сам не знаю, но все сильнее чувствую: свет против тьмы, при этом почти "физически".
Вчера тоже разговор по телефону с Виктором Красиным, приславшим мне свою рукопись обо всех учиненных им предательствах. Говорил о полном своем одиночестве, отверженности всеми… Назначил свидание с ним на 2 июня.
Первые волны жары. Сегодня прошел двадцать блоков
[1559] по Нью-Йорку и здесь – с вокзала домой и этим как бы отряхнул от себя чудовищную суету этих дней.
Понедельник, 17 мая 1982
В субботу – пасхальная панихида на кладбище в Roslyn
[1560]. Солнце. Dogwoods'
[1561] в цвету… Мимолетное прикосновение к душе вечности…
Бесконечное, утомительное чтение кандидатских сочинений. Удивительно, как много можно "говорить" и "писать" о вере, о Церкви, о религии, в какой словесный поток их можно превратить. Но когда я погружаюсь в это чтение, я всегда, рано или поздно, спрашиваю себя: а нужно ли это? Не происходит ли здесь своего рода "растление"?.. В субботу вечером, не в состоянии продолжать читать, взял томики Jousse ("Anthropologie du geste", "Le style oral")
[1562] – отстаивающего "онтологический" примат устного над написанным… Можно приобщиться произносимому слову, нельзя приобщиться "письменному". Что-то Жусс
увидел, услышал … Думаю об этом также в связи с моими четырьмя keynote addresses на нашем "институте" в июне.
Вечером вчера лекция в греческой церкви в Glen Cove, "Between Pascha and Pentecoast"
[1563].
Затем, поздно-поздно, бесконечный звонок Е. Отчаяние, безнадежность…
Вторник, 18 мая 1982
Длинное письмо от о. С. Костова:
"…I would like to at least – though superficially – let you know how absolutely important my three years of study under your guidance and in your presence were to me both intellectually and spiritually. I eagerly absorbed or attempted to do so to the fullness of my capacity, that vision of the Church and simply of life itself, which you presented to us at all times in the chapel and classroom… For me personally – and Deborah has expressed the same feelings – this was an encounter with an authentic vision, thereby making it not only inwardly convincing, but also lasting and "influential""
[1564].
Из предисловия к кандидатскому сочинению о.А.Гарклавса:
".. .particular credit must go to our advisor Fr. Alexander Schmemann. Not only did he provide the topic and incentive but the whole study is permeated with his vision of the Church. We would like to think that in a small way this work will corroborate the importance of his continuing efforts to redirect our broken lines to the fullness of new life in the Church"
[1565].
Выписываю это потому, что "свидетельства" такого рода помогают бороться с самым ужасным из всех сомнений: да не зря ли все? Как может что-нибудь "пробиться" сквозь эти стены, эту глухоту и слепоту (епископы, приходы, вся кошмарная "эмпирия" нашей "церковности")? И вот в минуту таких сомнений – эти свидетельства, как глоток холодной воды в аду.
Вчера вечером праздновали докторат Тома [Хопко]. Только самые "верные" – Дриллок, Лазор, Бэзил с женами. Радостное чувство единства, близости, настоящей семьи.
Четверг, 20 мая 1982
Суматоха. Сегодня прием – ужин на сорок человек: кончающие, их женихи, невесты, жены. Завтра бесконечный совет профессоров. В субботу, наконец, "торжество" – с девяти утра до пяти дня… А все эти дни чтение, чтение, чтение – сочинений, экзаменов, диссертаций. А также подготовка собраний и самого commencement. Три дня терпения . И ужасная усталость от этой хотя и знакомой, но всегда заново переживаемой суматохи. В субботу вечером в Оксфорд, в Англию…
Маленькие чудеса: сегодня утром в Нью-Йорке (читал "впрок" мои скрипты на радио) не успел я отдать в починку мой древний серебряный Parker
[1566], как какой-то господин подарил мне опять-таки двухсотдолларовый (он утверждает) Parker, пока нам обоим чистили башмаки. Удивительно!
Вчера вечером опять Е. Ей как будто "лучше"…
Понедельник, 24 мая 1982. 8 Canterbury Rd., Oxford
В Оксфорде у Феннелов. Прилетел в Лондон вчера утром после трех смертельно утомительных дней: четверга (прием студентов), пятницы (четыре часа faculty meeting) и субботы (архиерейская Литургия, завтрак с директорами, заседание, commencement exercises, аэроплан в 8.30 вечера). Вчера – Лондон. Бродил по городу, в котором не был с 1949 года! То дождь, то солнце. Как всегда – Англия производит впечатление чего-то "центрального" в нашей современной культуре, не знаю, как это объяснить. Но, Боже мой, сколько разного рода "инородцев". Похоже на Нью-Йорк…
Оксфорд. Вторник, 25 мая 1982
Вчера – длинная прогулка по Оксфорду, посещение Bodleian Library
[1567]. Прохладно, но солнечно…
В пять визит о.Каллиста Уэра. Его рукополагают во епископы на Троицу. По-моему, он страшно доволен. А мне всегда страшно: страшно от того необъяснимого "перерождения", что происходит с человеком, когда он становится епископом. Двусмысленность и соблазн "священной власти".
В шесть часов прием в St. Gregory House. Местные прихожане. Знакомая атмосфера "конвертов". "Les transfigures"
[1568], по слову о.А.Князева. Почти все благодарят меня за мои книги… В семь часов ужин вчетвером у М.В. Зерновой: она, о.Каллист, о.Василий (Осборн) и я. "Поповские разговоры", но на сравнительно высоком уровне. Оба – очень милы, очень дружественны.
Война с Аргентиной. Самая настоящая война. Читаю со страстью лондонский "Тайме". Чувствую, сознаю все безумие этой войны. И вот не могу да, в сущности, и не хочу преодолеть в себе не только интереса к ней, но и столь же страстного желания победы Англии как ответа на наглость, хамство, грубую силу.
Среда, 26 мая 1982. Hotel Russel, London
Сегодня поздно вечером вернулся в Лондон после трех хотя и занятых и утомительных, но и приятных дней. Жил у Феннелов – крайне родственных. В понедельник утром поработал над своим докладом. Прогулка с Идей Оболенской по Оксфорду. Все цветет, в воздухе праздник (в чужом городе всегда праздник). В пять часов пришел о. Каллист (Уэр). Его на Троицу посвящают во епископы, и, мне кажется, он страшно этому рад. Обговорили – по часам, если не по минутам – всю мою программу. Он очень умный, приятный человек, и с ним легко и приятно. В шесть часов вечера – "sherry"
[1569] в мою честь в St. Gregory House, устроенный приходом. Великое множество "конвертов". Все читали мои книги – и эта моя, для меня самого удивительная и неожиданная, "известность" здесь, в Англии, все три дня приятно щекотала мое тщеславие.
Во вторник – завтрак с Джоном в его колледже (New College). Ни с чем не сравнимый уют этих гостиных, столовых со столетними каминами, со стариками, читающими газеты. Прогулка по садам колледжа. Великолепие этих садов, деревьев, на фоне всех этих бесконечных зданий с колокольнями, каменными стенами…
В пять часов едем на мою лекцию. Полный зал: человек двести! Два греческих архиерея, много клириков, профессоров, студентов, местных православных. Мне казалось, что лекция была "хуже" задуманной. Но оказалось, что все в порядке. Громовые аплодисменты, некий "восторг" и "подъем" в зале. Как гора с плеч! До этого все время немного кололо волнение: удастся ли? Слава Богу, как будто "удалось". После лекции опять "sherry" – для гостей и "академиков". Встретил здесь – неожиданно! – Edward Every, у которого в 1937 году я жил и так тосковал по дому… Он все такой же жадный болтун, из тех англикан, что на протяжении пятидесяти лет непрерывно "сближаются" с Православием.
Вечером лекция о Православии в Америке. Опять толпа, опять успех…
Сегодня утром – служил с о.Каллистом и о.Василием Литургию, отдание Пасхи. Последняя прогулка по Оксфорду с Идей, жалкой, милой, хорошей… Вечером со всенощной – приложившись к иконе Вознесения – на вокзал, в Лондон. Завтра – служба с митр. Антонием (Блумом) в его соборе… Чувствую усталость, но впереди – еще два полных дня…
Лондон. Четверг, 27 мая 1982. Вознесение
Перед отъездом в собор. Дождь.
"Православный Оксфорд". Чем больше я думаю о моем трехдневном пребывании в нем, тем больше чувствую "парадокс", "трудности" – не знаю, как определить, – лежащие в основе православной диаспоры на Западе.
Вторник, 1 июня 1982
Из Англии вернулся в субботу 29 мая после обеда. Последняя запись оборвана, но к этой теме, над которой я раздумывал все эти дни, я еще вернусь. А из лондонских впечатлений – отмечу еще Литургию с владыкой Антонием в его соборе и день, проведенный в бесконечной прогулке по Лондону с Никитой Струве. Закончилось все в пятницу вечером поездкой куда-то за город на их епархиальное собрание, где я читал доклад. Вообще поездка эта дала мне много радости, хотя бы уж тем, что на неделю "выудила" меня из всех здешних хлопот, трудностей, мелочей. В памяти остались праздничный, майский Оксфорд с его башнями, садами, цветами и Лондон, которого я не видел с 1949-1950 годов и который поэтому тоже был своего рода погружением в прошлое, в молодость, в "начало".
Вчера на Memorial Day мы с Л. поехали на "паломничество" в Тихоновский монастырь. Ночевали в [гостинице] Sheraton. Утром – торжественная Литургия, шесть архиереев, толпы народа – правда, "сокращенные" из-за ужасной погоды. Да и сегодня душная, тяжелая сырость, висящая в воздухе и напоминающая мне мое первое впечатление от Америки – в июне 1951 года именно в такой темный, мокрый день мы высаживались из [парохода] "Queen Mary" в нью-йоркском порту.
Среда, 2 июня 1982
Вчера Иван Мейендорф рассказывает мне о письмах, полученных им из России в связи с "канонизацией" [царской семьи]. О страшной беспоповской "ката-комбной" церкви, о каких-то "чернецах", совершающих крещение и бракосочетание, об антисемитизме, о "карловацких" настроениях части самой патриаршей Церкви и т.д. Вечером, по телевидению, рассказ о женщине, задушившей своего ребенка, потому что в нем был "демон". Все это после Англии, где мне много рассказывали о "расколах" и "скандалах" в среде неофитов, все ищущих "идеальной" и "чистой" Церкви. Спрашиваю себя: что это? Нечто типичное для нашего времени или же нечто постоянное? Ведь с самого начала в Церкви все время возникают эти темные, одержимые максимализмы : монтанизм, донатизм, всякие там павликиане, богомилы, хилиасты, староверы, с самого начала и до наших дней – апокалиптика, страхование, "ферапонты" всех мастей и оттенков. Это, по-видимому, соприродно христианству (а может быть, и "религии" вообще).
И, конечно, причина здесь в
двусмысленности христианства . Ибо христианство двусмысленно par definition
[1570]: "Так возлюбил Бог мир…"
[1571] – с одной стороны, "не любите мира, ни того, что в мире…"
[1572] – с другой. И вот эту-то основную
антиномию "историческое" и самое что ни на есть "правоверное" христианство (Отцы, Церковь и т.д.) не только не претворило в экзистенциальный опыт – понимание жизни, идеал жизни, а, напротив, – от нее, так сказать,
отказалось . Церковь устроилась в мире, обложила золотом и серебром кресты, митры, саккосы, больше того – стала "бытом", но – и в этом весь парадокс – неустанно призывая "не любить мира, ни того, что в мире", так сказать, игнорируя любовь Самого Бога к миру ("так возлюбил Бог мир…"). Ибо ключ к этому распознанию – я буду повторять это до моего смертного часа – в эсхатологической сущности христианства, и это значит, как раз, в распознании здесь и сейчас – "посреди нас" – грядущего Царства в радости о Христе, воснесшемся на небо и "никакоже отлучающагося, а пребывающаго неизменно…", а в ней и через нее "тайнообразующего" преображение мира и твари. Ересь всех этих максимализмов в отвержении "любви, побеждающей страх". Ибо все это раскрыто, все это дается только любящим: "И вопиял еси к любящим Тя: аз семь с вами и никтоже на вы…"
Отсюда два тупика современного христианства: любовь к "миру сему" (то есть без "не любите мира…") и ненависть к "миру сему" (то есть без "так возлюбил Бог мир…"). Два тупика, два отступничества.
Четверг, 3 июня 1982
Разговоры вчера:
1 С В.А.Красиным , тем самым, что в советской тюрьме "раскололся" с Якиром и выдал и предал и т.д. Несколько недель тому назад он прислал мне рукопись своей книги обо всей этой трагедии. Я прочел ее, и мне показалась она искренней, подлинно "покаянной". Красин находится в полном одиночестве, диссиденты игнорируют его, и он в полном духовном унынии. Иными словами, ко мне обратился за "духовной помощью". Сидел полтора часа, рассказывал свою жизнь. Показался мне человеком привлекательным.
2. С С.С.Куломзиной о ее "сомнениях" о Евхаристии. Удивительно то, что она пришла ко мне как раз, когда я пытаюсь обличить источник – богословский – этих сомнений, всю ту ужасающую "редукцию" Евхаристии, что началась – опять, опять – с обрыва эсхатологического восприятия Церкви и таинств.
3. В Нью-Йорке с
Катей Львовой о "кризисе" ее RBRV
[1573] (посылки книг в Россию). Лишний раз убедился в том, как во всякий добрый порыв немедленно "вмешивается" злая сила, претворяя его в самолюбие, самолюбование (мое дело) и, конечно, в муку…
Решительные дни на Фолклендских островах. Как ни проверяю свою совесть, свою "эмоциональную" реакцию на эту странную войну, свою страстную проанглиискую "позицию", все так же чувствую – нутром – ее правоту. Нет, в "мире сем" – правота не на стороне всяких шумных пацифистов, сторонников разоружения, детанта и т.д. Смотрю по телевидению на эти толпы молодежи, бушующие "за мир" в Европе, здесь, и чувствую всем существом, сколько во всем этом "Антихристова добра". Сущность этого Антихристова добра в том, что оно вдохновлено изнутри тем как раз, что изобличал Христос: "Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?"
[1574] На днях читал (еще в Лондоне) в "Тайме" письмо в редакцию какого-то английского парламентария – в ответ на безостановочные призывы Папы (во время его посещения Англии) – к "миру". Он, то есть англичанин, пишет приблизительно так: "…it may be very peaceful indeed to live under dictatorship, but for a free man it is intolerable.. ."
[1575]. И этим, в сущности, все сказано, и изобличен также и Папа – во всяком случае, в его "мирской" установке. За что умер британский офицер, пошедший в лоб пулеметному гнезду? Этот вопрос предполагает принятие основной "аксиомы" Антихристова добра: что жизнь всегда, при всех условиях – лучше смерти. А это, в свою очередь, снимает другой, более важный, более "основной" вопрос: "за что" стоит жить? Сколь ни "труден" христианский ответ, он абсолютно ясен: жизнь "жительствует" по-настоящему только тогда, когда человек готов "положить ее за други своя…"
Суббота, 5 июня 1982
Вчера вечером – graduation Johnny Hopko в Fordham Prep School
[1576]. Речь президента университета – пожилого иезуита. Вся в подлизывании к молодежи: вы-де, мол, отбросили наши устаревшие идеологии, вы за жизнь, не за смерть, вы – независимы… И все в том же тоне. Так что даже текст из Второзакония о выборе между путем жизни и смерти оказывается оправданием современных "пацифистов". И все это так плоско. Ни одного призыва к "горе имеем сердца", к внутренней борьбе, к свидетельству о Христе. Повсюду все та же желатиновая, сахаринная "любовь", все заливающая, как приторный соус. А вначале другой иезуит обратился к Отцу Небесному, объясняя Ему, какой это замечательный класс…
Сегодня родительская суббота, Литургия. Для меня все более осмысленным, все более радостным становится поминовение усопших за проскомидией. Чувство реального единства с ними, а по мере того, как я поминаю их, – детство, корпус, гимназия, Богословский институт, Париж, Америка – словно "собирается" и моя жизнь, оживает ее "реальность".
Вчера в "Русской мысли" оповещение о смерти Сергея Клепацкого, с которым когда-то в корпусе мы составляли "клуб поэтов". Шестьдесят лет: точный ровесник…
Понедельник, 7 июня 1982. Духов день
Тянем уже из последних сил… Вчера – Троицын день. Много исповедников, хорошая служба.
Начал вчера немножко обдумывать свои четыре лекции для нашего "института". И, как всегда в таких случаях, первое чувство – что ничего в этом вопросе ("Proclaiming the Word of God"
[1577]) не смыслю, самого вопроса не понимаю и совсем не знаю, что, собственно, можно и нужно сказать. Стал перелистывать книги – не находя в них ничего ясного, "последнего"… Каждый раз – мучительная встреча с чем-то огромным, решающим, насущным, и каждый раз – такое чувство, что все нужно – себе – открывать с азов… Что такое "Слово Божие", что значит – "и Бог бе Слово"? Ведь на тему эту написаны буквально тысячи книг – и все равно непонятно. А ведь речь идет не о каком-то "техническом" богословском вопросе, не о вторичном, а о самой сути веры. А суть должна быть
проста : ведь не ученым и не богословам открывал ее Бог…
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков
[1578].
Среда, 9 июня 1982
Завтра – отъезд в Лабель (правда, пока что на десять дней, но все-таки – отъезд). Я совершенно изнемогаю. Вот уже три дня – головная боль, кошмары.
Война – на этот раз на Ближнем Востоке. Израильтяне в шестнадцати километрах от Бейрута. Сбитые сирийские аэропланы, весь мир в абсолютно бессильной панике… Война Англии с Аргентиной. Война Ирана с Ираком. И еще какие-то маленькие войны (где, наверное, режут еще больше, еще лучше). Чад в Африке… И всюду – в столицах – взрываются бомбы, убивают дипломатов. Армяне – турок, другие "без подписи"… Но тут же телевидение показывает баскетбольные финалы, новые автомобили, и всех зовут путешествовать и наслаждаться жизнью. "Хлеба и зрелищ!" La vie continue
[1579]. И именно этот контраст – более чем что-либо другое – придает всему привкус "сумасшедшинки".
Собрание Orthodox Theological Society в семинарии. Был – через силу – на двух докладах в понедельник, епископа Петра и проф. Христу из Фессалоник. В связи с этим: думал вчера о том, что богословие (слова о Боге, вживание в сущность веры) предполагает как свое непременное условие – либо подлинную культурность, либо же святость, в смысле простоты, смирения и т.д. Культурность, однако, это не просто знание , это приобщенность к внутренней жизни мира, к "трагедии" (в греческом смысле) человеческой истории, человеческого рода . Ибо богословие есть всегда ответ или, лучше сказать, – благовестие в ответ , благовестие как ответ. Не случайно в нашем Orthodox Theological Society богословие превратилось в своего рода толкование "административных" текстов – канонических в первую очередь (о смешанных браках, об их числе и т.д.). И сидят молодые священники и судорожно записывают "рецепты" (а потом ими будут бить по голове несчастных, запутавшихся людей, на их спинах являть и доказывать свое православие…). Одна мелодия никогда не звучит в этого типа "административном богословии": "Я пришел отпустить измученных на свободу…" Собрание богословов – собрание "сердитых людей", отстаивающих свои "точки зрения". В нем нет никакого воздуха, никакого желания приобщить людей – к жизни, к радости, к реальности Церкви. Все построено по типу – полицейского участка ("протокол о преступлении"), больницы ("психологические копанья в зловонных подсознаниях"), суда и приговоров… Бог "интересуется" миром и человеком. Мы интересуемся "проблемами" Церкви и ее администрации. И все это безнадежно мертво и скучно…
Думал об этом также вчера на отпевании Н.А.Спиридовича. Кучка русских, "хорошего общества", в общем – "церковных". Но, Боже мой, какое "отчуждение" от самой службы, слов, обрядов. Все они твердокаменно верят, что все это "нужно", что нужно соблюсти все, что "полагается". Но что нужно и почему – об этом ни мысли… В таких случаях я всегда чувствую себя "жрецом" de la tribu
[1580], знающим, но хранящим от профанов сложные "манипуляции" – будь то крещение, будь то брак, будь то похороны…
Четверг, 10 июня 1982
Ужин вчера у Halbert'oe, с генералом, командующим французской армией. С ним другой генерал, его помощник, и молодой aide de camp
[1581]. Все три довольно открыто ругают социалистов, хотя те и не тронули вооруженных сил. Все три необыкновенно симпатичные, умные и веселые люди. Очень высоко отзываются об американской армии.
Сейчас уложились. Льяна уехала на заключительные церемонии в своей школе. Тихо, прохладно, солнечно. Еще несколько часов – и, Бог даст, будем катить в Лабель. Еще один учебный год за спиной – тридцать второй в Америке, тридцать восьмой вместе с Институтом…
В мире тревожно. Согласно "трафарету" – над ним "сгущаются тучи". Но на днях Д.Г. подарила мне фотостат первой страницы "Herald Tribune" от вторника 13 сентября 1921 года – дня моего рождения в "мир сей прелюбодейный и грешный". И вот тогда тоже "сгущались тучи" – и большие, и малые, и с тех пор прошло шестьдесят лет!
Тетрадь VIII
ИЮНЬ 1982 – ИЮНЬ 1983
Лабель. Понедельник, 14 июня 1982
Тридцать второе лето! Приехали в пятницу днем и с тех пор успели уже побывать – по делам, за покупками – ив L'Annonciation, и в La Minerve, и вчера – с Машей – на route Balazy. И каждый год это настоящая встреча , радость после разлуки, "узнавание". Нигде во всем мире я так не счастлив, самой простой, чистой "счастливостью", как здесь. И особенно, так сказать, остро в этот медленный разгон первых дней.
Сразу засел за работу: keynote lectures для нашего летнего института на следующей неделе: "Proclamation of the Word of God". И, как всегда, нахожусь в полной путанице, не знаю, с чего и как начать и, главное, что нужно сказать этим людям, не кривя душой, не прикрывая свое незнание академическими штучками. Как ответить на вопрос: что означают слова и Бог бе Слово ? То есть как ответить на него так, чтобы что-то "открылось" душе, вере, совести, а не только "разуму".
Среда, 16 июня 1982
Все эти дни погружен в подготовку своих лекций для института на следующей неделе. Я доволен своей работой, радостью, смыслом, "жизнью", что раскрывается в ней, в этом раздумье о том, о чем, в сущности, я очень мало думал до сих пор. Удивительно – и я в этом всегда убеждаюсь, – что в богословии не мое "Я" раскрываю, излагаю, передаю что-то, что уже во мне , что я знаю , что принадлежит мне, а наоборот – что-то открывается, подается .мне, и вся "работа" состоит лишь в том, чтобы как можно вернее, полнее, убедительнее передать это другим. Богословие в этом смысле есть только "поиски богоприличных слов" и тем самым – исключение, отбрасывание "ложных" слов.
В промежутках между часами работы – прогулки по давным-давно знакомым местам, но которые с каждым годом все больше и больше становятся как бы причастием, удостоверением, откровением "самого главного", а встреча с ними – своего рода "литургией". "Le doux royaume de la terre…"
Когда я над чем-нибудь очень интенсивно работаю, как вот в эти дни, я не могу, не способен читать ничего "серьезного" и, главное, к этой работе относящегося. Поэтому взял первое попавшееся в здешней моей "библиотеке" – двухтомную биографию Sainte-Beuve, написанную A.Bailly. Купил ее давным-давно, и вот стояла неразрезанной. Вот еще один человек, стоявший всю свою жизнь около веры , во всяком случае, в общении – как критик, как историк "идей" и "опыта" – с людьми веры (чего стоит один его "Port Royal", где сотни страниц посвящены религиозному опыту, "духовности"). И "успокоив-
шийся" на некоем "мудром скептицизме". Какое удивительное, таинственное явление – это отбрасывание веры , "освобождение" от нее в XIX веке. Renan, Sainte-Beuve, Lamennais… Отказ от нее, как от какой-то проказы. Волнение Roger Martin du Gard, как бы не "поверить" в смертный час, гнев на религиозные похороны Андре Жида. Возмущение Симоны де Бовуар на малюсенький, слабенький намек на Бога, на веру у приближающегося к смерти Сартра. Этот гнев, это волнение, этот страх не равнодушных людей, а людей верующих и защищающих свою веру, веру в неверие как главное, решающее условие важности их дела, их убеждений, их "владычества" над умами людей… Вот почему христианам нужно прежде всего – не прекращать простого исповедания веры. Ибо весь ужас того, что происходит с христианством на Западе, – это приятие им этого неверия как всего лишь недоразумения, ибо на деле вера утверждает, проповедует, стремится осуществлять как раз то самое, во что верит это "неверие".
Почему я так люблю читать про этих "отказавшихся", этих "верующих в неверие" – Loisy, R. Martin du Gard, Gide, а в другом "регистре" – Леото и т.д.? Думается, потому, что именно в них раскрывается мне подлинный смысл моей веры. Ибо все то, что они отвергают, – в каком-то смысле отвергаю и я, но тогда именно, за отвержением этим, и раскрывается то, что вера не столько "утверждает", но чего присутствием – очевидным – она является.
Понедельник, 21 июня 1982
Четвертый день в Нью-Йорке, но – слава Богу – прохладном, солнечном, без мокрой нью-йоркской духоты. С сегодняшнего утра – суматоха нашего "института", около девяноста человек! Читал свою первую лекцию. Целовался со старыми друзьями и знакомыми… Много совсем молодых, и это радостно и утешительно…
Вторник, 22 июня 1982
Вчера вечером – "диалог" со священниками, участниками "института". В таких случаях я всегда особенно живо ощущаю как бы кровную с ними близость, своего рода круговую поруку… Жаловались, критиковали, все как всегда, но за всем этим самое главное – эти люди стоят у Престола Божия и, спустя две тысячи лет после Тайной Вечери, – "исполняют" ее в Евхаристии. И этой радости никто не отнимет у них…
[1582]Среда, 23 июня 1982
Почти весь день вчера – после моей второй лекции – встречи с бывшими студентами. У каждого свои трудности, даже трагедии. Но общее впечатление очень хорошее, я бы сказал – "радостно-благодарное". Все живут все-таки "вышним", и это в эпоху, когда ничто нигде в нашей "культуре" не зовет к "высшему" и оно – высшее – не столько отвергается, но попросту игнорируется, его нет.
Всю неделю прохладные, солнечные дни. Вчера к вечеру я так устал, голова "не варила" – и, будучи один (Л. на океане), прочел целого "Мегре" [Сименона].
Воскресенье, 5 сентября 1982
Кончилось еще одно лето в Лабель, а через неделю – 13-го – мне стукнет шестьдесят один год! Я как-то вдруг, неожиданно для себя, "ахнул" этому, до такой степени мне всегда казалось, что еще много-много жизни впереди. И вдруг вспомнил, что означало для меня, когда про кого-либо говорили, что ему "за шестьдесят"! Старость, старичок, в лучшем случае – "пожилой" человек. И вот "вошло" это в меня и часто бессознательно – присутствует, все собою так или иначе окрашивая…
Очередной приезд Андрея, на этот раз на три недели с перерывом пяти дней – поездки в Лос-Анджелес на "кадетский съезд". Как всегда, прогулки, обсуждение завтраков и обедов, но в миноре – ибо он должен соблюдать строгую диету, и это страшно, удивительно мешает ему жить, быть самим собою…
А вчера я хоронил в Вашингтоне внезапно скончавшегося Сережу Поливанова! Горе Оли, детей. Тяжело. И, как всегда, только теперь понимаешь по-настоящему, какой это был скромный, ясный, чистый и светлый человек… Чудный день, солнечный, прохладный, в Вашингтоне. Служили вдвоем с о. Димитрием Григорьевым. И все смотрел на тень от деревьев на кладбище и вспоминал бунинское:
Там вдали на погосте
Среди белых берез
Не могилы, не кости,
Из Лабель приезжал три раза – читать лекции в нашем летнем институте, затем, в конце июля, венчать Ирину Трубецкую и совсем недавно – на "предсоборную комиссию". От Церкви, вернее – от "церковного истеблишмента" – все то же впечатление: какой-то метаморфозы в игру, разгула амбиций, бюрократии, болтовни… Что-то как будто надорвалось – может быть, тоже и во мне. Но все стало чуждым, неинтересным…
Зато в Канаде писал… И хотя плоды небольшие – двадцать пять страниц все той же главы "Таинство Святого Духа", все время радостное ощущение присутствия этой темы в себе, ее подспудная жизнь в душе, в сердце, в разуме…
Льяна 25 августа уехала в Италию – "прокатить" по ней внучку Льяну, как делала она это и с нашими детьми. Жил в Лабели совсем один и так сильно почувствовал, что такое одиночество, как может не хватать общения, общей жизни, все время воплощаемого единства. Слава Богу, она возвращается в среду…
Сережа приезжал на каких-нибудь десять дней! Но какая это радость, какой он чудесный человек, какой он с Маней и детьми – чудная семья. Сережа работал с упоением над устройством своего нового, соседнего с нашим, дома на озере.
Labor Day… А потом погружение в семинарскую суету. Вчера вечер провел у о. Павла Лазора. Обсудили все, но какое это бремя – "религиозное", или "духовное", образование. Говорили с ним о том, почему, сравнительно, так много неудач… Кроме путаницы, соприсущей нашей эпохе, я вижу еще насаждаемую современной культурой какую-то заостренную "амбицию". В самой религии нет мира, тишины – все "проблемы" и все до предела – лично.
Вторник, 7 сентября 1982
Читал вчера перевод Ларисы Волохонской моей "For the Life of the World". Хорошо, то, да не то… а объяснить невозможно. В этой книге все в некоей ее "музыке", а вот ее-то и не передает или передает очень слабо – перевод. Du travail en perspective
[1584].
Весь день вчера за столом: моя речь на русско-украинском симпозиуме, расписание лекций и т.д. А вечером на barbecue
[1585] у Дриллоков. Длинная беседа с Давидом [Дриллоком] и Павлом [Лазором]. Мне с ними так хорошо. Также перечитал все уже напечатанные главы "Литургии".
С начала лета что-то расклеилось в моем физическом организме. Почти беспрерывная головная боль, теперь вдобавок – какая-то dizziness
[1586], неустойчивость в ходьбе и, наконец, катастрофическое ослабление памяти – имена, слова, факты. Сегодня в первый раз ощутил беспокойство. Что это – старение, или болезнь, или и то и другое вместе?
Появление Пети (о. Петра) Чеснакова. Служил с нами всенощную под Рождество Богородицы, потом ужинали вдвоем. Болтает так же, как в 1930 году, но чистый, добрый человек. Мучится архиерейством: "чи буты, чи ни буты…" Слушал его и думал: сколько людей буквально "разбиваются" о Церковь, об ее инерцию.
Говорили и о Репнине, о том, как он буквально "тонул" в жизни и уже ничему не мог сопротивляться.
Четверг, 16 сентября 1982
Прочел вчера "Sa ceremonie des adieux"
[1587], рассказ Симоны де Бовуар о последних десяти годах жизни Сартра и об его смерти. Мороз по коже пробегает от того
ужаса , ужаса прежде всего бессмыслицы, который перед лицом смерти испытывают такие люди. Люди, которые отсутствие Бога сделали основой своего "служения миру", а вместе с тем живут напряженной личной жизнью, от жизни все время требуют смысла, радости, удовольствия. И вот это, надо сказать, честное, клиническое описание конца, распада, погружения во тьму. Читал, не мог оторваться…
Сартр. Удивительная судьба. Во все, что он делал, он верил, и это все, от начала до конца, были
ошибки . Сладострастные повторения слова "les masses"
[1588]. Откуда это обожествление "масс"? Какое-то абстрактное желание – и страстное – ими заменить Бога. Только массы – "субъект истории"… Откуда, главное, это опять-таки страстное отрицание Бога? Почему-то
массы , и именно потому, что они – "массы", одни могут добиться "свободы". Свободы от чего? Свободы для чего? Какими удивительно глупыми идеями живет безбожный мир! И подумать только, что он, Сартр, исписал буквально десятки тысяч страниц.
Из-за головных болей (с июня!) и какой-то странной dizziness – бегаю по докторам. Во вторник у милейшего Dr. Rudd'a, сегодня у глазного врача. Все в порядке, все действует, но тогда откуда же эти боли и эта dizziness? В следующий понедельник иду к неврологу.
Понедельник, 20 сентября 1982
Два дня [на океане] в Easthampton у И.Урусовой. Изумительная погода, но я почти не двигался, так как чувствовал себя отвратительно. Читал S. de Beauvoir "Entretiens avec J.P.Sartre 1974-1980"
[1589].
Суббота, 25 сентября1982
Четвертый день в [больнице] New York Hospital. Две опухоли, сотни "тестов". Писать об этом скучно и длинно. Письма, цветы, чувство чего-то незаслуженного… И второе – как просто, как поразительно просто меняется, в один момент, вся перспектива… "Здесь мир стоял простой и ясный, но с той поры, что ездит
тот …"
[1590].
Преп. Сергия Радонежского. Жду о.Михаила Аксенова с причастием.
Воскресенье, 3 октября 1982
Тринадцатый день в госпитале. Все "tests"… В общем, слава Богу, спокойствие, тишина. Присутствие Л. и девочек. Письма, карточки… За окном – удивительный вид на Нью-Йорк – Queensboro, Midtown… Вода, небоскребы. И солнце, каждый день солнце. Кругом любовь и волнения.
Только что, после причастия, ушел о. М[ихаил Аксенов].
"Идиже празднующих глас непрестанный и видящих Твоего лица доброту неизреченную…"
Вера, надежда, любовь.
Понедельник, 4 октября 1982
Четырнадцатый день. Сижу в залитой солнцем палате и жду у моря погоды – решения о лечении… Вчера, как, впрочем, и все эти дни, – посетители… Масса добрых слов, любви, молитв – это чувствуется почти физически. Звонки вчера – от Сережи, Андрея, Братули. Присутствие Л. и Маши. Почти счастье.
Вчера сделал первую попытку "поработать", сел за "Таинство Святого Духа". Что мешает? Внутренняя суета, которой способствует госпиталь. Все время чего-то ждешь, и это ожидание не дает сосредоточиться на работе.
Среда, 1 июня 1983
Восемь месяцев – не писал сюда ни слова. И не потому, что нечего было сказать: никогда, пожалуй, не было столько мыслей, и вопросов, и впечатлений. А потому, пожалуй, что все боялся той высоты, на которую подняла меня моя болезнь, боялся "выпасть" из нее. И потом первые месяцы – до Пасхи – писал, работал, вдруг страшно захотелось, чтобы мои английские книги вышли по-русски, хотя, увы, написаны они не в русской тональности и вряд ли перевод передает то, что мне казалось нужным сказать.
Присутствие активное – Л. Я думаю, не будь ее со мною, не было бы этих – в основном мирных и глубоких – восьми месяцев.
Три приезда Андрея.
Три приезда Сережи.
Приезды Ткачуков…
Какое все это было счастье!
notes
Примечания
1
1 Ясно и четко (фр.).
2
2 "Литературный дневник" Леото (фр.).
3
3 Все – там, все – иное (фр.).
4
1 Прот. Фома Хопко, муж старшей дочери Ани.
5
2 Из стихотворения "Чем хуже этот век предшествующих? Разве…".
6
3 Ср. Мф.6:23.
7
1 Из стихотворения О.Мапндельштама "Декабрист".
8
1 Ален Уотс. "Своим путем" (англ.).
9
2 Свящ. Иоанн Ткачук, муж дочери Марии.
10
3 "…поняли слова св. Павла "непрестанно молитесь" как обращенную к Иисусу бесконечную болтовню, главным образом о своих ужасных грехах" (англ.).
11
4 "Вера в прощение грехов, кажется, усиливает, а не смягчает чувство вины, и чем больше эти люди каялись и исповедовались, тем сильнее они ощущали неловкость в постоянном обращении к Иисусу за Его прощением. Им очень неудобно и стыдно так опираться на достоинства христианства, какими бесконечными бы они ни были, и они представляли себя хорошими детьми в мире, окруженном отеческой заботой…" (англ.).
12
1 Мф.25:21.
13
2 Церковь св. Троицы (англ.).
14
3 Уолл-стрит, финансовый район города Нью-Йорка.
15
1 Слова священника в молитве перед исповедью.
16
2 Приход в городе Парамус, штат Нью-Джерси.
17
3 Секретарша о. Александра.
18
4 Комиссар Мегре, герой романов Жоржа Сименона.
19
5 Л.Буйе об "Апостольском служении" (англ.).
20
1 Syosset (Сайосет) – город на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк), в котором находятся резиденция Митрополита Православной Церкви в Америке.
21
2 Строка из стихотворения В.Ходасевича "Звезды".
22
3 нервном расстройстве (англ.).
23
4 Жюльен Грин: "Все там, все иное", "Правда только в качании веток на фоне неба" (фр.).
24
1 Мф.17:4.
25
2 хиппи (англ.).
26
3 Ср.: Мф.6:23.
27
1 Пс.54:6: "Страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма".
28
1 Здесь имеются в виду русские националисты.
29
2 серым кардиналом (фр.).
30
3 уменьшить ущерб (фр.).
31
4 в силу самого факта (лат.).
32
5 Внук, сын Сергея Шмемана.
33
6 Из стихотворения В.Ходасевича "Стансы". Правильно: "Зато слова: цветок, ребенок, зверь…"
34
1 Ферапонт – темный монах из романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы".
35
2 Первая строка стихотворения С.Малларме "Плоть опечалена, и книги надоели…" (в переводе О.Мандельштама).
36
1 Lac Labelle – озеро в Канаде, на котором о.Александр с семьей проводил лето в течение многих лет.
37
1 центре, средоточии (лат.).
38
2 Мф.13:13.
39
3 Имеется в виду Св.-Владимирская духовная семинария (основанная в 1938 году), деканом которой был о.Александр (с 1962 года).
40
1 наоборот (англ.).
41
1 Мефимоны – в русском церковном обиходе название повечерия с чтением Великого канона Андрея Критского.
42
2 Роман С.Р.Минцлова.
43
3 из песни добровольческого полка генерала Маркова.
44
1 "Согласиться не быть любимым – только этой ценой можно оставить свой след в жизни" (фр.).
45
2 Александро-Невский собор в Париже на улице Дарю, 12; заложен 3 марта 1859, освящен 30 августа 1861, в день перенесения мощей св. Александра Невского.
46
1 Ср. Ин.16:22.
47
2 "Ваши ценности мертвы!" (фр.).
48
3 наши ценности мертвы (фр.).
49
1 Приход о. Фомы Хопко.
50
2 "способен вместить Бога" (лат.).
51
1 "Пикассо так же важен, как Адам и Ева, как звезда, как источник, дерево, скала, волшебная сказка, и останется столь же молодым, столь же старым, как Адам и Ева, как звезда, источник, дерево, волшебная сказка" (Жан Арп). Пикассо: "Ничто не может создаваться без уединения. Я себе создал уединение, о котором никто не подозревает" (фр.).
52
2 "Et nunc manet in te…" (лат.) ("И ныне пребывает в Тебе") – название книги А.Жида, вышедшей после смерти автора и описывающей его семейную жизнь.
53
1 Флп.4:4-7.
54
2 недоучка; студент, бросивший учебу (англ.).
55
3 Мф.11:25; Лк.10:21.
56
4 Макс Жакоб: "Я не критик, но я люблю восхищаться и еще больше – говорить, что восхищаюсь" (фр.).
57
5 Роже Нимье: "Наиболее позитивное чувство этого серого мира – это нежность или жалость. И из-за его вкуса к подробностям привычным, подробностям "согревающим", Сименон – русский писатель (!!!), какими их понимали в 19-м веке…" (фр.).
58
1 Оправдание (лат.).
59
2 Обеденное время (англ.).
60
3 Жан Ко "Конюшни Запада" (фр.).
61
4 "горе имеем сердца" (лат.).
62
1 "Принципы – это то, что людям заменяет Бога…" (англ.).
63
2 "духовный отец" (англ.).
64
3 Уотергейт (англ.) - разбирательство противозаконных действий ряда лиц в связи с попыткой установить
65
4 М. Де Ломбьера "Дело Дрейфуса. Ключ к тайне" (фр.).
66
5 системой зубчатых колес (фр.).
67
6 1Кор.7:31.
68
1 1Ин.2:16.
69
2 От англ. "morbid" – болезненный
70
3 "консультирование"
71
4 "Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку" (фр.).
72
1 "Без причастия жизнь меняется и вера уходит. Это так почти без исключения" (фр.).
73
2 "Где мудрость, которую знание заставило нас потерять? Где знание, которое мы заменили информацией?" (фр.).
74
3 Spence School – частная школа в Нью-Йорке, в которой работала Ульяна Сергеевна Шмеман.
75
4 Поль Валери: "Нельзя выйти из тени даже ненадолго без того, чтобы не вызвать ненависти многих" (Поль Валери) (фр.).
76
5 Грин: "Потеря чувства тайны Бога – более частое явление, чем можно подумать. Многие христиане заменяют Бога идолом, которого они называют Богом, которого составляют из разных соответствующих составляющих и которому поклоняются" (фр.).
77
1 РСХД – Русское студенческое христианское движение, основанное в 1923 году на учредительной конференции в г.Пшеров (Чехословакия). С Движением тесно связано парижское издательство "YMCA-Press", выпустившее немало книг, сыгравших значительную роль в духовном становлении Русского Зарубежья и современной России. С 1928 года издается журнал "Вестник студенческого христианского движения" (позднее – "Вестник Русского христианского движения"). О.Александр принимал в Движении активное участие.
78
2 возвращение к нормальной жизни (англ.).
79
3 "Хроники растраченного времени" Малькольма Магериджа (англ.).
80
1 профессорско-преподавательского состава (англ.).
81
2 аспирантуру (англ.).
82
3 убедительно изложить, передать (англ.).
83
1 Деревня под Парижем.
84
2 "в свете лета" (фр.).
85
1 Epiphany (англ.) – Богоявление.
86
2 трактире (фр.).
87
3 Из стихотворения И.Бунина "Зачем пленяет старая могила…".
88
4 браке и сексуальности (англ.).
89
1 в последний момент (лат.).
90
2 Это имеет смысл (англ.).
91
3 Имеется в виду основанная на соборе в г.Сремски-Карловцы (Югославия) Русская Православная Церковь за границей.
92
4 Ж.Лакутюр об Андре Мальро "Жизнь в эпохе" (фр.).
93
5 Е.Морен "Потерянная парадигма: человеческая природа"; Р.Арон "История и диалектика насилия"; Жюльен Грин "Кто мы" (фр.).
94
1 День православного образования – ежегодный праздник в Св.-Владимирской семинарии (в первую субботу октября).
95
2 Верхней Вольты (англ.).
96
3 Сопротивление, Де Голль (фр.).
97
1 "С благими намерениями делаются плохие фильмы" (фр.).
98
2 Гран Гиньоль (фр.) – парижский театр ужасов, популярный в первой половине XX века.
99
1 Цитата из воспоминаний жены протестантского богослова и философа Пауля Тиллиха "Время от времени": "Я стремилась сделаться человеком, но зажигали меня дух и разум. Благодаря Генриху (любовнику!) я стала настолько человечной, насколько я только способна. Паулус – реализация моего космического сознания. Мы оба сталкивались с демонами. Я боролась со своим подсознанием, стремящимся разрушить мое разумное самосознание. Вероятно, спасало меня то, что всегда я боролась за свое собственное, сознательное "я", постоянно ощущая опасность превратиться в объект использования для разума другого человека… Паулус был космической силой…" (книга воспоминаний жены протестантского богослова и философа Паулуса Тиллиха "Время от времени") (англ.).
100
2 Union Theological Seminary – протестантская богословская семинария в Нью-Йорке.
101
1 "cправедливом и прочном мире" (англ.).
102
1 Магеридж, стр.133: "Больше всего грусти вызывает у меня, когда я оглядываюсь на свою жизнь, воспоминание – не столько о тех дурных, жестоких и эгоистических поступках, которые я совершал, о боли и обиде, причиненных мною тем, кого любил, – хотя и это сознание достаточно мучительно. Больше всего причиняет мне боль то, как часто я предпочитал худшее, третьесортное, даже "десятисортное", когда мог бы иметь первосортное… "Ничто так не красиво и чудесно, ничто так не постоянно свежо и удивительно, так полно сладкого и бесконечного упоения и восторга, как добро, – пишет Симона Вайль. – И ничто не скучно, однообразно и безотрадно так, как зло". Именно так; однако, как говорит она дальше, в случае воображения, сочинительства – все наоборот: "Вымышленное добро скучно и вяло, а вымышленное зло разнообразно и занимательно, привлекательно, глубоко и полно очарования…" (англ.).
103
1 Магеридж об Андре Жиде: "Я отчетливо ощущал в Жиде какое-то зло, и не в том смысле, в каком зло присутствует в каждом человеке, а в определенной концентрации, могущей как привлекать, так и отталкивать. Это не позволило мне по-настоящему оценить его общество… Сегодня не разрешается верить в зло, или же, если зло допускается, оно "возвышается" как имеющее какие-то собственные, неотъемлемые творческие способности, красоту, радость. Однако в Жиде я наблюдал ужасное опустошение зла, полное отчуждение от принципа добра во всем творении; казалось, он был заключен в темноту, как в темницу, как некто ходящий по незнакомой комнате и напрасно ищущий выключатель, или дверь, или окно… Когда я вспоминаю его серое, холодное лицо и его рафинированную речь, возникающую оттуда как прозрачный источник из каменистой почвы, мне больше, чем когда-либо кажется уместным, что дьявол был падшим ангелом…" (англ.).
104
2 "Исповеди и Причастия" (англ.).
105
3 Из стихотворения Г.Адамовича "Без отдыха дни и недели". Правильно: "Но реял над нами / Какой-то особенный свет, / Какое-то легкое пламя, / Которому имени нет".
106
1 противоядия (англ.).
107
2 Воспоминания эготиста".
108
3 порывов (англ.).
109
4 Имеется в виду Св.-Сергиевский православный богословский институт в Париже, основанный в 1925 г . В 1924 г . было приобретено на аукционе здание будущего института, а поскольку в это время в России как раз закрыли Троице-Сергиеву Лавру, то решено было считать институт подворьем Лавры в Париже.
110
5 Крествуд – городок в штате Нью-Йорк (недалеко от города Нью-Йорка), где находится Св.-Владимирская семинария и где у Шмеманов был дом.
111
1 Радиостанция "Свобода".
112
2 Р. де Дуайе де Сент-Сюзанн "Альфред Луази: Между верой и неверием".
113
1 "с полной ясностью и воодушевлением он подтвердил абсолютную автономность религиозного чувства, которое проявляется не в рациональной, не в чувственной категории, а в реальности, постулирующей иную реальность, которая возникает в человеке, являет себя ему, но не движет им, в то время как без нее все теряет смысл" (стр.177). …"насколько ему трудно было переносить действующий в Церкви интеллектуальный распорядок, настолько легко ему дышалось в духовном климате Церкви" (фр.).
114
2 с соответствующими, необходимыми изменениями (лат.).
115
3 Поль Клодель "Воспоминания экспромтом" (составитель Жан Амруш): все тот же "духовный климат Церкви" (фр.).
116
4 "…вести дневник, смотреть на себя со стороны – это один из способов, приводящих к совершенной фальши. Греки говорили: "Познай себя". Нет, это абсолютно неверно, мы не знаем себя. Никто не знает себя, и в этом-то и заключается самый волнующий момент, что человек непредсказуем и что достаточно тех или иных обстоятельств, чтобы проявились те или иные способности, о которых никто не имел никакого понятия. Это гораздо более восхитительно, чем познавать себя! Что мы знаем? Мумию, что-то ложное, совершенно искусственное! Это лишено всякого интереса, в то время как ощущать в себе предрасположенность к массе удивительных вещей, которые могут неожиданно произойти, и быть готовым воспринять эти вещи в полной незаинтересованности самим собой…" (фр.).
117
1 "…метод заключается в том, что мудрец последовательно изгоняет из себя дух восприятия силы и чистого пространства и даже восприятие самого восприятия, доходит в конце концов до небытия и впадает в нирвану. И людей удивляет это слово. Я же нахожу в этом идею небытия в сочетании с наслаждением. Это и есть конечная и сатанинская тайна, молчание сотворенного, полностью ушедшего в себя, кровосмесительный покой души, почивающей на своей глубинной инаковости" (фр.).
118
2 День благодарения (официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса, отмечаемый в последний четверг ноября).
119
3 Американский институт кулинарии (англ.).
120
1 Поль Клодель: "Я не стал христианином для того, чтобы наслаждаться, так или иначе, религиозным чувством, своего рода мистическим сладострастием. Я всегда этого терпеть не мог. Я не для того стал христианином: у меня в мыслях никогда не было наслаждаться Богом, получать от этого какое-либо удовольствие" ("Воспоминания экспромтом", стр.124) (фр.).
121
1 Энергетический кризис (англ.).
122
2 "Век посредственности" (англ.).
123
3 ни на чем не основанные предположения, "гадание на кофейной гуще" (англ.).
124
4 предвзятое мнение (фр.).
125
1 равновесие сил (англ.).
126
2 разрядке международной напряженности (англ.).
127
3 "Последний из гигантов" (англ.).
128
4 массах (фр.).
129
1 "Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле?" (фр.).
130
2 ручку (фр.).
131
3 епископальном соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
132
4 "Да молчит всяка плоть человеча…" (англ.).
133
5 высокую Церковь (англ.). Высокая Церковь – течение в англиканстве, тяготеющее к англо-католицизму.
134
1 "Праздник на стороне, отдельно" (фр.).
135
1 "Царство и власть" (англ.).
136
2 разрядке напряженности (англ.).
137
3 "политика – это искусство возможного" (фр.).
138
4 Apostasy (англ.) – вероотступничество, богоотступничество.
139
5 повестке дня, программе (англ.).
140
1 отрешение, отстраненности (фр.).
141
2 двусторонним переговорам (англ.).
142
1 рождественской вечеринки (англ.).
143
2 воспринимать все трагически (фр.).
144
3 Имеется в виду Русское студенческое христианское движение.
145
1 Непременное, обязательное условие (лат.).
146
1 Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) – общественно-политическая антибольшевистская организация русской эмиграции, основанная в 1930 г .
147
2 "Признаюсь, что меня часто раздражают православные речи и выступления своим триумфалистским и многословным стилем. Католические 'интегристы' нам льстят, а 'прогрессисты' усугубляют наши худшие недостатки своей реакцией против 'секуляризма'" (фр.).
148
1 Имеется в виду церковь Введения во рам Пресвятой Богородицы, расположенная на этой улице.
149
2 Apres-midi (фр.) – время после полудня, вторая половина дня.
150
3 Кузены и кузины (фр.).
151
4 Из стихотворения А. Блока "Прошли года, но ты – все та же…": "И все чудесней, все лазурней – / Дышать прошедшим на земле".
152
1 Из стихотворения О.Мандельштама "Декабрист". Правильно: "И вычурный чубук у ядовитых губ, / Сказавших правду в скорбном мире".
153
2 Baptism (англ.) – Крещение. Речь идет о книге "Водою и Духом" ("Of Water and the Spririt").
154
1 Из "Поэмы без героя" А.Ахматовой.
155
2 Reservation (англ.) – оговорка.
156
3 это все исказило.
157
4 Мк.5:36; Лк.8:50.
158
5 Леото: "…крик этого филина в ночи! Какое блаженство, блаженство грусти, тайны, одиночества, жалости к бытию" (фр.).
159
1 хождение туда-сюда (фр.).
160
2 Iconoclast (англ.) – иконоборец.
161
3 побочный результат (англ.).
162
4 Пс.142:8.
163
1 [Мирча] Элиаде ("Отрывки из дневника") (фр.).
164
1 Гал.6:7.
165
1 Слова преп. Серафима Саровского.
166
1 Ин.6:68.
167
2 четыре часа (фр.).
168
1 block (англ.) – квартал.
169
2 Бернанос: "Я всегда оставался тем двенадцатилетним мальчиком, которым был когда-то" (фр.).
170
1 "Мир не был сотворен в один присест; он творится так часто, как появляется настоящий художник: художник не изобретает, он открывает заново" (М.Пруст) (фр.).
171
2 "Отверженные", роман Виктора Гюго.
172
1 Жоржа Урдена "Бог на свободе" (фр.).
173
2 "Переписка Андре Жида с Андре Рувером" (фр.).
174
3 Клод Мориак "Андре Бретон" (фр.).
175
4 Fascinate (англ.). – пленять, очаровывать.
176
5 Американском университете (англ.).
177
1 суета, забота, преследование (англ.).
178
2 Грин о Мальро: "О нем можно сказать, что его никогда нельзя было обвести вокруг пальца" (фр.).
179
3 Из стихотворения А.С. Пушкина "Поэту".
180
4 в лучшем своем проявлении (англ.).
181
1 Соприкоснуться с самим собой (англ.).
182
1 сочинения (фр.).
183
1 Стихи Поля Верлена. Буквально: "Плачется в моем сердце, как дождит над городом". В переводе Б.Пастернака: "И в сердце растрава, и дождик с утра".
184
1 Из стихотворения О.Мандельштама "Вот дароносица, как солнце золотое…" Правильно: "Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули / О луговине той, где время не бежит…"
185
2 "Любить до смерти кого-то, кого ни следа никогда не видел, ни голоса не слышал, – в этом все христианство. Человек стоит у окна и смотрит на падающий снег, и вдруг в нем разгорается радость, невыразимая человеческим языком. В глубине этой единственной минуты он испытывает таинственное спокойствие, которое не затрагивают никакие его внутренние волнения: тут и есть пристанище, единственное, потому что рай это не что иное, как любовь к Богу, и нет худшего ада, чем остаться без Него" (Жюльен Грин. Дневник II. 1940-1945. Плон, 41-42) (фр.).
186
1 Газета "Нью-Йорк Таймс".
187
2 недомогании (фр.)
188
1 Из стихотворения Е.А.Баратынского "Запустение".
189
2 Пс.22:1.
190
3 Ин.15:5.
191
4 "Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле?" (А.Жид) (фр.).
192
5 1Фес.5:16,18.
193
6 М.Грина "Сестры фон Рихтхотен" (англ.).
194
1 того, к чему все "относится" (англ.).
195
2 Евр.13:8.
196
1 Мф.11:25.
197
2 "Усложнение словесное, искусственное, своеобразие надуманное и примененное, ложная глубина, настоящее интеллектуальное отчуждение…" (фр.).
198
1 бесполезной страсти (фр.).
199
2 в тепле и холе (фр.).
200
3 расхождение (фр.).
201
1 Кент – школа в штате Коннектикут.
202
2 несомненно, ясно (англ.).
203
1 Вера Ткачук, внучка о.Александра.
204
1 "Сердцу, испытывающему отвращение…" (фр.) Из стихотворения Поля Верлена "Хандра", в переводе Б.Пастернака: "О дождик желанный, / Твой шорох – предлог / Душе бесталанной / Всплакнуть под шумок".
205
1 От англ. delectation – наслаждение.
206
2 Из стихотворения А.Блока "На смерть Коммиссаржевской".
207
3 Импичмент (англ.) – решение Палаты представителей о возбуждении в сенате дела о снятии президента с поста.
208
1 "Револьвер Мегре" (фр.). (роман Ж.Сименона).
209
2 "Воспоминания детства" Э.Ренана. О Сан-Сюльпис: "Эхо страстных дискуссий иногда доносилось из-за стен дома, беседы господина Мангина особенно действовали на молодых. Однажды один из них прочитал ректору, господину Дюкло, отрывок из доклада, который показался ему устрашающе жестоким. Старый священник, полупогруженный в нирвану, едва слушал его. В конце, очнувшись и пожимая руку молодому человеку: "Понятно ведь, друг мой, – сказал он, – что люди эти не молятся". Эти старые совершенные мудрецы ничему не удивлялись. Однажды на площади Сан-Сюльпис раздался шум. "Пойдёмте в часовню, чтобы умереть всем вместе!" – воскликнул прелестный молодой человек, который был готов на всё. "Я не вижу в этом необходимости", – ответил один из старших, и прогулка по внутреннему дворику продолжалась" (фр.). (Нелсон, с.159). "…основательное учение, отвергающее омерзительный блеск успеха" (там же, стр.162) (фр.).
210
1 католический собор св. Патрика.
211
2 "Когда поэт умирает, настоящая вера не за горами" (Франис Жансон "Сартр в жизни", изд. Сой. 1974. Cтр.191) (фр.).
212
3 прыжки веры (англ.).
213
1 Ср. Мф.13:15; Мк.8:18; Рим.11:8.
214
1 "Каждый должен следовать своей наклонной, лишь бы она шла по восходящей" (фр.).
215
2 Попечительский совет (англ.).
216
1 Лк.1:29.
217
2 спад, разрядка напряжения (англ.).
218
1 И вот (фр.).
219
2 Солженицын А.И. Красное колесо. Повествованье в отмеренных сроках. Узлы I-IV.
220
1 Баня реальности (фр.).
221
2 Сравниваем впечатления (англ.).
222
1 Съезд выпускников (англ.).
223
2 П.Леото, "Молодость" Жюльена Грина, "Неподвижное время" Клода Мориака (фр.).
224
3 Из стихотворения Ф.Тютчева "Как дымный столп светлеет в вышине!".
225
4 приглашенный докладчик (англ.).
226
1 Литургия смерти (англ.).
227
2 выход за пределы (лат.).
228
1 Примириться со смертью (англ.).
229
2 Ин.15:13.
230
3 Из стихотворения И.Бунина "И цветы, и шмели, и трава, и колосья…".
231
4 спорщиком (фр.).
232
1 Жана Даниэля "Оставшееся время" (фр.).
233
2 "Есть люди, которые ставят перед вами вопрос, в чем смысл жизни. И есть другие, как он, которые дают смысл этой жизни". [Стр.229:] "Правыми считаются те, кто покоряется природе; левыми те, кто прикладывает усилия, чтобы эту природу исправить" (фр.).
234
3 Слова из стихотворения Ф.Тютчева "Есть в осени первоначальной".
235
4 "Сладостное царство земли" (Бернанос) (фр.).
236
1 Флп.1:21.
237
2 Ср. 1Кор.15:42.
238
3 1Ин.2:16.
239
1 Converts (англ.) – перешедшие в Православие; новообращенные.
240
2 комплекс неполноценности (англ.).
241
1 Цитата из романа Мориака "Подросток былых времен": "Он говорил, что благодаря мне прозрел: все, чем Церковь вызывает ненависть своих врагов, действительно заслуживает ненависти – это бывало и раньше, в любую годину истории человечества, – как заслуживает ее фарисейская религия мадам. Враги яростно нападали на те установления, перед которыми иные люди преклонялись, как, например, одержимый грегорианец Гюисманс. Но преклонение было так же бесплодно, как и проклятия. Мы с Симоном знали, что в известный момент истории Бог проявлял Себя, что Он проявляет Себя и поныне, в судьбах отдельных мужчин и женщин, которых объединяет общая черта – стремление теснее приобщиться к Кресту". "Я предостерег его от иллюзий, будто существует верный способ ощутимо приблизиться к Богу, напомнил, что меньше всего это зависит от нашей воли, а само это желание свидетельствует о поисках упоения, которые приводят нас к тому, чего хотели мы избежать" (стр.154) (перевод с фр. Р.Линцер ).
242
2 Ср. Еф.3:19.
243
3 Лк.10:42.
244
4 Ср. Ин.16:33.
245
1 1Кор.15:36.
246
2 Евр.13:8.
247
1 Battery Park – район в Бруклине, с набережной которого открывается вид на острова в заливе Гудзон.
248
2 "левых" (фр.).
249
3 От Indian summer – бабье лето.
250
4 Мф.19:23.
251
1 "Я помню" Жоржа Сименона (фр.).
252
2 "За жизнь мира" (англ.).
253
3 "инженер по обслуживанию" (англ.).
254
4 Из стихотворения "Осень". Правильно: "Светлое утро. Я в церкви. Так рано".
255
1 бесполезная страсть (фр.).
256
1 собрание преподавателей (англ.).
257
2 вообще (англ.).
258
3 Жених Наташи, дочери Андрея Шмемана.
259
4 Выписка из "Воспоминаний внутреннего мира" Мориака: "…борьба тех, кто кричит в Церкви, что "это истина", и тех, кто считает, что "это полезно"" (стр.155). ‹…› "Я лично не перестаю изучать "Письма к провинциалу" [Паскаля], написанные при абсолютной монархии этим удивительным христианином, с которым Христос говорил в ночь (мать-перемать, забыла спросить, что значит resurs de joie!), в чём заключается свобода детей Божиих, и что ничто её не одолеет. Это она определяет цену человеческой судьбе. И это её мы должны сохранять в нашей жизни, в народе, в Церкви…" (стр. 156) (фр.).
260
1 "Глобальные нужды, национальные средства…" (англ.).
261
2 В гуще толпы (фр.).
262
3 Т.Мольнара.
263
1 Ин.3:19.
264
2 ребенок, которым он был (фр.).
265
3 в паломничество (фр.).
266
1 См.: 1Кор.15:44.
267
2 "надо пытаться жить" (фр.). Из стихотворения Поля Валери "Кладбище у моря". В переводе Е.Витковского: "Значит – жить сначала!"
268
3 Праздник всех святых (фр.) (у католиков).
269
1 Жансон о Сартре в коллекции "Писатели перед Богом". "К неверию меня привел не конфликт догм, а безразличие моих бабушки и дедушки". "Это замечание, – пишет Жансон, – кажется мне основным… Вера в Бога (в ту эпоху и в данном обществе) чувствовала себя настолько уверенно, что от этого становилась смирной, спокойной и чрезмерно скромной, до такой степени, что атеист в глазах верующего становился фигурой оригинальной, "безумцем", фанатиком, окруженным различными табу" – какой-нибудь Сартр "маньяком Бога, который повсюду замечал Его отсутствие, который рта не мог открыть, чтоб не произнести Его имени, короче, человеком с религиозными убеждениями". Высшее же общество, напротив, "верило в Бога, чтоб только не говорить о Нем…" (стр.42-43) (фр.).
270
2 Запутанный (фр.).
271
3 Ж.Ф.Ревеля "Открытое письмо правым" (фр.).
272
1 текущий ремонт (англ.).
273
2 Из стихотворения И.Анненского "То было на Валлен-Коски".
274
3 паролем (англ.).
275
1 Храм Казанской иконы Божией Матери в городке Си-Клифф на Лонг-Айленде.
276
2 вечерних курсах.
277
1 "Страсти по Матфею".
278
2 Община Воскресения Господня.
279
3 Имеется в виду Anglican/Orthodox Fellowship of St Alban and St Sergius – Англикано-Православное Содружество св.Албания и преп.Сергия, основанное в 1928 году совместно православными и англиканами, серьезно и глубоко интересовавшимися Православием. Первый англикано-православный съезд состоялся 11 января 1927 года в городке Сент-Олбанс, недалеко от Лондона, второй – там же, в декабре 1927 – январе 1928 года. Основной целью содружества были молитва и деятельность, направленная на сближение Православной и Англиканской Церквей. В апреле 1931 года в Хай-Ли собрался пятый съезд, на котором выступали прот.Сергий Булгаков, прот.Георгий Флоровский и А.В.Карташев. На шестом съезде, состоявшемся в Лондоне в апреле 1932 года, выступал Н.А.Бердяев. В настоящее время центр содружества находится в Оксфорде.
280
1 "Литургия и жизнь" (англ.).
281
2 Из повести В.Набокова "Отчаяние". Правильно: "Раковинный гул вечного небытия".
282
1 Мк.15:39.
283
2 Кеносис – самоуничижение, самоограничение Бога при принятии Им человеческой природы во Христе; снисхождение Бога к людям.
284
3 Слова Клоделя: "…и я понял вечную детскость Бога" (фр.).
285
1 "законом и порядком" (англ.).
286
2 "Театр Мориса Буассара" (Поль Леото) (фр.).
287
1 Все позволено (англ.).
288
2 Из стихотворения С.Есенина "Не жалею, не зову, не плачу…".
289
1 Рождественские колядки.
290
2 Из стихотворения Н.Некрасова "Рыцарь на час". Правильно: "Суждены вам благие порывы".
291
3 Любовь к судьбе (лат.).
292
1 Kennedy Airport – международный аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке.
293
1 Из стихотворения Г.Иванова "Как вы когда-то разборчивы были…".
294
2 Из стихотворения П.-Ж.Беранже "Безумцы": "Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой!" (перевод В.Курочкина.
295
3 Из комедии А.Грибоедова "Горе от ума".
296
1 Поль Леото: "Я часто думал об этом: работать до изнеможения, ни на минуту не останавливаться – какой дар иллюзии! Какое отсутствие чуткости! В то же время ни грёз, ни колебаний, ни равнодушия, ни легкого привкуса горечи от суеты всего окружающего? Приходится признать, что нет" (Театр Мориса Буассара, I, 373) (фр.).
297
2 безграничное (англ.).
298
3 "как таковая" (нем.).
299
3 Из стихотворения Г.Иванова "Все чаще эти объявленья…". Правильно: "Невероятно до смешного: / Был целый мир – и нет его… / Вдруг – ни похода Ледяного, / Ни капитана Иванова, / Ну абсолютно ничего!".
300
1 Марш Семеновского полка.
301
2 "надо пытаться жить" (фр.).
302
3 Принстонской богословской семинарии.
303
4 Ж.Суффера "Интеллектуалы на диване" (фр.).
304
1 одним взмахом пера (фр.).
305
1 "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку" (лат.).
306
1 Напрасное служение (фр.).
307
2 вечер (англ.).
308
1 рождественский дух (англ.).
309
1 Из стихотворения Г. Адамовича "Без отдыха дни и недели". Правильно: "Но реял над нами / Какой-то особенный свет, / Какое-то легкое пламя, / Которому имени нет".
310
2 Из Акафиста Пресвятой Богородице.
311
3 Третьего не дано (лат.).
312
1 идентичность (англ.).
313
2 В этом-то и вопрос (англ.).
314
3 Русский ресторан в Париже.
315
1 Старомодный рыбный ресторан в Париже.
316
2 пытается делать веселую мину при плохой игре (фр.).
317
1 Ресторан с видом на Собор Парижской Богоматери.
318
2 Имеется в виду Храм Знаменья Божьей Матери, расположенный на этой улице.
319
1 "Записки маленькой дамы" (фр.).
320
2 А.Утена "Моя жизнь во священстве" (фр.).
321
3 "Богослужение и искусство" (англ.).
322
1 Хартфордская семинария в городе Хартфорд (штат Коннектикут) (англ.).
323
2 "Богословские утверждения" (англ.).
324
3 Городок, в церкви которого служил о.Фома Хопко.
325
1 "Новое русское слово", русская эмигрантская газета, выходящая в Нью-Йорке.
326
2 Александр Исаевич Солженицын.
327
3 это честно (фр.).
328
4 Возвращение к нормальной жизни (англ.).
329
5 свое дело; долг (фр.).
330
1 Draft (англ.) – черновик, черновой вариант.
331
2 так проходит… (лат.).
332
1 своеобразного, особого рода (лат.).
333
1 Блондель: "Я хотел бы, чтобы мы сами осуществляли пассивный отказ от всего, что относится к жизненным случайностям, человеческим препятствиям, подозрениям, как оправданным, так и необоснованным, для того, чтобы оставить на наше личное усмотрение все причитающиеся нам силы и свободу. Остальное в руках Господа" (Переписка А.Бремона с М.Блонделем, 1, 465) (фр.).
334
2 Бремон: "Пропал ли я, если буду продолжать верить, что всё богословие является только объяснением опыта (учитывая, что мы никогда не будем отрицать, что каждое действие предполагает метафизику), что апостольская вера это не наука, а жизнь, дух, благодать в действии? И более того, мы хорошо знаем, что эта жизнь показательна, но мы требуем, чтобы нам представили, во-первых, возможностьдогматизации и алгебраической формулы этого света и, во-вторых, реализацию этой возможности на Трентском и других соборах" (Переписка, 2, 24-25) (фр.).
335
3 самоосуществление (англ.).
336
1 Из стихотворения А.Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".
337
1 Национальном Совете церквей (англ.).
338
1 искушённость (англ.).
339
2 измерением (англ.).
340
3 Комитета по инвестированию (англ.).
341
4 облигации (англ.).
342
5 акции (англ.).
343
1 трепет (англ.).
344
2 "Было абсолютно ясно, что дешевле кремировать тела, чем иметь дело с частными кладбищами" (англ.).
345
3 "У нас есть несколько человек, которые сохранили чуточку религии и которым не нравится такой способ избавляться от человеческих тел, и я, вероятно, один из них" (англ.).
346
4 "религиозными лидерами" (англ.).
347
5 и "не было никаких возражений" (англ.).
348
6 "новом имидже" (англ.).
349
7 "Сестры теперь очень серьезно относятся к служению, занимаясь вопросами социальной справедливости и разъясняя Евангелие в контексте современного мира" (англ.).
350
1 "В настоящее время… все еще широко распространено мнение, что сестры – только "винтики" в учреждениях, либо учительницы, либо сестры милосердия (!!!), хотя на самом деле они все чаще перестают просто заполнять такие учреждения, как школы и больницы" (англ.).
351
2 служение (англ.).
352
3 агентства, организации (англ.).
353
4 доведение до абсурда (лат.).
354
5 Блондель (стр.392): "Бесконечность и хрупкая и музыкальная сложность чувств, идей и предметов" (фр.).
355
6 Бремон (стр.411): "Вот до чего мы дошли: при малейшем дуновении ветра нам кажется, что мы видим приближение конца света" (фр.).
356
1 Бремон (стр.383) (о Паскале, о янсенизме): "Забыт религиозный долг как таковой – поклонение. Будучи тварным существом, человек создан для восхваления. Падший или нет, человек существует для Бога, в славословии которого и заключается его первое предназначение. Естественно, в осознании греховности всегда будет доминировать антропоцентризм, но Паскаль первый указал нам на обязанность: перед Богом мы должны думать только о нашей нищете духовной" (фр.).
357
2 (стр.384) "И кроме того, одно из благодеяний христианства не заключалось ли в том, чтобы частично излечить нас от зацикленности на себе? Что может быть более отдохновенно, чем славословия, которыми всё кончается, и обязанность остановиться на "Да приидет Царствие Твое" перед тем, как переходить к "хлебу насущному"… М. никогда мне не простит, что я сказал, что наше первое предназначение заключается в славословии Бога, но ведь в этом вся литургия…" (фр.).
358
3 Из стихотворения И.Ф.Анненского "Что счастье?": "В благах, которых мы не ценим / За неприглядность их одежд?"
359
4 собрании духовенства части епархии.
360
5 путаницу (фр.).
361
6 Мф.18:7.
362
1 В общем (фр.).
363
2 FROC (Federation of Russian Orthodox Christians) – Федерация русских православных христиан.
364
было сильнее его (фр.).
365
1 "Антропологию жеста" марселя Пруста (фр.).
366
2 "Мне бы хотелось просто поблагодарить Вас за незабываемые три года в Св.-Владимирской семинарии. Для меня было огромной радостью слушать Вас в классе и сослужать Вам и в качестве дьякона, и в качестве священника…" (англ.).
367
1 главное препятствие (англ.).
368
2 Жана-Франсуа Ревеля "Искушение тоталитаризмом" (фр.).
369
3 "Все недостатки свободного общества подвергаются такой ярой критике, что оно начинает походить на тоталитарный режим. А все недостатки тоталитарного общества настолько преуменьшаются, что оно выглядит почти свободным. Как минимум, тоталитарное общество воспринимается по природе своей хорошим, только временно не уважающим права человека, а свободное общество по природе своей порочно, хотя совершенно случайно люди там живут лучше и свободнее" (фр.).
370
4 "Нормализованные" (Кристиан Желен) (фр.).
371
1 Илиос Янакакис: "Довольный, снисходительный, прислушивающийся к своему собственному голосу, Запад творит себе свою версию социализма, несбывшийся опыт, превращаемый в догму" (фр.).
372
2 Организации друзей семинарии.
373
3 съезд, собрание (англ.).
374
4 Bliss (англ.) – блаженство.
375
1 Р.В.Пильтрf "Проклинающий" (фр.).
376
2 Леон Блуа (фр).
377
3 "Франция – единственная страна, которая нужна Господу…" (фр.).
378
4 спасение через иудеев (фр.).
379
5 Гюисманс, проклятые поэты…" (фр.).
380
1 паломник абсолютного (фр.).
381
2 Стр.104: "Одна христианка сказала мне: чтобы быть девственницей, надо иметь мужа. Я отвечаю на это вместе со всей Церковью: полная девственность находится в пропорциональной зависимости от сверхъестественной жажды материнства. Становясь Матерью Божией, Мария сохраняет полностью свою девственность". Стр. 114: "Воплощение – это завершение творения. Мир, будучи системой "невидимого, проявляющегося в видимом", может быть воспринят как творение, обновляемое при каждой видимой реальности. Бытие начинается с "Да будет свет"". Стр.134 (о кладбищах): "Города страдающих душ, не могущих говорить и являющихся, таким образом, душами младенцев" (фр.).
382
1 Леон Блуа: Стр.181: "Мне кажется, что Упражнения св. Игнатия Лойолы схожи с Методом Декарта. Вместо того, чтобы смотреть на Бога, смотрят на себя самих…" Стр.182: "…психология, созданная иезуитами: метод, заключающийся в том, чтобы постоянно смотреть на себя, чтобы избежать греха. Это значит созерцать зло вместо того, чтобы созерцать добро. Ставить Дьявола на место Бога. Кажется, отсюда и произошел современный католицизм…" Стр.184: "Упражнения , из которых произошла гнусная, отвратительная, развращающая современная психология: всегда анализировать себя, беспокоиться о себе, созерцать "собственный пупок". Бегите от анализа, как от дьявола и верьте Богу, как погибший человек…". Стр.265: "Характерные черты протестантов, к какой бы секте они ни принадлежали. Ненависть к покаянию, любовь ко всему простому, чудовищное равнодушие ко всему красивому". Стр.270: "Делать то, что нравится, и верить, во что хочется. Это основа протестантизма". Стр.270: "Узнал от одного известного профессора из Копенгагена, что мысль не может не сталкиваться с трудностями, но вполне может проходить мимо их разрешения. Лучше даже никогда не стараться избавиться от трудностей, чтобы не заслонять горизонт". Стр.266: "Возражение невысказанное и бесспорное: "Моё здоровье не позволяет мне стать святым". Такова подноготная этих рабов Божиих" (фр.).
383
1 Мальро "Лазарь" (фр.).
384
2 телевизионный канал.
385
3 В январе 1975 года группа американских богословов, принадлежащих к разным Церквам, приняла на встрече в Хартфорде (штат Коннектикут) текст "Призыва к богословскому утверждению", более известному как 'Хартфордский призыв'. Среди подписавших его был о.Александр Шмеман.
386
1 женский католический университет.
387
1 День святого Патрика (англ.).
388
2 "…ваши ясные описания того, что было, что должно быть и что есть, очень помогают моему пониманию Православия. Если бы не такие писатели и лекторы, как Вы и о.Хопко, например, я бы давно покинула корабль или то, что казалось бездушным диназавром…" (англ.).
389
3 Лк.18:27.
390
1 "Великого Мольна" Фурнье (фр.).
391
2 Даниэлу "Кто мой ближний?" (фр.).
392
1 Снотворное.
393
2 "низких цен на бытовую технику" (англ.).
394
3 кухонных приспособлений (англ.).
395
4 "Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, уходя". Четверостишие из стихотворения А.Фета "А.Л.Бржеской" ("Далекий друг, пойми мои рыданья").
396
1момент истины (англ.).
397
1 Из стихотворения Г.Адамовича "Осенним вечером, в гостинице, вдвоем…".
398
2 Быт.2:18.
399
1 деканом, ведающим вопросами, связанными с профессорско-преподавательским составом.
400
2 Французский ресторан в Нью-Йорке.
401
3 Йельский университет в штате Коннектикут.
402
1 Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Центр мормонов.
403
2 Храм (англ.).
404
3 "Книга мормонов" (англ.).
405
4 "Новый блокнот" Франсуа Мориака (фр.).
406
1 "Христос в Америке" (англ.).
407
2 См. Быт.1:28.
408
1 Albany – cтолица штата Нью-Йорк.
409
2 Отдел образования штата Нью-Йорк.
410
3 Вустер, штат Массачусетс.
411
4 Orthodox Inter-Seminary Movement (англ.) – Православное межсеминарское движение.
412
5 Клода Бурде "О сопротивлении реставрации" (фр.).
413
6 состояния души (фр.).
414
7 Из стихотворения В.Ходасевича "Когда б я долго жил на свете…". Правильно: "И небом невозбранно дышит / Почти свободная душа".
415
8 "Священное Писание в богослужении" (англ.).
416
9 Ранний завтрак (англ.).
417
1 "Отец Александр – это именно тот человек…" (англ.).
418
2 чистки (фр.).
419
1 предвзятое мнение (фр.).
420
2 здесь: ратуша (англ.).
421
3 радостью жизни (фр.).
422
4 Франсуа Миттеран: "Для нас Советский Союз является фактором мира…" (фр.).
423
5 Флп.4.
424
1 Леото. Освобождение, чистка (фр.).
425
2 Маша – дочь о.Александра, Ваня – ее муж свящ. Иоанн Ткачук.
426
3 Лозунг русских социал-революционеров (эсеров).
427
4 Флп.2:8.
428
5 Бремон-Блондель, III, 45: "…в конечном счёте, не впадая в ересь, можно быть вам признательным за то, что вы показали всем, что не обязательно быть глупым и нудным для того, чтобы быть правоверным и благочестивым" (фр.).
429
1 Ексапостиларий на утрени в великие понедельник, вторник и среду.
430
2 Ин.17:25.
431
3 "И Я вручаю вам Царство…" (англ.).
432
4 Служится в красных праздничных облачениях.
433
5 1Ин.2:16.
434
1 голые факты (англ.).
435
2 Действительно (англ.).
436
3 шоссе (англ.).
437
4 в полной глуши (англ.).
438
5 Diner – закусочная (англ.).
439
6 Joint – забегаловка (англ.).
440
1 блаженства (англ.).
441
2 Город Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
442
3 штат Нью-Джерси.
443
4 Мф.6:21: "Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше".
444
1 с дурной стороны (лат.).
445
1 Из стихотворения А.Пушкина "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит".
446
1 тяжелой работой (нем.).
447
2 Мф.11:6.
448
3 Ин.6:39.
449
4 потерянное время (фр.).
450
5 Из стихотворения И.Бунина "Зачем пленяет старая могила…".
451
1 для чего? (фр.)
452
2 Из стихотворения Ф.Тютчева "Silentium".
453
3 совпадении противоположностей (лат.).
454
4 разрозненные части (лат.).
455
5 Luxuriant (англ.) – пышный, богатый.
456
1 Из стихотворения А.Блока "Скифы".
457
1 выпускной акт (англ.).
458
2 День поминовения, день памяти погибших в войнах.
459
1 Православное богословское общество (англ.).
460
2 город выглядит потрясающе (англ.).
461
1 значит (лат.).
462
2 вообще (англ.).
463
3 Из стихотворения В.Ходасевича "Психея! Бедная моя!".
464
1 "Творение – Падение – Спасение".
465
3 См. Ин.14:21
466
2 1Кор.15:36. Ср. Ин.12:24.
467
4 Кол.3:3.
468
1 Один за другим – лучезарные дни (А.Жид) (фр.).
469
2 Orthodox Church of America (OCA) – Православная Церковь в Америке.
470
3 черновой вариант (англ.).
471
4 Духа (англ.).
472
5 Воду (англ.).
473
1 "Зерно и солома" Франсуа Миттерана (фр.).
474
1 "Воображаемые пространства" Клода Мориака (фр.).
475
2 Жан-Франсуа Кана "Каждому свой черед" (фр.).
476
1 Из стихотворения И.А. Бунина "Свет незакатный".
477
2 Лионель Груль "Мемуары", том IV; Клод Мориак "Воображаемые пространства" (Неподвижное время), II; Франсуа Миттеран "Солома и зерно"; Роже Гароди "Слова человека"; Жан-Франсуа Кан "Каждому свой черед"; Симон Лейс "Китайские тени"; Андре Глюксманн "Кухарка и людоед".
478
3 "…и я прочитал все книги" (фр.). Первая строка стихотворения С.Малларме "Плоть опечалена, и книги надоели…" (перевод О.Мандельштама).
479
1 См. Ин.16:22.
480
2 все готово, остается только написать (фр.).
481
3 Из стихотворения Ф.Тютчева "Есть в осени первоначальной".
482
4 Из стихотворения А.Блока "Все на земле умрет – и мать, и младость…".
483
1 См . Быт. 1:5.
484
"Это сладостное царство земли…" (фр.).
485
1 Морис Клавель "Кто отчужден?" (фр.).
486
2 доме для престарелых (англ.).
487
3 cоциальных работников (англ.).
488
1 Мишеля Турнье "Пятница, или Преддверия Тихого океана" (фр.).
489
2 "Крепчает ветер! Значит – жить сначала!" Из стихотворения Поля Валери "Кладбище у моря" (перевод Е.Витковского).
490
3 В январе 1975 г . группа американских богословов, принадлежавших к разным Церквам, приняла на встрече в Хартфорде (штат Коннектикут) текст "Призыва к богословскому утверждению", более известному как "Хартфордский призыв". Среди подписавших его был о.А.Шмеман. В сентябре 1975 г . группа встретилась еще раз. Текст "Призыва" и доклад о. Александра см. в сборнике "Церковь. Мир. Миссия" (X. Экуменическая боль), изданном в Москве в 1996 г .
491
4 в конечном счёте (англ.).
492
5 Мориса Клавеля "То, во что я верю" (фр.).
493
1 Из стихотворения И.Ф.Анненского "Что счастье?": "В благах, которых мы не ценим / За неприглядность их одежд?".
494
1 Улица в "Маленькой Италии" – итальянском районе Нью-Йорка.
495
2 св. Януария.
496
3 Совершенное счастье (англ.).
497
4 Елисейских полей (фр.).
498
1 Св.-Сергиевский богословский институт.
499
2 Улица в квартале Сорбонны, парижского университета.
500
3 Собор Парижской Богоматери.
501
4 Остров св. Людовика.
502
5 Лионского вокзала.
503
6 матерью Марией из Бюсси.
504
7 Аэропорт под Парижем.
505
1 гостиницу (англ.).
506
2 приглашенным лектором (англ.).
507
1 "Быть или не быть" – вопрос принца Гамлета в одноименной трагедии В.Шекспира.
508
2 ужас (нем.).
509
3 1Кор.15:36.
510
Из басни Козьмы Пруткова "Незабудки и запятки".
511
1 частью, заменяющей целое (лат.).
512
2 Лк.9:62.
513
1 ловкий, искусный (англ.).
514
1 универмагами (англ.).
515
2 сауна (англ.).
516
1 обязанности (фр.).
517
2 Из стихотворения В.Ходасевича "Ни жить, ни петь почти не стоит".
518
3 Из стихотворения А.К.Толстого "Иоанн Дамаскин (Отрывки)".
519
1 разрушительность (фр.).
520
1 неуверенно, смущенно (англ.).
521
1 Мф.17:4.
522
1 Из стихотворения В.Ходасевича "Звезды".
523
2 См. Ин.16:8-9.
524
3 Из стихотворения А.С.Пушкина "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…".
525
1 Ин.8:44
526
2 студенческий совет (англ.).
527
3 Ин.16:22.
528
1 День заключения перемирия, положившего конец первой мировой войне (11 ноября 1918 года), день памяти погибших на войне.
529
2 здесь и сейчас (лат.).
530
3 Еф.5:15.
531
1 Эднара Морена "Калифорнийский дневник" (фр.).
532
2 поучительную, откровенную книга (англ..).
533
3 в экстазе (фр.).
534
4 хиппи (англ.).
535
5 коммунами (англ.).
536
6 Мф.11:25.
537
7 Ин.13:31.
538
1 здания прибытия самолетов в аэропорту Кеннеди.
539
1 "Правда только в качании черных веток на фоне зимнего неба" (Жюльен Грин) (фр.).
540
2 Все внешнее влияет на внутреннее (фр.).
541
3 Мф.17:4.
542
1 приглашенным докладчиком (англ.).
543
2 уход в оппозицию (фр.).
544
3 печать (англ.).
545
4 Америке после христианства (англ.).
546
5 экспромтом (фр.).
547
1 "…и все же душа, кажется, действительно пребывает в том состоянии, когда она не получает никакого утешения – ни от неба, где она еще не живет, ни от земли, где она уже не живет и от которой не хочет получить утешение" (фр.).
548
2 рождественских колядок: "Радость миру", "О маленький город Вифлеем" (англ.).
549
1 кнопок включения (англ.).
550
2 Слова из романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы", часть 2, книга 6, гл. 3, подзаголовок ж): "О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным".
551
2 Мальро "Гости проездом" (фр.).
552
3 "Явления суть видимое обнаружение невидимого" (Анаксагор) (См.: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.:1989. С.535).
553
5 "Когда речь идет о мышлении, отмечать глупость левых – не повод находить правых умными". Мальро, с.167 (фр.).
554
6 сбор всей семьи (англ.).
555
1 идентичность (англ.).
556
2 встреча с деканом (англ.).
557
1 Начало стихотворения А.Пушкина "Зимнее утро": "Мороз и солнце; день чудесный!"
558
2 Мк.8:38: "Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей".
559
1 совпадение противоположностей (лат.).
560
1 Из стихотворения Ш.Бодлера "Искупление": "О, ангел счастия, и радости, и света!" (фр.) (перевод И.Анненского).
561
2 развалиной, никому не нужной (фр.).
562
1 Из стихотворения "Тускнеющий вечерний час…". Правильно: "Что связывает нас? Всех нас? – / Взаимное непониманье".
563
2 Из стихотворения А.Блока "Скифы".
564
1 "Что касается меня, то чем больше я думаю в минуту отчаяния, тем больше я чувствую, что мой идеал – всего лишь средство для достижения других, которые являются моим предназначением" (фр.).
565
2 "ничегонеделанье" (ит.).
566
3 католическом соборе св. Патрика.
567
1 Двоюродные сестры.
568
2 набережные (фр.).
569
3 "Широкий обзор событий" (фр.).
570
4 завтрак кузенов (приехавших из Швейцарии и Германии в Париж встречать Новый Год).
571
5 "высшей сфере" (фр.).
572
1 Католическая школа.
573
2 дочерей св. Франциска (монахинями).
574
3 "паломничество к истокам" (по местам детства) (фр.).
575
4 церковь св. Михаила.
576
5 малая месса (без музыки) (фр.).
577
6 "Внутренняя необходимость" – "Нужда в пустыне", "подлинность" (фр.).
578
7 "Я должна быть сама собой" (фр.).
579
1 Имеется в виду храм Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Серафима Саровского, расположенный на этой улице.
580
2 человеческом тепле (фр.).
581
4 Огромная грусть от всего этого (фр.).
582
4 песня без слов (фр.).
583
5 в тепле и холе (фр.).
584
1 аббата Марселя Жусса (фр.)..
585
2 "все там, все иное" (фр.).
586
3 Ин.1:14.
587
4 "Ядение Слова" (фр.).
588
5 Ельчанинов А., прот. "Отрывки из дневника".
589
6 "извилистых путях (фр.).
590
Имеется в виду собор св. Александра Невского в Париже.
591
1 Филипу Ариесу "История смерти на Западе" (фр.).
592
2 Ж.Циглер "Живые и смерть", Е.Морен "Человек и смерть".
593
3 Мф.5:13.
594
4 отдела внешних сношений (англ.).
595
5 вечеринка сотрудников семинарии.
596
6 Итак, правда (фр.).
597
1 "двухсотлетия" (англ.).
598
2 "богословии таинств" (англ.).
599
3 близ святынь (лат.).
600
4 прорыв (англ.).
601
5 демифологизации (нем.).
602
1 Хендрика Смита… "Русские".
603
2 предобеденный приём с подачей хереса и других вин.
604
3 Техасского университета.
605
4 плавательным бассейном (англ.).
606
5 "Старая Вена" (англ.).
607
1 В конечном итоге (англ.).
608
2 "комплекс вины" (англ.).
609
1 отстранение (англ.).
610
1 на человеческом уровне (фр.).
611
2 человеческое (фр.).
612
1 успокоения, уверения (англ.).
613
2 собственную позицию (англ.).
614
3 "это другое…" (англ.).
615
4 От frenetic (англ.) – маниакальный.
616
1 прием, где подаются сыр и вино (англ.).
617
2 мир после христианства (англ.).
618
3 мир до христианства (англ.).
619
4 Поля Леото (Литературный дневник, X, XI) (фр.).
620
1 "О свете…" (англ.).
621
2 молодые (фр.).
622
3 "Нет, на самом деле, – пишет он, – французский язык – это совсем не то. Все можно выразить ясно, неумение же ясно выражаться – это неполноценность, а попытки выражаться неясно и выдавать это за достоинство – полная чушь…" (фр.).
623
4 "человеческое" (фр.).
624
1 "консультирование" (психотерапевтическое).
625
2 Ориентировочно, в порядке рабочей гипотезы; неуверенно (англ.).
626
3 ежеквартальный журнал Св.-Владимирской семинарии.
627
1 основанная на традиции (лат.).
628
2 От oppressive (англ.) – гнетущий, жестокий, репрессивный.
629
1 "Против мира за мир" (англ.).
630
1 рекламы (англ.).
631
2 о пользе старости (фр.).
632
3 мечтания, грезы (фр.).
633
1 "экуменическом движении" (англ.).
634
1 Мф.12:37.
635
2 личные встречи (англ.).
636
3 Р.Кайзера "Россия" (англ.).
637
1 Разговор на узкопрофессиональные темы (англ.).
638
2 Ethnicism (англ.) – этническая обособленность; разделение на этнические группы (в пределах одной страны).
639
3 Один из каналов американского телевидения.
640
4 1950-е годы (англ.).
641
1 косность, консерватизм (фр.).
642
2 "Литургический институт"; краткосрочные курсы; серия лекций по литургике (англ.).
643
3 показатель положения в обществе (англ.).
644
1 коллективное обсуждение какого-либо вопроса; групповая беседа по душам (англ.).
645
2 Мф.9:37.
646
3 новёхоньким (англ.).
647
4 Suite (англ.) – номер люкс в гостинице.
648
5 Из стихотворения О.Мандельштама "Дано мне тело – что мне делать с ним…": "На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло".
649
6 профессорский клуб (здесь – Колумбийского университета).
650
1 забронировал.
651
2 Песн. 8:6.
652
3 "Пепельная среда", день покаяния (первый день Великого Поста в англиканской церкви).
653
4 часовне (англ.).
654
1 Строфа из стихотворения "Пушкинскому Дому".
655
2 Campus (англ.) – территория университета, колледжа и т.п.
656
3 крытая аркада, галерея (англ.).
657
1 Ср. Мф. 6:23.
658
2 сбивает спесь (англ.).
659
3 Primary (англ.) – первичные, предварительные выборы, голосование (сторонников какой-л. партии) для определения кандидатов на выборах.
660
1 Spence School – частная школа в Нью-Йорке, в которой работала У.С.Шмеман.
661
1 "племенной ритуал" (фр.).
662
2 Из "Поэмы без героя" А. Ахматовой.
663
1 Из стихотворения А.Фета "А.Л.Бржеской" ("Далекий друг, пойми мои рыданья…"): "Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, уходя".
664
2 Из стихотворения Е.Баратынского "Разуверение" ("Не искушай меня без нужды…").
665
3 Из стихотворения В.Ходасевича "Психея! Бедная моя!"
666
1 радость жизни (фр.).
667
2 Дочь – Маша Ткачук – и внучка.
668
1 паспортное бюро (англ.).
669
2 Епископальный собор св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
670
3 (Clerical) collar (англ.) – пасторский воротник (белый, с застёжкой сзади).
671
1 муниципалитетом (англ.).
672
2 военно-морской академии (англ.).
673
1 челночный авиарейс (англ.).
674
2 и переполняющий сердце (фр.).
675
3 территории колледжа
676
4 дети (англ.).
677
1 трансцендентальная медитация [аутотренинг, предположительно содействующий душевному покою и творческому настроению] (англ.).
678
2 коммуны (англ.).
679
3 докторскими степенями (англ.).
680
4 деятелям в области образования, просвещения (англ.).
681
Монтерлана "Напрасное служение" (фр.).
682
6 Критический подход (англ.).
683
1 Похвала Пресвятой Богородице – служба в пятую пятницу Великого Поста (праздник в честь чудотворной иконы Дионисиевского монастыря на г. Афон).
684
2 "огняь" (фр.).
685
3 "слез радости" (фр.).
686
4 Слова доктора Панглоса в повести Вольтера "Кандид".
687
5 теща (фр.).
688
6 Из стихотворения Ф.Тютчева "Умом Россию не понять".
689
1 Ин.20:29.
690
2 Ин.7:46.
691
1 воинствующая литература (фр.).
692
2 "Страсти по Матфею".
693
3 Флп.4:4.
694
1 Комиссия по православному образованию.
695
1 возрождения (англ.).
696
1 Мф.26:56; Мк.14:50.
697
2 Мф.27:54; Мк.15:39.
698
3 Пролегомены, предварительные рассуждения; введение в изучение (чего-л.).
699
4 1Ин.5:21.
700
1 Gallimard – книжный магазин.
701
2 каре (фр.).
702
3 "Гвардия умирает, но не сдается" (фр.).
703
4 Магазин богословской книги.
704
5 "Христианское чтение о классовой борьбе" (фр.).
705
6 паперти (фр.).
706
7 республиканских гвардейцев.
707
1 Из стихотворения А.Пушкина "…Вновь я посетил…".
708
2 "Свобода и сексуальная распущенность" (фр.).
709
3 с самого начала порочную (лат.).
710
4 "Бог есть Бог, имя Божие" Мориса Клавеля (фр.).
711
5 "Одна только идея, вы меня слышите, одна только идея, что вера может дать ответ на проблемы нашего времени, – чудовищна" (фр.).
712
1 "Дневник невиновного" (фр.).
713
2 "День бабушек и дедушек" (англ.).
714
1 "Другие кандидаты говорят о проблемах в отрыве от контекста; Картер обращается к самому контексту… И этот контекст – не что иное как христианская религия…" (англ.).
715
2 Зачем (фр.).
716
1 СБОНР – эмигрантская организация Союз борьбы за освобождение народов России.
717
2 и не без основания (фр.).
718
3 выпускной акт (англ.).
719
1 "Записки маленькой дамы" (фр.). Автор – подруга А.Жида, Тео фон Рисселбейн (см. 20, 22, 27 января 1975).
720
2 От англ. to record – записывать, фиксировать.
721
3 смысл, измерение (англ.).
722
4 предмет искусства (фр.).
723
5 "Неподвижного времени" Клода Мориака ("И как сильна надежда…") (фр.).
724
6 величие (фр.).
725
7 оратором на выпускном акте епископальной семинарии (англ.).
726
1 отчужденности (фр.).
727
Слова из стихотворения В. Маяковского "Неоконченное" ("Уже второй. Должно быть, ты легла").
728
3 Ср. Ин.16:22.
729
4 "есть только одна грусть…" (фр.). Цитата из книги Леона Блуа "Женщина, которая была бедной": "Есть только одна грусть – не быть святым".
730
5 служения (англ.).
731
1 Астория – район Нью-Йорка.
732
1 Из стихотворения П.-Ж.Беранже "Безумцы": "Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой!" (перевод В.Курочкина).
733
1 "Неподвижное время" Клода Мориака (фр.).
734
2 "левизну" (фр.).
735
3 "братьев-товарищей" (фр.).
736
4 недобросовестность (фр.).
737
5 врага, которого нужно победить (фр.).
738
1 Книжный магазин.
739
2 М.Фуко "Слова и вещи" (фр.).
740
3 Самое высокое здание в Монреале.
741
4 Морена "Потерянная парадигма" (фр.).
742
5 Ин.7:37.
743
1 неподвижное время (фр.).
744
2 предубеждение (фр.).
745
3 последнее, но тем не менее важное (англ.).
746
4 "Свидетельство о динамике спасения" (англ.).
747
5 свидетельствует (англ.).
748
1 фонарями (исп.).
749
1 человеческое тепло (фр.).
750
2 Ср. Мф.11:25: "…утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам".
751
1 ориентировочно, в порядке рабочей гипотезы; неуверенно (англ.).
752
2 "социальной проповедью" и "служением миру" (фр.).
753
1 "Ни твоя победа, ни твое поражение / не были мучительным рождением / полукровного народа, который является / сегодняшней Мексикой".
754
2 Альбер Утен "Американизм" (фр.).
755
3 директора (англ.).
756
4 "Он видел далеко" (англ.).
757
1 "работа благодати (фр.).
758
2 Пс.1:1: "Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых".
759
1 Старость – это поражение (или крах?) (фр.).
760
2 Огромная грусть от всего этого (фр.).
761
3 в Тмутаракани (англ.).
762
1 "окаменении сердца" (англ.).
763
1 протестантской богословской семинарии в Нью-Йорке.
764
2 У.Стрингфеллоу и А.Таун "Смерть и жизнь епископа Пайка" (англ.).
765
3 Колумбийском университете в Нью-Йорке
766
4 епископальном соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке (англ.).
767
5 "самореализации" (англ.).
768
1 Еф.5:15.
769
2 1Ин.1:5.
770
3 франкоязычной (фр.).
771
4 То есть с верностью структурам, именно эмпирическим формам Православия (У.Ш.).
772
1 "В этот раз он был более активен и напорист…" (англ.).
773
2 1Ин.2:16.
774
3 наоборот (лат.).
775
1 "Отче, когда Вы можете принять…?" (англ.).
776
2 Так оно есть на самом деле (англ.).
777
3 Лк.21:19.
778
4 Пс.34:9.
779
1 См. Гал.5:1.
780
2 Быт.3:5.
781
3 Ин.8:44.
782
1 покаяния (греч.).
783
1 Ин.8:11.
784
2 Эрика Севарайда ("Не такая уж дикая мечта") (англ.).
785
1 Ср.: Мф.13:15% "Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их".
786
2 Йельский богословский институт (англ.).
787
1 Ожесточенность (англ.).
788
2 Ср.: Ин.10:10: "Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком".
789
3 Из стихотворения В.Ходасевича "Стансы".
790
4 " Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле …" (фр.).
791
5 А. де Монтерлана "Напрасное служение" (фр.).
792
1 День выборов (англ.).
793
2 1Ин.4:1.
794
3 1Ин.5:21.
795
4 Гал.5:1.
796
5 образа жизни (англ.).
797
6 Из стихотворения О.Мандельштама "Дано мне тело – что мне делать с ним…": "На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло".
798
7 капиталовложение (англ.).
799
1 2Кор.6:10.
800
2 См. Мк 5:9.
801
1 Андре Фоссара "Есть другой мир" (фр.).
802
2 "Бог существует, я Его видел" (фр.)
803
1 "…убежденный, наконец, что нет на этом свете дела более достойного, более сладостного, более необходимого и более насущного – чем восхвалять Господа, восхвалять Его существование и стремиться быть тем же, кто есть Он…" (24).
804
2 доме для собраний (англ.).
805
3 Район Нью-Йорка, остров.
806
4 Мельхитами (букв. "сторонники императора") сирийские монофизиты-якобиты, а вслед за ними и арабы называли христиан, признавших решения Халкидонского собора 451г. и отвергших монофизитство. Современные мельхиты – православные и католики (униаты) Сирии и Египта, совершающие богослужение по византийскому обряду на арабском языке.
807
5 Из романа "Анна Каренина".
808
6 От англ. amplify – усиливать, увеличивать.
809
1 To commute (англ.) – ездить ежедневно на работу из пригорода в город и обратно.
810
2 поздней осени (фр.).
811
3 Из поэмы А.Пушкина "Цыганы".
812
4 Виргинском университете.
813
1 лавина колонн (фр.).
814
2 "Три Солженицына" (фр.).
815
3 кафедры славянских языков (англ.).
816
4 "Два лика богословия секуляризации" (фр.).
817
5 Отель "Хильтон" в аэропорту г. Сиэтл.
818
6 Погружение в одиночество (фр.).
819
7 "Вся президентская рать"" (англ.).
820
1 "эмансипация человеческого" (фр.).
821
1 человеческого и его эмансипации (фр.).
822
1 "день открытых дверей" (англ.).
823
2 университете Аляски (англ.).
824
3 День благодарения (англ.).
825
1 воинство Христово (лат.).
826
2 "Какой приятный вечер" (англ.).
827
3 собеседование в "Комитете по поискам", в школе Spence.
828
1 Городской университет города Нью-Йорка.
829
2 Двухсотлетием независимости Америки (англ.).
830
3 волей-неволей (лат.).
831
4 Hunter College – университет Хантер (англ.).
832
1 Contribution (англ.) – вклад, лепта.
833
2 Из стихотворения Г.Иванова "Как вы когда-то разборчивы были…".
834
3 в чистом виде (фр.).
835
4 встречи (англ.).
836
5 весельем, развлечением (англ.).
837
6 Ин.16:20, 22.
838
1"Окончательное падение" Эммануэля Тодда (фр.).
839
1 Бруклинскjve туннел. (соединяет Бруклин с Манхэттеном).
840
1 прием (англ.).
841
1 прояснении понятий (англ.).
842
2 вообще, в целом (англ.).
843
3 Ср. "И небом невозбранно дышит / Почти свободная душа" – В. Ходасевич "Когда б я долго жил на свете…".
844
1 "существенно важного внутреннего порыва" (фр.).
845
2 "изношенных до предела из-за полного отсутствия творчества" (фр.).
846
3 Анри Труайя.
847
4 съезд студентов (англ.).
848
1 О. Иоанн Ткачук.
849
2 башни Монпарнаса (фр.).
850
3 традиционно посещаемом ресторане (фр.).
851
4 Широкий обзор событий (фр.).
852
5 баре (фр.).
853
1 радушно принимает (фр.).
854
2 Frustration (фр .) – фрустрация, разочарование, неверие в свои силы.
855
3 "Дикое пиршество" (фр.).
856
4 неизбежная (фр.).
857
5 "…убежище, это ты…" (фр.).
858
1 гризайль; пейзаж в серых тонах (фр.).
859
2 "Бутылка в море" (фр.).
860
3 Франсуазу Леви "Карл Маркс. История немецкого буржуа" (фр.).
861
4 "левизны" (фр.).
862
1 Солидаристы – члены Народно-трудовою союза российских солидаристов (НТС), антибольшевистской эмигрантской организации. Коммунистическим идеям НТС противопоставил идеи солидаризма, основанные на русской религиозной философии начала XX века, на наследии сборника "Вехи". Материализму он противопоставил идеализм, интернационализму – российский национализм (лишенный шовинизма, объединяющий все народы России), а обывательской апатии – активизм.
863
2 "Греческий идеализм и христианский реализм" (фр.).
864
3 мистическое чувство, таинство богочеловеческой жизни (фр.}.
865
4 и тому подобное (ит.).
866
5 Мк. 14:33.
867
6 инаугурация, торжественное введение в должность (здесь: президента США) (англ.).
868
1 Из стихотворения Ф.Тютчева "Умом Россию не понять".
869
1 Converts (англ.) – новообращенные, перешедшие в Православие.
870
2 университетском семинаре (англ.).
871
3 Аффидевит, письменное показание, подтвержденное присягой ичи торжественным заявлением (англ.).
872
1 время сего мира, "хронологическое" (греч )
873
2 время Божественное (греч.).
874
3 "Напрасному служению": "Кто вам сказал, что человек должен что-то сделать на этой земле?" (фр.).
875
1 Комитета по студенческим стипендиям (англ.).
876
2 "Духовность: православный подход" (англ.).
877
1 Мишеля Фуко ‹…› "История сексуальности" (фр.)..
878
2 "Слова и вещи" (фр.).
879
3 3Лк.16:10
880
4 рассуждения, дискурсы (фр.).
881
1 "Такой, какой я есть " (aнгл.)
882
2 отсутствием внешнего (фр.).
883
3 Лозунг русских социал-революционеров (эсеров).
884
1 Начало стихотворения М Лермонтова "Завещание", правильно "Наедине с тобою, брат…"
885
2 официальном приеме (aнгл.).
886
3 с некоторым несоответствием с тем, что (фр.).
887
4 Св.-Владимирского богословского фонда.
888
5 Мф.6:33.
889
1 свободное предпринимательство и свободный рынок (англ.).
890
2 отстраненность, отрешенность (англ.).
891
3 "Все там .." (фр.).
892
1 "Изобретай – и ты умрешь гонимый, как преступник; подражай – и ты будешь жить счастливо, как дурак" (фр.). (из пьесы "Надежды Кинолы").
893
1 и другие (лат.).
894
2 изматывающим беспокойством (англ.).
895
1 здесь, на земле (фр.).
896
2 Лк.21:19.
897
1 Песн.5:2.
898
1 Булонском лесу (фр.).
899
2 "Взорванное христианство" (фр.).
900
3 Мишелем де Серто и Ж.М.Домнаком
901
4 вообще, просто (фр.).
902
5 А.Бланше "Анри Бремон" (фр.).
903
1 Ср.: Мф.26:56; Мк.14:50.
904
2 "…все те, кого вижу и спрашиваю, уверенно заверяют меня, что в прекрасные моменты своей жизни они с Тобой встречались. Каждому Ты что-нибудь говорил. Каждый, в какой-то момент, был безусловно уверен в Твоем присутствии и в Твоей любви. А я – никогда, никогда!.." (фр.).
905
1 сестры Эдиты (англ.)
906
2 "…к тому ж совсем неплохо для того, чтобы победить свои искушения независимости или непреклонности, нет, совсем неплохо сознавать ответственность перед таким количеством близких нам по духу, заботиться о том, чтобы не подавать ни малейшего повода, не искать ни малейшего оправдания подозрениям, которые на нас падают Иногда мне удавалось с поразительной ясностью видеть, что наблюдение и переживание церковной несправедливости и официальных неприятностей были для нас расплатой за иную благодать и иной свет" (фр.).
907
3 для себя, для домашнего употребления (лат.).
908
1 "История церковного запрещения" (фр.).
909
2 "Я поверил в утро" (Пьер Дэкс) (фр.).
910
3 Мф.26-52
911
4 Лк.22:30.
912
1 "возрождение" (англ.).
913
2 Рим.14:17.
914
3 Так проходит слава земная (лат.).
915
1 Innovator (англ.) – новатор.
916
1 заранее назначенные ветречи (англ.).
917
2 на сегодняшний день (ангп.).
918
3 Андре Фроссара "Генеральская Франция" (фр.).
919
4 "…он получил единственное вознаграждение, которое он мог заслужить и которое было достойно его: неблагодарность" (стр.251) (фр.).
920
1 отсутствие общей мерки (фр.}.
921
2 объединенные левые (фр.).
922
3 "на самой глубине национального сознания… возникает – необъяснимым образом – единство и непоколебимое волевое ядро народа, которое он противопоставляет действующим против него разъединяющим силам…" (стр.13) (фр.).
923
4 сомнительным (англ.).
924
1 Puzzle (англ.) – картинка-загадка (собирается из отдельных кусочков).
925
2 Все то же самое (англ.).
926
3 Евр.11:1.
927
1 Ин.2:19.
928
2 Focus (aнгл.) – средоточие; центр.
929
3 по своей природе, по своему характеру (лат.).
930
4 способ, образ (лат.).
931
5 о вкусах не спорят. Что и следовало доказать (лат.).
932
1 левых (фр.).
933
1 директором школы Спенс (ангт.).
934
2 Мориса Дикстейна "Райские врата. Американская культура в шестидесятые годы" (англ.).
935
3 пятидесятые, шестидесятые, семидесятые [годы] (англ.).
936
1 изощренность (англ.).
937
2 с известной долей скептицизма (букв.: с крупицей соли) (лат.).
938
3 Trend (англ.) – общее направление, тенденция, мода.
939
1 Джорджтаун – университетский район Вашингтона.
940
2 памятник Джефферсону, Капитолий и Национальная галерея.
941
3 высшая точка, кульминация (англ.).
942
4 Арлингтонское кладбище, памятник Линкольну.
943
5 Флп.4:4.
944
6 "Освобождение" (фр.).
945
1 Морис Клавель (стр.115): "Почему я так хорошо чувствую себя с атеистами, я имею в виду атеистов с непреклонными взглядами, и так плохо с христианами со слабой идеологией? Прошу прощения за то, что опять цитирую самого себя, но дело в том, что для подлинных атеистов Бог есть Бог. Атеисты мне говорят: "Если бы я верил, я б верил по-Вашему", и я их хорошо понимаю. Вера – это прожитый опыт, наличие которого они во мне уважают и отсутствие которого я уважаю в них. С другой стороны, вера – и здесь я возвращаюсь к Канту и апостолу Павлу – отличается от разума до такой степени, что я мог бы сказать, что с онтологической точки зрения разум не мог обнаружить Бога, не мог даже начать Его искать, потому что сам он погряз в грехе, неприязни и бегстве от Бога. Следовательно, христиане, пытающиеся прийти к Богу через разум или соединить в одно Бога и разум, являются в некотором смысле ослами, нагруженными реликвиями" (фр.).
946
2 Мф.9:36.
947
1 Х.Ф. Петерса "Сестра Заратусгры" (англ.).
948
2 Дикстейна "Райские врата" (англ.).
949
3 "Великие западные идеи" (англ.).
950
4 "Великих западных ошибках" (англ.).
951
5 часть, выдающую себя за целое (лат.).
952
6 здесь и сейчас (лат,).
953
7 дискурс (фр.).
954
1 Мф.6:33.
955
2 Лк.17:21.
956
1 Ин.4:23.
957
1 "Как Вы можете это все выносить?"(англ.).
958
2 "душа по природе христианка" (лат.). (Тертуллиан)
959
1 см . выше (лат.).
960
2 Quiz (англ.). – контрольная
961
3 Holy Cross Seminary – греческая семинария Св. Креста в Бостоне.
962
4 мало что понимают (фр. )
963
5 Из стихотворения А. Блока "Девушка пела в церковном хоре…".
964
6 Богословие прекрасно с этим справляется (англ..).
965
1 Лк.2:32.
966
2 См.: Мф.5:8.
967
3 Флп.2:7.
968
1 проректора (англ.).
969
2 Мф.6:22; Лк.11:34.
970
1 Леото: "Все может быть выражено ясно, и не уметь ясно выражаться – признак неполно ценности, а выражаться неясно намеренно или ставить это в заслугу – глупость" (фр.).
971
2 "Великого Поста" (англ.).
972
3 "…Ваши книги, емкие, "простые" в том прекрасном смысле, что написаны человеком, знающим свой предмет настолько хорошо, что может представить его так, чтобы он показался простым и не сложным, – Ваши книги заполнили бы тот пробел, который существует здесь…" (англ.).
973
4 "простота" (англ.).
974
5 "исследование" (англ.).
975
1 День бабушек и дедушек (англ.).
976
1 "победу левых" (фр.).
977
2 комплекс неполноценности (англ.).
978
3 руководства (англ.).
979
4 речи при вступлении [в должность директора школы] радость жизни (благодарность), учения (открытие), пребывания вместе (единство)(англ.).
980
1 Кого Бог хочет наказать… [того он лишает ума] (лат.).
981
2 "уровнях сознания" (англ.).
982
1 Что пошло не так? И где? (англ.).
983
2 все, что витает в воздухе (фр.).
984
3 дитяти этого века (фр.).
985
4 без больших затрат, не затрудняясь (фр.).
986
1 Очень просто (англ.).
987
2 1Ин.1:50
988
1 "Православного института" (англ.). (краткосрочные курсы)
989
1 Ин.12:37.
990
2 Леото: "…я испытываю равный ужас и перед музеями, и перед библиотеками. Я больше люблю улицу, настоящее, реальное, живое…" (фр.).
991
3 Мф.3:9; Лк.3:8.
992
4 "Не надо ничего читать за исключением очень красивых вещей…"(фр.).
993
1 Канадского литургического общества (англ.).
994
1 Installation (англ.) – официальное введение в должность.
995
2 Прием гостей в саду, на открытом воздухе (англ.).
996
3 Православного богословского общества (англ.).
997
1 Уолтер Саблинский "Путь к Кровавому Воскресению" Издательство Принстонского университета (англ.).
998
2 Из стихотворения Е.Баратынского "Муза": "Но поражен бывает мельком свет / Ее лица необщим выраженьем…"
999
1 "в свете лета…" (фр.).
1000
2 Лк.24:29.
1001
3 "новой дрожи" (фр.).
1002
4 в момент истины (англ.).
1003
1 помни о смерти (лат.)
1004
2 Малагар – семейное поместье Франс›а Мориака в Бордо, его "мирная гавань", где он написал основные свои произведения, в наст время – музей писателя
1005
3 Тьерри Молнье "Священные коровы" (фр.).
1006
1 Бэтти Фридан "Мистифицированная женщина" (фр.).
1007
2 "Церковь, мир, миссия" (англ.).
1008
3 "обеспокоенности женщины" (фр.).
1009
4 "изменением жизни" (фр.).
1010
5 место, центр (лат.)
1011
1 "Сладостное царство земли" (фр.).
1012
2 "новых философов" (фр.).
1013
3 Андре Мальро "Ненадежный человек и литература"; К.Мориак …"Неподвижное время"; М.Фуко "Следить и наказывать" (фр.).
1014
4 Квартира, предоставленная У.С.Шмеман как директору школы Спенс.
1015
5 День труда (первый понедельник сентября) (англ.).
1016
6 длинные выходные (англ.).
1017
7 Марина Вернер "Миф и культ Богородицы" (англ.).
1018
1 ВСХСОН – Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа, подпольная антисоветская организация, существовала в 1962-1967 годах, члены ее были арестованы и приговорены к различным срокам заключения.
1019
2 П.Лесура "Тайный иезуит" (фр.).
1020
1 наоборот (лат.).
1021
2 Еф. 4:26.
1022
3 1 Ин. 4:18.
1023
4 страх, тревога (нем., фр., англ.).
1024
5 1 Ин. 4:8.
1025
6 "Я чуть не позвонил Вам вчера поздно вечером… Читая "Водою и Духом", я впервые понял, что значит Крест…" (англ.).
1026
7 "доказательства" и "фактов" (англ.).
1027
1 Еккл.1:6
1028
2Ср. Ин.12:40
1029
3 энергии, жизненной силе (англ.).
1030
4 См. Гал.5:1.
1031
1 "Богиня Франция…" (фр.).
1032
2 "моя недоверчивость доказывает вам мой пыл и гарантирует мою самоотверженность"(77) (77): "наша внутренняя метафизика определяет наш взгляд на историю" 78 "…благородная религия происхождения семей и народов… это истинное основание идеи родины". 85: "существует огромная система условной лжи, вне которой не существует никакая общественная жизнь" (фр.).
1033
3 "праздничное убежище" (фр.).
1034
4 Эксапостиларии канона утрени в неделю Антипасхи ("Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует. Днесь взимаются ключи дверей, и неверия Фомы друга вопиюща: Господь и Бог мой")
1035
5 Из стихотворения И.Анненского "То было на Валлен-Коски".
1036
1 литургии потребления (фр.).
1037
2 "выступления" (англ.).
1038
3 попечители (англ.).
1039
1 "постоянная улыбка" (англ.).
1040
2 "депрессия" (анл )
1041
3 См рассказ-хронику Н.А.Тэффи "Городок": "Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону. Они никогда не смеялись и были очень злы"
1042
4 Алекс Мэдсен "Сердца и умы" (англ.)
1043
5 "главного современника" (фр.).
1044
1 1Кор.3:15
1045
2 знаке трансцендентности (англ.).
1046
3 работа (фр.)
1047
1 "…чтобы общественное согласие когда-нибудь возникло, мы должны научиться существовать полностью друг для друга…" (aнгл.).
1048
2 на север штата Нью-Йорк (англ )
1049
3 См.: 3Цар.19:12
1050
4 напрасная страсть (фр.).
1051
5 Prophetic (англ.) – пророческий.
1052
6 Возврат к нормальной жизни (англ.).
1053
1 Anglican/Orthodox Fellowship of St Alban and St Sergius – Англикано-Православное содружество св. Албания и преп. Сергия
1054
2 Один за другим – лучезарные дни (фр.)
1055
3 почетного клира (англ.).
1056
4 санаторий (фр.).
1057
5 Слова протопопа Савелия Туберозова, героя романа Н.С.Лескова "Соборяне".
1058
1 конференцией женщин в Св.-Владимирской семинарии (aнгл.).
1059
2 Джессику Митфорд ( "Американский подход к смерти") "Старый добрый конфликт" (англ.).
1060
1 Энн Дуглас "Феминизация американской культуры" (англ.).
1061
2 "Il n'y a de vrai que le balancement des branches mis dans le ciel" – "Правда только в качании веток на фоне неба" (Жюльен Грин) (фр.).
1062
1 См . Мф.12:37.
1063
1 "перемене жизни" (фр.)
1064
2 капелланам, военным священникам (англ.).
1065
3 священников (англ.).
1066
4 "кто бы мог подумать " (aнгл.).
1067
5 "приручении смерти" (англ.).
1068
1 "опять то же самое" (англ.).
1069
2 1Кор.7:31
1070
1 фланирование, гулянье (фр.).
1071
2 неподвижного времени (фр.).
1072
3 Ин.8:32.
1073
1 исследовании (англ.).
1074
2 "Царство и изгнание" (фр.).
1075
1 Момент, который трудно пережить (фр.).
1076
2 рождественские колядки (англ.).
1077
1 тепло и уютно (фр.).
1078
2 Из стихотворения В.Соловьева "Бедный друг, истомил тебя путь…".
1079
3 "Смысл тревоги" Ролло Мэя (англ.).
1080
1 Anxiety (англ.) – тревога, беспокойство; мед. патологическое состояние тревоги, беспричинного страха.
1081
2 Поль Валери: "Любой взгляд на вещи, который не странен, неверен. Если что-либо реально, оно может только потерять свою реальность, превратившись в нечто знакомое и обычное. Размышлять в философии – значит возвращаться из обычного к странному и в странном встречать реальное" (фр.).
1082
1 "Убитые вещи" (фр.).
1083
2 "опыты" (англ.).
1084
3 "духовности" (англ.).
1085
4 "Культуру нельзя выдумать" (фр.).
1086
5 Из стихотворения Е.Баратынского "Молитва".
1087
6 К.С.Льюиса "Радостный христианин".
1088
7 "…что такое анликанство, как не приспособленное к английскому темпераменту христианство – невозмутимое, благовоспитанное, прекрасно себя ведущее в часовне Оксфордского колледжа? Льюис – мастер уговаривать не до конца уверенных хорошего человека, который хотел бы быть христианином, но спотыкается о свой разум… Льюис всегда укрепит сомневающегося, обратит душу, готовую обратиться… И все же радость существует, и должен же существовать ее источник. Когда мы найдем источник, который есть Бог, нам, возможно, уже не нужна будет радость. То есть до тех пор, пока мы не перейдем к "серьезному бизнесу" Рая…" (англ.).
1089
1 "Распутин или гипнотическое очарование" (фр.).
1090
2 См. 1Кор.12:10.
1091
3 К.С.Льюис "Письма К.С.Льюиса" (англ.).
1092
1 С.176: "Попомните мои слова вы скоро увидите развитие как левого, так и правого псевдобогословия – гнусность появится там, где ей нельзя быть…"
1093
2 второстепенно, незначительно (aнгл.).
1094
3 за все надо платить (фр.).
1095
1 "новая атмосфера!" (англ.).
1096
2 "сексуальной ориентации", "сексуальных предпочтениях" (англ.).
1097
1 операция на открытом сердце (англ.).
1098
2 манерность (фр.).
1099
1 блаженство (англ.).
1100
2 машину скорой помощи (англ.).
1101
3 вооруженное ограбление (англ.).
1102
1 группы, созданной для изучения конкретного вопроса (англ.).
1103
1 "божественная гордость" (фр.).
1104
1 проклятыми на этой земле (фр.).
1105
2 "бедных" (англ.).
1106
3 "меньшинствах" (англ.).
1107
4 "изменить образ жизни" (фр.).
1108
5 оно поучительно и оно – живое (фр.).
1109
6 существования несуществующего мира (англ.).
1110
1 безопасность (англ.).
1111
1 Ж.Лакутюр о Леоне Блюме; Ж.Генно. Морис Клавель – "Два века у Люцифера" (фр.).
1112
Из стихотворения Е.Баратынского "Муза": "Но поражен бывает мельком свет / Ее лица необщим выраженьем…"
1113
3 Ср.: 2Кор.12:9: "…сила Моя совершается в немощи".
1114
1 "отсутствие рвения" (фр).
1115
2 Рубин – персонаж романа А.И.Солженицына "В круге первом", прототипом которого был отец Майи Литвиновой, Лев Копелев.
1116
3 Мф.25:43.
1117
1 Мф.10:8.
1118
2 1Кор.15:28.
1119
3 1Кор.15:44.
1120
4 доведению до абсурда (лат.).
1121
5 Кондак Великого канона Андрея Критского: "Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается…"
1122
6 забастовка с занятием помещения (фр.).
1123
7 Ксавье Балла: "…эта старая галло-римская страна, управляемая евреем…" (фр.).
1124
8 Оплачиваемые отпуска (фр.).
1125
1 Ин.15:5.
1126
2 А.Гийемэн "Задняя мысль Жореса" (фр.).
1127
1 весть, проповедь (англ.).
1128
2 Клод Мориак "Введение в чистику ада"; А.Гийемэн "Задняя мысль Жореса"; Сиоран "Утопия и история" (фр.).
1129
1 Мф.11:28.
1130
2 Из стихотворения В.Ходасевича "Ни жить, ни петь почти не стоит…".
1131
1 утверждает (лат.).
1132
2 общине (англ.).
1133
3 усилие (лат.).
1134
1 семейном ресторане (англ.).
1135
1 "недуг" (фр.).
1136
1 ожесточенность (англ.).
1137
1 под контролем (англ.).
1138
2 организации "Международная амнистия" (англ.).
1139
3 Лк.22:29.
1140
1 мечте (фр.).
1141
2 "Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем…" (Ин.13:31).
1142
1 Братством (фр.).
1143
2 пугало (фр.).
1144
3 отрешенности (англ.).
1145
1 Из стихотворения В. Соловьева "Милый друг, иль ты не видишь…".
1146
2 старческом доме (фр.).
1147
3 "Старость есть крушение…" (фр.).
1148
1 плохо (нем.).
1149
2 1Кор.15:44.
1150
3 Ты – Петр! (лат.).
1151
1 "Он умер" (фр.).
1152
2 последнее, но не менее важное (англ.).
1153
3 Ж.-П. Жоссуа "Ожидание и слушание" (фр.).
1154
1 Маронитская Церковь возникла в Сирии в V-VII вв. как монофелитская, но в XII в. присоединилась к Католической Церкви. В настоящее время маронигы живут преимущественно в Ливане.
1155
2 Огромная гостиница.
1156
3 "торжественное собрание" (англ.).
1157
4 Крупная американская нефтяная компания.
1158
1 анализы (англ.).
1159
1 никакого рвения (фр.).
1160
1 Гарвардском клубе (англ.).
1161
2 Христианская организация "Freedom of Faith" ("Свобода веры") ставила своей целью защиту свободы вероисповедания во всем мире, во главе ее стояли три президента, представлявшие католическую, протестантскую и православную традиции, о. Александр Шмеман был одним из них. Организация просуществовала недолго – с 1978 по 1983 гг.
1162
1 "комплекс вины" (англ.).
1163
2 завораживающая (фр.).
1164
1 "неудобства" (англ.).
1165
2 неуверенность (англ.).
1166
1 "Во что я верю" Франсуазы Жиру (фр.).
1167
1 приема, на котором произносятся проповеди и читаются общие молитвы (англ.).
1168
2 Общее дело, цель (англ.).
1169
3 организацию, учреждение (англ.).
1170
4 церкви, синагоги и другие учреждения (англ.).
1171
5 меньшинствам (англ.).
1172
1 Еф.5:15.
1173
2 Удаление большой опухоли на ушном нерве (доброкачественной).
1174
3 горе имеем сердца (лат.).
1175
4 Чарльз А.Фечер "Менкен. О его взглядах" (англ.).
1176
1 социальных заботах (англ.).
1177
2 вовлеченности (англ.).
1178
1 Эрик Хоффер "Перед Субботой" (англ.).
1179
2 "социальная среда", "бедные" (англ.).
1180
3 Теодора Уайга "Поиск истории" (англ.).
1181
4 Исламской республике (англ.).
1182
5 См.: Лк.18:22.
1183
1 Арьеса "Человек перед смертью" (фр.).
1184
2 резюме, краткое изложение (фр.).
1185
3 К.Ф.Ганса: "Бессмысленная точность в числовых исследованиях" (англ.).
1186
1 против течения (фр.).
1187
1 1Ин.5:19.
1188
2 самое современное оружие (англ.).
1189
3 бытовой техникой (англ.).
1190
4 социальную справедливость (англ.).
1191
1 Ну и что с того? (англ.).
1192
1 Центр византийских исследований в Вашингтоне.
1193
1 "Символы и символизм в византийской Литургии" (англ.).
1194
1 Мф.6:23.
1195
2 Университете Британской Колумбии (англ.).
1196
1 справедливость (англ.).
1197
1 Погружение в одиночество и покой., (фр.).
1198
2 Джоном Ле Бутилье… "Гарвард ненавидит Америку" (англ.).
1199
3 Mental reservation (англ.). – мысленная оговорка.
1200
1 встречи (англ.).
1201
2 изучение Библии (англ.).
1202
3 "Здравствуйте, батюшка .." (англ.).
1203
4 бутерброд с яйцом (англ.).
1204
5 "дорогой" (англ.).
1205
1 Нервное расстройство, нервный срыв (англ.).
1206
1 Лк.24:29.
1207
1 "Время разрывов" Жана Даниэля (фр.).
1208
2 "Завещание Бога" Б.-А Леви (фр.).
1209
1 Ин.10:10.
1210
2 День матери (англ.).
1211
3 Из стихотворения В. Брюсова "Поэту" ("Ты должен быть гордым, как знамя…"). Правильно: "Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов".
1212
4 Там же.
1213
1 "Исследования новейшей русской истории" – серия исторических трудов, основанная А.И. Солженицыным.
1214
2 азартная игра, рискованное предприятие (англ.).
1215
1 инвесторы, адвокаты по налоговым делам (англ.).
1216
1 медицинский осмотр (англ.).
1217
1 Бергера "Еретический императив" (ачгт.}.
1218
2 современностью (англ.).
1219
3 в кротком Божием сострадании (фр.).
1220
4 Из стихотворения "Брат, столько лет сопутствовавший мне…": "Передового нет, и я, как есть, / На роковой стою очереди".
1221
5 "Торжество смерти" (англ.).
1222
6 "Великого Поста" (англ.).
1223
1 День труда (первый понедельник сентября) (англ.).
1224
2 сакральном (фр.).
1225
3 духовность без Бога (фр.).
1226
4 Лк.13:3.
1227
5 Христианская экуменическая община во Франции.
1228
6 "Синдесмос" – всемирное православное молодежное братство.
1229
7 Имеется в виду женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-От (Франция), Константинопольский патриархат.
1230
1 Гал.2:20.
1231
2 "Я молюсь за Вас, но по-своему, своим способом, который не очень-то хорош… Я не умею по-настоящему молиться. У меня нет к этому дара. Моя духовность – почти полностью безмолвна. Больше всего мне не нравятся книги о благочестии. Мне они ничего не дают, а уши других развращают, если не хуже…" (англ.).
1232
3 "Церковь в русской мысли и литературе" (англ.).
1233
1 "Икона и топор" (англ.).
1234
1 Пс.50:13.
1235
1 быть вовлеченным (англ.).
1236
1 Мф.17:17.
1237
2 Из стихотворения М.Лермонтова "Выхожу один я на дорогу…".
1238
3 Из стихотворения М.Лермонтова "Когда волнуется желтеющая нива…".
1239
4 Из стихотворения А.Блока "Грешить бесстыдно, непробудно…": "Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне".
1240
1 Из стихотворения Е.Баратынского "Молитва".
1241
2 хит-парад (англ.).
1242
3 невестка (фр.).
1243
4 "младшие боги" (лат.).
1244
5 каждый за себя (фр.).
1245
1 болеутоляющее средство (англ.).
1246
1 Огромный стадион в Манхэттене.
1247
2 идее, вести (англ.).
1248
3 "мир и справедливость", "семья", "разрешение социальных проблем" (англ.).
1249
4 в соответствии (фр.).
1250
5 "неизменная любовь" (англ.).
1251
6 "Народный Папа…" (англ.).
1252
1 Ин.19:15
1253
2 Так проходит слава мирская (лат.).
1254
3 1Кор.2:9: "…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его".
1255
4 разделять (мнение, вкусы и т.п.) (англ.).
1256
4 Католическом университете (англ.).
1257
5 зал (англ.).
1258
6 Храме Непорочного Зачатия (англ.).
1259
1 Ин.3:19.
1260
2 "группе" (англ.).
1261
3 ведущим отдела религии (англ.).
1262
4 Католическая семинария (англ.).
1263
1 Ультрамонтанизм – движение в католицизме XIX в , направленное на централизацию церковной власти в руках папства ради обновления Церкви.
1264
1 Кол.2:8.
1265
1 Из стихотворения Б. Пастернака "Рассвет".
1266
2 Исходя из этого (фр.).
1267
3 "Иоанн Павел II: допрос" (фр.).
1268
4 коротко говоря (фр.).
1269
5 "доктринерский защитник старых бастионов" (фр.).
1270
1 от своего имени, а не по согласию Церкви (лат.) (догмат Ватиканского собора 1870 г .).
1271
2 "…вселенский закон, что другие могут сделать для нас то, что мы не можем сделать для себя, и каждый может полагаться на кого угодно, кроме себя. Поэтому страдания Христа за нас – это не просто богословская плутня, а высший закон, управляющий миром; и когда они издевались над Ним, говоря: "Других спасал, а Себя Самого не может спасти", они на самом деле выражали, сами того не зная, верховный закон духовного мира" (письма К.С.Льюиса к Артуру Грейвсу. "Они вместе", под ред. Уолтера Хупера, Макмиллан, 1979, стр.514).
1272
1 Сторонников пятидесятничества , т.е. некоторых деноминаций, возникших в начале XX века, члены которых считают, что они ощущают дары Святого Духа, чаще всего – наиболее явные, как, например, глоссолалия, или "говорение на языках", и настаивают на специальном крещении Святым Духом после обращения.
1273
2 руководства, руководителей (англ.).
1274
1 Литературный журнал, издавался в Париже с 1930 по 1934 г . Н.Оцупом.
1275
1 Из 4-й главы "Евгения Онегина" А.Пушкина.
1276
2 См .: В.Ходасевич "Некрополь". Очерк о Муни (Самуиле Викторовиче Киссине).
1277
1 "Носорога" Эжена Ионеско (фр.).
1278
1 безудержный смех (фр.).
1279
1 Начало стихотворения Ф.Тютчева "Есть в осени первоначальной…".
1280
2 "Сделай что-нибудь религиозное" (англ.).
1281
1 Сиорана "Четвертование" (фр.).
1282
1 зачем (фр.).
1283
1 St .Vladimir's Theological Quarterly – ежеквартальный журнал Св.-Владимирской семинарии.
1284
1 программами, курсами обучения (лат.).
1285
2 Ср. последние слова Николая II в дневнике, записанные в ночь отречения: "Кругом трусость и измена и обман".
1286
1 нарушители спокойствия, порядка; смутьяны (англ.).
1287
2 принятии желаемого за действительное (англ.).
1288
3 близостью (англ.).
1289
1 Эдварда Эстлина Каммингса.
1290
1 никто-не жил в миленьком ох городишке
(с выше плывущими звонами ниже)
весна лето осень зима
он пел свое нет плясал свое да.
тети и дяди (серость и мрак)
да никого-не любили никак
сеяли нету жали все то ж
солнце луна звезды дождь
дети смекнули (да только не все
и те как росли позабыли совсем
осень зима весна лето)
ниодна-не любила его больше всех
когда на теперь а ствол на крону
ей смех его смех ей плач его стоны
птичка на снег а гром на тишь
никого-не чего было всем для нее
некие замуж вышли за каждых
смеялись до крика плясали неважно
(спать встать ждать и вот)
свои никогда и проспали мечту
звезды дождь солнце луна
(взять объяснить мог снег только нам
как дети возможно забудут запомнят
с выше плывущими звонами ниже)
однажды никто-не скончался быть может
(ниодна-не склонилась у скорбного ложа)
важный народец зарыл их вместе
крошка на крошку и был на была
весь на вся и она на он
и много большим мечтают свой сон
ниодна-не с никем-не земля на апрель
воля на дух а если на да.
тети и дяди (ругань со сна)
лето осень зима весна
сжали что вышло ушли свой приход
солнце луна звезды дождь
(Перевод С.Бойченко )
1291
1 время, пора (греч.).
1292
2 между двумя стульями (фр.).
1293
1 проблема перемены (англ.).
1294
1 Медаль, присуждаемая французским государством за распространение французской культуры.
1295
2 "Нет ничего, за что стоило бы умирать" (англ.}.
1296
3 острой, преувеличенной реакции (англ.).
1297
4 "бедными", "престарелыми" и "меньшинствами" (англ.).
1298
1 Мф.5:13.
1299
2 Джеффри Уэйнрайта "Евхаристия и эсхатология" (англ.).
1300
3 пролегомены, предварительные рассуждения (греч.).
1301
4 "Сталин тонет…" (англ.).
1302
5 13-м телевизионном канале (англ.).
1303
1 Caucus (англ.) – совещание лидеров или членов политической партии для назначения кандидатов, выдвижения делегатов, разработки плана действий и т.п.
1304
1 Ин.3:6.
1305
1 хоккейной (англ.).
1306
2 человека играющего (лат.).
1307
3 Respective (англ.) – соответственный.
1308
4 событиями и проектами (англ.).
1309
1 "потенциал" (англ.).
1310
2 фрустрации, разочарования (ami.).
1311
3 подающей надежды (англ.).
1312
4 "выяснять" (англ.).
1313
1 Начало стихотворения А. Пушкина "Зимнее утро".
1314
2 боевиками, террористами (англ.).
1315
3 Гиблое дело (фр.).
1316
1 "…Должен сказать, что бабы несколько раздражают. Это невероятно примитивный и варварский род людей, чем-то напоминающий зулусских женщин, но при этом, к сожалению, тесно связанный здесь с нашей многострадальной Церковью. Они повсюду, ворчат, пререкаются друг с другом, толкаются, пихаются и визжат нечеловеческими голосами. Но все это не по-христиански…" (англ.).
1317
1 Мф.6:28-30. 2Гал.6:14.
1318
3 Из стихотворения А Пушкина "Я помню чудное мгновенье…".
1319
4 "У сердца есть свои основания, которых разум не знает" (фр.) (Б.Паскаль).
1320
1 Is (англ.) – есть (третье лицо единственного числа глагола to be – быть).
1321
2 бывшими студентами (англ.).
1322
1 На самом деле шутил Андрей Белый в стихотворении "Мой друг": "Жизнь. – шепчет он. остановись / Средь зеленеющих могилок. – / Метафизическая связь / Трансцендентальных предпосылок".
1323
2 Строки из Интернационала
1324
3 сведение к нелепости (лат.).
1325
1 Начало стихотворения А.Пушкина "Дар напрасный, дар случайный. / Жизнь, зачем ты мне дана?".
1326
2 Куданыши когданыши
(дочки если но отпрыски надежды-страха)
(сыновья пока и дети почти)
никогда не угадают размеры
того чья
каждая
нога любит
здесь этой земли
чьи оба
глаза
любят
это теперь неба.
1327
3 Флп.1:21.
1328
1 1Цар.14:43.
1329
2 Из стихотворения М. Лермонтова "Ашел"
1330
3 Ин.14:15
1331
4 Быт.2:18.
1332
1 Рим.7:15,18 -19,24 .
1333
2 Из стихотворения А.Ламартина "Одиночество": "Одно лишь существо ушло – и, неподвижен / В бездушной красоте, мир опустел навек!" (перевод Б.Лившица).
1334
1 "Против течения" (англ.).
1335
1 Ин.14:18.
1336
1 "Я чувствую, как птицы опьянели" (фр.). Из стихотворения С.Малларме "Плоть опечалена, и книги надоели…" (перевод О.Мандельштама).
1337
2 отсчет времени (англ.).
1338
1 "эпатировать галерку" (фр.).
1339
1 табу (англ.).
1340
1 "литургии смерти" (англ.).
1341
2 Из стихотворения А.К.Толстого "То было раннею весной…)
1342
3 Гал.6:14.
1343
1 Из стихотворения Ф.Тютчева "Нет, моего к тебе пристрастья.
1344
1 в самом лучшем виде (англ.).
1345
2 Ин.8:32.
1346
3 Краткосрочные литургические и пастырские курсы (англ.).
1347
1 чернить, ругать (фр.).
1348
1 "постоянный страх, что кто-то где-то может быть счастливым…" (англ.).
1349
2 "Проповедь и научение христианской вере сегодня" (англ.).
1350
3 "консультаций" (англ.).
1351
1 Ин.12:36.
1352
2 "Обещания равноденствия" (фр.)
1353
3 между войнами (фр.).
1354
1 часть вместо целого (лат.).
1355
2 "целое" (лат.).
1356
3 младших богах, второстепенных персонажах (лат.).
1357
1 Ин.14:15.
1358
2 "поиски абсолюта" (фр.).
1359
3 Из стихотворения "Стансы". Правильно: "Зато слова: цветок, ребенок, зверь…".
1360
1 долг (фр.).
1361
2 См. рассказ И.Бунина "Бернар". Правильно: "Думаю, что я был хороший моряк".
1362
3 овощ (англ.).
1363
1 "Башни с дефектами" (англ.).
1364
2 "равное время" (англ.); равное количество минут, предоставляемых бесплатно кандидатам от разных партий, групп и т.п. на телевидении и радио.
1365
3 на данный случай (лат.).
1366
4 Дух геометрии (фр.).
1367
1 2Кор.12:9.
1368
1 слайды (англ.).
1369
2 Из стихотворения "Эти бедные селенья…"
1370
3 за заслуги (англ.).
1371
1 Что и требовалось доказать (лат.).
1372
2 "Лекции по литературе" (Остин, Флобер, Кафка, Джойс, Пруст) (англ.).
1373
1 не имеет никаких шансов (на успех) (англ.).
1374
2 См.: 1Кор.1:27-28
1375
3 раздел "Книжное обозрение" (англ.).
1376
1 комитет по строительству (англ.).
1377
1 "культурной мутации" (англ.).
1378
1 богословие освобождения (англ.).
1379
2 Всемирного торгового центра.
1380
1 Мф.7:16.
1381
1 "Изменить жизнь", "социальный проект" (фр.).
1382
2 "постель, метро, работа" (фр.) (французская поговорка).
1383
3 новой жизни (ит.).
1384
4 См.: Ин.16:22.
1385
1 гипофизе (англ.).
1386
1 права человека (англ.).
1387
1 "обогащайтесь…" (фр.).
1388
2 "Государство!" (фр.).
1389
3 "умение повести за собой" (англ.).
1390
1 "государство – это я" (фр.).
1391
2 образе (англ.).
1392
1 беспокойство, тревога ожидания (англ.).
1393
1 комнате ожидания (англ.).
1394
2 блок интенсивной терапии (англ.).
1395
3 Downtown (англ.) – деловая часть, центр юрода.
1396
1 бега трусцой (англ.).
1397
2 новость (англ.).
1398
3 Роланд Стил "Уолтер Липман и американское столетие" (англ.).
1399
4 Взлеты и падения (фр.).
1400
5 "отчуждение" (англ.}.
1401
6 я фланер, праздношатающийся (фр.).
1402
1 отделывается поверхностным объяснением символа, изображает его так, как будто никакого символа нет (англ.).
1403
1 "…никогда не говорил он ни о молитве, ни о Боге, ни о загробной жизни. До конца он оставался зрелым человеком" (англ.).
1404
1 Приняв все во внимание (фр.).
1405
2 истеблишменту, влиятельным кругам (англ.).
1406
3 Слова из марша Семеновского полка.
1407
1 "приятелем" (фр.).
1408
2 писцом (фр.).
1409
3 Из стихотворения "Без отдыха дни и недели". Правильно: "Но реял над нами / Какой-то особенный свет, / Какое-то легкое пламя, / Которому имени нет".
1410
1 Р.Коста "Эдмунд Вильсон. Наш сосед из Талкотвилля". Изд-во Сиракьюсского университета, 1980 (англ.).
1411
2 "величие!" (англ.).
1412
1 Б.Леви "Французская идеология" (фр.).
1413
2 Личные впечатления (англ.).
1414
3 "левые" (фр.).
1415
4 серьезных последствиях (англ.).
1416
1 новые правые (фр.).
1417
1 "пригородных" (англ.).
1418
2 Книга "Евхаристия. Таинство Царства".
1419
3 Так что как Бог решит (англ.).
1420
4 Очень просто (англ.).
1421
1 обоснованное явление (лат.).
1422
2 "писательство" (англ.).
1423
3 1Ин.2:16.
1424
4Ин.3:8.
1425
1 потенциал, скрытые возможности (англ.).
1426
2 страшно сказать (лат.).
1427
3 Из книги "Другие берега", гл.14.
1428
1 Стихира Великого понедельника
1429
1 Из трагедии А.Пушкина "Борис Годунов".
1430
1 "они нас дурачат" (фр.).
1431
2 дурачит, облапошивает (фр.).
1432
1 1Кор.1:17.
1433
1 "Духовность 101" (англ.) (название курса).
1434
2 вещь в себе (нем.).
1435
3 Ср.: Мф.18:3.
1436
4 Провозглашая единственной реальностью непосредственный чувственный опыт человека и давая эмпирическую трактовку религиозного опыта, Уильям Джеймс отвергал традиционный теистический дуализм Творца и творения и основанную на нем богословскую концепцию религии. Хотя религия получает в его теории прагматическое оправдание, истолковывается как спонтанно возникающие субъективные переживания и описывается в психологических терминах.
1437
1 докторскую степень, присуждаемую без защиты диссертации.
1438
2 приемы (англ.).
1439
3 См.: Кол.3:3.
1440
1 Пс.54:9.
1441
2 Мф.17:4.
1442
3 ужинов с танцами (англ.).
1443
4 Православное богословское общество (англ.).
1444
1 Православной Евангелической Церкви (англ.).
1445
1 архивы из ящиков (фр.)/
1446
2 разрозненные части (лат.).
1447
3 глазами Толстого: "Моя бедная мать" (фр.).
1448
4 "Социализм – регрессивная эволюция" (фр.).
1449
5 основными, "программными" лекциями (англ.).
1450
6 строительные проекты (англ.).
1451
1 "сладостному царству земли" (фр.).
1452
1 факультативный (англ.).
1453
2 "Письма одной жизни" (фр.).
1454
3 "…я только что закончил "Униженные и оскорбленные" Достоевского, и закончил с ощущением унижения нашей литературы. Существенное ее качество – поверхностность. Французский классицизм – изучение внешнего человека, и выходит, что Мольер плосок, зауряден!" (стр.69, июнь 1914, письмо Р.Валери-Радо). [Издательство Грассе, 1981] (фр.).
1455
1 "…и тайна Иисуса у Ницше: что иногда отрицание стоит больше, чем некоторые преклонения! Что иногда отказ – знак более глубокой любви, чем верность скупых и неискренних обывателей. Я привожу все к Христу, вопреки своей воле" (стр.277) (фр.).
1456
1 "Эта острая боль свободы" (фр.).
1457
2 Из стихотворения А.Блока "Прошли года, но ты – все та же…" Правильно: "И все чудесней, все лазурней – / Дышать прошедшим на земле".
1458
1 Джорджа Вудкока о Томасе Мертоне ("Монах и поэт") (англ.).
1459
2 См.: Лк.18:22.
1460
3 "Священнику свойственно быть съеденным людьми" (фр.).
1461
4 Converts (англ.) – новообращенные: перешедшие в Православие.
1462
1 "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере" (Гал.6:2-10)
1463
1 Ср.: Кол.3:9.
1464
1 Мартина Малачи "Упадок и падение Римской Церкви" (англ.).
1465
2 Лк.15:21.
1466
1 См.: Ин.14:15.
1467
2 У.Х. Одена (Хамфри Карпентера) (англ.).
1468
3 В Великобритании – закрытое частное привилегированное среднее учебное заведение, преимущественно для мальчиков (готовящее к поступлению в университет).
1469
4 Сдержанно, без резкостей (англ.).
1470
1 церкви Св. Троицы (англ.).
1471
2 утонченном (англ.).
1472
1 2Кор.9:7.
1473
2 Мф.16:23.
1474
1 От sordid (англ.) – отвратительный, отталкивающий, низменный.
1475
Из стихотворения М.Лермонтова "И скучно, и грустно…"
1476
3 Ин.3:19.
1477
1 Рим.12:19.
1478
2 Из стихотворения К.Бальмонта "Безглагольность".
1479
1 Раймона Арона "Ангажированный зритель" (фр.).
1480
2 "Человек – в истории, человек историчен, человек есть история" (фр.).
1481
1 "Русская секта канонизирует Николая II…" (англ.).
1482
2 Из стихотворения Г.Иванова "Все чаще эти объявленья…".
1483
1 " Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослуженке, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара. Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас. так и вы Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу" (Кол.3:1-16).
1484
2 каникулы (фр.).
1485
1 Из стихотворения А.Блока "Балаганчик": "Истекаю я клюквенным соком!" "Религиозный союз за право на аборт" (англ.).
1486
1 часовня (англ.).
1487
1 поздняя осень, конец сезона (фр.).
1488
2 Ср.: "Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне" (1Кор.4:11-13).
1489
3 "Социалистическая партия везде – катастрофа для страны" (фр.).
1490
1 Иак.4:6.
1491
1 Из стихотворения Ф.Тютчева "Последняя любовь"
1492
1 "Потрясающе!" (англ.).
1493
2 "Чудесно!" (англ.).
1494
1 не осложнять ситуацию (фр.).
1495
2 Из стихотворения Ф.Тютчева "Накануне годовщины 4 августа 1864 г .".
1496
1 вещью в себе (нем.).
1497
2 Alienation (англ.) – отчуждение, отрыв, уход.
1498
3 Молодежная православная организация.
1499
4 краткосрочные пастырские курсы (англ.).
1500
1 Тим.3:15.
1501
1 Мф.28:18.
1502
2 Ин.20:22.
1503
3 Мф.20:26.
1504
4 "Никогда!" (англ.).
1505
5 "монашестве" (англ.).
1506
1 закона молитвы (лат.).
1507
2 Жака Ле Гоффа "История Чистилища" (фр.).
1508
1 "В особенности проникнитесь важностью исполнения долга, на чем всегда настаивал мой первый духовник". "Христос умер, – говорил он мне. – выполняя свой главный долг". "Причина всех несчастий, физических и нравственных, – вглядывание в самого себя" (фр.).
1509
2 От immobilize (англ.) – лишать подвижности, парализовывать.
1510
3 усталость, вялость (англ.).
1511
1 "Голос Шмемана – один из сильнейших в современном Православии, и к нему следует прислушаться. Пророческий и парадоксальный, он побуждает к размышлениям. ("Вне Церкви нет настоящей свободы", – пишет он на стр.184. Перед тем, как возразить: "Если так, то вне Церкви нет и осуждения", прочитайте всю статью "Свобода в Церкви" и попробуйте разобраться в том, что он хочет сказать.) Его богословие – противоядие против того блестящего камешка, который предлагается поставленным на коммерческую основу богословием в качестве живого хлеба потребительскому обществу" (англ.).
1512
1 приспособляемости; адаптации к жизни (англ.).
1513
2 плохой приспособляемости, слабой адаптации (особенно к окружающей обстановке) (англ.).
1514
3 "Он легко сходится с людьми" (англ.).
1515
1 язык, дискурс (фр.).
1516
1 ядерным оружием (англ.).
1517
2 лучше быть красным, чем мертвым (англ.).
1518
1 "неудачника" (англ.).
1519
2 "…и я хочу подчеркнуть, Отче, что личное знакомство с Вами, после того как я Вас уже много читал, доставило мне огромное удовольствие… Пророческий аспект, если я осмелюсь так высказаться, большей части Ваших выступлений на наших собраниях, а также глубокое значение важности ближайшего будущего Православия, которые я ощутил в Вашем докладе…" (Фр.).
1520
3 Ну вот, игра сыграна. Случилось, что должно было случиться (фр.).
1521
1 Определенно (фр.).
1522
2 "Только несколько строк благодарности за то, чем Вы делитесь с нами в ваших писаниях Я уже прочитала несколько Ваших книг, и у меня нет других слов, чтобы выразить мою благодарность, кроме очень сердечного спасибо… Возможно, я никогда не встречусь с Вами лично, но я могу образовывать себя в духе Христа и в Вашем, читая Ваши слова. Да сохранит Вас Бог и даст Вам долгую жизнь и крепкое здоровье для продолжения Его дела…" (англ.).
1523
3 Наконец-то! (фр.).
1524
4 порочный круг (фр.).
1525
5 См.. 3Цар.19.12.
1526
1 инвестиционного банка (англ.).
1527
2 "Деньги к деньгам" (англ.).
1528
3 "Что нам здесь нужно – так это монашество" (англ.).
1529
1 Стихотворение Г.Иванова. Правильно: "Это звон бубенцов издалека, / Это тройки широкий разбег, / Это черная музыка Блока / На сияющий падает снег".
1530
1 жители богатых пригородных районов (англ.).
1531
2 "Вера и сомнение у Достоевского" (англ.).
1532
1 Национальную картинную галерею (англ.}.
1533
2 "После смерти" (лат.), аутопсия, вскрытие трупа.
1534
1 заблуждении, мании (англ.).
1535
2 солярия (англ.).
1536
3 1Ин.2:16.
1537
1 технические неполадки (англ.).
1538
2 не так все просто! (фр.).
1539
1 "Возвращение Бога" (фр.).
1540
2 верю, ибо это нелепо (лат.).
1541
1 Ин.14
1542
1 Ж.Ф.Ревеля "Милость государства" (фр.).
1543
2 Ни больше ни меньше (фр.).
1544
3 Profit (англ.) – прибыль, выгода.
1545
4 Туда и обратно (фр.).
1546
1 Слова Алеши Карамазова в романе Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы": "Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь" (Эпилог. III. Похороны Илюшечки. Речь у камня).
1547
1 "..так… я прочитал "Водою и Духом", "Великий Пост" и "Мир как Таинство". Ваше чувство истории и глубокое понимание литургических истоков и то, как замечательно ваше знание соотносится с сегодняшними нуждами Церкви – да и поистине всего мира…" (англ.).
1548
1 Из стихотворения А.К. Толстого "То было раннею весной…".
1549
2 все искажено (фр.).
1550
1 "убежденный член Епископальной Церкви" (англ.).
1551
2 приводящей к обратным результатам (англ.).
1552
3 речью, задающей тему и тон собрания (англ.).
1553
1 до бесконечности (лат.).
1554
2 в полной мере (фр.).
1555
1 "служении мирян" (англ.).
1556
1 См.: Ин.14:15.
1557
2 душепопечительстве, пастырской заботе (англ.).
1558
4 "Я не знаю, что такое Вы вчера мне сказали, но это помогло" (англ.).
1559
1 Block (англ.) – квартал.
1560
2 На могилах родителей У.С.Шмеман.
1561
3 Кизиловые деревья (англ.).
1562
4 Жусса ("Антропология жеста", "Устный стиль") (фр.).
1563
5 "Между Пасхой и Пятидесятницей" (англ.).
1564
6 "…Мне бы хотелось в какой-то, пусть и недостаточной мере сказать Вам, насколько абсолютно важны были для меня, как интеллектуально, так и духовно, эти три года обучения под Вашим руководством и в Вашем присутствии. Я с жадностью впитывал или пытался это делать всеми своими силами то видение Церкви и самой жизни, которое Вы нам всегда являли в церкви и в классе… Лично для меня – и Дебора присоединяется ко мне – это была встреча с подлинным, искренним видением, внутренне убедительным, а также неизгладимым и "влиятельным"" (англ.).
1565
1 "…особая благодарность должна быть выражена нашему наставнику отцу Александру Шмеману. Он не только предоставил нам тему и стимул, но все исследование проникнуто его видением Церкви. Нам хотелось бы думать, что пусть и скромно, но эта работа подкрепит важность его постоянных усилий направить наши неуклюжие строки к полноте новой жизни в Церкви" (англ.).
1566
2 Ручка фирмы "Паркер".
1567
1 Бодлианской библиотеки.
1568
2 "Преображенные" (фр.).
1569
3 прием с подачей хереса и других вин.
1570
1 по определению (фр.).
1571
2 Ин.3:16.
1572
3 1Ин.2:15.
1573
1 Religious Books for Russia (англ.) – организация "Религиозные книги для России".
1574
2 Мф.16:26.
1575
3 "…можно действительно очень мирно и спокойно жить при диктатуре, но для свободного человека это невыносимо…" (англ.).
1576
4 окончание старшим внуком, Джонни Хопко, средней школы при Фордамском университете.
1577
1 "Провозглашение Слова Божьего" (англ.).
1578
2 Ин.1:1, 14:4.
1579
1 Жизнь продолжается (фр.).
1580
2 племени (фр.).
1581
3 адъютант (фр.).
1582
1 Ср.: Ин.16:22.
1583
1 Из стихотворения И.Бунина "Свет незакатный". Правильно: "Там, в полях, на погосте, / В роще старых берез, / Не могилы, не кости – / Царство радостных грез".
1584
1 Надо будет поработать (фр.).
1585
2 Прием на открытом воздухе, во время которого гостей угощают мясом, жаренным на открытом огне.
1586
3 дурнота, головокружение (англ.).
1587
4 "Его церемония прощания" (фр.).
1588
1 "массы" (фр.).
1589
2 Симону де Бовуар "Беседы с Сартром 1974-1980" (фр.).
1590
3 Из стихотворения В.Ходасевича "Автомобиль". Правильно: "Здесь мир стоял, простой и целый, / Но с той поры, как ездит тот…"
1591
4 Без комментариев (англ.).