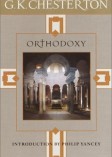Гилберт Кийт Честертон
Ортодоксия
Глава I
ПРЕДИСЛОВИЕ В ЗАЩИТУ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО
Единственное извинение для этой книги то, что она — ответ на вызов. Даже плохой стрелок имеет право выйти на дуэль. Недавно я опубликовал ряд опрометчивых, но искренних статей под названием «Еретики»
[1], и несколько критиков, чей ум я высоко ценю (в особенности хотелось бы упомянуть Дж. С. Стрита
[2]), сказали, что хоть я и советую всем утверждать свое представление о мироздании, но сам всячески стараюсь не подкреплять свои наставления примером. «Я начну беспокоиться за свою философию, — сказал Стрит, — когда м-р Честертон даст нам свою». Пожалуй, неосторожно делать такое предложение человеку, и без того готовому писать книги по малейшему поводу. Однако, хотя Стрит вдохновил и вызвал к жизни эту книгу, ему не надо ее читать. Если он прочтет ее, он обнаружит, что в ней я попытался по-своему, расплывчато, скорее в совокупности образов, чем с помощью цепочки умозаключений, представить философию, к вере в которую я пришел. Я не назову ее моей философией, ибо не я ее создал. Бог и человечество создали ее, а она создала меня.
Я часто мечтал написать роман об английском яхтсмене, сбившемся с курса и открывшем Англию, полагая, что это новый тихоокеанский остров. Но я вечно то ли слишком занят, то ли ленив для этой чудесной работы, так что вполне могу пожертвовать ею ради философского примера. Может показаться, что человек (вооруженный до зубов и объясняясь знаками), высадившийся, чтобы водрузить британский флаг на варварском храме, оказавшемся Брайтонским павильоном
[3], почувствует себя дураком. Не отрицаю, он выглядит дураком. Но если вы думаете, что он чувствует себя дураком или, во всяком случае, что мысль о допущенном промахе занимает его всецело, то вы недостаточно изучили богатую романтическую натуру героя этой притчи. Его ошибка была поистине завидной, и он знал это, если он тот человек, за которого я его принимаю. Что может быть упоительнее, чем пережить разом все пленительные ужасы путешествия в чужие земли и высшую человеческую радость надежного возвращения домой? Что может быть лучше, чем получить все удовольствие от открытия Южной Африки без удручающей необходимости там высаживаться? Что может быть чудеснее, чем напрячь все силы, открывая Новый Южный Уэльс, и, залившись слезами счастья, открыть добрый старый Уэльс? Именно здесь, мне кажется, таится главная проблема философии и в какой-то мере главная проблема моей книги. Как может диковинный космический город с многоногими жителями, чудовищными древними светильниками — как может этот мир дать нам и восторг перед чужим городом, и тот покой, ту честь, которую дает нам родной город?
Показать, что вера или философия верна с любой точки зрения, слишком трудно даже для книги много большей, чем эта. Необходимо выбрать один путь рассуждения, и вот путь, которым я хочу идти. Я хочу показать, что моя вера как нельзя лучше соответствует той двойной духовной потребности, потребности в смеси знакомого и незнакомого, которую христианский мир справедливо называет романтикой. Ведь само слово «романтика» заключает в себе тайну и древнюю весомость Рима. Каждый, кто хочет что-либо оспорить, должен сперва оговорить, что он не оспаривает, и прежде чем объявить, что он намеревается доказать, должен сказать, что он доказывать не намерен. Я не буду доказывать, а приму как аксиому, общую для меня и читателя, любовь к активной, интересной жизни, жизни красочной, полной поэтичной занятности, той жизни, какую человек (по крайней мере, западный) всегда желал. Если кто-нибудь говорит, что смерть лучше жизни, или что пустое существование лучше, чем пестрота и приключения, то он не из тех обычных людей, к которым я обращаюсь. Если человек предпочитает ничто, я ничего не могу ему дать. Но почти все люди, кого я встречал в том мире, в котором я живу, заведомо согласятся, что нам нужна жизнь повседневной романтики; жизнь, соединяющая странное с безопасным. Нам надо соединить уют и чудо. Мы должны быть счастливы в нашей стране чудес, не погрязая в довольстве. Именно об этом достижении моей веры я хочу поговорить.
У меня есть особая причина упоминать о яхтсмене, который открыл Англию. Ведь человек этот — я. Я открыл Англию. Я не знаю, как можно в этой книге обойтись без внимания к себе, и, правду говоря, боюсь показаться занудным. Однако занудство спасет меня от обвинения, которое меня сильно удручает, — от обвинения в легкомыслии. Я глубоко презираю легкую софистику, и, наверное, хорошо, что именно за нее меня многие упрекают. Я не знаю ничего столь ничтожного, как пустой парадокс, — искусная защита того, что защиты не стоит. Если бы Бернард Шоу вправду зарабатывал на жизнь парадоксами, он стал бы обычнейшим миллионером, потому что с его умственной активностью он мог бы изобретать парадокс каждые шесть минут. Это так же легко, как лгать, ведь это и есть ложь. Правда же в том, что Бернард Шоу не может солгать, если не примет ложь за правду. И я стеснен теми же невыносимыми узами. Я в жизни не сказал ничего, что считал бы только забавным, хотя, конечно, у меня есть нормальное тщеславие, и я могу счесть забавным то, что сказал я. Одно дело описывать разговор с горгоной или грифоном, которых на свете нет. Другое дело — встретить носорога и радоваться, что он выглядит так, словно его выдумали. Человек ищет истину, но иногда его просто тянет к истинам причудливым. Я сердечно предлагаю мою книгу всем добрым людям, которые от души ненавидят то, что я пишу, и считают это (весьма справедливо) жалкой клоунадой или утомительным шутовством.
Ибо если эта книга — шутка, шутка обернется против меня. Я — человек, с величайшей отвагой открывший открытое ранее. Если книга окажется похожей на фарс, героем фарса буду я; ведь здесь рассказано, как я воображал, будто первым высаживаюсь в Брайтоне, и обнаружил, что я последний. Я излагаю мои тяжеловесные приключения в погоне за очевидным, и никто не посмеется над ними так, как я сам, ни один читатель не скажет, что я его дурачу: я дурак этой истории, и ни один мятежник не свергнет меня с трона. Я охотно сознаюсь во всех дурацких предрассудках конца XIX века. Как все важничающие мальчики, я пытался опередить век. Как они, я пытался минут на десять опередить правду. И я увидел, что отстал от нее на восемнадцать веков. По-юношески преувеличивая, я мучительно возвышал голос, провозглашая мои истины, — и был наказан как нельзя удачнее и забавнее: я сохранил мои истины, но обнаружил, что они не мои. Я воображал, что я одинок, — и был смешон, ибо за мной стояло все христианство. Может быть, прости меня Господи, я пытался оригинальничать, но я создал только ухудшенную копию традиционной веры. Человек на яхте думал, что он открыл Англию; я думал, что открываю Европу. Я старался придумать свою ересь, и когда я нанес последний штрих, я понял, что это правоверие.
Может быть, кого-нибудь позабавит отчет об этом счастливом фиаско. Другу или врагу будет забавно узнать, как правда бродячей легенды или ложь господствующей философии учила меня тому, что я мог бы узнать из своего катехизиса, если б я его читал. Кто-нибудь, пожалуй, получит удовольствие, читая, как в клубе анархистов или в вавилонском храме я обрел то, что мог бы обрести в ближайшей приходской церкви. Если человеку любопытно узнать, как полевые цветы и фразы в омнибусе, политические события и страдания юности приводят к христианству, он может прочесть эту книгу. Однако всегда нужно разумное разделение труда; я книгу написал, и ничто не соблазнит меня ее прочесть.
Добавлю еще одно педантичное замечание — как и положено, оно появляется в начале книги. В этих очерках я хочу только обсудить тот несомненный факт, что христианское учение, выраженное в Апостольском Символе Веры, — лучший источник действенной радости и здоровой этики. Я не собираюсь обсуждать занимательный, но совсем иной вопрос — кому принадлежит сейчас право толковать эту веру. Слово «правоверие» означает здесь Символ Веры, как его понимал до недавнего времени каждый, кто считал себя христианином, и обычное, известное из истории поведение тех, кто его придерживался. Размер книги вынуждает ограничиться разговором о том, что я получил от этой веры, и не касаться вопроса, который так часто обсуждают, — откуда мы веру получили. Это не церковный трактат, а что-то вроде небрежной автобиографии. Но если кто-нибудь интересуется моими взглядами на природу авторитета в вопросах веры, пусть м-р Стрит снова бросит мне вызов, и я напишу еще одну книгу.
Глава II
СУМАСШЕДШИЙ
Совершенно мирские люди не понимают даже мира, они полностью полагаются на несколько циничных и ложных изречений. Однажды я гулял с преуспевающим издателем, и он произнес фразу, которую я часто слышал и раньше, — это, можно сказать, девиз современности. Я слышал ее слишком часто — и вдруг увидел, что в ней нет смысла. Издатель сказал о ком-то: «Этот человек далеко пойдет, он верит в себя». Слушая его, я поднял голову, и взгляд мой упал на омнибус с надписью «Хэнуолл»
[4]. Я спросил: «Знаете, где надо искать людей, больше всего верящих в себя? Могу вам сказать. Я знаю людей, которые верят в себя сильнее, чем Наполеон или Цезарь. Люди, действительно верящие в себя, сидят в сумасшедшем доме». Он кротко ответил, что многие люди верят в себя, но в этот дом не попали. «Да, — отвечал я, — и кому, как не вам, знать их? Спившийся поэт, у которого вы не взяли кошмарную трагедию, верит в себя. Пожилой священник с героической поэмой, от которого вы прятались в задней комнате, верит в себя. Если вы обратитесь к своему деловому опыту, а не к уродливой индивидуалистической философии, вы поймете, что вера в себя — обычный признак несостоятельности. Актеры, не умеющие играть, верят в себя; и банкроты. Было бы куда верней сказать, что человек непременно провалится, если он верит в себя. Самоуверенность не просто грех, это слабость. Безусловная вера в себя — чувство истерическое и суеверное, вроде веры в Джоанну Сауткотт
[5]. У человека с такой верой «Хэнуолл» написано на лбу так же ясно, как на этом омнибусе». И тут мой друг издатель задал глубокий и полезный вопрос: «Если человек не должен верить в себя, во что же ему верить?» После долгой паузы я сказал: «Я пойду домой и в ответ на ваш вопрос напишу книгу». Вот эта книга.
Думаю, книга может начаться там же, где наш спор: по соседству с сумасшедшим домом. Современные ученые ясно чувствуют, что любое исследование необходимо начать с факта. Прежние богословы точно так же ощущали эту необходимость; они начинали с греха — факта реального, как картошка. Должен человек омыться в водах крещения или нет — во всяком случае, никто не сомневался, что помыться ему надо. А ныне в Лондоне религиозные наставники — вовсе не материалисты — отрицают уже не спорную воду, а неоспоримую грязь. Некоторые новые теологи оспаривают первородный грех — единственную часть христианского ученья, которую действительно можно доказать. Некоторые последователи преподобного Р. Дж. Кэмпбелла
[6], с их слишком утонченной духовностью, принимают божественную безгрешность, которой они и во сне не видали, но, в сущности, отрицают человеческий грех, с которым мы сталкиваемся каждый день. Величайшие святые и величайшие скептики равно принимали реально существующий грех за отправной пункт своей аргументации. Если правда (как оно и есть), что человек может получить изысканное наслаждение, сдирая шкуру с кошки, то приходится отрицать либо Бога, как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. Новые теологи, кажется, считают, что разумней всего отрицать кошку.
В этой удивительной ситуации просто невозможно, обращаясь ко всем, начинать, как наши отцы, с факта греха. Тот самый факт, который для них (и для меня) ясен, как дважды два, теперь подвергают сомнению или отрицают. Но хотя мои современники отрицают грех, я не думаю, чтобы они отрицали сумасшедший дом. Мы все еще согласны, что бывает обвал разума, столь же несомненный, как обвал дома. Люди отрицают ад, но не Хэнуолл. Для начала в нашей аргументации Хэнуолл может заменить ад. Я имею в виду вот что: когда-то все теории оценивали, проверяя, не вынуждают ли они человека потерять душу, мы можем оценить современные теории, проверяя, не вынуждают ли они человека потерять разум.
Правда, некоторые легко и свободно говорят о безумии как о чем-то самом по себе привлекательном. Но легко понять, что красива только чужая болезнь. Слепой может быть живописен, но нужны оба глаза, чтобы это увидеть. Так и дичайшей поэзией безумия могут насладиться только здоровые. Для безумного его безумие вполне прозаично, потому что оно реально. Человек, считающий себя цыпленком, так же обычен для себя, как цыпленок. Человек, считающий себя куском стекла, так же скучен себе, как кусок стекла. Однородность его мышления делает его скучным, она же делает его сумасшедшим. Мы видим смешную сторону его мысли, и он кажется нам даже забавным; он не видит ничего смешного в своей мысли — именно поэтому его помещают в Хэнуолл. Короче говоря, чудачества удивляют только обычных людей, но не чудаков. Вот почему у обычных людей так много приключений, в то время как чудаки все время жалуются на скуку. Вот почему все новые романы так быстро умирают, а старые сказки живут вечно. В старой сказке герой — нормальный мальчик, поразительны его приключения: они поражают его, потому что он нормален. В современном психологическом романе центр сместился: герой ненормален. Поэтому ужаснейшие события не могут произвести на него должного впечатления, и книга скучна. Можно сочинить историю о человеке среди драконов, но не о драконе среди драконов. Волшебная сказка говорит нам, что будет делать нормальный человек в сумасшедшем мире. Современный реалистический роман повествует о сумасшедшем в скучном мире.
Так начнем с сумасшедшего дома, отправимся из этой странной и мрачной гостиницы в наше интеллектуальное путешествие. Если мы рассматриваем философию здравого смысла, прежде всего надо избавиться от одной распространенной ошибки: многие полагают, что воображение, особенно мистическое, опасно для духовного равновесия. Часто говорят, что поэты психически неуравновешенны. Лавровый венок чем-то напоминает дурацкий колпак. Факты и история решительно опровергают это мнение. Большинство поэтов были не только нормальными, но и чрезвычайно деловыми людьми, и если молодой Шекспир вправду стерег лошадей, значит, именно ему их доверяли. Воображение не порождает безумия — его порождает рационалистический ум. Поэты не сходят с ума, с ума сходят шахматисты; математики и кассиры бывают безумны, творческие люди — очень редко. Как будет ясно из дальнейшего, я вовсе не нападаю на логику — я только говорю, что опасность таится в ней, а не в воображении. Художественное отцовство так же здраво, как физическое. Более того, стоит отметить, что обычно поэты сходят с ума тогда, когда их разум ослаблен рационализмом. По
[7], например, был сумасшедшим, но не потому, что он был полон вдохновения, а потому, что он был чрезвычайно рационалистичен. Даже шахматы слишком поэтичны для него, он не любил их за то, что они полны королей и ладей, как поэма. Он явно предпочитал черные диски шашек, потому что они похожи на черные точки диаграммы. Вот, возможно, самый сильный пример: Коупер
[8] — единственный английский поэт, сошедший с ума, и его, несомненно, свела с ума логика, уродливая и чуждая ему логика предопределения. Поэзия была не болезнью, а лекарством, поэзия отчасти сохраняла ему здоровье. Он иногда забывал иссушенный багряный ад, куда его загонял ужасный детерминизм, среди спокойных вод и белых лилий Узы. Он был проклят Жаном Кальвином и почти спасен Джоном Джилпином
[9]. Мы то и дело видим, что люди не сходят с ума от грез. Критики куда более безумны, чем поэты. Гомер целостен и достаточно уравновешен, а комментаторы раздирают его на нелепые лоскутья. Шекспир остается самим собой, хотя некоторые ученые открыли, что он — кто-то другой. И хотя Иоанн Богослов узрел много странных чудищ в своем видении, он не видал создания столь дикого, как один из его комментаторов. Все очень просто: поэзия — в здравом уме, потому что она с легкостью плавает по безграничному океану; рационализм пытается пересечь океан и ограничить его. В результате — истощение ума, сродни физическому истощению. Принять все — радостная игра, понять все — чрезмерное напряжение. Поэту нужны только восторг и простор, чтобы ничто его не стесняло. Он хочет заглянуть в небеса. Логик стремится засунуть небеса в свою голову — и голова его лопается.
Не очень важно, но небезразлично, что эту ошибку обычно подкрепляют поразительно неверной цитатой. Мы все слышали, как люди, ссылаясь на Драйдена, говорят, что гений близок к безумию
[10]. Драйден сам был гений и лучше разбирался в этом. Трудно найти человека более романтичного, чем он, и более разумного. Драйден сказал, что ум близок к безумию, и это правда. Чистой сообразительности грозит гибель. Надо также помнить, о ком говорил Драйден. Он говорил не о мечтателе, человеке не от мира сего, как Воэн или Джордж Герберт
[11]. Он говорил о циничном мирском человеке, скептике, дипломате, политике. Такие люди действительно близки к безумию; непрестанно копаться в своих и чужих помыслах — опасное дело. Разуму вредно и опасно препарировать разум. Один легкомысленный человек как-то спросил, почему мы говорим «безумен как шляпник»
[12]. Более легкомысленный человек мог бы ответить: «Шляпник безумен, потому что ему приходится измерять головы».
Очень логичные люди часто безумны, но и безумцы часто очень логичны. Когда я спорил с «Кларион» о свободе воли, писатель Р. Б. Сазерс
[13] сказал, что свобода воли — это сумасшествие, так как она предполагает беспричинные действия, а беспричинны поступки сумасшедшего. Я не останавливаюсь сейчас на ужасном промахе детерминистской логики: очевидно, что, если чьи угодно поступки, пусть даже сумасшедшего, могут не иметь причины, с детерминизмом покончено. Если цепь причинности может разорвать сумасшедший, значит, человеку возможно ее разорвать. Пожалуй, естественно, что современный марксист ничего не знает о свободе воли, но примечательно, что он ничего не знает о сумасшедших: их действия никак нельзя назвать беспричинными. Если бывают беспричинные поступки, то это незаметные для него самого привычки здорового человека: гуляя, он насвистывает, хлещет тростью траву, постукивает каблуками или потирает руки. Счастлив совершающий бесполезные поступки, у больного для праздности не хватает сил. Именно таких бесцельных и беззаботных поступков сумасшедшему не понять; ведь он, как и детерминист, видит во всем слишком много смысла. Он подумает, что лупят по траве из протеста против частной собственности, а удар каблуком примет за сигнал сообщнику. Если б сумасшедший мог на секунду стать беззаботным, он бы выздоровел. Каждый, кто имел несчастье беседовать с сумасшедшими, знает, что их самое зловещее свойство — ужасающая ясность деталей: они соединяют все в чертеж более сложный, чем план лабиринта. Споря с сумасшедшим, вы наверняка проиграете, так как его ум работает тем быстрее, чем меньше он задерживается на том, что требует углубленного раздумья. Ему не мешает ни чувство юмора, ни милосердие, ни скромная достоверность опыта. Утратив некоторые здоровые чувства, он стал более логичным. В самом деле, обычное мнение о безумии обманчиво: человек теряет вовсе не логику; он теряет все, кроме логики.
Сумасшедший всегда объясняет явление исчерпывающе и достаточно логично; точнее, если его объяснение и непоследовательно, оно, по крайней мере, неопровержимо. Это можно проследить на двух-трех типичных случаях. Например, если кто-то утверждает, что все сговорились против него, можно возразить, что все отрицают подобный заговор, но именно это делали бы и заговорщики — его объяснение охватывает факты не хуже вашего. Если человек провозглашает себя королем Англии, не стоит отвечать, что существующие власти считают его сумасшедшим: будь он вправду королем, это было бы наилучшим выходом для властей. И если человек говорит, что он Иисус Христос, бесполезно указывать, что мир не признает его божественности, ибо мир отрицал божественность Христа.
Однако он не прав. Но если мы попытаемся дать точное определение его ошибки, мы увидим, что это не так легко, как казалось. Приблизительно можно объяснить ее так: его ум движется по совершенному, но малому кругу. Малый круг так же бесконечен, как большой, но не так велик. Ущербная мысль так же логична, как здравая, но не так велика. Пуля кругла, как мир, но она не мир. Бывает узкая всемирность, маленькая, ущербная вечность — как во многих современных религиях. Наиболее явный признак безумия — сочетание исчерпывающей логики с духовной узостью. Теория сумасшедшего объясняет великое, но объясняет мелочно. Имея дело с сумасшедшим, надо не доводы приводить, а дать ему глоток воздуха, более чистого и свежего, чем затхлость голой логики. Возьмем наш первый случай — человека, подозревающего повсюду заговор. Наш искренний протест против его навязчивой идеи прозвучал бы примерно так: «О да, у вас есть серьезные доводы и хорошо подобранные совпадения. Ваша теория объясняет многое — но как много вы упустили! Неужто нет в мире других судеб, и все заняты только вами? Пусть ваши детали и верны; возможно, прохожий, не заметивший вас, лукавил, и полисмен спросил ваше имя, заранее зная его. Но насколько счастливей вы были бы, если б считали, что людям нет до вас дела! Насколько полнее была бы ваша жизнь, если бы ваше „я" было меньше, если б вы могли смотреть на людей с любопытством и удовольствием и видели бы их безоблачный эгоизм и здоровое равнодушие! Вы бы заинтересовались ими, потому что они не интересуются вами. Вы бы вырвались из безвкусного театрика, где все время идет лишь ваша маленькая драма, и оказались бы под вольным небом, на улице, полной чудесных незнакомцев». Так и наш ответ претенденту на английскую корону будет: «Прекрасно! Может, вы и вправду король Англии. Ну и что? Сделайте над собой усилие, забудьте о короне — и вы станете человеком и будете смотреть свысока на всех королей Земли». Или третий случай — сумасшедший, вообразивший, что он — Христос. Мы могли бы сказать ему: «Итак, вы — Создатель и Искупитель мира? Но как же мал этот мир! Как тесны ваши небеса — даже ангелы там не больше бабочки. Грустно быть богом, и богом неполноценным! Неужто нет ни жизни полнее, ни любви прекраснее, чем ваша, и всякая тварь должна возложить все надежды на вашу слабую, болезненную жалость? Право же, вы были бы счастливее, если б молот высшего Бога разбил ваш мирок, разбросав мишуру звезд, и оставил бы вас на свободе, на Земле, где можно глядеть не только вниз, но и вверх».
Медицина часто рассматривает душевные болезни именно так: она не спорит с ними, словно с ересью, но избавляет от них, как от чар. Ни современная наука, ни старая религия не признают совершенную свободу мысли. Теология осуждает богохульную мысль, наука осуждает мысль нездоровую. Например, некоторые религиозные общества советовали людям поменьше думать о любви; современное ученое общество запрещает думать о смерти: смерть — факт, но факт угрюмый, а имея дело с теми, чья угрюмость перерастает в манию, современная наука заботится о логике не больше, чем пляшущий дервиш. При такой болезни недостаточно стремиться к логике: пациент должен жаждать здоровья. Ничто не спасет его, кроме слепой животной жажды нормальности. Человек не додумается до выздоровления от душевной болезни, ведь именно орган мысли болен, неуправляем, независим от него. Его может спасти только воля или вера. Ум его движется в привычной колее, он будет кружиться в своем логическом круге, как человек в вагоне третьего класса будет кружиться по Внутреннему Кольцу, если не совершит решительный, добровольный и таинственный поступок, выйдя на Говер-стрит. Здесь все дело в выборе, дверь надо захлопнуть навсегда. Всякое лечение — отчаянный шаг, любое лекарство — чудесное снадобье. Лечение сумасшедшего — это не спор с философом, а изгнание дьявола. Как бы спокойно врачи и психологи ни выполняли свою работу, их отношение в высшей степени нетерпимо — нетерпимо, как инквизиция. Они как бы ампутируют разум: чтобы жить, человек должен не думать. Если
голова твоя соблазняет тебя, отрежь ее, ибо лучше войти в царствие небесное не только ребенком, но даже инвалидом, чем со всем своим разумом быть ввергнутым в геенну — или в Хэнуолл
[14].
Таков наш сумасшедший: он обычно резонер, зачастую удачливый. Несомненно, его можно победить в споре, но я бы предпочел более общий, даже эстетический разговор. Сумасшедший заключен в чистую, хорошо освещенную тюрьму одной идеи, у него нет здорового сомнения, здоровой сложности. Как я говорил вначале, в этих главах я собираюсь изложить не учение, а только мою точку зрения. Ради этого я высказал мое мнение о сумасшедшем — по-моему, он похож на многих современных мыслителей. Тот тон и лад, который я слышал в Хэнуолле, я ясно различаю в доброй половине современных учений — да и сами целители нередко безумны. И у них я вижу то же сочетание исчерпывающей логики с ущербным здравым смыслом. Они универсальны лишь постольку, поскольку высасывают все из одного тощего объяснения. Их схему можно применять ко всему — но она остается узкой схемой. Они видят черно-белую доску, и будь ею вымощена хоть вся Вселенная, они не смогут сменить точку зрения и разглядеть, что она бело-черная.
Начнем с простейшего — с материализма. Для объяснения мира материализм ущербно прост. Это точь-в-точь объяснение сумасшедшего: оно покрывает все и все упускает. Послушайте какого-нибудь талантливого и рьяного материалиста, например Маккейба
[15], и вы испытаете именно это странное чувство. Он понимает все, и его «все» не стоит понимания. Его космос продуман до последнего винтика, но он меньше нашего мира. Его схема, как и схема сумасшедшего, не помнит о созидательной силе и непокорной земле, о сражающихся мужчинах и гордых матерях, о первой любви или о страхе перед морским путешествием. Земля так велика, а космос так мал: он оказывается норкой, куда можно спрятать только голову.
Поймите, я сейчас не говорю о близости этих теорий к истине, я говорю только об их отношении к здоровью. За проблему объективной истины я надеюсь взяться позже, сейчас я говорю только об особенностях психологии. Я не пытаюсь доказать Геккелю
[16], что материализм неверен, как не пытался доказать «Христу», что он — не Христос. Я указываю только, что обе теории исчерпывающи и недостаточны в одном и том же смысле. Человек в Хэнуолле может сказать, что равнодушные люди распяли Бога, которого мир недостоин: это удовлетворительное объяснение. Так же можно объяснить мир, сказав, что все, даже души людей, — лишь листья на глухом и бессмысленном древе судьбы. Это тоже объяснение, хотя, конечно, не столь исчерпывающее, как теория сумасшедшего. Но здравый человеческий ум отвергает обе теории и возражает им одинаково: если пациент психиатров вправду бог, это жалкий бог; если космос детерминиста вправду космос, это жалкий космос. Все съежилось, божество менее божественно, чем многие люди; жизнь в целом, по Геккелю, оказалась уже, серее и скучнее, чем многие ее стороны. Части оказались больше целого.
Ибо надо помнить, что материалистическая философия (верна она или нет), несомненно, стесняет больше, чем любая религия. Конечно, в некотором смысле все теории узки, они не могут быть шире самих себя. Христианин ограничен так же, как атеист: он не может считать христианство лживым и оставаться христианином; атеист не может считать атеизм лживым и оставаться атеистом. Но материализм накладывает более строгие ограничения, нежели вера. Маккейб считает меня рабом, потому что мне нельзя верить в детерминизм. Я считаю Маккейба рабом, потому что ему нельзя верить в фей. Но изучив эти два запрета, мы увидим, что его запрет гораздо строже, чем мой. Христианин вправе верить, что в мире достаточно упорядоченности и направленного развития; материалист не вправе добавить к своему безупречному механизму ни крупицы духа или чуда. Бедному Маккейбу не остается даже эльфа в чашечке цветка. Христианин признает, что мир многообразен и даже запутан, — так здоровый человек знает, что сам он сложен. Нормальный человек знает, что в нем есть что-то от Бога и что-то от беса, что-то от зверя, что-то от гражданина. Действительно здоровый человек знает, что он немного сумасшедший. Но мир материалиста монолитен и прост; сумасшедший уверен, что он совершенно здоров. Материалист уверен, что история всего-навсего цепь причинности, как наш сумасшедший твердо убежден, что он сам всего-навсего цыпленок. Материалисты и сумасшедшие не знают сомнений.
Вера не ограничивает разум так, как материалистические отрицания. Если я верю в бессмертие, я не обязан думать о нем. В первом случае путь открыт, и я могу идти так далеко, как пожелаю; во втором случае путь закрыт. Но есть и более веский довод, более разительная параллель с сумасшедшим. Ведь наш довод против исчерпывающе логичной теории сумасшедшего был тот, что — верна она или нет — она постепенно лишает его человеческих свойств. Я имею в виду не только доброту, но и надежду, отвагу, поэзию, предприимчивость, наконец, — все это человечно. Например, когда материализм приводит к фатализму (как обычно бывает), смешно делать вид, что это освобождающая сила. К чему говорить о свободе, когда вы попросту используете свободу мысли, чтобы убить свободу воли? Детерминист не освободить пришел, а связать. Он правильно назвал свой закон «цепью причинности»: это худшая цепь из всех, какими когда-либо сковывали человека. Если хотите, пользуйтесь словом «свобода», говоря о материалистическом учении, но очевидно, что к нему это слово так же неприложимо, как к человеку, запертому в сумасшедшем доме. Если хотите, можете утверждать, что человек волен считать себя вареным яйцом. Но уж если он — яйцо, он не волен есть, пить, спать, гулять или курить сигару. И если хотите, можете говорить, что дерзкий материалист вправе не верить в свободу воли. Но гораздо важнее, что он не волен хвалить, ругать, благодарить, судить, принуждать, наказывать, воздерживаться от искушения, поднимать массы, давать себе новогодние зароки, сопротивляться тиранам, прощать грешников или хотя бы сказать спасибо за горчицу.
Оставляя этот предмет, замечу, что бытует странное заблуждение, будто материалистический детерминизм каким-то образом содействует милосердию, отменяет жестокие наказания или наказания вообще. Это потрясающее искажение истины. Естественно, учение о необходимости не делает различий: оно предоставляет палачу казнить, а доброму другу увещевать. Но, очевидно, если оно кого-нибудь расхолаживает, то доброго друга. Неизбежность греха не мешает наказанию, она отменяет только снисхождение. Детерминизм ведет к свирепости и к трусости. Он вполне совместим с жестокостью к преступникам, он скорее несовместим с милосердием к ним: он не обращается к их лучшим чувствам и не помогает им в душевной борьбе. Детерминист не верит в призыв к воле, но он верит в перемену среды. Он не может сказать грешнику «иди и больше не греши», потому что это не зависит от грешника, но он может опустить его в кипящее масло — среда переменится. Если материалиста изобразить в виде геометрической фигуры, мы увидим фантастические очертания сумасшедшего: позиция обоих неопровержима и нестерпима.
Конечно, это касается не только материализма, но и другой крайности спекулятивной логики. Есть скептик пострашнее того, кто верит, что все началось с материи. Встречаются скептики, которые считают, что все началось с них самих
[17]. Они сомневаются в существовании не ангелов или бесов, но людей и коров. Для них собственные друзья — созданный ими миф: они породили своих родителей. Эта дикая фантазия пришлась по вкусу нынешнему несколько мистическому эгоизму. Издатель, считающий, что человек преуспеет, раз он верит в себя; люди, тоскующие по сверхчеловеку и ищущие его в зеркале; писатели, стремящиеся запечатлеть себя, вместо того чтобы творить жизнь для всех, — эти люди на грани ужасной пустоты. Когда добрый мир вокруг нас объявлен выдумкой и вычеркнут, друзья стали тенью, и пошатнулись основания мира; когда человек, не верящий ни во что и ни в кого, останется один в своем кошмаре, тогда с мстительной иронией запылает над ним великий лозунг индивидуализма. Звезды станут точками во мгле его сознания, лицо матери — бессмысленным рисунком на стене его камеры. А на дверях будет ужасная надпись: «Он верит в себя».
Здесь важно, что в этой сверхиндивидуалистической крайности выявляется тот же парадокс, что и в материализме. Индивидуализм так же хорош в теории и так же хромает на практике. Проще пояснить нашу мысль примером: человек может верить, что он всегда пребывает во сне. Очевидно, нет убедительного доказательства, что он бодрствует, так как нет доказательства, которое не могло бы быть дано и во сне. Но если человек поджигает Лондон, приговаривая, что хозяйка скоро позовет его завтракать, мы отправим его вместе с другими мыслителями в то самое заведение. Человек, не доверяющий своим ощущениям, и человек, доверяющий только им, равно безумны, но их безумие выдает не ошибка в рассуждении, а явная ошибка всей их жизни. Они заперты в ящике с нарисованными внутри солнцем и звездами; они не могут выйти оттуда — один к небесной радости и здоровью, другой — даже к радости земной. Их теории вполне логичны, даже бесконечно логичны, как монетка бесконечно кругла. Но бывает жалкая бесконечность, низкая и ущербная вечность. Забавно, что многие наши современники — и скептики, и мистики — объявили своим гербом некий восточный символ, знак этой дурной бесконечности. Они представляют вечность в виде змеи, кусающей свой хвост
[18]. Убийственная насмешка видится мне в столь нелепой трапезе. Вечность фаталистов, восточных пессимистов, вечность суеверных теософов, вечность высоколобых ученых — эта вечность вправду подобна змее, пожирающей свой хвост; выродившееся животное уничтожает себя самое.
Эта глава чисто практически рассматривает главный признак и элемент безумия: можно, в общем, сказать, что безумие — логика без корней, логика в пустоте. Тот, кто начинает думать без должных первопринципов, сходит с ума, и тот, кто начинает думать не с того конца, — тоже. Завершая книгу, я попытаюсь указать «тот» конец. Ведь можно спросить: если так люди сходят с ума, что же сохраняет им здоровье? В заключительных главах я попытаюсь дать определенный, иные скажут — чересчур определенный ответ. Сейчас можно, опираясь на исторический опыт, сказать, что в реальной жизни людей сохраняет им разум. Мистицизм сохраняет людям разум — пока у вас есть тайна, есть здоровье; уничтожьте тайну — и придет болезнь. Обычный человек всегда был в здравом уме, потому что он всегда был мистиком. Он всегда стоял одной ногой на земле, а другой в сказке. Он оставлял за собой право сомневаться в богах, но, в отличие от нынешних агностиков, был свободен и верить в них. Он всегда заботился об истине больше, чем о последовательности. Если он видел две истины, с виду противоречащие друг другу, он принимал обе истины вместе с противоречием. Его духовное зрение было так же объемно, как физическое, он видел разом две картины, и от этого видел их только лучше. Он всегда верил в судьбу, но он верил и в свободу воли. Он верил, что детям принадлежит царство небесное, но воспитывал их по земным законам. Он восхищался юностью потому, что она молода, и старостью именно потому, что она немолода. В этом равновесии очевидных противоречий — сила здорового человека. Весь секрет мистицизма в том, что человеку удавалось понять все с помощью той единственной вещи, которой он не понимает. Угрюмый логик хочет все прояснить, и все становится смутным. Мистик допускал одну тайну, и все прояснялось. Детерминист создает четкую теорию причинности и не может сказать служанке «пожалуйста». Христианин оставляет свободу воли священной тайной, и его отношения со служанкой ясны и естественны. Семя учения он помещает в сокровенную темноту, но ветви разрастаются во все стороны, и плод их — душевное здоровье. Мы приняли круг за символ логики и безумия; мы можем назвать крест символом тайны и здоровья. Буддизм центростремителен, христианство центробежно — оно вырывается наружу. Ибо круг задан, он не станет ни больше ни меньше. Но крест, хотя в середине его — столкновение и спор, простирает четыре руки в бесконечность, не изменяя формы. Заключив в свой центр парадокс, он может расти не меняясь. Круг замкнут в себе, крест открывает объятия всем ветрам, это маяк для вольных странников.
Только символами стоит говорить об этой глубокой проблеме, и другой символ — из естественных наук — хорошо выражает значение мистицизма для людей. То, на что мы не можем смотреть, — это единственная вещь, в свете которой мы видим все остальное. Как солнце в полдень, мистицизм освещает все своей победоносной невидимостью. Материализм — вздорный свет луны, свет без тепла, вторичный свет, отраженный мертвым миром. Греки правильно поступили, сделав Аполлона богом и воображения, и здоровья (он был покровителем врачей и поэтов). О необходимых догмах и индивидуальной вере я скажу позже, но чувство сверхъестественного, которым все живут, подобно солнцу. Солнце кажется нам сияющим и расплывчатым, это и свет и дымка. Но круг луны ясен и непогрешим, цикличен и неизбежен, как круг Эвклида на школьной доске. Луна отчаянно логична, она — мать лунатиков и дала им свое имя.
Глава III
САМОУБИЙСТВО МЫСЛИ
Расхожие выражения не только сильны, но и точны: им подчас удается выразить то, что недоступно теориям и определениям. «Выложился» или «скис» — такое мог придумать Генри Джеймс
[19] в судорожных поисках меткого слова. И нет истины тоньше повседневного «у него сердце не на месте». Это напоминание о нормальном человеке: мало иметь сердце, нужна еще верная взаимосвязь всех порывов. Такое выражение точно описывает угрюмое милосердие и сбившуюся с пути нежность большинства наших выдающихся современников. Честно вглядевшись в Бернарда Шоу, я бы сказал, что у него героически большое и благородное сердце, — но оно не на месте. И точно так же сбилось все наше общество. Современный мир отнюдь не дурен, в некоторых отношениях он чересчур хорош. Он полон диких и ненужных добродетелей. Когда расшатывается религиозная система (как христианство было расшатано Реформацией), на воле оказываются не только пороки. Пороки, конечно, бродят повсюду и причиняют вред. Но бродят на свободе и добродетели, еще более одичалые и вредоносные. Современный мир полон старых христианских добродетелей, сошедших с ума. Они сошли с ума потому, что они разобщены. Так, некоторые ученые заботятся об истине, и истина их безжалостна; а многие гуманисты заботятся только о жалости, и жалость их (мне горько об этом говорить) часто лжива. Например, Блэтчфорд
[20] нападает на христианство потому, что он помешан на одной христианской добродетели, таинственной и почти иррациональной, — на милосердии. Он почему-то думает, что облегчит прощение грехов, если скажет, что грехов нет и, значит, прощать нечего. Блэтчфорд не просто ранний христианин, он единственный ранний христианин, которого и вправду следовало бы бросить львам, потому что в его случае верно обвинение язычников: его милосердие действительно означает анархию. Он враг рода человеческого — и все из-за своей человечности. Другую крайность представляет материалист, который постарался убить в себе любовь к счастливым сказкам об исцелении сердец. Торквемада пытал плоть ради истины духовной; Золя подвергает нас духовной пытке ради истины плотской. Но во времена Торквемады по крайней мере была система, которая отчасти примиряла правосудие и милосердие
[21]. Теперь они даже не раскланиваются при встрече. Но пренебрежение смирением еще опаснее, чем странные отношения правды и милости.
Я говорю сейчас только об одной роли смирения. Оно было уздой для высокомерия и беспредельной алчности, ведь все новые и новые желания человека всегда обгоняют дарованные ему милости. Его ненасытность губит половину его радостей: гоняясь за удовольствиями, он теряет первую радость — изумление. Если человек хочет увидеть великий мир, он должен умалить себя. Даже надменный вид высоких городов и стройных шпилей — плод смирения. Великаны, попирающие лес, как траву, — плод смирения. Башни, уходящие головой выше дальних звезд, — плод смирения. Ибо башни не высоки, когда мы не глядим на них, и великаны не велики, если их не сравнивать с нами. Титаническое воображение — величайшая радость человека — в основе своей смиренно. Ничем нельзя наслаждаться без смирения — даже гордыней.
Но сегодня мы страдаем от того, что смирение не на своем месте. Скромность умеряет теперь не уверенность в себе, но веру в свои убеждения, — а это вовсе не нужно. Человек задуман сомневающимся в себе, но не в истине — это извращение. Ныне человек утверждает то, что он утверждать не должен, — себя, и сомневается в том, в чем не смеет сомневаться, — в разуме, данном ему Богом. Гексли проповедовал смирение достаточное, чтобы учиться у природы. Новый скептик столь смиренен, что сомневается, может ли он учиться. Нельзя сказать, что нет смирения, характерного для наших дней, но это смирение более ядовито, чем дичайшее самоуничижение аскетов. Прежнее смирение было шпорой, гнавшей человека вперед, а не гвоздем в башмаке, мешающим ему идти. Оно заставляло человека сомневаться в своих силах, и он работал напряженнее; новое смирение сомневается в цели — и работа останавливается.
На любом углу можно встретить человека, безумно и кощунственно утверждающего, что он, может быть, не прав. Каждый день встречаешь человека, который допускает, что его взгляды неверны. Но его взгляды должны быть верны, или это не его взгляды. Мы, того и гляди, породим людей столь скромного ума, что они не поверят в арифметику. Мы рискуем увидеть мыслителей, сомневающихся во всемирном тяготении — не приснилось ли им оно. Бывали насмешники слишком гордые, чтобы дать себя убедить, но эти слишком скромны, чтобы убедиться. Кроткие наследуют землю
[22], но современные скептики слишком скромны, чтобы притязать на наследство. Наша следующая проблема связана именно с их интеллектуальной беспомощностью.
В предыдущей главе рассматривался только факт, полученный из опыта: какая бы опасность ни грозила уму, она исходит от логики, а не от воображения. Я не собираюсь нападать на авторитет логики, моя конечная цель — ее защита, ведь логика очень нуждается в защите: современный мир объявил ей войну, и ее твердыня уже колеблется.
Часто говорят, что мудрецы не могут найти разгадку религии. Но беда не в том, что они не могут найти разгадку; беда в том, что наши мудрецы не видят самой загадки. Они похожи на глупых детей, не видящих ничего странного в шутливом утверждении, что дверь — не дверь. Современные свободомыслящие, например, говорят о власти церкви так, словно в ней не только нет никакого смысла, но никогда и не было. Не видя ее философских основ, они забывают ее исторические основания. Религиозная власть часто бывала деспотичной и неразумной, а любая государственная система (особенно нынешняя) бывает равнодушна и жестока. Можно разумно и даже доблестно бранить полицию, но современные критики религиозной власти похожи на людей, которые ругают полицию, совершенно не думая о ворах. Человеческому уму грозит серьезная опасность, столь же реальная, как воры. Религиозная власть была преградой, противостоящей этой опасности, — и этой опасности непременно должно что-то противостоять, иначе наш мир не избежит гибели.
Дело в том, что человеческий ум волен уничтожить себя самого. Как одно поколение может предотвратить появление следующего, поголовно отправившись в монастырь или утопившись, так и группа мыслителей может, в известной мере, воспрепятствовать мысли, научив следующее поколение, что в мысли нет никакой надежности. Бесполезно твердить о выборе между логикой и верой: сама логика — вопрос веры. Нужна вера, чтобы признать, что наши мысли имеют какое-то отношение к реальности. Если вы стали скептиком, вы рано или поздно спросите: «Почему что-либо должно быть правильно, даже наблюдение и дедукция? Почему хорошая логика не может быть так же обманчива, как плохая? Ведь и та, и другая — только циркуляция в мозгах озадаченной обезьяны». Юный скептик говорит: «Я вправе думать по-своему». Но прожженный старый скептик скажет: «Я не вправе думать по-своему. Я вообще не вправе думать».
Вот мысль, которая останавливает работу мысли, и это единственная мысль, подлежащая запрету. Вот зло, против которого направлена религиозная власть. Это зло возникает только в упадочные века, вроде нашего, — уже Уэллс поднял его губительное знамя, он написал изысканную скептическую вещицу «Сомнения прибора»
[23]. В ней он ставит под сомнение самый мозг и решается отделить реальность от всех своих мыслей, прошлых, настоящих и будущих. Ради борьбы с этой, тогда еще отдаленной, погибелью и было создано все воинство веры: все исповедания и церкви, крестовые походы и ужасы инквизиции были призваны не подавить разум, но отстоять его. Люди чувствовали, что, если когда-нибудь усомнятся во всем, в первую очередь усомнятся в разуме. Власть священников отпускать грехи, власть папы наделять властью, и даже ужасы инквизиции — все это только защита одного, главного, таинственного права — права человека думать. Мы теперь знаем, что это так, мы не можем не знать, потому что мы видим, как скептицизм прорывает кольцо старых авторитетов и сбрасывает разум с трона. Когда уходит религия, уходит и логика, ибо обе они первичны и властны, обе — доказательство, которое не может быть доказано. Уничтожая идею божественного авторитета, мы подорвали авторитет человеческий, необходимый даже для решения школьных задач. Долго и напряженно мы стаскивали митру
[24] — и вместе с ней упала голова.
Чтобы наше утверждение не сочли голословным, придется, хоть это и скучно, перебрать те современные теории, которые останавливают мысль. Таково свойство материализма и скептицизма, ибо если разум механичен, думать неинтересно, а если мир нереален, думать не о чем. В одних случаях эффект неясен и сомнителен, в других он очевиден: например, в случае так называемой эволюции.
Эволюция — хороший пример современного мировоззрения, которое если что и уничтожает, то в первую очередь — самое себя: она — или невинное научное описание определенных процессов, или атака на саму мысль. Если эволюция что-нибудь опровергает, то не религию, а рационализм. Если эволюция значит только, что реальное существо — обезьяна — очень медленно превращалась в другое реальное существо — человека, то она безупречна с точки зрения большинства ортодоксов; ведь Бог может действовать и быстро, и медленно, особенно если Он, как христианский Бог, находится вне времени. Но если эволюция означает нечто большее, то она предполагает, что нет ни обезьяны, ни человека, в которого она могла бы превратиться, нет такой вещи, как вещь. В лучшем случае есть только одно: текучесть всего на свете. Это атака не на веру, а на разум: нельзя думать, если думать не о чем, если вы не отделены от объекта мысли. Декарт сказал: мыслю, следовательно, существую
[25]. Эволюционист переворачивает и отрицает изречение: я не существую, значит, я не могу мыслить.
Возможна атака на мысль и с противоположной точки зрения — с той, на которой настаивал Уэллс, утверждая, что каждая вещь «уникальна» и никаких категорий быть не должно. Это столь же пагубно: мысль соединяет явления и останавливается, если их нельзя соединить. Подобный скептицизм запрещает не только мысль, но и речь, нельзя рта раскрыть, не опровергнув его. Когда Уэллс говорит: «Все стулья совершенно различны», он произносит утверждение не только ложное, но и терминологически противоречивое; ведь если все стулья совершенно различны, нельзя говорить «все стулья».
Близка к этим учениям и та теория прогресса, которая считает, что мы меняем идеал вместо того, чтобы попытаться его достичь. Часто можно услышать: «Что хорошо в одном веке, плохо в другом». Это вполне разумно, пока подразумевается, что есть определенная цель, к которой в разные времена стремятся разными способами. Если женщины мечтают быть изящными, то, возможно, сегодня они совершенствуются худея, а завтра — толстея. Но нельзя утверждать, что они станут лучше, если перестанут стремиться к изяществу и пожелают стать прямоугольными. Если идеал меняется, что же будет с прогрессом, которому непременно требуется цель? Ницше высказал бессмысленную идею, будто люди некогда видели добро в том, что мы ныне зовем злом. Будь это так, мы не могли бы говорить, что превзошли предков или хотя бы отстали от них. Как вы догоните Джонса, если идете в другую сторону? Дискутировать о том, выпало ли одному народу больше счастья, чем другому несчастья, — все равно что спорить, сравнивая пуританизм Мильтона
[26] с толщиной свиньи.
Правда, человек (неумный) может менять свою цель или идеал. Но, став идеалом, само изменение пребудет неизменным. Если поклонник изменения хочет оценить свои успехи, он должен быть верен идеалу изменения, он не смеет заигрывать с идеалом однообразия. Прогресс сам по себе не может прогрессировать. Стоит заметить, что, когда Теннисон, пылко, но довольно неубедительно восхвалял идею бесконечного изменения, он инстинктивно использовал метафору, годную для описания тюремной скуки. Он писал: Пусть великий мир несется в изменений колее
[27].
Он представлял себе изменение неизменной колеей, и так оно и есть. Изменение — чуть ли не самая узкая и жесткая колея, в какую только может попасть человек.
Но главная беда в том, что эта идея полной смены принципов делает мысль о прошлом или будущем невозможной. Теория полной смены принципов в человеческой истории лишает нас не только удовольствия чтить наших отцов, но и современного, более утонченного удовольствия презирать их.
Это скудное перечисление современных сил, уничтожающих мысль, будет неполным, если не упомянуть прагматизм. Хотя я пользовался методом прагматиста и должен защищать этот метод как начальные подступы к истине, существует его крайнее применение, которое предполагает полное отсутствие истины. Вот вкратце мое мнение: я согласен с прагматистом, что очевидная объективная истина — это еще не все, сверх нее есть вещи, необходимые уму человека. Но в числе этих вещей я назову и объективную истину. Прагматист велит человеку думать то, что ему нужно, не заботясь об Абсолюте. Но человеку непременно нужно думать об Абсолюте. В сущности, эта философия — словесный парадокс: прагматист заботится о нуждах человека, а одна из главных потребностей человека — быть чем-то большим, чем прагматист. Крайний прагматизм столь же бесчеловечен, как и детерминизм, на который он так ожесточенно нападает. Детерминист (он-то, надо отдать ему должное, и не притворяется человеческим существом) превращает в бессмыслицу право человека на подлинный выбор. Прагматист провозглашает, что он особенно человечен, и превращает в бессмыслицу право человека на подлинный факт.
Подводя итоги нашего спора, можно сказать, что в наиболее типичных современных философиях замечаешь не просто манию, но манию самоубийства. Вопрошатель бьется головой о границы человеческой мысли и разбивает голову. Вот почему так тщетны предупреждения ортодоксов и хвастовство «передовых», твердящих об опасном детстве человеческой мысли. Это не детство, это дряхлость и окончательный распад. Напрасно благочестивые персоны обсуждают, какие ужасы произойдут, если рьяный скептицизм пойдет своим путем, — он уже прошел свой путь. Напрасно речистые атеисты говорят о великих истинах, которые нам откроются, когда мы увидим начало свободной мысли, — мы видели ее конец. У нее не осталось сомнений, и она усомнилась в самой себе. Есть ли видение более дикое, чем город, в котором люди сомневаются в своем существовании? Есть ли более скептический мир, чем тот, где люди сомневаются, существует ли их мир? Наш мир пришел бы к краху быстрее и проще, если б этому не мешали устаревшие законы о богохульстве да абсурдная претензия на то, что Англия — христианская страна. Тем не менее мир вполне мог прийти к краху. Воинствующие атеисты все еще в меньшинстве, но это не новое меньшинство, а старое. Свобода мысли истощила свою свободу, устала от своего успеха. Когда какой-нибудь мыслитель приветствует свободу мысли как рассвет, он похож на персонажа Марка Твена, который вышел, закутавшись в одеяло, встречать восход и как раз подоспел к закату. Если какой-нибудь испуганный священник говорит, что будет ужасно, если распространится тьма свободомыслия, мы ответим ему глубокими и сильными словами Беллока: «Не пугайтесь роста сил, которые уже распадаются. Вы ошиблись часом — уже утро». У нас больше не осталось вопросов, хотя мы искали их в темных углах и в Диких ущельях. Мы нашли все вопросы, настала пора заняться ответами.
Надо добавить еще несколько слов. Приступая к этому первоначальному наброску, я сказал, что к духовной гибели ведет дикая логика, а не дикое воображение. Человек не сходит с ума, создавая статую высотой в милю, но может сойти с ума, если вздумает измерить ее рост в дюймах. И вот одна группа мыслителей решила, что здесь путь к обновлению языческого здоровья мира: они видят, что логика разрушает, и говорят: «зато Воля создает». Высший авторитет принадлежит, по их словам, не разуму, а Воле. Важна не причина желания, а само желание. У меня нет места, чтобы подробно толковать эту философию воли. Она идет, я полагаю, от Ницше, который проповедовал то, что называется эгоизмом. Это было довольно легкомысленно, так как Ницше отрицает эгоизм тем, что его проповедует: проповедовать учение — значит делиться им. Эгоист называет жизнь войной без пощады и не жалеет усилий, чтобы уговорить своих врагов воевать. Проповедник эгоизма поступает весьма альтруистично. Но эта точка зрения, откуда бы она ни шла, весьма популярна в современной литературе. Эти мыслители оправдывают себя тем, что они не мыслители, а творцы. Они говорят, что выбор сам по себе божествен. Так, Шоу нападает на старую идею, что поступки человека надо рассматривать с точки зрения его тяги к счастью. По мнению Шоу, человек действует не ради счастья, но благодаря воле. Шоу не говорит «джем осчастливит меня», но «я хочу джему», и прочие следуют в этом ему с еще большим энтузиазмом. Дэвидсон
[28], известный поэт, так взволнован этим, что вынужден писать прозой. Он опубликовал короткую пьесу с несколькими длинными предисловиями. Подобные пьесы естественны для Шоу, у него все пьесы состоят из предисловий, он, я подозреваю, единственный человек, никогда не писавший стихов. Но то, что Дэвидсон, который может писать прекрасные стихи, пишет вместо них утомительную метафизику в защиту воли, доказывает, что учение о воле захватило умы. Уэллс говорит наполовину на этом языке, утверждая, что надо оценивать вещи с точки зрения не мыслителя, а художника: «Я
чувствую, что эта кривая верна» или «эта линия
должна пройти так». Все они полны энтузиазма, и это понятно, ибо они надеются, что учение о божественной силе воли разрушит проклятую крепость рационализма. Они надеются спастись.
Но они не могут спастись. Эта хвала чистой воле кончается тем же крушением и пустотой, что и безумное следование логике. Так же как совершенно свободная мысль выдвигает сомнение в самой мысли, так и принятие чистой воли парализует саму волю. Шоу не понял подлинного различия между старой утилитаристской проверкой на удовольствие
[29] (конечно, неуклюжей и часто ошибочной) и тем, что предлагает он. Подлинное различие между принципом счастья и принципом воли в том, что проверка счастьем — это проверка, а проверка волей — нет. Можно рассуждать, был ли поступок человека, перепрыгнувшего через утес, направлен к счастью, но бессмысленно обсуждать, вызван ли он его волей, — конечно да. Можно хвалить поступок за то, что он принесет удовольствие, или открытие истины, или спасение души, но нельзя хвалить его за то, что он — акт воли; это значит просто твердить, что поступок есть поступок. Хваля волю, вы не можете предпочесть один путь другому, а ведь выбор пути — это суть воли, которую вы превозносите.
Поклонение воле — это отрицание воли. Восхищаться актом выбора — значит отказаться от выбора. Если Шоу скажет мне: «Желай чего-нибудь», то это равносильно словам «мне все равно, чего ты желаешь». Нельзя восхищаться волей вообще, потому что воля всегда конкретна. Блестящего анархиста вроде Дэвидсона раздражает обычная мораль, и тогда он призывает волю — все равно какую. Он хочет, чтобы человечество чего-нибудь хотело. Но человечество хочет определенной вещи — обычной морали. Он восстает против закона и велит нам желать чего угодно. Но мы пожелали иметь закон, против которого он восстает.
Все поклонники воли, от Ницше до Дэвидсона, на самом деле вовсе лишены воли, они не могут хотеть, они едва ли могут мечтать. Доказать это легко: они всегда говорят, что воля распространяется и вырывается наружу. Напротив, любой акт воли — самоограничение. В этом смысле каждый поступок — самопожертвование. Выбирая что-нибудь, вы отказываетесь от всего остального. То возражение, которое они выдвигают против брака, действительно против любого поступка. Каждый поступок — неотменимый выбор, исключающий все прочие. Когда вы берете себе жену, вы отказываетесь от всех остальных женщин; точно так же, выбрав какой-то путь, вы отказываетесь от всех остальных. Если вы станете английским королем, вы откажетесь от должности бидля
[30] в Бромптоне; отправившись в Рим, вы пожертвуете сосредоточенной жизнью в Уимблдоне. Именно из-за этого запрета или ограничения, присущего воле, разговоры анархических поклонников воли столь бессмысленны. Например, Дэвидсон велит нам не обращать внимания на запреты, но ведь «не смей» — необходимое следствие «я хочу»: «Я хочу пойти на праздник, и не смей мне мешать». Анархист заклинает нас быть дерзкими творцами, не думать ни о законах, ни о пределах, но искусство — это ограничение, суть любой картины выявляется рамой. Если вы рисуете жирафа, вы должны нарисовать его длинную шею. Если вы считаете себя вправе нарисовать его с короткой шеей, вы убедитесь, что вы не вправе нарисовать жирафа. Можно освободить вещи от чуждых или случайных, но не от природных свойств. Вы можете освободить тигра от заточения в клетке, но не от полос. Не освобождайте верблюда от грузного горба — вы рискуете освободить его от верблюдности. Не призывайте треугольники разрушить их треугольную тюрьму — если они вырвутся за пределы трех сторон, их жизнь плачевно оборвется. Кто-то написал книгу «Любовь треугольников»
[31], я ее не читал, но уверен, что если треугольники были любимы, то за свою треугольность. Так обстоят дела со всем творчеством, которое в некоторых отношениях служит примером чистой воли. Мастер любит ограничения — они определяют вещь, которую он творит. Художника радует гладкий холст, скульптора — бесцветная глина.
Поясним нашу мысль примером из истории. Французская революция была вправду делом героическим и решительным, потому что якобинцы хотели чего-то определенного и ограниченного. Они жаждали демократических свобод, но и всех демократических запретов. Они хотели иметь выборы и не иметь титулов. Республиканство проявляло свою аскетическую сторону во Франклине
[32] и Робеспьере, так же как свою широту в Дантоне
[33] и Уилксе
[34]. Поэтому они создали нечто прочное и четко оформленное — безусловное социальное равенство и крестьянское богатство Франции. Но с тех пор революционную и философскую мысль Европы подорвал отказ от любого выбора из-за связанных с ним ограничений. Либерализм превратился в либеральность, «революционизировать» становится непереходным глаголом. Якобинец мог назвать не только систему, против которой он восстает, но и (что гораздо важнее) систему, против которой он не восстает, которую он принимает. Нынешний мятежник — скептик, он ничего не признает безусловно, он не знает лояльности и потому не может быть подлинным революционером. Его манера во всем сомневаться мешает ему что-либо осудить, ведь любое осуждение предполагает какую-то моральную доктрину, а современный революционер ставит под сомнение не только то учение, которое он осуждает, но и то учение, на основании которого он берется судить. Так, он пишет книгу против имперского гнета, который оскорбляет чистоту женщин, а затем он пишет другую книгу (о проблемах пола), в которой он сам оскорбляет ее. Он клянет султана за то, что христианские девушки лишаются невинности, а затем он клянет ханжей за то, что они ее охраняют. В качестве политика он провозглашает, что война — бессмысленный расход жизней, а в качестве философа, что жизнь — бессмысленный расход времени. Русский пессимист осуждает полицейского за убийство крестьянина и крестьянина за то, что он не покончил с собой. Человек осуждает брак как ложь и распутных аристократов за презрение к браку. Он называет флаг погремушкой, но нападает на угнетателей Польши или Ирландии, которые отнимают эту погремушку. Такой человек сперва отправляется на политическое собрание и там жалуется, что к дикарям относятся как к животным, а затем берет шляпу и зонтик и идет на научное собрание, где доказывает, что они и есть животные. Короче говоря, современный революционер, будучи скептиком, все время подкапывается под самого себя. В книге о политике он нападает на людей, попирающих мораль, в книге об этике он обрушивается на мораль за то, что она подавляет людей. Бунт современного бунтаря стал бессмыслен: восставая против всего, он утратил право восстать против чего-либо.
Можно добавить, что та же беда постигла все свирепые и воинственные жанры литературы. Сатира может быть сумасбродной и анархичной, но ей необходимо превосходство одних вещей над другими, ей нужен образец. Когда мальчишки на улице смеются над полнотой известного журналиста
[35], они бессознательно принимают за образец греческую скульптуру, они требуют Аполлона. И удивительное исчезновение сатиры из нашей литературы — пример того, как угасает все воинственное при отсутствии нормы, за которую надо воевать. Ницше от природы саркастичен. Он мог глумиться, хотя не умел смеяться, но в его сатире есть какая-то неосновательность именно потому, что за ней нет ни крупицы обычной морали. Он сам много нелепее, чем то, что он осуждает. Ницше очень хорошо символизирует вырождение абстрактной ярости. Размягчение мозга, которое в конце концов настигло его, не было физическим несчастьем. Если бы Ницше не кончил слабоумием, слабоумием кончило бы ницшеанство. Думать в одиночестве и гордыне — это путь к идиотизму. Каждый, кто не желает смягчить свое сердце, кончит размягчением мозга.
Последняя попытка избежать интеллектуализма приводит к интеллектуализму и, значит, к смерти. Яростное поклонение беззаконию и материалистическое поклонение законам равно кончаются пустотой. Ницше карабкается на шатающиеся горы, но в конце концов взбирается на Тибет и усаживается там рядом с Толстым в стране ничто и нирваны. Оба они беспомощны — один потому, что не может ничего удержать, другой потому, что не хочет ничего упустить. Толстовская воля заморожена буддийским чувством греховности любого конкретного поступка, но и ницшеанская воля заморожена идеей, что любой конкретный поступок хорош: ведь если все конкретные поступки хороши, ни один из них нельзя назвать конкретным. Оба стоят на перекрестке, и один ненавидит все пути, а другому все пути хороши. Результат угадать нетрудно — они стоят на перекрестке.
На этом я кончаю, слава Богу, первую, самую скучную часть моей книги — обзор современных философских систем. Теперь я перейду к своей собственной; может быть, она не интересна читателю, но, на худой конец, интересна мне. Передо мной лежит стопка книг, которыми я пользовался, — стопка искренних и бесплодных книг. Я далеко отошел от них и вижу неизбежный крах ницшеанства, толстовства и других современных учений так же ясно, как видят с воздушного шара, что поезд несется к пропасти. Все эти учения — на пути в пустоту сумасшедшего дома. Ведь безумие — работа ума, доведенная до отказа, а они подошли к нему вплотную. И вот, когда я бился и томился над умными, блестящими и бесполезными книгами, взгляд мой упал на одно из заглавий: «Жанна д'Арк». Я только увидел его краем глаза и тут же вспомнил Ренанову «Жизнь Иисуса». Франс
[36], как и Ренан, писал свою книгу в странном тоне почтительного скепсиса. Он отверг свидетельства о чудесах, основанные на Предании, чтобы рассказать нам вещи, просто ни на чем не основанные. Он не верит в те или иные подвиги святой — и делает вид, что знает доподлинно ее ощущения и думы. Но я упомянул об этой книге не для того, чтобы ее ругать; просто имя натолкнуло меня на мысль. Жанна д'Арк не топталась на распутье, отбросив все пути, как Толстой, или приняв их, как Ницше. Она выбрала путь и ринулась по нему стремительно, как молния. Тем не менее в ней было все то, что есть хорошего в Толстом и Ницше; все, что есть в них мало-мальски сносного. Я подумал о великих дарах Толстого — о даре простых чувств, особенно жалости, о любви к земле и к бедным, о почтении к согнутой спине. У Жанны было все это, даже больше: она бедно жила, а не только поклонялась бедности, как типичный аристократ, бьющийся над загадкой крестьянина. Потом я подумал обо всем, что есть хорошего и трогательного в несчастном Ницше, — о его мятеже против пустоты и трусости нашего века. Я вспомнил, как он возопил в пустыне о вдохновенном равновесии опасности, как жаждал топота коней и звал в битву. Что ж, и это было у Жанны, только она сражалась, а не поклонялась сражению. Мы знаем, что она не испугалась войска, тогда как бедный Ницше боялся и коровы. Толстой воспел крестьян — она была крестьянкой. Ницше воспел войну — она воевала. Она побила каждого из них на его поле; была добрей и смиренней Толстого, яростней Ницше. И главное — она делала и сделала много, а они размышляли. Как же тут не подумать, что ее вера владеет тайной нравственной цельности и ощутимой пользы? Так я и подумал; и за спиной Иоанны
[37] встал ее Создатель. Ренан страдал тем же, что и Франс. Он тоже отделил милосердие от гнева и попытался убедить нас, что изгнание из храма — просто нервный срыв после провала идиллических надежд. Словно любовь к людям и ненависть к бесчеловечности — не одно и то же! Альтруисты тонкими голосами уличают Христа в жестокости. Эгоисты — у тех голоса еще тоньше — уличают Его в мягкотелости. Чего ж и ждать от нашего времени, когда все помешались на придирках? Любовь великих страшнее, чем ненависть тирана, ненависть — благородней, чем любовь филантропа. Есть в мире великая цельность; и современным людям дано только подбирать ее клочья, поражаясь безумию Христова гнева и безумию Его кротости. Разделили ризы Его, и об одежде Его бросали жребий, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху
[38].
Глава IV
ЭТИКА ЭЛЬФОВ
Когда деловому человеку надоедает идеализм младшего клерка, он говорит примерно так: «Ну, конечно, молодежь мечтает, витает в облаках, но стоит повзрослеть, и воздушные замки рассеются как дым, ты спустишься на землю, поверишь политикам, усвоишь все их уловки и будешь ладить с миром как он есть». Во всяком случае, так говорили мне, когда я был юн, почтенные, ныне усопшие, благодетели рода людского. Но с тех пор я вырос и узнал, что старцы лгали: все было наоборот. Они говорили, что я утрачу идеалы и доверюсь трезвым политикам. Идеалов я не утратил, вера моя в первичные истины все та же, а вот ребяческой веры в политиков я лишился. Меня все так же волнует Армагеддон
[39], куда меньше — выборы, хотя в младенчестве я ликовал при одном упоминании о них. Да, мечта весома и надежна, мечта — факт; реальность часто лжет. В либерализм я верю, как прежде, нет, больше, чем прежде, но было блаженное время, когда я верил в либералов.
Я привел именно этот пример стойкой веры: боюсь, когда я изложу истоки моего мировоззрения, только либерализм сочтут сравнительно разумным пристрастием. Меня воспитали либералом, и я всегда верил в демократию, в элементарное учение, что люди должны управлять собой сами. Если эта мысль покажется туманной или пустой, скажу только, что принцип демократии состоит для меня в двух утверждениях. То, что присуще всем людям, важнее причуд немногих. Обычное ценнее необычного, оно даже более необычно. Человек чудесней и удивительней, чем люди. Чудо человека должно поражать сильнее, чем все чудеса разума, мощи, искусства и цивилизации. Просто человек о двух ногах растрогает больше, чем музыка, рассмешит сильней, чем любой гротеск. Смерть трагичней, чем смерть от голода, нос смешней, чем носище.
Вот первый принцип демократии: главное в людях то, что присуще им всем, а не кому-то в отдельности. Второй — таков: к политике имеют отношение все. Влюбиться — поэтичней, чем писать стихи. Для демократа «править» ближе к любви, чем к стихам. Занятие это сильно отличается от игры на органе, создания миниатюр, поисков Северного полюса (странная привычка), высшего пилотажа или астрономии — это пусть делает тот, кто умеет. Но заниматься политикой — все равно что сморкаться или писать невесте. Это надо делать самому, даже если не умеешь. Я спорю не о том, верны ли эти взгляды: я знаю, что сейчас кое-кто хочет, чтобы жен им подбирали ученые, и они скоро попросят, чтобы носы им утирали сиделки. Я просто говорю, что люди признают всеобщность этих дел, и демократ относит к их числу управление страной. Таково кредо демократа: страшно важные дела надо доверить самим людям — любовь, воспитание детей, управление государством. Вот демократия, в которую я всегда верил.
Но одного я с юности не могу понять: откуда взяли, что демократия не в ладу с традицией? Ведь ясно, что традиция — единственная демократия, прошедшая сквозь века. Она верит голосу народа больше, чем частному или произвольному мнению. Тот, кто обращается к немецкому ученому в полемике с католической церковью, явно апеллирует к аристократии: в его глазах мнение эксперта значит больше, чем авторитет масс. Нетрудно понять, почему легенда заслужила большее уважение, чем история. Легенду творит вся деревня — книгу пишет одинокий сумасшедший. Тот, кто восстает против традиции, считая, что наши предки были невежественны, может предложить этот довод в Карлтон-клубе
[40] заодно с утверждением, что невежественны избиратели в трущобах. Нас это не устроит. Если в повседневных делах мы ценим мнение обычных людей, как же пренебречь им в истории или мифе? Традиция расширяет права; она дает право голоса самому угнетенному классу — нашим предкам. Традиция не сдается заносчивой олигархии, которой выпало жить сейчас. Все демократы верят, что человек не может быть ущемлен в своих правах только из-за такой случайности, как его рождение; традиция не позволяет ущемлять права человека из-за такой случайности, как смерть. Демократ требует не пренебрегать советом слуги. Традиция заставляет прислушаться к совету отца. Я не могу разделить демократию и традицию, мне ясно, что идея — одна. Позовем мертвых на наш совет. Древние греки голосовали камнями — они будут голосовать надгробиями. Все будет вполне законно; ведь могильные камни, как и бюллетени, помечены крестом.
Поэтому если у меня и есть пристрастие, то это — пристрастие к демократии и, значит, к традиции. Я всегда доверял массе тяжко работающих людей больше, чем беспокойной породе литераторов, к которой принадлежу. Даже фантазии и предрассудки тех, кто видит жизнь изнутри, я предпочту яснейшим доводам тех, кто видит жизнь снаружи. Я всегда верил сказкам старых бабушек, а не фактам старых дев. Пока ум остается природным умом, пусть он будет сколь угодно причудливым.
Теперь я должен определить первоосновы моей философии. Я и не притворяюсь, будто я это умею, и потому просто изложу мои принципы один за другим в том порядке, как я на них набрел. Потом я постараюсь соединить их и подвести итоги моей личной философии и, наконец, опишу мое потрясающее открытие: все это было найдено до меня — найдено христианством. Из всех моих глубочайших убеждений самое раннее связано с народной традицией, и без предшествующего объяснения я не смог бы объяснить свой духовный опыт. Я и так не знаю, смогу ли объяснить, но сейчас я попробую.
Мою первую и последнюю философию, в которую я твердо верю, я усвоил в детской от няни — величественной, вдохновенной жрицы демократии и традиции. Крепче всего я верил и верю в волшебные сказки. Они кажутся мне удивительно разумными. Это не фантазия, рядом с ними все остальное фантастично, даже религия и рационализм: религия невероятно права, рационализм невероятно не прав. Страна чудес — это просто солнечный край здравого смысла. Не земля судит небо, а небо землю, и точно так же, по-моему, землю укоряет сказочная страна. Я знал о волшебном бобовом стебле прежде, чем вкусил бобов
[41], и поверил в человека на Луне раньше, чем в Луну. И в этом я следовал традиции. Наши поэты — естествоиспытатели, они говорят о кусте или ручье, но создатели эпоса и притч говорили о божествах ручья и куста. Это и имеют в виду наши современники, когда упрекают древних, которые, наверное, не ценили природу, если считали ее божественной. Ведь няни рассказывают детям не о траве, а о феях, пляшущих в травах, и древние греки за дриадами не видели леса.
Мне важно понять, какая этика и философия вырастают из волшебных сказок. Описывая сказки подробно, я бы назвал немало здравых и благородных правил, которым они учат. Есть рыцарский урок «Джека — победителя великанов»: великанов следует убивать просто потому, что они велики. Это мужественный протест против гордыни, ибо мятежник древнее всех царств и традиция на стороне якобинца, а не якобита
[42]. «Золушка» учит тому же, что и «Величит душа Моя Господа…»
[43] — «вознес смиренных». Великая мораль «Красавицы и чудовища» — полюби другого прежде, чем он покажется привлекательным. Страшный намек «Спящей красавицы» — человек благословен от рождения всеми дарами, но обречен смерти, однако смерть может смягчиться и стать сном. Я разбираю не законы Эльфляндии; я говорю о духе этих законов, который я усвоил, когда еще не умел говорить, и сохраню, когда разучусь читать. Я говорю о взгляде на мир, который воспитали во мне сказки, а после робко утвердили факты.
Вот этот взгляд: существуют причинно-следственные связи («одно вытекает из другого»), которые в полном смысле слова разумны и даже необходимы. Таковы законы логики и математики. Мы, жители страны эльфов (самые разумные из всех созданий), признаем их. Скажем, если злые сестры старше Золушки, необходимо, чтобы Золушка была младше их. Пусть Геккель говорит, что это фатализм, — выхода здесь нет. Раз Джек — сын мельника, значит, мельник — отец Джека. Так повелевает с высокого трона неумолимый разум, и мы в стране эльфов повинуемся. Если три брата едут верхом, значит, с лошадьми их шестеро и у всех вместе — восемнадцать ног; это чистая логика, и страна эльфов полна ею. Но, выглянув из сказочной страны в обычный мир, я увидел нечто невероятное: ученые люди в очках говорили о житейских случайностях — о смерти или заре — так, словно они разумны и неизбежны. Для них плоды на дереве — факт столь же неустранимый, как тот, что два дерева да одно будет три; а это не так. С точки зрения сказочной страны разница огромна, и проверяется она воображением. Нельзя вообразить, что два плюс один не равно трем, но легко вообразить на дереве не фрукты, а золотые подсвечники или тигры, уцепившиеся хвостом за ветку.
Люди в очках любят говорить о Ньютоне: его ушибло яблоко, и он открыл закон. Но они не видят разницы между подлинным законом разума и простой случайностью — упавшим яблоком. Если яблоко стукнуло Ньютона по носу, значит, нос его стукнул яблоко. Это неизбежно, мы не можем себе представить одно без другого. Зато мы вполне можем вообразить, что яблоко не падает ему на нос, а яростно несется прочь, чтобы поразить другой нос, неугодный ему. В сказках мы всегда разделяли логические связи, то есть законы, и житейские факты, где законов нет, есть только странные повторы. Мы верим в физические чудеса, но не в логически невозможное. Мы верим, что боб взобрался на небеса, но это не мешает нам ответить на философский вопрос, сколько бобов в дюжине.
В этом детские сказки удивительно правдивы. Ученый говорит: «Перережь черенок, и яблоко упадет» — и он говорит спокойно, словно одно непременно следует из другого. Колдунья говорит: «Затруби в рог, и замок людоеда падет» — но говорит она не так, словно это неизбежно. Конечно, она давала этот совет многим славным рыцарям, и многие замки пали на ее глазах, но она не утратила ни удивления, ни разума. Она не ломает себе голову, чтобы изобрести логическую связь между рогом и падающей башней. А ученый не успокоится, пока не установит связь между яблоком, покинувшим дерево, и яблоком, достигшим земли. Он говорит так, словно обнаружил не набор удивительных событий, но объединяющую их истину; словно физическая связь между двумя странными явлениями соединяет их и философски. Ему кажется, что если одна непонятная вещь постоянно следует за другой, то вместе они понятны. Две туманные загадки дают ясный ответ.
Мы в стране эльфов избегаем слова «закон», но его чрезвычайно любят в стране ученых. Занятную догадку о звуках забытых языков они называют законом Гримма
[44]. Но закон Гримма куда менее разумен, чем сказки Гримма. Сказки, по крайней мере, вправду сказки, но закон — не закон. Закон предполагает, что мы знаем суть и причины обобщения, а не только заметили его результаты. Если есть закон, что карманникам место в тюрьме, то он предполагает некую духовную связь между идеей воровства и идеей тюрьмы. И мы знаем эту связь. Мы можем объяснить, почему мы лишаем свободы человека, который ею злоупотребляет. Но мы не знаем, почему яйцо превратилось в цыпленка, как не знаем, почему медведь превратился в чудесного принца. Как
идеи яйцо и цыпленок даже более чужды друг другу — ведь яйцо ничем не напоминает цыпленка, в то время как многие принцы смахивают на медведей. Сознавая, что происходят определенные изменения, мы должны их рассматривать с философских позиций волшебной сказки, а не в антифилософской манере «законов природы». Если нас спросят, почему яйца превратились в птиц, а листья осенью опадают, надо ответить, как фея крестная ответила бы Золушке, вздумай та спросить, почему мыши превратились в лошадей, а ее наряды исчезли в полночь. Мы ответим: «Это — волшебство». Это не «закон», ибо мы не знаем его смысла. Это не необходимость, ибо, хотя на практике мы рассчитываем, что так будет, мы не вправе сказать, что так бывает всегда. Для закона недостаточно, как воображал Гексли, что мы рассчитываем на обычный порядок вещей. Мы не рассчитываем, мы делаем на него ставку. Мы рискуем столкнуться с чудом, как с отравленным кексом или губительной кометой. Мы не учитываем чудо не потому, что оно исключено, но потому, что оно — исключение. Все термины научных книг — «закон», «тенденция», «необходимость», «порядок» — неразумны, ведь они предполагают внутреннюю связь, которой нет. В описании природы меня удовлетворяют только термины сказки: «волшебство», «очарование», «чары». Они выражают произвольность явления и его тайну. Дерево дает плод, ибо оно — волшебное. Река бежит с гор — она заколдована. Солнце светит — заколдовано и оно.
Это не фантастика и не мистика. Позже мы поговорим о мистике, но язык волшебных сказок разумен и агностичен. Только им я могу выразить ясное и четкое ощущение, что одна вещь совершенно отлична от другой и нет логической связи между «летать» и «класть яйца». Человек, говорящий о законе, которого он в глаза не видел, — вот мистик. Обычный ученый, строго говоря, раб эмоций. Он раб их в том существенном смысле, что его увлекают и подавляют совпадения. Он так часто видел, как птицы летают и кладут яйца, что чувствует некую тонкую туманную связь между этими идеями — а ее нет. Отвергнутый воздыхатель объединяет луну и погибшую любовь, а материалист — луну и прилив. В обоих случаях связь только в том, что их часто видели вместе. Сентиментальный человек проливает слезы, вдохнув аромат яблоневых почек, потому что в силу его личных ассоциаций этот запах напомнил ему детство. Ученый материалист (хотя он скрывает свои слезы) — тоже сентиментален, ибо его темные ассоциации связывают яблоневый цвет с яблоками. Но строгий логик из страны эльфов не видит резона, почему бы на яблоне не вырасти тюльпанам, — так бывает в его стране.
Это простейшее чудо — не фантазия из волшебных сказок, напротив, сами сказки рождаются из него. Все мы любим сказки о любви, потому что от рождения слышим ее зов; точно так же все мы любим удивительные сказки, потому что они затрагивают древний инстинкт — жажду удивляться. Именно поэтому в самом раннем детстве мы не нуждались в волшебных сказках, достаточно было простых историй. Сама жизнь очень интересна. Ребенок семи лет затаив дыхание внимает повести о том, как Томми открыл дверь и увидел дракона. А трехлетний с восторгом узнает, что Томми просто открыл дверь. Мальчишки любят романтические сказки, а малыши — реалистические: для них реальность достаточно романтична. Я думаю, только младенец может слушать современный реалистический роман и не соскучиться. Это убеждает нас, что детские сказки просто-напросто отвечают врожденному чувству интереса и изумления. Сказки о золотых яблоках рассказывают, чтобы напомнить ту минуту, когда мы узнали, что они — зеленые. В сказках реки текут вином, чтобы на мгновение напомнить нам, что они текут водой. Я говорил, что это вполне разумно и агностично. Здесь я полностью на стороне высокого агностицизма — лучшее имя ему Неведение. Мы все читали и в научных и в художественных книгах о человеке, забывшем свое имя. Он бродит по улицам, все видит и воспринимает, только не может вспомнить, кто же он. Каждый человек — герой этой истории. Каждый человек забыл, кто он. Можно постичь мир, но не самого себя, — душа дальше от нас, чем далекие звезды. Возлюби Господа Бога своего, но не знай себя
[45]. Мы все подвержены этой умственной болезни — мы забыли свои имена. Все, что мы называем здравым смыслом, практичностью, рационализмом, означает только, что в некоторые глухие периоды нашей жизни мы забываем об этом провале в памяти. Все, что мы называем духом, искусством, восторгом, означает только, что в некий ужасный миг мы вспоминаем о нем.
Но хотя (вроде этого человека из романа) мы бродим по улицам и дивимся, как полоумные, все же это — удивление, от слова «дивный». Положительная сторона чуда — благодарность. Это следующая веха на нашем пути по стране чудес. В другой главе я поговорю об интеллектуальных аспектах оптимизма и пессимизма, поскольку у них таковые имеются. Сейчас я только пытаюсь описать невероятные чувства, которые не поддаются описанию. И сильнейшее из них — чувство, что жизнь столь же драгоценна, сколь изумительна. Жизнь прекрасна, ибо она — приключение; жизнь — приключение, ибо она — шанс. Волшебные сказки не портит то обстоятельство, что драконов в них больше, чем принцесс, — все равно в волшебной сказке хорошо. Счастье проверяется благодарностью, и я был благодарен сам не зная кому. Дети благодарны Санта-Клаусу за подарки, которые он кладет им в чулок; могу же я поблагодарить Санта-Клауса за таинственный дар — две ноги! Мы благодарим за подаренные нам на день рождения сигары и тапочки, но кто подарил мне в день рождения жизнь?
Таковы были мои первые чувства, недоказуемые и неоспоримые. Мир не только потрясает; жизнь — сюрприз и сюрприз приятный. Мое первое мировоззрение вполне отражает застрявшая у меня в памяти детская загадка: «Что сказала первая лягушка?»; ответ: «Господи, какой прыгучей ты меня создал!» В этом все, о чем я говорил: Бог сделал лягушку прыгучей, и лягушка любит прыгать. Когда эти дела улажены, начинает действовать второй великий закон волшебной сказки.
Всякий может увидеть его, пусть только прочтет сказки братьев Гримм или прекрасные сборники Ленга. Ради педантизма я назову его Учением о Радости-под-Условием. Оселок говорил о том, как много блага в слове «если»
[46]; согласно этике эльфов, все благо — в этом слове. В сказке всегда говорится: «Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь „корова“, или „Ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей луковицу“. Мечта всегда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если что-то одно запрещено. В прелестных и тонких стихах об эльфах Йейтс называет их беззаконными: они мчатся в невинной анархии на неоседланных воздушных конях,
Скачут на гребне прилива
Пляшут, как пламя, в горах[47].
Ужасно говорить, что Йейтс не понимает эльфов. Но я скажу это. Он — ироничный ирландец, набитый интеллектуальностью. Он недостаточно глуп, чтобы понимать фей. Феи предпочитают ротозеев вроде меня, которые глупо ухмыляются и делают, как велено. Йейтс видит в эльфах весь правый бунт своего народа. Но беззаконие ирландцев — беззаконие христианское, основанное на разуме и справедливости. Ирландец восстает против того, что слишком хорошо понимает; подлинный гражданин Эльфляндии подчиняется тому, чего не понимает вовсе. В волшебных сказках непостижимое счастье покоится на непостижимом условии. Открыл ларчик — разлетятся беды, забыл слово — погибли города, зажег лампу — улетит любовь. Сорви цветок — и люди обречены. Съешь яблоко — и пропала надежда на Бога.
Так говорится в волшебных сказках, и, конечно, это не беззаконие, даже не свобода. Каторжники могут считать Флит-стрит свободной, но внимательное изучение покажет, что и феи и журналисты — рабы долга. Фея-крестная так же строга, как и другие крестные. Золушка получила карету из страны чудес, кучера — невесть откуда, но строгий приказ — вернуться к двенадцати — она могла получить из Брикстона. У нее была стеклянная туфелька, и не случайно стекло так часто встречается в фольклоре. Одна принцесса живет в стеклянном замке, другая — на стеклянной горе, третья видит все в волшебном зеркале: все они будут жить в стеклянных дворцах, если не станут швырять камни. Тонкий блеск стекла символизирует счастье столь же хрупкое, как любой сосуд, который легко может разбить кошка или горничная. И это чувство из волшебных сказок запало мне в душу, я стал так относиться ко всему миру. Я чувствовал и чувствую, что жизнь ярка, как бриллиант, но хрупка, как оконное стекло, и когда небеса сравнивали с кристаллом, я вздрагивал — как бы Бог не разбил мир вдребезги.
Но помните, бьющееся не обречено на гибель. Ударьте по стеклу — оно не проживет и секунды, берегите его — оно проживет века. Такова радость человека; как в стране эльфов, так и на земле счастье продлится, пока вы не сделаете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто не понимая, почему этого делать нельзя. Мне этот закон не казался несправедливым. Если младший сын мельника спросит фею: «Объясни, почему я не могу стоять на голове в волшебном дворце?», фея скажет: «Сперва объясни волшебный дворец». Если Золушка спросит: «За что я должна в двенадцать уйти с бала?», крестная ответит: «А за что ты идешь на бал?» Если я завещал кому-то десять говорящих слонов и сто крылатых коней, пусть он не жалуется, если удивительный подарок дается. С удивительным условием — не смотреть крылатому коню в зубы. Сама жизнь кажется мне удивительным даром, и я не вправе жаловаться на то, что дивное видение почему-то ограниченно; я ведь не постиг самого видения. Рама не страннее, чем картина. Запрет может быть столь же диким, сколь и дар; он ослепляет, как солнце, ускользает, как река, ужасает и удивляет, как лесные дебри.
Благодаря этой вере (назовем ее философией феи-крестной) я никогда не чувствовал того, что чувствовали мои ровесники и называли
мятежом. Надеюсь, я бы воспротивился дурным законам — о них и их определении поговорим в другой раз. Но я не склонен сопротивляться любому закону только потому, что он таинствен. Передача земли иногда сопровождается дурацкими церемониями — надо сломать палку или уплатить зернышко. Я готов подчиниться любой феодальной фантазии ради великого владения — владения землею и небом. Эта фантазия не может быть нелепее и удивительнее, чем то, что мне вообще позволено здесь жить. Сейчас я могу привести только один этический пример, чтобы объяснить мое мнение: в отличие от других юнцов, я не бранил единобрачия, потому что никакие ограничения любви не кажутся мне столь чудными и неожиданными, как сама любовь. Ты вправе, словно Эндимион
[48], любить Луну — зачем же сетовать, что прочие луны Юпитер бережет в своем гареме? Мне, выросшему на волшебных сказках, вроде истории Эндимиона, это кажется вульгарным и неприличным. Верность одной женщине — недорогая плата за то, чтобы увидеть хоть одну женщину. Жаловаться, что жениться можно только раз, все равно что жаловаться, что родиться можно лишь однажды. Это несоизмеримо с величайшим переживанием, о котором идет речь, и обнаруживает не преувеличенную чувственность, но странное бесчувствие. Только дурак недоволен, что нельзя войти в Эдем
[49] сразу через пять ворот. Полигамия — недостаток любви, словно ты рассеянно перебираешь десяток бесценных жемчужин. Эстеты достигают безумных пределов речи, восхваляя все, что достойно любви. Они рыдают над чертополохом, блестящий жучок повергает их на колени. Но их эмоции никогда не находили во мне отклика, потому что им не приходит в голову платить за удовольствие хотя бы символической жертвой. Я чувствовал, что нужно поститься сорок дней, чтобы увидеть дрозда; пройти через огонь, чтобы добыть первоцвет. Любители прекрасного не могут даже протрезвиться ради дрозда, претерпеть обычное христианское бракосочетание в уплату за первоцвет. За необычайные радости нужно платить соблюдением обычной морали. Оскар Уайльд
[50] сказал, что закаты никто не ценит, потому что за них нельзя заплатить. Он не прав: мы можем заплатить тем, что мы — не Оскар Уайльд.
Я оставил сказки на полу в детской и с тех пор не встречал столь разумной книги. Я покинул няню — стража традиций и демократии — и с тех пор не встречал в современном мире кого-либо столь здраво радикального или столь здраво консервативного. Когда я впервые вышел в мир современной мысли, я увидел, что он совершенно расходится с моей няней в двух важнейших вопросах. Много времени ушло, пока я понял, что мир не прав, а няня права. Удивительно, что современная мысль противоречит двум самым существенным положениям моей детской веры. Я уже говорил о вере, которую воспитали во мне волшебные сказки: — мир причудлив, изумителен, он мог бы быть совсем другим; и таков, как он есть, он прекрасен, но за этот потрясающий мир мы должны уплатить дань смирения и подчиниться удивительнейшим ограничениям столь удивительной благодати. Но весь современный мир валом обрушился на мою веру, и столкновение породило два внезапных и неожиданных ощущения, которые сохранились во мне, а со временем окрепли и стали убеждениями.
Во-первых, я увидел, что весь современный мир говорит на языке некоего научного фатализма: все таково, каким оно должно быть, ибо все без ошибки развивалось с самого начала. Лист на дереве зеленый, потому что он никогда не мог быть другим. Философ же сказочной школы радуется зеленому листу именно потому, что он мог быть алым. Лист словно бы превратился в зеленый за миг до того, как на него взглянули. Мы, жители страны эльфов, рады, что снег бел, по той весьма разумной причине, что он мог быть черным. В каждом цвете мы чувствуем выбор; багрянец роз не только определен — он драматичен, словно внезапно хлынула кровь. Мы видим: что-то свершилось. Но великие детерминисты девятнадцатого столетия воспротивились нашему врожденному чувству: вот сейчас, мгновение назад, что-то произошло. Их послушать, ничего не происходило с начала мира. Ничего не произошло с той поры, как возник мир; и даже в этом они не уверены.
Мир, каким я его застал, утвердился в нынешнем кальвинизме; вещи для него — такие, как они есть. Но, задавая вопросы, я понял, что доказательств нет: все повторяется просто потому, что повторяется. Для меня же от этого повторения все стало скучнее, а не разумней. Скажем, если бы я увидел на улице странный нос, я бы счел это случайностью, но если бы я увидел еще шесть таких носов, я бы решил, что это — какое-нибудь местное тайное общество. Один слон с хоботом странен; все слоны с хоботами — это уже заговор. Я говорю только о впечатлении тайном и упрямом. Повторения в природе иногда казались назойливыми — так твердит одно и то же рассерженный учитель. Трава махала мне всеми пальцами, звезды столпились, требуя, чтобы их поняли, солнце хотело, чтобы я увидел его, если оно взойдет тысячу раз. Повторения во Вселенной стали сводящим с ума заклинанием, и я начал понимать, в чем дело.
Весь материализм, который ныне владеет умами, основан на одном ложном предположении. Считают, что повторения свойственны мертвой материи, механизму. Люди полагают, что одушевленная Вселенная должна меняться, живое солнце — пуститься в пляс. Это не так даже на житейском уровне. В повседневность разнообразие вносит не жизнь, а смерть — скука, утрата сил, упадок воли. Человек движется иначе, когда устанет или что-то у него не ладится. Он сядет в омнибус, потому что ему надоело идти, пойдет, потому что ему надоело сидеть. Но если бы ему хватало жизни и радости, чтобы вечно ездить в Ислингтон, он и ездил бы туда так же постоянно, как Темза течет в Ширнесс. Стремительность и восторг его жизни были бы неизменны, как смерть. Солнце встает каждое утро, а я нет, но такое разнообразие вызвано не моей активностью, а моей ленью. Может быть и так, что солнце охотно встает каждый день, ибо ему это не в тягость. Обычность, рутина восходов основана на избытке, а не на недостатке жизни. Так дети повторяют все снова и снова особо приятную им шутку или игру. Малыш ритмично топочет от избытка, а не от недостатка сил. Дети полны сил, они свободны, они крепки духом, потому им и хочется, чтобы все повторялось. Они твердят: «Еще!», и взрослые слушаются, пока не падают от усталости, — ведь взрослые недостаточно сильны для однообразия. А вот Бог, наверное, достаточно силен. Наверное, Он каждое утро говорит «Еще!» солнцу и каждый вечер — месяцу. Быть может, не сухая необходимость создала все маргаритки одинаковыми; быть может, Бог создал каждую отдельно и ни разу не устал. Бог ненасытен, как ребенок, ибо мы грешили и состарились, и Отец наш моложе нас. Повторение в природе не рутина — это вызов на «бис». Небеса крикнут «бис» птице, которая снесла яйцо. Если человек зачинает и рождает ребенка, а не мышонка, не лягушку, не чудище, то дело вовсе не в том, что мы обречены размножаться без цели и смысла. Возможно, наше крохотное действо тронуло богов, они восторгаются в звездном театре и в конце каждой нашей драмы вновь и вновь вызывают нас на сцену. Все повторяется миллионы лет, ибо они так решили, и может прекратиться в любой миг. Поколение сменяет поколение, но любой из нас может оказаться последним.
Таким было мое первое убеждение, родившееся, когда мои детские чувства столкнулись на всем скаку с современными верованиями. Я всегда чувствовал, что все на свете — чудо, ибо все чудесно; тогда я понял, что все — чудо в более строгом смысле слова: все снова и снова вызывает некая воля. Короче, я всегда чувствовал, что в мире есть волшебство; теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение, всегда присутствовавшее подсознательно: у мира есть цель, а раз есть цель — есть личность. Мир всегда казался мне сказкой, а где сказка, там и рассказчик.
Но современная мысль пошла вразрез и с другим моим ощущением. Как и все люди прежде, я ощущал, что необходимы строгие границы и условия. Теперь же говорили только о расширении и развитии. Герберт Спенсер
[51] страшно обиделся бы, назови его кто-нибудь империалистом, и очень жаль, что никто этого не сделал. Ведь он — империалист самого последнего разбора. Он распространял презренное учение, будто величина Солнечной системы должна подавить духовные силы человека. Но почему человек должен поступиться своим достоинством перед Вселенной, а не, скажем, перед китом? Если величина доказывает, что человек — не образ Божий, кит будет образом Божьим, бесформенным и расплывчатым, словно создал его импрессионист. Глупо отрицать, что человек мал перед космосом, — он мал по сравнению с любым деревом. Но Герберт Спенсер, как твердолобый империалист, утверждает, что мы захвачены и поглощены Вселенной. Он говорит о людях и их идеалах, как самый наглый поборник империи — об ирландцах и их идеалах; для него человечество — малая нация. Его дурное влияние отразилось даже на самых достойных и талантливых фантастах, особенно это заметно в ранних романах Уэллса. Многие моралисты преувеличивали земное зло. Уэллс и его школа обнаружили зло в небесах. Мы поднимаем глаза к звездам и ждем, что оттуда придет гибель.
Но то, о чем я упоминал в предыдущей главе, еще хуже, чем все это. Мы видели, что материалист, подобно сумасшедшему, заперт в тюрьму Одной Идеи. Он ободряет себя, твердя, что тюрьма его очень велика, но размеры этой научной Вселенной не приносят ни новизны, ни облегчения. Космос бесконечен, но в самом причудливом созвездии нет ничего интересного, вроде милосердия или свободы воли. Величина и бесконечность космоса ничего не добавляют к его тайне. Попробуйте развеселить каторжника, чья тюрьма занимает полграфства. Страж будет вести его и вести по тусклым каменным коридорам, лишенным всего человеческого. Так и наши расширители космоса не дадут нам ничего нового, кроме тусклых солнц и все новых закоулков, где нет божества.
В стране фей был подлинный закон, закон, который можно нарушить, ибо, по определению, закон — это то, что нарушить можно. Механизм космической тюрьмы сломать невозможно — мы сами всего-навсего часть его. Мы или неспособны ничего сделать или обречены делать то, что делаем. Мистическое условие отброшено, нет ни воли, чтобы соблюсти закон, ни озорства, чтобы его нарушить. Такая Вселенная лишена дерзости, стремительности, неожиданности — всех счастливых обретений поэтичного мира. Современная Вселенная на самом деле империя — она обширна, но не свободна. Можно переходить из одной залы без окон в другую, можно обойти всю Вавилонскую башню — и нигде не попадется окошко, не ворвется свежий ветер.
Жуткие параллели ученых еще и расходятся, чем дальше, тем больше. По мне, в каждой вещи главное — точка, где сходятся, скажем, лезвия мечей. Обнаружив, что Вселенная мне не нравится, я объявил, что мир мал, и вскоре увидел, что доводы моих противников еще более поверхностны, чем можно было ожидать. По их словам, космос един, ибо он живет по единым законам; а раз он един, то и единствен. Но тогда почему он непременно велик? Его же не с чем сравнить; точно так же его можно назвать и маленьким. Можно сказать: «Я люблю этот огромный мир, толчею звезд, столпотворение живых существ» — но сказать иначе: «Я люблю этот маленький уютный мир, где в меру звезд и как раз столько животных, сколько мне нравится». Радуешься ты, что Солнце больше Земли, или радуешься, что оно не больше, чем оно есть, — все это только эмоции. Люди предпочитают радоваться величине мироздания — но почему бы им не радоваться его малости?
Случилось так, что я ей радуюсь. Когда мы любим, мы зовем любимого уменьшительными именами, даже если это слон или гвардеец. Как ни велик предмет, если мы воспринимаем его целиком, мы можем считать его малым. Усы без сабли и бивни без хобота велики и неизмеримы. Но, вообразив гвардейца, вы можете вообразить маленького гвардейца. Действительно, увидев слона, вы можете назвать его «Крошка». Если можно сделать статую чего-либо, можно сделать и статуэтку. Эти люди признают, что Вселенная едина и однородна, но они не любят ее. Я очень люблю Вселенную и хочу звать ее уменьшительным именем. Я часто делал так — и она не возражала. Я чувствовал, что самому мне неясная вера в жизнь имеет смысл только в маленьком мире, не в большом. В бесконечности есть привкус небрежности, противной той истовой и преданной тревоге, которую я испытывал, думая о бесценной жизни. Бережливость куда романтичней мотовства. Для тех людей звезды — гроши, которыми можно швыряться, а я наслаждался солнцем и серебряной луной, как наслаждается школьник золотыми монетами в копилке.
Эти подсознательные убеждения лучше всего выражены в сказках. Одни лишь волшебные сказки могли передать мое чувство, что жизнь не только удовольствие, но и немыслимая привилегия. Так, ощущение, что космос уютен, подтверждается вечной детской книгой — «Робинзоном Крузо»; книга эта будет жить вечно, потому что она воспевает радость пределов и отчаянную романтику благоразумия. Робинзон Крузо — человек на маленьком островке с немногими пожитками, спасенными из моря (лучшее в книге — список спасенных вещей). Опись — величайшая из поэм. Кухонный нож становится сокровищем — ведь море могло отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще лучше — помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено от крушения. Каждый родившийся на свет пережил ужасное приключение — он мог не родиться. В моем детстве много говорили о нераскрывшихся талантах, и в моде была фраза: «Он так велик, а ведь его могло и не быть!» По-моему, гораздо важнее, что каждый встречный велик и каждого могло и не быть.
Пусть моя фантазия смешна, но все вещи в мире казались мне романтическими обломками Робинзонова корабля. У нас два пола и одно солнце — это как два ружья и топор. Страшно важно, чтобы ничего не потерялось, но совсем уж забавно, что добавить ничего нельзя. Стихия пощадила деревья и планеты, и я радовался, что в сумятице не забыли Маттерхорн
[52]. Я берег звезды, как сапфиры (так называет их Мильтон), я копил холмы и горы. Ибо Вселенная — единое сокровище, и то, что обычно говорят о сокровищах — «несравненное», «бесценное», — в этом случае правда. Космос несравненен и бесценен, ибо другого быть не может.
Так я кончаю (ничего не добившись) попытку выразить невыразимое. Так отношусь я к жизни; вот почва для семян учения. Так я смутно думал, когда не умел писать, и чувствовал, когда не умел думать; сейчас я кратко подведу итоги, чтобы можно было двигаться дальше. Во-первых, я был глубоко уверен, что этот мир не объясняет себя. Может быть, он — чудо, и объяснит его лишь сверхъестественное, может быть — фокус, и объяснение его естественно. Но чтобы удовлетворить меня, оно должно быть лучше, чем те естественные объяснения, какие я слышал до сих пор. Это — волшебство, подлинное или поддельное. Во-вторых, в этом волшебстве мне почудился некий замысел, а значит, — тот, кто его замыслил. У мира был творец, как у произведения искусства. В-третьих, я считал изначальный замысел прекрасным, несмотря на изъяны, скажем — драконов. В-четвертых, мне казалось, что благодарность надо выражать смирением и самообузданием: возблагодарим Бога за пиво и вино и не будем напиваться. Мы обязаны послушанием Тому, кто создал нас. Наконец — и это самое странное — мной овладело смутное и сильное чувство: все хорошее — остаток, который надо беречь и ценить, как осколок Давнего крушения. Человек спас свое добро, как Крузо — свое, после крушения. Так я чувствовал, и век не сочувствовал мне. И все это время я и не думал о христианстве.
Глава V
ФЛАГ МИРОЗДАНИЯ
Когда я был подростком, мне всюду попадались два любопытных создания — оптимист и пессимист. Я и сам их так называл, хотя беспечно признаюсь, что никогда не понимал этих слов. Одно было ясно: буквально эти слова понимать нельзя; ведь буквально они означали: «тот, кто считает мир сколь возможно хорошим», и «тот, кто считает мир сколь возможно плохим». Поскольку это чушь, приходилось еще подумать. Слово «оптимист» не могло означать того, кто считает все на свете правильным, — это ведь так же бессмысленно, как считать, что все на свете справа. В конце концов я решил, что для оптимиста все хорошо, кроме пессимиста, а для пессимиста все плохо, кроме него самого. Нечестно было бы скрыть загадочное, но заманчивое определение, принадлежащее одной девочке: «Оптимист смотрит вам в глаза, а пессимист — вам иод ноги». Может быть, лучшего определения и не сыщешь? Что-что, а истина в нем есть, пусть аллегорическая. В сущности, именно так легче всего разграничить невеселого мыслителя, которому важно, что мы время от времени соприкасаемся с землей, и мыслителя посчастливей, который знает, что мы способны видеть и выбирать дорогу.
Однако в самой альтернативе — или оптимист, или пессимист — кроется ошибка. Мы принимаем без доказательств, что человек оценивает мир так, словно ищет жилье, снимает квартиру. Если бы мы явились сюда сознательно и в полной силе, мы могли бы прикинуть, восполняют ли летние леса бешеных собак, как прикидывает искатель квартир, восполняет ли телефон пыльную улицу под окнами. Но так не бывает. Мы попадаем в этот мир раньше, чем способны решить, хорошо тут или нет. Мы сражаемся за честь знамени и даже одерживаем победы раньше, чем нас берут в солдаты. Короче говоря, все дело в том, что мы повязаны верностью, когда еще никем и ничем не успели восхититься.
Ребенку мир кажется странным и все же хорошим; лучше всего это выражено в сказках. О них я говорил в предыдущей главе. Теперь читатель может, если хочет, перейти к той смелой и даже удалой литературе, которая сменяет сказку в жизни мальчика. Все мы почерпнули немало здравой нравственности из дешевых приключенческих книжек. По этой ли, по иной ли причине мне всегда казалось и кажется теперь, что отношение к жизни лучше всего сопоставлять не с осуждением или одобрением, а с воинской верностью. Я принимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир — не пансион в Брайтоне, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он — наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав уйти. Суть не в том, что мир слишком плох для любви или слишком хорош для ненависти. Суть в ином: когда вы кого-то любите, счастье его, тем паче несчастье умножает вашу любовь. Когда вы любите Англию, и веселые и печальные мысли о ней усиливают ваш патриотизм. Если вы любите этот мир, дело обстоит точно так же.
Представьте себе, что перед вами что-нибудь из рук вон плохое, скажем Пимлико
[53]. Если вы задумаетесь над тем, как сделать его лучше, нить мыслей приведет вас к причудливым, неразумным ответам. Недостаточно возмутиться им — тогда вы просто зарежетесь или переедете в Челси
[54]. Недостаточно и восхититься — тогда оно останется как есть, а это ужасно. Выход один: полюбить Пимлико преданно и без всякой причины. Если хоть один человек его полюбит, оно расцветет золотыми шпилями и башнями слоновой кости — расцветет, как женщина, которую полюбили. Ведь мы украшаем не для того, чтобы скрыть какую-нибудь мерзость, а для того, чтобы хорошее стало еще лучше. Мать завязывает ребенку синий бант не потому, что ребенок без банта ей противен. Мужчина дарит женщине ожерелье не для того, чтобы скрыть ее шею. Если люди полюбят Пимлико, как матери любят детей — неразумно, только за то, что это
их дети, — оно за два года станет прекрасней Флоренции. Мне скажут, что все это — парадоксы и выдумки. Я отвечу, что это — история. Именно так города становились великими. Доберитесь мыслью до самой глубины цивилизаций, и вы увидите, что они вырастали вокруг священного камня или колодца. Сперва чтили место, потом делали его достойным славы. Рим полюбили не за величие — Рим стал великим, ибо его полюбили.
Теорию общественного договора
[55], столь милую сердцу XVIII века, часто и неуклюже ругают в веке XX. Ее создатели кое в чем правы — и впрямь, старые формы правления отражали какое-то соглашение, сотрудничество. Не правы они в одном: им казалось, что люди стремились к порядку или к нравственным нормам прямо, сознательно. На самом же деле нравственность началась не с того, что один человек сказал другому: «Я тебя не ударю, если ты не ударишь меня»; нет и следа таких соглашений. Но есть немало следов того, что оба они говорили: «Мы не ударим друг друга на священной земле». Выполняя обряд, люди обретали нравственную ценность. Они не воспитывали храбрости — они сражались за святыню и вдруг замечали, что храбры. Они не воспитывали чистоплотности — они омывались для алтаря и замечали, что чисты. Большая часть англичан знает древнюю историю только еврейского народа; что ж, в ней достаточно фактов, подтверждающих мои слова. Десять заповедей
[56], которые потом подошли всему человечеству, были просто военным уставом, списком приказов, необходимых для того, чтобы охранять некий ящик на пути через некую пустыню. Беззаконие было злом, ибо ставило под удар ковчег. И лишь тогда, когда один день отвели Богу, оказалось, что человек может отдохнуть раз в неделю.
Если вы согласитесь, что преданность месту или вещи — источник творческой силы, мы можем пойти дальше к весьма странным вещам. Повторим еще раз: единственно верный оптимизм подобен патриотизму. Чем же плох тогда пессимист? Мне кажется, тем, что он — непатриотичный гражданин мироздания. Почему же это плохо? Мне кажется, не будет слишком грубо, если я назову его искренним доброжелателем. Чем же плох искренний доброжелатель? Тут мы ударяемся о камень реальной жизни и упрямой природы человеческой.
В искреннем доброжелателе плохо то, что он — неискренен. Он кое-что затаил — он скрывает, как ему приятно говорить гадости. Втайне он хочет уязвить, а не помочь. Вот почему нормального человека так раздражают люди, лишенные патриотизма. Конечно, я говорю не о тех, кто раздражает истеричных актрис и гневных маклеров; те — просто честные патриоты. Когда говорят, что нельзя ругать англо-бурскую войну
[57], пока она не кончилась, не стоит даже отвечать; с таким же успехом можно говорить, что нельзя преграждать своей матери путь к обрыву, пока она не свалилась в пропасть. Но бывает настоящее отсутствие патриотизма, и оно раздражает здоровых людей по той же самой причине, о которой я писал. Такой непатриот — неискренний искренний доброжелатель; он — из тех, кто говорит: «Мне очень жаль, но вы разорены», а ему ничуть не жаль. Его, не впадая в напыщенность, можно назвать предателем — ему разрешили знать горькую правду, чтобы он помог своим, дал дельный совет, а он вместо этого подстрекает новобранцев к дезертирству. Свободой критики, которую мир предоставил своим советникам, он пользуется, чтобы отвратить народ от верности. Пусть он верен фактам — это не все; важны его чувства, его цели. Быть может, тысяча жителей предместья действительно заболели оспой; но мы хотим знать, кто говорит об этом — философ, который хочет пороптать на богов, или врач, который хочет помочь людям.
Пессимист плох не тем, что ругает и богов, и людей, а тем, что он их не любит; тем, что он не связан с миром врожденной, неразумной связью верности. Чем же плох оптимист? Тем, что, желая поддержать честь мироздания, он покрывает его грехи. Оптимист — как шовинист, он не склонен менять мир. От всех нападок он отделывается пустыми, как в парламенте, отговорками и заверениями. Он не моет мир, а штукатурит. И тут мы подходим к очень интересной психологической загадке.
Мы сказали, что необходима извечная верность бытию. Какая же — естественная или сверхъестественная? Если хотите — разумная или неразумная? Как ни странно, дурной оптимизм (неубедительная защита всего на свете) — это оптимизм разумный. Он ведет к застою; к перемене ведет оптимизм неразумный. Использую для наглядности все тот же патриотизм. Если вы любите какое-то место разумно, по определенной причине, вы скорее всего его испортите; если любите без причины — вы его улучшите. Если вам (что маловероятно) нравится в Пимлико что-то определенное, вы станете это укреплять в ущерб самому Пимлико. Но если вы просто любите Пимлико, вы можете превратить его в Новый Иерусалим. Не спорю, быть может, это лишнее, мне важно одно: изменить, исправить может только неразумный патриот. Те, чей патриотизм обоснован, страдают шовинистической спесью. Самые ярые шовинисты любят не Англию, а идею Англии. Если вы любите Англию за то, что она — империя, вы можете переоценить ее успехи в Индии; если любите ее как страну — не разлюбите никогда, ведь она останется страной и под властью индусов. Искажает историю лишь патриотизм, от истории зависящий. Если вы просто любите Англию, вам неважно, откуда она взялась. Если вы любите ее, ибо она — англосаксонская, вы легко исказите факты ради своей причуды. Вы дойдете до того, что норманны, в сущности, были саксами (дошел же до этого Карлейль
[58]); дойдете до нелепости, ибо не хотели, чтобы любовь ваша была нелепой. Тот, кто любит Францию за военную мощь, презирает армию 1870 года
[59]. Тот, кто любит Францию без причины, возродит эту армию; так французы и сделали. Франция вообще — воплощение моего парадокса. Нигде в мире нет столь неразумного и романтического патриотизма; нигде нет столь резких и полезных перемен. Чем отвлеченней патриотизм, тем практичней политика.
Наверное, самый наглядный бытовой пример — женщины, их странная и цепкая преданность. Глупые люди решили, что женщины слепы, так как не покидают мужчину, что бы тот ни натворил. Вероятно, эти люди не видели ни одной женщины. Те самые жены, которые идут за мужем в огонь и в воду, в частных беседах палят его огнем и окатывают водой. Друг хорошо относится к другу и оставляет его таким, каков он есть; жена любит мужа и, не зная устали, его переделывает. Женщина служит мужчине самозабвенно, как мистик, и ругает его беспощадно, как критик. Это хорошо понял Теккерей — помните, мать Пенденниса
[60] поклонялась ему как Богу, но отнюдь не считала его безупречным человеком. Преданность не мешает критике; фанатик смело может быть скептиком. Любовь не ослепляет, куда там! — любовь связывает, и чем крепче ты связан, тем яснее видишь.
Вот как понимаю я теперь оптимизм, пессимизм и «улучшения». Прежде чем менять что-то в мире, мы должны принести ему присягу. Если жизнь важна для нас, драгоценна, тогда неважно, что я о ней думаю. Если сердце на месте, рука свободна. Остановлюсь на минуту — сейчас мне возразят. Мне скажут, что разумные люди считают мир мешаниной добра и зла, вполне терпимой и сносной. Именно против такого взгляда я и возражаю. Да, я знаю, так думают теперь многие. Особенно удачно сказал об этом Мэтью Арнольд в стихах, более кощунственных, чем вопль Шопенгауэра, о том, что жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит россыпей миров и родовых мук. Я знаю, что это ощущение пропитало нашу эпоху — и, на мой взгляд, заморозило. Но для веры и мятежа нужно не вяло принимать мир — «на худой конец сойдет», а ненавидеть всем сердцем и всем сердцем любить. Нам не нужно, чтобы радость и гнев смешивались в унылом довольстве, — мы хотим яростной радости и яростного гнева. Мир должен быть для нас замком людоеда, который мы обязаны взять, и собственным коттеджем, куда мы можем вернуться под вечер.
Без сомнения, обычный человек способен примириться с миром, но этого мало. Способен ли он ненавидеть мир так сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы счесть достойным перемены? Способен ли он узнать, как здесь хорошо, и не впасть в благодушие? Способен ли узнать, как здесь плохо, и не впасть в отчаяние? Способен ли он, словом, быть не только оптимистом и не только пессимистом, но одержимым оптимистом и одержимым пессимистом? Я утверждаю, что разумный оптимист тут провалится, неразумный — восторжествует.
Я пишу сейчас не логично, а в том порядке, в каком все эти мысли когда-то приходили ко мне; и в размышлениях моих сыграла большую роль одна популярная тогда тема. С тяжелой руки Ибсена все обсуждали тогда, считать ли самоубийство похвальным. Серьезные прогрессисты объясняли нам, что к самоубийце надо питать не жалость, а зависть, — если он прострелил себе голову, это значит, что она была у него умнее, чем у других. Уильям Арчер
[61] сулил, что в золотом веке заведут автоматы и всякий сможет, опустив монетку в щелочку, покончить с собой. Я же никак не мог согласиться с теми, кто называл себя человечными и либеральными. Самоубийство — не просто грех; это грех грехов. Это предательство, дезертирство, абсолютное зло. Убийца убивает человека, самоубийца — всех людей. Он хуже динамитчика, хуже насильника, ибо взрывает все дома, оскорбляет всех женщин. Вору достаточно бриллиантов, самоубийцу не подкупишь и сверкающими сокровищами Града Небесного. Вор оказывает честь украденной вещи, хотя и не ее владельцу. Самоубийца оскорбляет все на свете тем, что ничего не украл. Во всем мироздании нет твари, которую бы он не обидел. Если он повесился на дереве, листья вправе осыпаться, птицы — разлететься от обиды. Конечно, его легко понять и пожалеть. Нетрудно понять и насильника, тем более террориста. Но если мы перейдем от чувства к чистой мысли, к сути, нам придется признать, что в осиновом коле, вбитом в тело на перекрестке дорог, больше истины и логики, чем в автоматах Арчера. Самоубийцу не случайно хоронили отдельно от всех. Его преступление особое — оно убивает все на свете, даже преступление.
Примерно тогда я прочитал у кого-то из либералов, что самоубийство и мученичество — просто одно и то же. Это было так неправильно, что помогло мне довести до конца мою мысль. Конечно, мученик прямо противоположен самоубийце. Ему безмерно важно что-то, и он готов забыть себя, отдать за это жизнь. Тем он и прекрасен — как бы ни отвергал он мир, как бы ни обличал людей, он подтверждает неразрывную верность бытию. Самоубийца же ужасен тем, что бытию неверен, он только разрушает, больше ничего — духовно разрушает мироздание. Тут я вспомнил осиновый кол и удивился. Ведь христианство тоже осудило самоубийцу, хотя возвеличило мученика. Христиан обвиняли — и не всегда без причин — в том, что они довели до предела самоистязание и мученичество. Мученики говорили о смерти с поистине пугающей радостью. Они кощунственно отвергали дивные обязанности тела; они наслаждались запахом тления, как запахом цветущего луга. Многие видели в них истинных певцов пессимизма. Но осиновый кол говорит нам, что думает о пессимизме христианство.
Такой была первая из длинной цепи загадок; так христианство впервые вступило в мой мысленный спор. Оно внесло одну особенность, о которой я скажу потом подробней. Его суждение о самоубийстве и мученичестве было совсем не похоже на привычное в наши дни суждение о поступках: дело было в сути, не степени. В наше время сказали бы, что где-то надо провести границу, и провели бы ее, и отдавший жизнь восторженно оказался бы по одну сторону от нее, отдавший жизнь мрачно — по другую. Но христиане не считали, что самоубийца просто хватил через край. Они яростно отвергали его и яростно славили мученика. Столь похожие действия были для них далеки друг от друга, как небо и ад. Тот, кто жертвует жизнью, так хорош, что кости его исцеляют города от чумы; тот, кто лишает себя жизни, так плох, что кости его оскверняют кладбище. Не знаю, оправдан ли этот пыл, но почему он так пылок?
Именно тогда я впервые понял, что стою на протоптанной дороге. Христианство тоже знало разницу между мучеником и самоубийцей; быть может, по той же причине? Быть может, оно почувствовало и выразило то же самое, что не смог (и не могу) выразить я? И тут я вспомнил: христианство ругают именно за то, что в нем объединялись два взгляда, которые я так неуклюже пытаюсь объединить. Его обвиняют и в излишнем оптимизме, и в излишнем пессимизме. Совпадение поразило меня.
В наши дни популярен один очень глупый довод: мы говорим, что в такие-то и такие-то вещи можно верить в одном веке, нельзя — в другом. Та или иная догма, учат нас, хороша для XII века, плоха для XX. С таким же успехом можно сказать, что философская система подходит для понедельника, но не для вторника; что она хороша в половине четвертого, плоха — в половине пятого. Вера зависит от взглядов, а не от века и часа. Если вы считаете неизменными законы природы, вы не поверите в чудо ни в каком веке. Предположим, вы присутствуете при чудесном исцелении. Материалист XII века не поверит в него точно так же, как материалист XX. Адепт «христианской науки» поверит в XX, как христианин в XII. Все дело в мировоззрении. Когда мы говорим о каком-нибудь важном ответе, важно не то, давно ли он дан, важно, отвечает ли он на вопрос. И вот чем больше я думал о том, как и с чем пришло христианство в мир, тем сильнее я чувствовал, что оно на вопрос ответило.
Свободомыслящие христиане вечно делают христианству неуместные комплименты. Послушать их, до христианства не было ни благоговения, ни жалости; любой средневековый христианин знал, что это не так. По их словам, христианство замечательно тем, что первым призвало к опрощению, самообузданию, духовности и честности. Меня сочтут очень узким (что бы ни значило это слово), если я скажу: христианство замечательно тем, что оно проповедовало христианство. Его исключительность в том, что оно — исключительно; а в простоте или в правдивости ничего исключительного нет, к ним стремились всегда и всюду. Христианство было ответом на загадку, а не последним из общих мест скучной беседы. На днях я прочитал в прекрасном пуританского толка журнале: «Освободите христианство от окостеневшей догмы, и вы увидите, что оно — просто учение о Внутреннем Свете». С таким же успехом можно освободить человека от костей. Но дело не в том; если бы я сказал, что христианство явилось в мир, чтобы уничтожить учение о внутреннем свете, это было бы неверно и все-таки ближе к истине. Поздние стоики, вроде Марка Аврелия, верили во внутренний свет. Своим достоинством, своей усталостью, своей невеселой и неглубокой заботой о других, своей неизлечимой и тщательной заботой о себе они обязаны именно этому унылому освещению. Вспомните, как настаивает Марк Аврелий на мелких запретах и мелких обязанностях, — для нравственного мятежа у него не хватает ни любви, ни гнева. Он рано встает, совсем как наши лорды, увлекающиеся простой жизнью, — это ведь куда легче, чем запретить бои гладиаторов или вернуть англичанам землю. Марк Аврелий принадлежал к самому невыносимому из человеческих типов. Он — несебялюбивый себялюбец, иными словами, тот, чья гордыня не оправдана страстью. Из всех страшных вер самая страшная — поклонение богу, сидящему внутри тебя. Всякий, кто видел хоть одного человека, поймет, что может из этого выйти; всякий, кто видел хоть одного адепта Высшей Мысли, знает, что из этого выходит. Если Джонс поклоняется тому, что у него внутри, он рано или поздно поклонится Джонсу. Пусть лучше поклоняется солнцу и луне, кошкам и крокодилам! Христианство возвестило со всей яростью, что надо глядеть не внутрь, а наружу — надо принять с удивлением и любовью общество и опеку Бога. Стать христианином было тем и радостно, что ты уже не один со своим внутренним светом, что есть свет снаружи — блистающий, как луна, светлый, как солнце, грозный, как полк
и со знаменами
[62].
Тем не менее солнцу и луне поклоняться не следует. Если Джонс будет им поклоняться, он станет им подражать. Солнце сжигает живьем насекомых — что ж, сожжет и он. От Солнца бывает солнечный удар — что ж, он ударит ближнего. Луна, по слухам, лишает разума — он решит, что вправе довести до безумия жену. Это уродство чисто внешнего оптимизма тоже проявилось в древности. Примерно в то же время, когда сквозь идеализм стоиков проступили все слабости пессимизма, сквозь поклонение природе проступила безмерная слабость оптимизма. Поклонение природе естественно, пока общество молодо; пантеизм неплох, пока поклоняются Пану. Но у природы есть оборотная сторона, до которой недолго добраться греху и опыту. Поклонение природе плохо тем, что оно, рано или поздно, идет наперекор природе. Утром вы любите ее невинную приветливость, но приходит вечер, и вам любезны жестокость и мрак. Вы купаетесь утром в светлой воде, как купался стоический мудрец, а на склоне дня вы купаетесь в бычьей крови, как Юлиан Отступник. Погоня за здоровьем всегда приводит к нездоровым вещам. Нельзя подчиняться природе, нельзя поклоняться — можно только радоваться. Нельзя серьезно почитать горы и звезды; иначе мы придем к тому, к чему пришли древние. Земля добра — и потому мы подражаем ее жестокости. Любовь естественна — и потому мы погружаемся в безумство извращения. Чистый оптимизм дошел до логического конца. Мысль о том, что все хорошо, обернулась разгулом самого худшего.
С другой стороны, идеальный пессимизм воплощали поздние стоики. Они отказались от мысли о том, что в мире есть хоть что-нибудь путное, и смотрели внутрь, в себя. Они не надеялись найти добро ни в природе, ни в людях; внешний мир слишком мало их занимал, чтобы уничтожить его или переделать. Античность невесело стояла на том же распутье, что и мы. Те, кто хотел насладиться миром, с успехом разрушали его, а те, кто хотел жить по совести, обращали на них слишком мало внимания, чтобы скрестить с ними меч. На этом самом распутье внезапно явилось христианство и предложило ответ. Люди приняли его и признали единственно возможным. Таким он и был; мне кажется, таков он и сейчас.
Этот ответ — как удар меча: он разрубает, а не смешивает и не смазывает все воедино и уж никак не «объединяет». Меч разделил Бога и мир. Бог отделен, определен; многие, пришедшие теперь к христианству, делают вид, что этого нет, но только из-за этого люди приходили в христианство тогда. Именно так отвечало христианство несчастному пессимисту и совсем уж несчастному оптимисту. Сейчас я пишу не о них и потому коснусь лишь мимоходом столь необъятной проблемы.
Определения — и церковные, и мирские — состоят из слов, и нам никак не избежать метафор. Вопрос не в них — вопрос в том, возможны ли вообще определения, можно ли передать хоть что-то метафорой. Я считаю, что можно; так же думает и поборник эволюции — иначе он не стал бы употреблять свою метафору, не говорил бы о развитии. У христиан тоже есть немаловажный образ: слово «Творец». Бог — творец, как поэт или художник. Все то, о чем я говорил чуть раньше, можно выразить фразой: творчество — это расставание. Такой образ не фантастичней модных фраз о развитии. Рожая, женщина расстается с ребенком. Всякое творчество — разлука. Рождение — это прощание, торжественное, как смерть.
Это и возвещал первый философский принцип христианства: создав мир, Абсолютная сила отделила его от Себя, как отделяет поэт стихи, мать — новорожденного ребенка. Многие философы учили, что Бог закабалил мир. Христианство учит иначе: сотворив мир, Бог его освободил. Он создал не столько стихи, сколько прекрасную пьесу и отдал ее актерам и режиссерам, которые сильно ее попортили. Обо всем этом я буду говорить позже. Сейчас мне важно одно: такой ответ абсолютно точно подошел к вопросу, с которого я начал. Если его принять, можно радоваться и гневаться, не опускаясь ни до оптимизма, ни до пессимизма. Можно бросить вызов всем силам мироздания, не предавая знамени. Можно вступить с миром в схватку и быть ему преданным другом. Можно сражаться с драконом, если тот больше великих столиц и вечных гор, и даже всей земли, и убить его во имя столиц, земли и гор. Неважно, кто сильней, — важно, кто прав. Святой Георгий вонзит копье, даже если перед ним нет ничего, кроме дракона, и само небо — черная дыра в рамке разверстой пасти.
И когда я думал это, случилось то, что описать невозможно. Долго, с самого отрочества, я бродил, то и дело натыкаясь на две огромные, хитрые конструкции, совершенно разные, ничем не связанные, — мир и христианство. Каким-то образом я догадался, что надо любить мир, не полагаясь на него; радоваться миру, не сливаясь с ним. Я узнал, что у христиан Бог — личностен и что Он создал отдельный от себя мир. Острие догмы попало в отверстие житейской проблемы, они в точности совпали — словно для того их и сделали, — и вдруг начали твориться удивительные вещи. Как только они соединились в этой точке, все их части стали совпадать одна за другой, как часы за часами бьют полдень. Мои ощущения, одно за другим, совпадали с доктринами. Приведу другое сравнение. Представьте, что я проник на чужую землю, чтобы взять одну крепость. Крепость пала — и страна покорилась мне, открылась вся, до самых дальних уголков детства. Слепые и расплывчатые детские ощущения стали вдруг ясными и здравыми. Я правильно чувствовал, что алый цвет роз — как выбор: его выбрал Бог. Я правильно чувствовал, что трава не обязана быть зеленой; она могла бы, по воле Божьей, быть любого другого цвета. Я чувствовал, что радость висит на волоске условия, — так и есть, так и учит нас догмат первородного греха. Самые смутные, нечеткие чудища, которых я и описать не мог бы, не говоря уж о защите, тихо заняли свои места, словно кариатиды веры. Я чувствовал: Вселенная не пуста и безгранична, а уютна и драгоценна; так и есть — всякое творение драгоценно и мало для творца, звезды малы и милы для Бога, как бриллианты для ювелира. Я чувствовал: все хорошее на свете надо хранить, как хранил Робинзон то, что осталось после бури. И тут есть отголосок истины — ведь мы спаслись, когда золотой корабль пошел ко дну до начала времен
[63].
А главное, встала на место проблема оптимизма, и в тот же миг мне стало легко, словно встала на место кость. Чтобы откреститься от явного кощунства пессимизма, я нередко называл себя оптимистом. Но современный оптимист оказался унылым и лживым — он тщился доказать, что мы достойны этого мира. Христианская же радость стоит на том, что мы его недостойны. Раньше я пытался радоваться, повторяя, что человек — просто одно из животных, которые просят У Бога пищу себе
[64]. Теперь я и впрямь обрадовался, ибо узнал, что человек — исключение, чудище. Я был прав, ощущая, как удивительно все на свете, — ведь я сам и хуже, и лучше всего остального. Радость оптимиста скучна — ведь для него все хорошее естественно, оно ему причитается; радость христианина — радостна, ибо все неестественно и поразительно в луче нездешнего света. Современный философ твердил мне, что я — там, где и должен быть, а я не находил себе места. Но вот я узнал, что я — не там, где надо, и душа моя запела, как птица весной. Внезапно осветились забытые комнаты в сумрачном доме детства, и я понял, почему трава всегда казалась мне удивительной, как зеленая щетина гиганта, и почему я так скучал по дому у себя, на земле.
Глава VI
ПАРАДОКСЫ ХРИСТИАНСТВА
В нашем мире сложно не то, что он неразумен, и даже не то, что он разумен. Чаще всего беда в том, что он разумен — но не совсем. Жизнь — не бессмыслица, и все же логике она не по зубам. На вид она чуть-чуть логичней и правильней, чем на самом деле; разумность ее — видна, бессвязность — скрыта. Приведу довольно поверхностную параллель. Представьте, что математик с Луны изучает человека. Конечно, он сразу увидит, что наше тело — двойное. Человек — это пара, два близнеца, правый и левый. Заметив, что правой руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследователь предскажет, что слева и справа одинаковое число пальцев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий. Он выведет закон и, обнаружив слева сердце, смело предскажет, что оно есть и справа. Тут он ошибется — именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте.
В том-то и неожиданность, в том и ненадежность, что все чуть-чуть отклоняется от разумной точности, словно в мироздание закралась измена. Апельсин или яблоко достаточно круглы, чтобы сравнить их с шаром; и все же они — не шары. Сама земля — как апельсин. Она достаточно кругла, чтобы простаки-астрономы назвали ее шаром; и все же она — не шар. Вершина зовется пиком, словно кончается тончайшим острием; но и это не так. Во всем на свете что-то чуть-чуть неточно. Не все можно взять логикой, но выясняется это в последний момент. Земля округла, и нетрудно вывести, что каждый дюйм ее — изогнут. Однако ученые все ищут и ищут Северный полюс, стремясь к плоской площадке. Ищут они и сердце человеческое, а если находят, то обычно на другой стороне.
Так можно проверять глубину и ясность взгляда. Глубоко и ясно видит тот, кто может предугадать эту потаенную неправильность. Увидев две руки и две ноги, лунный человек выведет, что у людей — по две ключицы и по два мозговых полушария. Но если он угадает, где у нас сердце, нам придется признать его не только ученым. Именно это случилось с христианством. Оно не просто вывело логичные истины — оно становится нелогичным там, где истина неразумна. Оно не только правильно — оно неправильно там, где неправильна жизнь. Оно следует за тайной неточностью и ждет неожиданного. Там, где истина разумна и проста, и оно несложно; но упорно противится простоте там, где истина тонка и сложна. Оно признает, что у нас две руки, но ни за что не признает (сколько бы ни бились модернисты), что у нас два сердца. В этой главе я постараюсь показать одно: когда что-то в христианском учении кажется нам странным, мы обнаруживаем в конце концов ту же странность и в истине.
Как я уже говорил, теперь нередко считают, что та или иная вера невозможна в наш век. Конечно, это нелепость — в любом веке можно верить во что угодно. Однако в определенном смысле вера связана с веком: в сложную эпоху оснований для веры больше, чем в простую. Если христианство годно для Бирмингема, это докажет больше, чем его пригодность для Мерсии
[65]. Чем сложней совпадение, тем оно убедительней. Если узор снежинки похож на Эдинбургскую темницу
[66], это может быть случайностью; если все снежинки в точности повторяют узор лабиринта в Хэмптон-корте
[67], я бы скорей назвал это чудом. Именно такое чудо напоминает мне философия христианства. Современный мир так сложен, что совпадение доказывает больше, чем в старые века. Я начал доверять христианству в Ноттинг-хилле и Бэттерси
[68]. Не случайно вера изобилует тонкостями догм, раздражающими тех, кто восхищается, не веря. Верующий гордится сложностью догматики, как гордится ученый сложностью науки. Чем догмы сложнее, тем убедительней совпадения. Балка или камень могут случайно прийтись как раз по дыре; ключ со скважиной случайно совпасть не могут. Они сложны; если ключ подошел, значит, он от этой двери.
Однако полнота совпадения очень усложняет мою задачу. Как опишу я такие горы истины? Трудно защищать то, во что веришь полностью. Куда легче, если ты убежден наполовину; если ты нашел два-три довода и можешь их привести. Но убежден не тот, для кого что-то подтверждает его веру. Убежден тот, для кого все ее подтверждает, а все на свете перечислить трудно. Чем больше у него доводов, тем сильнее он смутится, если вы попросите их привести. Спросим врасплох обычного, неглупого человека, почему он предпочитает цивилизацию варварству, и он растерянно забормочет: «Ну, как же, вот книжный шкаф… и уголь… и рояль… и полиция…» Защищать цивилизацию трудно, слишком много она дала, столько сделала! Казалось бы, если доводов много, ответить проще простого; на самом деле именно поэтому ответить невозможно.
Вот почему в убежденном человеке есть какая-то неуклюжая беспомощность. Вера столь велика, что нелегко и нескоро привести ее в движение. Особенно трудно еще и то, что доказательство можно начать с чего угодно. Все дороги ведут в Рим — отчасти поэтому многие туда не приходят. Защищая христианство, я могу начать с любого предмета — скажем, с репы или с такси. Однако мне хочется, чтобы меня поняли; и будет умнее, если я протяну дальше нить предыдущей главы — той, где я говорил о первом из мистических совпадений или, верней, мистических подтверждений.
Все, что я знал о христианском богословии, отпугивало меня. Я был язычником в двенадцать лет, полным агностиком — в шестнадцать и просто не могу себе представить, чтобы кто-нибудь перевалил через семнадцать, не задумавшись над таким простым вопросом. Конечно, я питал смутное почтение к отвлеченному творцу и немалый исторический интерес к основателю христианства. Я считал Его человеком, хотя и чувствовал, что даже в этом виде Он чем-то лучше тех, кто о Нем пишет. Их я читал — во всяком случае, я читал ученых скептиков; а больше не читал ничего, то есть ничего о христианстве и о философии. Правда, я любил приключенческие книжки, которые не отступают от здравой и славной христианской традиции; но этого я не знал. Я не читал тогда апологетов
[69], да и сейчас читаю их мало. Меня обратили не они. Гексли, Герберт Спенсер и Бредлоу
[70] посеяли в моем уме первые сомнения. Наши бабушки не зря говорили, что вольнодумцы будоражат ум. И верно, они его будоражат. Мой ум они совсем взбудоражили. Начитавшись рационалистов, я усомнился в пользе разума; кончив Спенсера, я впервые задумался, была ли вообще эволюция; а когда я отложил атеистические лекции Ингерсолла
[71], страшная мысль пронзила мой мозг. Я был на опасном пути.
Да, как ни странно, великие агностики будили сомнения более глубокие, чем те, которыми мучились они. Примеров можно привести очень много. Приведу один. Пока я читал и перечитывал, что говорят о вере нехристиане и антихристиане, страшное ощущение медленно и неуклонно овладевало мной: мне все сильнее казалось, что христианство — в высшей степени странная штука. Мало того, что его пороки были один хуже другого — они еще и противоречили друг другу. На христианство нападали со всех сторон и по самым несовместимым причинам. Не успевал один рационалист доказать, что оно слишком восточное, как другой не менее убедительно доказывал, что оно слишком западное. Не успевал я возмутиться его вопиющей угловатостью, как мне приходилось удивляться его гнусной, сытой округлости. Если читателю это незнакомо, я рассмотрю несколько случаев — первые, какие вспомню. Приведу я их четыре-пять; останется еще полсотни.
Например, меня очень взволновало обличение бесчеловечной печали христианства; я ведь считал тогда (как, впрочем, и теперь), что искренний пессимизм — страшный грех. Неискренний пессимизм — светская условность, скорее даже милая; к счастью, почти всегда пессимизм неискренен. Если христианство и впрямь неуклонно противилось радости, я был готов немедленно взорвать собор Святого Павла. Но — странное дело! — убедительно доказав мне в главе 1, что христианство мрачнее мрачного, мне доказывали в главе 2, что оно чересчур благодушно. Сперва мне говорили, что оно слезами и страхами мешает нам искать счастье и свободу, а потом — что оно глушит нас утешительным обманом и держит всю жизнь в розовой детской. Один великий агностик негодовал: почему христиане не считают природу безгрешной, а свободу — легкой? Другой, тоже великий, сетовал, что «лживые покровы утешенья, благочестивой сотканы рукой», скрывают от нас жестокость природы и полную невозможность свободы. Не успевал один скептик сравнить христианство с кошмаром, как другой сравнивал его с кукольным домиком. Обвинения уничтожали друг друга, а я удивлялся. Христианство не могло быть — одновременно, сразу — ослепительно белой маской на черном лице мира и черной маской на белом лице. Неужели христианская жизнь так приятна, что христиане трусливо бегут к ней от всего тяжелого, и в то же время так ужасна, что только дурак ее выдержит? Если христианство искажает мир, то в какую же сторону? Как ухитряется оно стать сразу и розовыми, и черными очками? Я смаковал, как все юнцы той эпохи, горькое обвинение Суинберна:
Ты победил, о бледный Галилеянин,
мир серым стал в дыхании твоем[72].
Но вот я читал то, что Суинберн написал о язычестве (например, «Аталанту»), и выяснилось, что до Галилеянина мир, если это возможно, был еще серее. Суинберн, в сущности, говорил, что жизнь предельно мрачна; и все же Христу как-то удалось омрачить ее еще. Тот, кто уличал христианство в пессимизме, сам оказывался пессимистом. Я удивлялся все больше. Мне даже подумалось на минуту — правильно ли, что о радости и вере властно судят те, кто не знает ни веры, ни радости?
Не подумайте, я не счел, что обвинения — лживы или обвинители — глупы. Я просто решил, что христианство очень уж чудовищно. Иногда у кого-то встречаются два противоположных порока — но такой человек необычен. Бывают, наверное, люди, частью очень толстые, а частью — очень тощие; но все это странно. В ту пору я думал только о странностях христианства; я еще не подозревал о странностях рационализма.
Другой пример. Очень серьезным доводом против христианства были для меня рассуждения о его робости, нерешительности, трусости, особенно же — о его отказе от сопротивления и борьбы. Великие скептики XIX века были мужественны и тверды; Бредлоу — в пылком духе, Гексли — в сдержанном. По сравнению с ними христианство казалось каким-то беззубым. Я знал евангельский парадокс о щеке; знал, что священники не сражаются; словом, сотни доводов подтвердили, что христианство пытается превратить мужчину в овцу. Я читал это, верил и, не прочитай я ничего другого, верил бы и сейчас. Но я прочитал другое. Я перевернул страницу моего агностического Писания, и вместе с ней перевернулся мой мозг. Оказывается, христиан надо было ненавидеть не за то, что они мало борются, а за то, что они борются слишком много. Как выяснилось, именно они разожгли все войны. Они утопили мир в крови. Только что я сердился на то, что христиане никогда не сердятся. Теперь надо было сердиться, что они сердятся слишком много, слишком страшно; гнев их затопил землю и омрачил небо. Одни и те же люди обличали кроткое непротивление монахов и кровавое насилие крестоносцев. Несчастное христианство отвечало и за то, что Эдуард Исповедник
[73] не брал меча, и за то, что Ричард Львиное Сердце
[74] его взял. Мне объясняли, что квакеры — единственные последовательные христиане, а резня Кромвеля
[75] или Альбы
[76] — типично христианское дело. Что могло все это значить? Что же это за учение, которое запрещает ссору и вечно разжигает войны? В какой стране родилось это беззубое и кровожадное чудище? Христианство становилось все непонятней.
Третий пример — самый странный, так как здесь вступает в игру единственное серьезное возражение против христианства. Действительно, христианство — всего лишь одна из вер. Мир велик, людей много, они очень разные. Можно сказать, не греша против логики, что христианство годится одним, не годится — другим; что оно родилось в Палестине и укоренилось в Европе. Когда я был молод, это меня вполне убеждало; я склонялся к любимой доктрине этических обществ: есть одна огромная, неосознанная церковь, основанная на том, что совесть — вездесуща. Меня учили, что религия разъединяет людей, зато мораль — объединяет. В самых дальних веках и землях душа находит разумный нравственный закон. Мы отыщем Конфуция под китайским деревом, и он напишет: «Не укради»; расшифруем темнейшие иероглифы в древней пустыне — и прочитаем: «Дети не должны лгать». Я верил, что люди — братья во здравом нравственном чутье; верю и сейчас, хотя не только в это. И меня очень сильно огорчало, что, по свидетельству скептиков, христианство отказывало целым эпохам и империям в справедливости и разуме. Но тут я удивился снова. Скептики считали все человечество, от Платона до Эмерсона
[77], единой церковью, но утверждали тем не менее, что мораль зависит от века и добро одной эпохи становится злом в другой. Если я, предположим, затоскую по алтарю, мне скажут, что он не нужен, потому что люди (наши братья) дали нам общую, единую веру, включающую все вековые обычаи и идеалы. Но если я робко замечу, что один из таких обычаев и есть богослужение, мой назидательный агностик сделает полный поворот и объяснит, что люди всегда прозябали во мраке дикарских суеверий. Христианство обвиняли без устали в том, что оно считает одних познавшими свет, других — пребывающими во тьме. Однако те же обвинители гордились, что их прогресс и наука — удел просвещенных, а все остальные так и скончались в невежестве. Главный недостаток христианства оказывался их главным достоинством. И недостаток, и достоинство они очень подчеркивали, и что-то тут было нечисто. Когда речь заходила об язычнике или скептике, они вспоминали, что у них одна вера; когда речь заходила о мистике, они поражались, какая глупая вера у некоторых. Мораль Эпиктета хороша, потому что мораль неизменна. Мораль Боссюэ плоха, потому что мораль изменилась. Она изменилась за двести лет, но не за две тысячи.
Это становилось подозрительным. Мне начинало казаться, что дело тут не в исключительной порочности христианства, способного совместить несовместимое, а в том, что всякая палка хороша для борьбы с ним. Что же это за учение, если его так хотят опровергнуть и, по ходу дела, готовы опровергнуть самих себя? Примеры множились куда ни глянь. Слишком долго приводить все, но, чтобы вы не подумали, что я произвольно выбрал три, приведу еще несколько. Одни писали, что христианство подтачивает семью, уводит женщин от детей и дома к уединению и созерцанию. Другие (немного посовременней) писали, что оно преступно сковывает нас узами семьи, привязывает женщину к детям и дому, не давая ей предаться созерцанию. Ссылаясь на некоторые стихи из Посланий, христианство обвиняли в презрении к женскому разуму и тут же сами презирали его, заметив, что «только женщины» еще ходят в церковь. Вот еще: христианство порицали за восхваление бедности, за пост и власяницу, и сразу, тут же ругали за склонность к обрядам, за раки из порфира и золотую парчу. Опять то же самое — и тусклая простота, и многоцветная пышность! Христианство винили в том, что оно сковывает половую жизнь, но Бредлоу и Мальтус
[78] считали, что оно ее сковывает мало. То и дело я слышал о сухости — и о разгуле чувств. В одной и той же атеистической брошюре я прочитал, что в христианстве нет единства («Один говорит одно, другой — другое») и что ему не хватает свободы спора («А ведь только разница мнений держит мир»). В одной и той же беседе один и тот же вольнодумец, мой приятель, ругал христианство за антисемитизм и за еврейское происхождение.
Я хотел быть объективным тогда, хочу и сейчас и не решил, что все нападки — лживы. Я решил, что христианство — единственно в своем роде. Соединение таких ужасов даст что-то странное и небывалое. Встречаются на свете люди, соединяющие мотовство со скупостью, но их немного. Бывают развратники-чистоплюи, их тоже немного. Если действительно существует эта смесь кровожадности с беззубостью, роскоши с убожеством, сухости с похотью очей, женоненавистничества с женской глупостью, мрачнейшего уныния с дурацким благодушием — если она существует, она предельно, поразительно ужасна. Мои рассудительные наставники не объяснили, почему христианство так чудовищно. Для них (в теории) оно было просто одним из обычных мифов или заблуждений. Они не давали мне ключа; а чудище тем временем перерастало пределы естественного. Его поразительная порочность становилась непонятной, как непогрешимость папы. Всегда ошибаться так же странно, как не ошибаться никогда. И я подумал: не порождение ли это преисподней? Действительно, если Иисус — не Христос, он не кто иной, как Антихрист.
И тут в один прекрасный час странная мысль поразила меня словно беззвучный удар грома. Мне пришло в голову еще одно объяснение. Представьте, что вы слышите сплетни о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком высок, другие — что он слишком низок; одни порицают его полноту, другие — его худобу; одни называют его слишком темным брюнетом, другие — светлым блондином. Можно предположить, что он очень странный с виду. Но можно предположить и другое: он такой, как надо. Для великанов он коротковат, для карликов — слишком длинен. Старые обжоры считают его тощим, старые денди — тучноватым на их изысканный вкус. Шведы, светлые, как солома, назовут его темным; негры — светлым. Короче говоря, это чудище — просто обычный или, вернее, нормальный человек. Быть может, и христианство нормально, а критики его — безумны каждый на свой лад? Чтобы это проверить, я постарался вспомнить, нет ли чего необычного в самих обвинителях. К моему удивлению, ключ подошел. Вот, например: в наше время христианство ругают и за аскетизм, и за пышность. Но именно теперь исключительная разнузданность плоти сочетается с исключительной невзрачностью быта. Современный человек считает одежды Фомы Беккета чересчур пышным, а пищу его чересчур скудной. Но ведь сам современный человек очень странен; никогда еще люди не ели так изысканно и не одевались так скучно. Церковь слишком пестра и украшена в том, в чем наша жизнь слишком сера. Тот, кто обличает и пост, и пир, приучен к изысканным закускам. Тот, кому не нравится парча, носит нелепые брюки. Но неразумны брюки, а не парча. Неразумны закуски, а не хлеб и вино.
Я перебрал все примеры; ключ подошел всюду. И скорбь христиан и (еще сильней) их веселье раздражали Суинберна потому, что он слишком сильно любил наслаждения и слишком сильно унывал. Болен был он, не христиане. Мальтузианцы нападали на христианство не потому, что в нем есть что-нибудь особенно несдержанное, а потому, что в них самих есть что-то нечеловеческое.
И все же я чувствовал, что христианство — не просто разумная середина. В нем действительно была какая-то предельная сила, какая-то крайность, граничащая с безумием и оправдывавшая неглубокие нападки скептиков. Быть может, оно мудро — я все больше в это верил; но мудрость его — не мирская умеренность. Пусть кротость монахов и ярость крестоносцев уравновешивают друг друга; но монахи предельно, бесстыдно кротки, крестоносцы — предельно яростны. Додумавшись до этого, я вспомнил свои прежние мысли о самоубийстве и мученичестве. Там тоже две безумных точки зрения каким-то образом вместе оказались здравыми. Там тоже было противоречие, там был один из парадоксов, которые доказывали скептикам несостоятельность веры. Противоречие оказалось истиной, парадокс оказался правдой. Христиане сильно ненавидели самоубийцу, сильно любили мученика — но не сильней, чем любил и ненавидел я сам задолго до того, как стал размышлять о христианстве. Тут началась самая трудная и занимательная часть моих размышлений: сквозь сложность богословия я смутно различил очертания принципа. Принцип был тот самый, о котором я догадался, рассуждая о пессимисте и оптимисте: нужна не смесь, не компромисс, а оба качества, во всю силу — скажем, пламенная любовь и пламенная ненависть. Сейчас, здесь, я применяю этот принцип только к этике; на самом деле он пронизывает все богословие. Так, правоверные богословы всегда упорно твердили, что Христос — не существо, отличное и от Бога, и от человека (как, скажем, эльф), и не полу-Бог, получеловек (как герой греков), но самый настоящий Бог и самый настоящий человек. А теперь я расскажу об этом принципе, следуя ходу тогдашних моих рассуждений.
Все здравомыслящие люди поймут, что здравый смысл — своего рода равновесие; что безумно обжираться, но безумно и голодать. Правда, в наши дни пытаются опровергнуть Аристотелеву меру — одни мыслители говорят, что надо есть с каждым днем все больше, другие — что надо свести еду на нет. Однако великий трюизм Аристотеля остается в силе для здравомыслящих; мыслители вывели из равновесия только самих себя. Итак, равновесие; но как удержать его? Эту проблему пыталось решить язычество; эту проблему, мне кажется, решило христианство, и решило ее в высшей степени странно.
Для язычества добродетель — компромисс; для христианства — схватка, столкновение двух, казалось бы, несовместимых свойств. Конечно, на самом деле несовместимости нет; но сочетать их действительно трудно. Возьмем тот ключ, которым мы пользовались, когда говорили о самоубийце, и подумаем о смелости. Настоящая смелость — почти противоречие: очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит
[79]. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам и альпинистам; его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе — суть мужества, даже самого грубого. Человек, отрезанный морем, спасется, только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить — он трус и бежать не решится. Если он только готов умереть — он самоубийца; его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею; смелый любит жизнь, как жаждущий — воду, и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины; не выразил ее и я. Христианство же сделало больше: оно прочертило границу между ракой святого и страшной могилой самоубийцы — показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни. Поэтому и осенила наши копья тайна рыцарства — христианской смелости, презрения к смерти, а не китайской смелости, презрения к жизни.
Тут я стал замечать, что этот принцип — ключ ко всем проблемам этики. Возьмем другой пример — скромность. Как найти равновесие между гордыней и самоуничижением? Обычный язычник (или агностик) просто скажет, что он доволен собой, хотя не слишком — есть люди лучше его, есть и похуже. Словом, он высоко держит голову — но не задирает нос. Это разумно и достойно; однако можно возразить, как мы возражали Мэтью Арнольду. Компромисс обесценил обе крайности, в нем нет силы, нет чистоты цвета. Такая гордость не поднимет сердце, словно зов боевых труб; ради нее не оденешься в золото и пурпур. Такая скромность не очистит душу огнем, не сделает прозрачной, как стекло, не уподобит нас ребенку, сидящему у подножия трав. Чтобы увидеть чудо, надо смотреть снизу — Алиса стала очень маленькой, чтобы проникнуть в сад. Умеренная, разумная скромность лишает нас и поэзии гордости, и поэзии смирения. Христианство пошло своим странным путем и спасло их, обе.
Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Человек смог гордиться, как не гордился никогда; человеку пришлось смириться, как он никогда не смирялся. Я — человек, значит, я выше всех тварей. Но я — человек, значит, я ниже всех грешников. Смирению пессимизма — презрению к людям — пришлось уйти. Заглохли сетования Екклесиаста: «Нет у человека преимущества пред скотом» — и горькие слова Гомера о печальнейшей из тварей земных
[80]. Человек оказался подобием Божьим, гуляющим в саду. Он лучше скота; печален же он потому, что он не скот, а падший Бог. Великий грек говорил, что мы ползаем по земле, как бы вцепившись в нее. Теперь мы ступаем твердо, как бы попирая землю. Человек так велик для христиан, что его величие могут выразить только сияние венцов и павлиньи перья опахал. Но человек так мал и слаб, что это выразят только пост и розга, белый снег святого Бернарда
[81] и серая зола святого Доминика
[82]. Когда христианин думает о
себе, у него достаточно причин для самой горькой правды и самого беспощадного уничижения. Реалист или пессимист может разгуляться вволю. Пусть зовет себя дураком или даже проклятым дураком (хотя здесь есть привкус кальвинизма); только пусть не говорит, что дураки не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек — вообще человек — ничего не стоит. Христианству и тут удалось соединить несоединимое, соединить противоположности в самом сильном, крайнем виде. Себя самого надо ценить как можно меньше, душу свою — как можно больше.
Возьмем другой пример — сложную проблему милосердия, которая кажется такой простой немилосердным идеалистам. Милосердие — парадокс, как смирение и смелость. Грубо говоря, «быть милосердным» — значит прощать непростительное и любить тех, кого очень трудно любить. Представим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он сказал бы, вероятно, что одних простить можно, других — нельзя; что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться, а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже мертвого. Если поступок простителен, человека можно простить, и наоборот. Это разумно, даже мудро; но это — смесь, компромисс, раствор. Где чистый ужас перед неправдой, который так прекрасен в детях? Где чистая жалость к человеку, которая так прекрасна в добрых? Христианство нашло выход и здесь. Оно взмахнуло мечом — и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до седмижды семидесяти
[83]. Преступление прощать не нужно. Раб, укравший вино, вызывал и раздражение, и снисхождение. Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырвались на волю, им есть теперь, где разгуляться. И чем больше я присматривался к христианству, тем яснее видел: оно установило порядок, но порядок этот выпустил на волю все добродетели.
Свобода чувств и разума не так проста, как нам кажется. Здесь нужен баланс, именно такой, какой вносят законы в свободу политическую. Средний эстет-анархист, стремящийся к бесформенной свободе чувств, попадает в ловушку — он ничего не может чувствовать. Он разбивает оковы дома, чтобы отдаться поэзии; но, не зная этих оков, он уже не поймет «Одиссеи». Он освобождает себя от патриотизма и национальных предрассудков; освобождает тем самым и от «Генриха V»
[84]. Он — за пределами литературы; он — не свободней, чем фанатик. Ведь если между вами и миром — стена, важно ли, с какой вы стороны? Никому не нужна свобода от всего на свете; нужна иная свобода. Можно освободить вас от чувств, как освобождают из тюрьмы; можно освободить и так, как выгоняют из города. И вот, как же выйти за стену, выпустить чувства на волю и не наделать зла? Эту задачу решила церковь, провозгласив свой великий парадокс о совместимости несовместимых начал. Она знала и верила, что дьявол воюет с Богом; она восстала против дьявола; в беде и смятении мира ее гнев и ее радость загремели во всю силу, как водопад или стихи.
Святой Франциск мог славить все доброе радостней, чем Уитмен. Святой Иероним мог обличать все злое мрачнее, чем Шопенгауэр. И радость, и мрачность вышли на волю, потому что обе стали на свое место. Теперь оптимист вправе славить веселый зов труб и пурпур знамен; но не вправе сказать, что бой не нужен. Пессимист волен предупредить об увечьях и усталости, но не вправе сказать, что битву все равно не выиграть. Так было во всем, чего бы я ни коснулся: с гордостью, состраданием, противлением злу. Церковь не только сохранила несовместимые на первый взгляд вещи — она довела их до накала, который в миру в
едом разве что анархистам. Кротость стала безумней безумия. Христианство перевернуло нравственность; его добродетели поразительней языческих, как злодеяния Нерона поразительней будничных проступков. Дух гнева и дух любви стали странными и прекрасными: ярость святого Фомы Беккета ринулась, как пес, на величайшего из Плантагенетов
[85], жалость святой Екатерины целовала головы на плахе
[86]. Стихи воплотились в жизнь. Эти величие и красота действий исчезли вместе с мистической верой. Святые в своем смирении действовали великолепно, как в театре. Мы для этого слишком горды. Наши наставники ратуют за реформу тюрем; но вряд ли нам доведется увидеть, как видный филантроп целует обезглавленное тело, пока его не кинули в известь. Они обличают миллионеров, но вряд ли мы увидим, как Рокфеллера секут в храме.
Да, обвинения секуляристов не только сбивают с толку — они помогают понять христианство. Наша церковь действительно довела до предела и девственность, и семью — они сверкают рядом, как белизна и багрец на щите святого Георгия. Христианству всегда была присуща здоровая ненависть к розовому. В отличие от философов, оно не терпит мешанины; не терпит того компромисса между белым и черным, который так недалек от грязно-серого. Быть может, мы выразим все христианское учение о целомудрии, если скажем, что белое — цвет, а не бесцветность. Все, о чем я толкую, можно сказать и так: христианство стремится сохранить оба цвета и яркими, и чистыми. Его решение — не смешанный цвет, не желтовато-рыжий, не лиловый. Скорее оно похоже на переливчатый шелк, где яркие, блестящие нити идут рядом — а то и образуют знак креста.
Точно так же, конечно, обстоит дело, когда христианство обвиняют и в непротивлении, и в воинственности. Конечно, оба обвинения верны. Оно действительно вручало меч одним, вырывало его у других. Те, кто воевал, были страшны, как молния, те, кто не воевал, — спокойны, как статуя. Что ж, Церковь умеет использовать и своих ницшеанцев, и своих толстовцев. Что-то есть в бою, если столько прекрасных людей любили битву. Что-то есть в непротивлении, если стольких прекрасных людей радовала полная непричастность к войне. Но Церковь не дала исчезнуть ни тому, ни другому. Она сохранила обе добродетели. Тот, кто, как монах, не мог пролить крови, просто становился монахом. Такие люди были не сектой, а особым человеческим типом, вроде клуба. Монахи говорили все, что сказал Толстой; оплакивали жестокость битвы и обличали пустоту отмщения. Но толстовцы недостаточно правы, чтобы вытеснить из мира всех других; в века веры им не давали полной власти, и мир не лишился по их вине последней битвы сэра Джеймса Дугласа
[87] или знамени Иоанны. А иногда чистая милость и чистая ярость сочетались в одном человеке — так, выполнив пророчества, лев и ягненок возлегли рядом в сердце святого Людовика. Не забудьте, текст этот толкуют однобоко. Многие, особенно те же толстовцы, считают, что, возлегши рядом с ягненком, лев уподобился ему. Да это же аннексия, империализм-ягненок просто поглотил бы льва, как лев поглощал его. Дело в другом. Может ли лев лечь рядом с ягненком и сохранить царственное величие?
Так спросила Церковь;
такое чудо она свершила.
Вот это я и имел в виду, когда говорил о скрытых странностях жизни. Церковь поняла, что сердце слева, а не посередине; что земля — и шар, и не шар. Христианское учение открыло, где и в чем жизнь неразумна. Оно не только постигло закон — оно предсказало исключения. Те, кто полагает, что христианство изобрело сострадание, недооценивает христианство. Сострадание мог изобрести всякий; всякий это и делал. А вот совместить сострадание с суровостью мог только тот, кто предвидит странные нужды человека; ведь никто не хочет, чтобы большой грех прощали ему словно маленький. Всякий мог сказать, что жить — не очень хорошо и не очень плохо. А вот понять, до какой черты можно ощущать зло жизни, не закрывая от себя добра, — это открытие. Всякий мог сказать: «Не возносись и не юродствуй»; поставить предел. Но тот, кто скажет: «Здесь гордись, а вот здесь — юродствуй», людей освободит.
Сила христианской этики в том, что она открыла нам новое равновесие. Язычество — как мраморная колонна; оно стоит прямо, ибо оно пропорционально и симметрично. Христианство — огромная, причудливая скала: кажется, тронешь ее — и упадет, а она стоит тысячи лет, ибо огромные выступы уравновешивают друг друга. В готическом храме все колонны разные и все нужны. Святой Фома Беккет носил власяницу под золотой и пурпурной парчой, и ему была польза от власяницы, окружающим — от парчи; наши миллионеры являют другим мрачный траур, а золото держат у сердца. Не всегда равновесие — в одном человеке, часто оно во всем теле Церкви. Монах предавался молитве и посту в северных снегах — и южные города могли украшать себя цветами. Пустынник пил воду в песках Сирии — и крестьяне могли пить сидр в английских садах. Христианский мир удивительней и сложней языческой империи. Так, Амьенский собор не лучше, а сложней и удивительней Парфенона. Если вам нужен довод из современности, подумайте о том, почему христианская Европа, оставаясь единым понятием, раскололась на маленькие страны. Патриотизм — великий пример такого, нового равновесия. Языческая империя повелевала: «Вы — римские граждане, уподобьтесь же друг другу. Пусть германец не будет таким послушным и медлительным, галл — таким мятежным и быстрым». Христианская Европа, ведомая чутьем, говорит: «Пусть немец останется медлительным и послушным, чтобы француз мог быть мятежным и быстрым. Нелепица, именуемая Германией, уравновесит безумие, именуемое Францией».
И, наконец, самое главное. Если мы не скажем об этом, мы не поймем то, чего никак не могут понять враждебные историки христианства. Я имею в виду чудовищные схватки из-за мельчайших тонкостей догмы, истинные землетрясения из-за жеста или слова. Да, речь шла о дюйме; но дюйм — это все, когда надо удержать равновесие. Ослабьте одно, и другое станет сильнее, чем надо. Пастырь вел не овец, а тигров и диких быков — каждая из доктрин могла обернуться ересью и разрушить мир. Помните, что Церковь — укротительница львов; очень уж опасны ее учения. Непорочное зачатие, смерть Бога, искупление грехов, выполнение пророчеств можно, сдвинув чуть-чуть в сторону, превратить во что-то ужасное или кощунственное. Ювелиры Средиземноморья упустили крохотное звено — и лев древнего отчаянья сорвался с цепи в северных лесах
[88]. О самих богословских спорах я скажу позже. Здесь мне важно напомнить, что мельчайшая ошибка в доктрине может разрушить всю человеческую радость. Неточная фраза о природе символа сломала бы лучшие статуи Европы. Оговорка — остановила бы все пляски, засушила бы все рождественские елки, разбила пасхальные яйца. Доктрины надо определять строже строгого хотя бы для того, чтобы люди могли вольнее радоваться. Церкви приходится быть очень осторожной, хотя бы для того, чтобы мир забывал об осторожности.
Вот она, поразительная романтика ортодоксии. Люди, как это ни глупо, говорят, что правая вера скучна, безопасна и тяжеловесна. На самом деле нет и не было ничего столь опасного и занимательного. Ортодоксия — это нормальность, здоровье, а здоровье — интересней и трудней безумия. Тот, кто здоров, правит несущимися вскачь конями, придержит тут, приотпустит там — и держит равновесие стойко, как статуя, арифметически точно. Церковь ранних веков не была тупой и фанатичной, она укротила многих диких коней; но нельзя сказать, что она била в одну точку. Она разила вправо и влево, сокрушая огромные опасности. Она сокрушила арианство, хотя все земные силы чуть не сделали ее слишком земной, и тут же принялась за восточные ереси, чуть не сделавшие ее слишком бесплотной. Она никогда не шла удобным путем, не подчинялась условностям, не становилась приличной, осторожно-разумной. Легче было, в IV веке, поддаться земной власти ариан. Легче было, в XVII веке, сползти в бездонную пропасть предопределения. Легко быть безумцем; легко быть еретиком. Проще всего — идти на поводу у века, труднее всего — идти, как шел. Легко быть модернистом; легко быть снобом, легко угодить в одну из тех ловушек, которые — мода за модой, секта за сектой — стоят на пути Церкви. Легко упасть; падают под многими углами, стоят — только под одним. Легче легкого поддаться любому из поветрий, от агностицизма до христианской науки. Но избежать их — истинный подвиг, от которого захватывает дух. И я вижу, как, громыхая, мчится по векам колесница, дикая Истина правит ею и тусклые ереси падают перед ней.
Глава VII
ВЕЧНЫЙ МЯТЕЖ
В предыдущих главах я попытался доказать несколько положений. Вот они: во-первых, чтобы улучшить жизнь, надо хоть во что-то верить; во-вторых, чтобы хоть как-то радоваться, надо хоть чем-то возмущаться; в-третьих, и для радости, и для возмущения мало стать уравновешенным, как стоик. Простая покорность судьбе лишена высокой легкости счастья и острой невыносимости боли. Нам часто советуют «перетерпеть с улыбкой». На это нетрудно ответить: если вы терпите, вам не до улыбок. Греческие герои не улыбаются; зато горгульи
[89] хохочут — на то они и христианские. Когда же христианин счастлив, он в прямом смысле слова ужасно счастлив — счастье его сильно, как ужас. Христос предрек всю готику, когда почтенные и нервные люди (те самые, что теперь не выносят шарманки) возмущались криками иерусалимских мальчишек. Он сказал: «Если они умолкнут, то камни возопиют»
[90]; и, разбуженный силой Его духа, загремел хор готических храмов, покрытых орущими, разверстыми ртами. Пророчество исполнилось; камни возопили.
Если эти положения приняты, хотя бы рассуждения ради, зададим следующий вопрос, столь явно стоящий перед нами. Чтобы улучшить мир, надо быть хоть чем-то довольным. Но что значит «улучшить»? Рассуждая об этом, наши современники чаще всего попадают в порочный круг — в тот самый круг, который стал для нас символом безумия и пустого рационализма. Эволюция хороша, если она ведет к добру; добро — это добро, если оно способствует эволюции. Слон стоит на черепахе, а черепаха на слоне.
Казалось бы, ясно, что за идеалом нельзя обращаться к природе — по той простой причине, что в природе (в отличие от наших теорий) нет никакого принципа. Скажем, пошлый противник демократии важно сообщит вам, что природа не знает равенства. Он прав — однако он не закончил фразы. Природа не знает равенства; не знает она и неравенства. И равенство и неравенство предполагают определенную систему ценностей. Тот, кто видит аристократию в мешанине животного мира, так же поддался обману чувств, как тот, кто видит в ней демократию. И та и другая — идеалы чисто человеческие. Демократы говорят, что все люди ценны, аристократы — что одни ценнее других. Природа же вовсе не говорит, что кошки ценнее, чем мыши; она вообще молчит в этом споре. Она даже не скажет, что кошке надо завидовать, а мышку — жалеть. Мы считаем, что мышь — в худшем положении, ибо исповедуем философию, согласно которой жизнь лучше смерти. Но даже у нас не все так думают. Если мышь — из немецких пессимистов, она вправе считать, что взяла верх, а кошку обрекла на дальнейшие мучения. Мышь-пессимистка гордится, что продлила для кошки пытку существования, как гордится, быть может, микроб, приносящий болезнь. Все дело в том, какие у мыши взгляды. Вы даже не можете судить, что в природе — победа, что — поражение, пока не привнесете в нее хоть какую-нибудь доктрину.
В природе идеала не найдешь; а поскольку я не хотел бы начинать с конца, не будем пока искать его в Боге. Обратимся к самим себе — ведь есть же у нас какое-то видение, хотя большинство современников описывают его очень смутно.
Одни просто все сваливают на время; им кажется, что простой ход времени дает какие-то преимущества. Даже вполне умные люди часто говорят, между прочим, что та или иная нравственная система «не для наших дней». При чем тут дни? Чем связаны они с нравственностью? Конечно, эти люди хотят сказать другое: по их мнению, большинство отстало от их любимого меньшинства (а может — опередило его?). Другие цепляются за метафоры; честно говоря, по этой склонности легко отличить современных людей, разучившихся выражаться ясно. Не смея сказать прямо, что же хорошо, что — дурно, они бесстыдно суют дешевые образы и, как ни прискорбно, еще думают, что это очень утонченно, не то что грубая старая мораль. Например, им кажутся очень умными слова «высокий» или «высший». Ничего умного тут нет. Ведь речь идет не о шпиле и не о флюгере. «Томми — хороший мальчик» — чисто философское утверждение, достойное Платона и Аквината. «Томми живет высшей жизнью» — неуклюжее иносказание самого дурного пошиба.
Кстати, в этом — большая слабость Ницше, которого многие считают смелым и сильным мыслителем. Конечно, он пишет убедительно и красиво; но уж никак не смело. Чего-чего, а отваги в нем нет. Он никогда не скажет, что думает, простыми абстрактными словами, как говорили твердые и бесстрашные мыслители — Аристотель, Кальвин, даже Маркс. Он вечно прячется за пространственную метафору, как резвый, но не слишком талантливый поэт. Не осмеливаясь сказать «хуже зла» или «лучше добра», он говорит «по ту сторону добра и зла». Посмей он взглянуть своей мысли в лицо, он увидел бы, что это — чушь. Описывая своего героя, он не скажет, что тот — чище, или счастливей, или несчастней других: ведь это все мысли, штука опасная. Он говорит, что тот выше других, но так можно сказать об акробате или об альпинисте. Ницше — очень робкий мыслитель. Он и сам не знает, какой именно ему нужен сверхчеловек. А уж если он не знает, откуда же знать простым поборникам эволюции, жонглирующим словом «выше»?
Третьи решили сидеть тихо. Когда-нибудь что-нибудь да будет (никто не знает, что и когда). Если что-то появилось — значит, так надо; если не появилось — значит, незачем. Четвертые, напротив, стараются забежать вперед. Поскольку у нас могут вырасти крылья, они пока что отстригают нам ноги. А что, если природа задумала сороконожек?
Пятые, наконец, берут то, что им нравится, и выдают за цель эволюции. Эти — разумней всех. Только так и можно толковать по-человечески слова «прогресс» и «развитие». Вы что-то видите, чего-то хотите и стараетесь изменить в эту сторону мир. Точнее говоря, то, что вокруг нас, — еще не сам мир, а сырье, материалы. Бог дал нам не картину, а палитру. Но Он дал и план, набросок, видение. Мы знаем, что именно хотим изобразить. Так я дошел до новой мысли. Раньше я понял, что этот мир можно изменить, только если его любишь. Теперь прибавлю: чтобы знать, как менять, надо любить иной мир, выдуманный или истинный.
Не будем спорить о словах. Мне больше нравится говорить о реформе, чем об эволюции или прогрессе. Реформа предполагает форму. Слово «эволюция» связано с развертыванием — что-то само собой разворачивается. Прогресс — с продвижением по дороге, быть может неверной. Но в слове «реформа» — образ разумный и точный, он годится решительным людям. Мы видим — что-то не так, хотим придать правильную форму и знаем, какую.
Тут-то и начинается беда нашей эпохи. Сторонники прогресса перепутали две разные, противоположные вещи. Казалось бы, надо менять мир так, чтоб он соответствовал видению, идеалу. Мы же постоянно меняем видения. Казалось бы, надо — пусть медленно, но верно — учить людей добру и справедливости. Мы же быстро усомнились в справедливости и добре; любой бред немецкого софиста сбивает нас с толку. Казалось бы, надо идти к Новому Иерусалиму. На деле Новый Иерусалим убегает от нас. Мы не стали менять реальность в угоду идеалу. Мы меняем идеал; оно и легче.
Глупые примеры всегда проще. Представьте, что вам захотелось создать какой-нибудь новый мир, скажем, синий. Это не очень легко, и не сделаешь так уж быстро. Вас ждут подвиги — например, надо выкрасить тигра. Вас ждут радости — вы увидите, как восходит синяя луна. Если вы не будете лениться, вы оставите после себя лучший, более синий мир. Если вы работаете медленно и красите только по травинке в день, вы сделаете мало. Но если вы каждый день меняете цвет, вы не сделаете ничего. Если, прочитав очередного философа, вы будете красить все красным или желтым, после вас, в лучшем случае, останется несколько синих тигров, образчиков ранней манеры.
Именно этим занимается средний современный мыслитель. Вы скажете, что я преувеличиваю. Нет, именно так все и было. Серьезные и даже великие изменения в нашей культуре и политике произошли в начале XIX века, не позже. То было время черного и белого; люди твердо верили в протестантизм, в кальвинизм, в реформы, в реакцию, а нередко и в революцию. Каждый, кто верил, упорно бил в одну точку, не зная сомнений, — поэтому они чуть не свалили и Церковь, и палату лордов. У радикалов хватило мудрости на верность и постоянство; хватило мудрости на консерватизм. А сейчас, теперь, у радикалов нет ни времени, ни силы что-нибудь сокрушить. Лорд Хью Сесил
[91] не ошибся, когда заметил недавно в прекрасной речи, что пора перемен сменилась порой покоя. Но, боюсь, он огорчился бы, если бы понял, что покоем мы обязаны полнейшему безверию. Если вы хотите, чтобы все оставалось как есть, меняйте почаще веры и моды. Монархия и палата лордов стоят твердо, а порукой тому толстовство, коллективизм, коммунизм, анархизм, неофеодализм и научная бюрократия. Новые религии обеспечили (Бог знает, надолго ли!) устойчивость англиканства. Ницше, Толстой, Маркс, Шоу, Каннингэм Грэхем
[92] и Оберон Херберт
[93], склонив гигантские спины, держат трон архиепископа Кентерберийского.
Свободомыслие — лучшее средство против свободы. Освободите разум раба в самом современном стиле, и он останется рабом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он свободы, — и он ее не захочет. Вы скажете снова, что я преувеличил. И снова я отвечу: именно так живут те, кого вы встречаете на улице. Необразованный негр столь туп и низок, что по-человечески предан хозяину или по-человечески хочет на волю. Но тот, кого мы встречаем, — рабочий или клерк у Гредграйнда
[94] — слишком устал от мыслей, чтобы верить в свободу. Мятежные книги держат его на привязи. Безумные системы мелькают перед ним и его убаюкивают. Сегодня он марксист, завтра — ницшеанец, послезавтра, наверное, сверхчеловек, а раб — все время. Кроме теорий для него остается контора или фабрика. Выигрывает от всего этого Гредграйнд. Ему очень выгодно снабжать своих илотов книгами, исполненными сомнения. А ведь и впрямь, Гредграйнд прославился библиотеками! Все новые книги служат ему. Пока небесное то и дело меняется, на земле все будет по-прежнему. Ни один идеал не додержится до хотя бы скромных результатов. Современный молодой человек не изменит мира — он занят тем, что меняет убеждения.
Вот первое необходимое условие: идеал должен быть устойчивым. Не столь уж важно, сколько раз люди не дотягивали до идеала; все такие срывы — полезны. Но очень важно, как часто люди идеал меняли; в таких переменах никакой пользы нет. Уистлер
[95] снова и снова рисовал натурщика; важно ли, что он выбрасывал по двадцать набросков? А вот если бы всякий раз он видел нового натурщика, было бы плохо. Но встает вопрос: что можно сделать, чтоб люди, недовольные плодами труда, не прекращали работы? Как сделать, чтобы художник, недовольный портретом, выбросил в окно портрет, а не натурщика?
Твердое правило нужно не только правителю, но и мятежнику. Устойчивый идеал нужен любому мятежу. Новые идеи мы иногда осуществляем медленно; быстро мы осуществляем идеи старые. Если я плыву, качусь, выцветаю, цель моя может быть неясной; но восстать я могу только во имя четкой цели. Сторонники прогресса и эволюции этого не знают; в том их слабость. Им кажется, что нравственность улучшается постепенно, год за годом и даже минута за минутой. Тут неверно одно. Они признают медленный путь к справедливости; а как же быстрый? Как быть, если надо немедленно возопить о вопиющей неправде? Для ясности приведу пример. Некоторые вегетарианцы, скажем Солт, говорят, что пришло время отказаться от мяса. Тем самым получается, что раньше в мясе ничего плохого не было и, с другой стороны, через годы будет безнравственно есть яйца или пить молоко. Сейчас я не собираюсь обсуждать, справедливо ли убивать животных. Я говорю одно: если это несправедливо — надо срочно кидаться им на помощь. А как тут кинешься, если ты опередил свой век? Как поспеешь на поезд, если он, быть может, прибудет веков через пять? И еще: вправе ли я осудить того, кто мучает кошку, если в свое время будет так же дурно выпить молока? Прекрасные и спятившие русские сектанты выпрягают лошадей из повозок. Выпрягать ли мне лошадь из кеба? Хорошо, если кебмен отстал от времени, — а что, как я время опередил? Представьте, что я говорю жестокому фабриканту: «Рабство соответствовало прежней фазе эволюции», а он отвечает: «Что ж, потогонная система соответствует нынешней». Что я отвечу, если нет мерила, стоящего вне времени? Быть может, не фабрикант отстал, а филантроп опередил эпоху?
Итак, можно сказать, что твердый идеал нужен мятежнику не меньше, чем консерватору. Без него не выполнишь воли короля; без него короля и не казнишь. Гильотина плохая штука, одно в ней хорошо: быстрота. Нож ее — лучший ответ на любимый довод эволюционистов. «Где же именно вы проведете черту?» — спрашивают они, а мятежник ответит: «Вот здесь, между вашей головой и телом». Если надо нанести удар, надо знать, что — хорошо, что — плохо; надо верить во что-то вечное, если хочешь действовать быстро. Какое бы связное человеческое дело вы ни затеяли — намерены ли вы хранить все неизменным, как в Китае, или менять все, что ни месяц, как в революционной Франции, — перед вами должен быть образчик, устойчивый идеал. Вот оно, первое требование.
Я написал это, и мне показалось, что кто-то еще участвует в споре, — так слышишь над улицей колокольный звон. Кто-то говорил: «Мой идеал устойчив — он встал вместе с этим миром. Мою утопию не изменишь, ибо имя ее — рай. Можно переменить место назначения, но не место, из которого ты вышел. У того, кто верит, всегда есть повод к мятежу: ведь Бог в сердцах человеческих под пятой Сатаны. В мире невидимом ад восстал против неба. Здесь, в мире видимом, небо восстает против ада. Верующий всегда готов восстать; ведь восстание — это восстановление. Всегда, в любой миг, ты можешь восстать во имя правды, которой человек не видел со времен Адама. Добро остается добром; никаким неизменным обычаям, никаким изменениям эволюции ничего с этим не поделать. Возможно, у мужчин есть любовницы столько же столетий, сколько у быков — копыта; но прелюбодеяние — неестественно, если оно неправедно. Возможно, люди живут в угнетении так же давно, как рыбы в воде, но угнетения быть не должно, если оно неправедно. Возможно, раб привык к цепям, блудница — к румянам, как птица привыкла к перьям, лиса — к хвосту. Но рабство и блуд — неестественны, если они греховны. Доисторическая легенда бросает вызов всей истории. Наше видение — не выдумка, это — истина». Я удивился, что мои выводы настолько совпали с христианством; но перешел к другому.
Я стал думать о том, что идеалу прогресса нужно не только это. Мы уже говорили, что некоторые верят в безличную, автоматическую эволюцию. Однако особой мятежности такая вера не вызовет; если все идет к лучшему само собой, надо быть не мятежным, а ленивым. Если мы исправимся и так — зачем тратить силы? В чистом виде вера в прогресс — лучшее средство против прогрессивности. Это ясно; но не об этом я хотел сейчас говорить.
Интересно другое: если прогресс безличен, он должен быть предельно простым. Приведу пример. Очень может быть, что все на свете со временем синеет, — это так просто, что посторонней силы тут не нужно. Но совершенно невероятно, чтобы безличная природа сама по себе постепенно складывалась в многоцветную картину. Если бы мир шел к свету или мраку, это могло бы быть естественным, как смена времен суток. Но сложную игру светотени не создашь без замысла — человеческого или Божьего. С простым течением времени мир может выцвести, как старое пальто, или почернеть, как старая картина. Но если в нем тонко сочетаются самые разные цвета — это значит, что есть художник.
Если это еще неясно, приведу простой пример. Нынешние гуманисты хотят внушить нам одну исключительно широкую веру (под словом «гуманист», как теперь положено, я подразумеваю того, кто защищает права всех существ в ущерб человеку). Они говорят, что с каждым веком мы становимся все гуманнее и постепенно включаем в светлый круг сострадания рабов, детей, женщин, коров и так далее. Когда-то, говорят они, считалось естественным есть людей. Правда, этого не было; людоедство — признак упадка, а не первоначальной простоты. Гораздо больше оснований предположить, что наши современники станут есть людей из снобизма, чем поверить, что первобытные ели их по неведению. Но сейчас я не собираюсь критиковать познания гуманистов в истории; я просто излагаю их взгляды, а считают они, что люди обращаются все мягче — сперва с согражданами, потом с рабами, потом с животными, а потом, наверное, с растениями. Мне кажется, что нехорошо сесть верхом на человека. Вскоре я пойму, что нехорошо сесть на лошадь. Потом, наверное, не сяду и на стул. Так они считают. Что ж, вполне возможно применить и здесь идеи эволюции или неизбежного прогресса. Быть может, мы и впрямь будем мучить все меньше и меньше существ и предметов — не по воле, а просто потому, что к тому идет; рожают же некоторые звери все меньше и меньше детенышей. Это достаточно глупо, чтобы счесть процесс естественным.
Из дарвинизма можно вывести две безумные нравственные системы (и ни одной разумной). Учение о сродстве и борьбе всех существ может породить и болезненную жестокость, и болезненную сентиментальность — только не здоровую любовь к животным. Исходя из эволюции, можно стать бесчеловечным или слащавым — человечным стать нельзя. Если вы и тигр не слишком отличаетесь друг от друга, вас может охватить нежность к тигру и тигриная жестокость. Можно (хоть и нелегко) «поднимать тигра до себя»; легче опуститься до тигра. Ни в том, ни в другом случае учение об эволюции не поможет вам относиться к тигру правильно.
Если же вы хотите отнестись к нему так — вернитесь в рай. Неотступный голос снова подсказал мне: только тот, кто верит в сверхъестественное, здраво смотрит на естественное. Все пантеизмы, эволюционизмы и прочие вселенские религии основаны на том, что Природа — наша мать. Если вы в это поверите, вы, как ни печально, тут же заметите, что она скорей похожа на мачеху. Христианство же говорит, что природа нам не мать, а сестра. Мы вправе гордиться ее красотой, и отец у нас один; но она над нами не властна, и, восхищаясь, мы не должны ей подражать. Вот почему в христианском умилении земным есть почти легкомысленная легкость. Природа была величавой матерью поклонникам Изиды и Кибелы. Она была величавой матерью для Уордсворта и Эмерсона. Но для святого Франциска она была сестрой, даже сестричкой — любимой и немножко смешной.
Я собирался писать не об этом; и пишу только для того, чтобы показать, как упорно — и словно невзначай — подходит ключ к самой маленькой дверце. Писать я собираюсь вот о чем: если бы природа бессознательно и сама по себе менялась к лучшему, она шла бы к чему-нибудь простому. Нетрудно представить, что по закону биологии наши носы становятся все длиннее. Но хотим ли мы этого? Кажется, нет; нам бы хотелось, чтобы нос был такой длины, как того требует красота. Однако можем ли мы представить, что слепой биологический процесс ведет к красоте? Ведь для нее нужно определенное, и очень сложное, сочетание всех черт. Простой эволюцией к ней не придешь — она или случайна, или преднамеренна. Точно так же обстоит дело с идеалом человеческой этики. Быть может, мы досовершенствуемся до того, что не посмеем терзать собеседника доводом или будить птичку кашлем. В конце концов мы не посмеем двинуться, чтобы не потревожить мухи, и перестанем есть, чтобы не погубить микроба. Возможно, мы идем к столь простой и тихой жизни. Но хотим ли мы ее? Может быть и другое: мы, как мечтал Ницше, развиваемся в противоположную сторону. Сверхчеловеки будут крушить друг друга, соревнуясь в злой силе, пока не разнесут между делом весь мир. Но хотим ли мы, чтобы мир разнесли? Скорей уж мы стремимся к сочетанию двух благ — сдержанности и дерзости, малости — и смелости. Если ваша жизнь была хоть раз хороша, как детская сказка, вспомните, в чем прелесть сказок: герой способен дивиться — но не пугаться. Если он испугается великана — ему конец; если же он великану не дивится — конец сказке. Он должен быть таким смиренным, чтобы взглянуть снизу вверх, и таким гордым, чтобы бросить вызов. Так и мы; к великану мира сего надо не просто относиться все мягче или все жесточе. Мы должны сохранить столько брезгливости, чтобы, если надо, плевать в звезды. А главное — если мы хотим быть лучше и радостней, мы должны сохранить то и другое вместе, причем не кое-как перемешанным, а в определенном, одном узоре. Совершенная земная радость (если она придет) не окажется плоской и тяжкой, как животное довольство. В ней будет опасное и точное равновесие романтического подвига. Если вы не верите в себя, вы не выйдете на путь приключений; если вы не сомневаетесь в себе — вы не сумеете ими насладиться.
Вот наше второе требование. Во-первых, идеал должен быть точным; во-вторых, он должен быть непростым. Душе мало, если что-то одно — милосердие, гордость, мир, отвага — поглотит все остальное. Нужен совершенно определенный узор, где все — в свою меру и на своем месте. Я не обсуждаю сейчас, ждет ли нас этот узор. Я просто говорю: если ждет, кто-то его создал, потому что только личность может правильно все разместить. Если мир улучшается сам собой, прогресс должен быть простым, как постепенное понижение или повышение температуры. Если же это — сложно, как творчество, значит, есть и творец. И тут снова мои домыслы прервал древний голос: «Я мог бы сказать тебе это давно. Если мир куда-то идет, он может идти только туда, куда Я веду его — к сложной системе ценностей, где истина и милость встречаются
[96]. Безличная сила может тянуть вас в плоские пустоши или на острые вершины скал. Но только Бог может вести вас — и ведет — в город, где улицы и здания подчинены сложному плану, и вам дано прибавить ваш собственный, неповторимый цвет к многоцветному плащу Иосифа
[97]».
Так во второй раз христианство дало мне точный ответ. Я сказал: «Пусть идеал будет твердым»; а Церковь ответила: «Мой — тверже твердого, потому что он уже был». Потом я сказал: «Пусть он будет сложным, как картина»; а она ответила: «Так оно и есть, ибо я знаю, Кто — художник». Тогда я задумался о третьей черте моей утопии. Она тоже очень нужна; рассказать о ней труднее всего. Попробую так: даже в утопии надо смотреть в оба, чтобы нас оттуда не выгнали, как выгнали некогда из рая.
Часто говорят, что надо быть прогрессивным, потому что все идет к лучшему. На самом деле единственный довод в пользу прогресса — то, что все идет к худшему. Все портится; вот лучший аргумент в пользу прогресса. Если б не это, консерваторам было бы нечего возразить. Они говорят: оставьте все как есть и будет хорошо. Но это не так. Все будет плохо. Оставьте в покое белый столб — и он очень скоро станет черным. Хотите, чтоб он был белым, — красьте его снова и снова; другими словами, снова и снова восставайте. Если вам нужен старый белый столб, постоянно создавайте новый. Это — так, когда речь идет о предметах; это еще верней и страшней, когда речь идет о людях. Все человеческие установления старятся с такой сверхъестественной быстротой, что нам нельзя думать ни минуты. В газетах и книжках принято писать о тяжком иге старых тираний. На самом же деле мы почти всегда страдаем от новой тирании, которая лет за двадцать до того была свободой. Англия восторгалась до безумия патриотической монархией Елизаветы
[98], а потом, почти сразу, возмутилась до безумия тиранией Карла I
[99]. Во Франции монархию не смогли вынести не после того, как ее терпели с грехом пополам, а после того, как ей поклонялись. Людовику Любимому наследовал Людовик Казненный
[100]. У нас, в XIX веке, прогрессивного фабриканта считали чуть ли не народным трибуном, пока социалисты не возопили, что он — кровавый тиран и людоед. Еще пример: газета была для нас глашатаем общественного мнения, и вдруг (именно — вдруг, не постепенно) некоторые обнаружили, что это ей и не снилось. Мы поняли, что газеты — прихоть нескольких богачей. Совсем не нужно восставать против старого; восставать надо против нового. Мир держат в оковах новые тираны — капиталисты, издатели газет. Вряд ли король в наши дни грубо нарушит конституцию; скорей он обойдет ее, будет действовать за ее спиной. Он воспользуется не королевской властью, а королевским безвластием, бессилием — тем, что никто ничего о нем не знает и не может на него напасть. Ведь король теперь — самое частное из частных лиц, И еще один пример: газетчикам незачем сражаться против цензоров. Прошли те времена. Теперь сама газета — цензор.
Все общественные установления заболевают тиранией с поразительной быстротой; вот третий факт, который должна учесть наша безупречная теория прогресса. Надо все время следить, чтобы той или иной свободой не злоупотребляли; чтобы то или иное право не стало злом. Здесь я полностью согласен с революционерами. Они правы, когда не доверяют тому, что установили люди; правы, когда не надеются на князей и сынов человеческих
[101]. Вождь, избранный как друг народа, становится ему врагом; газета, созданная, чтоб все узнали правду, скрывает ее от всех. Да, я понял революционеров; и снова у меня перехватило дух — я вспомнил, что и на этот раз я заодно с христианством.
Оно заговорило снова. «Я учило всегда, что люди по природе своей неустойчивы; что добродетель их легко ржавеет и портится; что сыны человеческие сползают к злу, особенно если они благополучны, горды и богаты. Это недоверие, этот вечный мятеж вы на вашем неточном, новом языке именуете доктриной прогресса. Будь вы философом, вы бы, как я, сказали „догмат о первородном грехе“. Зовите это, как вам нравится; я же зову это истинным именем: грехопадение человека».
Мы сравнивали правую веру со шпагой; тут я сравню ее с боевым топором. И впрямь — кто, кроме христианства, смеет сомневаться в праве сытых и воспитанных на власть? Социалисты, даже демократы, часто говорят от том, что бедность неизбежно приведет к умственной и нравственной деградации. Ученые (даже демократы — да, есть и такие) говорят: если мы улучшим условия, зло и порок исчезнут. Я слушаю их внимательней внимательного, словно зачарованный. Они очень похожи на человека, рьяно перепиливающего сук, на котором он сидит. Если им удастся доказать свою теорию, демократию можно хоронить. Из того, что бедные — нравственные ублюдки, совсем не вытекает, что нужно их спасти. Зато отсюда непременно вытекает, что им не надо давать гражданских прав. Если человек, у которого нет спальной, не способен к свободному выбору, надо немедленно лишить его голоса. Правители вполне резонно скажут: «Возможно, со временем мы дадим ему лучшее жилище. Но если он такой скот, как вы говорите, он пока что погубит страну. Спасибо за намек, мы примем меры». Жутковато, но занятно смотреть, как серьезный социалист прилежно мостит дорогу для аристократии. Представьте, что кто-то, придя на званый вечер, просит прощения за то, что он — не во фраке, и объясняет, что он напился, разделся на улице и, кстати, вообще до этого был в тюремной одежде. Хозяин может сказать, что, если дело так плохо, можно было бы и не приходить. Точно таков социалист, когда он радостно доказывает, до какого убожества довела людей бедность. Богатый может сказать: «Что ж, прекрасно — мы и не будем доверять им» — и захлопнет перед ними дверь. Учение о наследственности и среде — прекрасный довод в защиту аристократии. Если удобный дом и чистый воздух очищают душу, почему не вручить власть тем, у кого все это есть? Если хорошие условия помогли бы бедным лучше управлять собой, почему не дать богатым право управлять бедными? Обеспеченные — просто передовой отряд, уже проникший в Утопию.
Есть ли на это ответ? Насколько я знаю, он есть, один: ответ христианский. Только Церковь может разумно объяснить, почему нельзя положиться на богатых. Она учила всегда, что опасность — не в условиях, а в самом человеке. А если уж говорить об условиях, о среде, опаснее всего именно благополучие. Я знаю, техники изо всех сил изобретают гигантскую иглу. Я знаю, биологи изо всех сил выводят крохотного верблюда. Но даже если верблюд очень мал, а ушко — огромно; даже если понимать Иисусовы слова в самом умеренном смысле, они все равно значат, что нельзя особенно полагаться на нравственность богатых
[102]. Даже в разбавленном христианстве достаточно взрывчатой силы, чтобы разнести в куски современное общество. Самая малость христианства — приговор нынешнему миру. Ведь мир этот держится не тем, что богатые бывают полезны (это бы еще ничего), а тем, что на богатых можно положиться. Во всех дискуссиях, диспутах и спорах вам твердят, что богатых подкупить нельзя. На самом же деле подкупить их можно — они уже подкуплены, потому и богаты. В том-то и дело, что человек, зависящий от удобства и роскоши, уже испорчен. Христос и святые с утомительным терпением твердили, что богатство связано с огромной нравственной опасностью. Не всегда противно христианству убить богатого тирана; не всегда ему противно дать богатому власть, если он мало-мальски справедлив; и уж никак не противно христианству против богатых восстать или богатым покориться. Но абсолютно противно христианству доверять богатым, считать их нравственно надежней, чем бедных. Христианин может сказать: «Я не презираю этого человека, хотя он занимает высокий пост и берет взятки». Но он не может сказать (как говорят в наше время с утра до ночи): «Он занимает такой высокий пост, что взяток брать не станет». Христианство учит, что любой человек на любой высоте может брать взятки. Так учит христианство — и, по забавной случайности, тому же учит история. Разве лорд Бэкон
[103] чистил сапоги? Разве герцог Мальборо
[104] подметал улицы? Мы должны быть готовы к тому, что в лучшей из утопий любой, самый благополучный человек может пасть; особенно же надо помнить, что можешь пасть ты сам.
Газеты тратили много пустых и чувствительных слов, чтоб доказать, что христианство сродни демократии; и не всегда им удавалось скрыть, что эти родичи нередко ссорились. На самом деле связь христианства и демократии много глубже политики. Единственная абсолютно нехристианская идея — идея Карлейля: править должен тот, кто чувствует себя в силах править. Что-что, а это — чистое язычество. Если наша вера вообще говорит о правлении, она скажет: править должен тот, кто чувствует, что править не может. Герой Карлейля говорит: «Я буду королем»; христианский святой — «Nolo episcopari»
[105]. Если великий парадокс христианства вообще что-нибудь значит, он значит вот что: возьмите корону и обыщите всю землю, пока не найдете человека, который скажет, что недостоин ее. Карлейль не прав — мы не должны короновать исключительных людей, которые знают, что вправе править. Лучше возложим корону на совсем уж исключительного — на того, кто знает, что править не способен.
В этом — один из двух или трех доводов в защиту того минимума демократии, который существует теперь. Машина голосования — не демократия, хотя нелегко в наши дни придумать что-нибудь попроще, не прибегая к тирании. Но даже это — попытка узнать мнение тех, кто сам не решится его высказать; и потому голосование — штука христианская. Отважно и неразумно довериться тем, кто себе не верит. Это — чисто христианский парадокс. В отрешенности буддиста нет особого смирения; индус — мягок, а не кроток. Но в попытке узнать мнение безвестных есть христианское смирение — ведь куда проще положиться на мнение известных людей. Быть может, смешно называть христианскими выборы. Еще смешней, совсем уж нелепо связывать с христианством предвыборную агитацию. Но здесь ничего нелепого нет. Вы просто подбадриваете смиренных; вы говорите им: «Униженный, возвысься». Все было бы совсем благочестиво, не страдай при этом немного смирение политического деятеля.
Аристократия — не класс; она — порок, обычно не слишком тяжкий. Трудно устоять перед естественным искушением, и вот одни — важничают, другие — восторгаются ими. Это очень легко и очень обычно.
Один из сотни ответов на недолговечное поклонение силе в том, что быстрей и отважней всех — вовсе не грубые и толстокожие. Птица ловка и стремительна, ибо она — мягкая. Камень беспомощен, ибо он тверд. Он тяжело падает вниз, потому что твердость — это слабость. Птица взлетает, потому что хрупкость — это сила. В совершенной силе есть легкость, даже способность держаться в воздухе. Современные исследователи преданий торжественно признали, что великие святые умели летать. Пойдем дальше и скажем: значит, они были легкими. Ангелы летают, потому что они легко относятся к себе. Христиане всегда чувствовали это, особенно — христианские художники. Вспомните ангелов Фра Анжелико
[106]: они скорее бабочки, чем птицы. Вспомните, сколько света и движения в самых серьезных средневековых фресках, как проворны и быстроноги ангелы и люди; только это и не сумели перенять наши прерафаэлиты
[107] от тех, настоящих. Берн-Джонс
[108] не уловил легкости средних веков. На старых картинах небеса — как золотой или синий парашют. Каждый человек вот-вот взлетит, воспарит в небо. Рваный плащ бедняка удержит его в воздухе, как пестрые ангельские крылья. Но короли в золотой парче и богатые в пурпуре прижаты к земле тяжестью гордыни. Гордые падают вниз — впадают в важное довольство собой. Чтобы забыть о себе, надо подняться, взлететь, прыгнуть. Серьезность — не добродетель. Это не совсем соответствует догме, но вполне верно назвать ее пороком. Человеку свойственно воспринимать себя всерьез. Передовую статью гораздо легче сочинить, чем шутку. Важность — естественная поза; веселье — причудливо, как прыжок. Легко быть тяжелым; тяжело быть легким. Сатану увлекла вниз сила тяжести.
Европа может гордиться: с тех пор как она стала христианской, она всегда в глубине души считала аристократию слабостью — чаще всего простительной. Если вы не верите, выйдите за пределы христианства, в другую среду. Сравните наши сословия с индийскими кастами. Там аристократия куда ужасней — она связана с умом, с ценностью. Там верят, что одни касты действительно лучше других в священном и таинственном смысле. Христиане — даже самые испорченные и темные — никогда не считали, что в этом, духовном смысле маркиз лучше мясника. Даже самые странные христиане не считали, что принц застрахован от преисподней. Быть может (я не знаю), у древних четко различали свободных и рабов. Но в христианских странах к дворянину относились чуть насмешливо, хотя в великих походах и советах он обретал иногда право на почтение. По сути своей мы, европейцы, не принимали аристократов всерьез. Только человек неевропейской культуры (скажем, д-р Оскар Леви
[109], единственный умный ницшеанец) способен принимать ее так. Быть может, я заблуждаюсь (кажется — нет), но английский аристократ в наши дни лучше всех прочих. Он наделен всеми слабостями, но и всеми достоинствами вельможи. Он прост, он благодушен, он храбр, хотя и не до безумия. Но лучше всего в нем то, что никто в Англии не мог бы принять его всерьез.
Короче говоря, я — как обычно, очень медленно — додумался до утопии равноправных; и, как обычно, обнаружил, что Церковь опередила меня. Это и смешно, и печально. Но так всегда в моих поисках утопий: я выбегаю из мастерской с планом новой, великолепной башни — и вижу, что она почти две тысячи лет сияет в солнечном свете. Не хвастаясь, скажу, что чуть не открыл брачного обета — но, увы, опоздал. Долго описывать, как — факт за фактом, дюйм за дюймом — я узнавал мою утопию в Новом Иерусалиме. Приведу один пример: как я додумался до брака.
Когда, нападая на социализм, говорят о свойствах человеческой природы, обычно упускают важную деталь. Быть может, некоторые планы социалистов неосуществимы; но есть и такие, о которых просто не надо бы и мечтать. Быть может, не удастся поселить всех людей в одинаково хороших домах; но поселить всех в одном и том же доме — не мечта, а кошмар. Быть может, не удастся внушить людям почтение к любой старушке. Но любить всех старых женщин так же сильно, как собственную мать, просто ненужно. Не знаю, Подойдут ли читателю эти примеры; приведу другой, самый для меня важный. Я не хочу и не выдержу утопии, где меня лишат лучшей из свобод: запретят связать себя. Полная анархия уничтожила бы не только порядок и верность, но и веселье, и забаву. Например, нельзя было бы даже заключить пари. Если договоры потеряют силу, исчезнет не только нравственность, но и спортивный азарт. Ведь пари и все тому подобное — пусть искаженно, пусть слабо — выражают врожденную тягу к приключениям, о которых я столько говорил на этих страницах. А в приключении все должно быть настоящим: и опасность, и возмездие, и награда. Проиграл пари — плати, бросил вызов — сражайся, иначе это не поэзия, а пошлость. Если я обещал верность, я должен быть наказан за измену, иначе зачем давать обет? О человеке, который превратился в лягушку, а вел себя, как фламинго, не напишешь приличной сказки; не напишешь и о том, кто из чрева кита вдруг попал на Эйфелеву башню. Даже в самой дикой выдумке одно должно вытекать из другого, обратного хода нет. Христианский брак — великий тому пример; потому он и стал сюжетом всех романов. Вот мое последнее требование к любой земной утопии: она должна принять всерьез мои обещания и обеты; она должна отплатить мне, если я оскорблю свою честь.
Мои друзья, поклонники утопий, смотрят друг на друга с опаской — ведь они так мечтают о разрыве всех связей. А я снова слышу, как эхо, голос иного мира: «В моей утопии тебя ждут и приключения, и обязанности. Но самая трудная обязанность, самое смелое приключение — попасть в нее».
Глава VIII
РОМАНТИКА ОРТОДОКСИИ
Часто жалуются на суету и напряженность нашего времени. На самом деле для нашего времени характерны лень и расслабленность, и лень — причина видимой суеты. Вот как бы внешний пример: улицы грохочут от такси и прочих автомобилей, но не из-за нашей активности, а ради нашего покоя. Было бы меньше шума, если б люди были активнее, если бы они попросту ходили пешком. Мир был бы тише, будь он усерднее. Это касается не только внешней, физической суеты, но и суеты интеллектуальной. Механизм нынешнего языка просто предназначен для облегчения труда: он сберегает умственный труд куда больше, чем следует. Ученые обороты используются, как прочие ученые фокусы — колесики, пружины, подшипники, чтобы сгладить и сократить удобный путь. Длинные слова дребезжат, словно длинные поезда. Они везут сотни людей, которые слишком устали или слишком бездумны, чтобы ходить и думать самостоятельно. Полезно хоть разок выразить свое мнение короткими словами. Если вы говорите: «Социальная значимость приговора на срок, зависящий от поведения заключенного, признается всеми юристами как составная часть нашей социальной эволюции к гуманному и вполне научному взгляду на природу наказания», — вы можете рассуждать часами, ни разу не потревожив свое серое вещество. Но если вы начнете так: «Я хочу, чтобы Джонс сидел, а Браун решал, когда ему выйти на волю», — вы с ужасом обнаружите, что надо думать. Трудны не длинные слова, а короткие. Куда больше метафизической тонкости в слове «гибель», чем в слове «дегенерация».
Длинные слова, избавляющие нас от мыслей, особенно опасны и вредны вот почему: одно и то же слово в разных сочетаниях означает совершенно разные вещи. Возьмем хорошо известный пример — идеалиста. Это слово имеет одно значение в философии и совсем другое в морализирующей риторике. Да и ученые-материалисты вправе обижаться, когда путают материализм как мировоззрение и материализм как моральный упрек. В более примитивных случаях тот, кто ненавидит партию прогресса в Лондоне, считает себя носителем прогресса в Южной Африке.
Столь же непредвиденная путаница произошла и в употреблении слова «либеральный» в связи с религией и в связи с политикой. Часто полагают, что все либералы — вольнодумцы, ибо они обязаны любить все вольное. С тем же успехом можно утверждать, что идеалисты стоят за Высокую церковь, потому что они любят все возвышенное. Тогда Низкая церковь полюбит низшие слои, а Свободная церковь — вольные шутки
[110]. Дело тут в простом совпадении слов. В современной Европе свободомыслящий — это не человек, который думает по-своему. Это человек, который подумал по-своему и выбрал определенный набор догм: материальное начало мира, невозможность чудес и личного бессмертия и т. д. Почти все эти идеи решительно несвободны, что я и постараюсь показать в этой главе.
На ближайших страницах я попытаюсь показать, как можно короче, что любая идея освободителей веры в социальной практике приводит к закрепощению. Почти каждое требование свободы в церкви оказывается требованием тирании в мире, потому что теперь не хотят даже освобождать церковь во всех отношениях. Теперь просто дают волю определенному набору учений, произвольно называемых научными, — материализму, пантеизму, арийскому превосходству или детерминизму. Каждое из них (мы разберем их по очереди) оказывается природным союзником угнетателя. Удивительно (хотя, если вдуматься, не очень и удивительно), что почти всё — в союзе с угнетателем; только ортодоксия никогда не переступит некой черты. Можно вывернуть католичество так, чтобы отчасти оправдать тирана, — но германская философия отпустит ему все грехи.
Рассмотрим по порядку нововведения новой теологии или модернистской церкви. В конце предыдущей главы мы обнаружили одно из них. Ту самую доктрину, которая оказалась единственным гарантом юных демократий, объявили самой устаревшей. Учение с виду непопулярное оказалось главным источником народных сил. Короче, чтобы у нас была разумная причина протестовать против олигархии, надо признать первородный грех. И так во всех остальных случаях.
Начнем с самого очевидного примера — с чудес. Почему-то многие убеждены, что неверящий в чудеса мыслит свободнее, чем тот, кто в них верит. Почему — я не в состоянии сообразить, и никто не берется мне объяснить. По непостижимым для меня причинам либеральным священником считается тот, кто хочет уменьшить число чудес, а не тот, кто хочет их умножить; тот, кто волен не верить, что Христос восстал из мертвых, а не тот, кто волен верить, что из мертвых восстала его родная тетка. Часто в приходе бывают неприятности, потому что священник не признает, что Петр ходил по водам, но когда мы слышали о священнике, чей родной отец гулял по пруду? Бойкий противник Церкви тут же заявит, что чудесам ныне нет веры, — но дело не в этом. И не в том дело, что «чудес не бывает», согласно простодушной вере Мэтью Арнольда. Теперь верят в чудеса куда больше, чем восемьдесят лет назад. Ученые верят в них — современная психология обнаруживает поразительные силы и ужасных чудищ духа. То, что старая наука по крайней мере решительно отвергла бы как чудо, ежеминутно подтверждает наука новая. Только новая теология все еще достаточно старомодна, чтобы отрицать чудеса. И даже если свободно отрицать чудеса, это еще не значит, что их нет на самом деле. Это безжизненный предрассудок, исток которого — не свобода мысли, а материалистическая догма. Человек XIX века не верил в Воскресение не потому, что его либеральное христианство позволяло усомниться в нем, а потому, что его строжайший материализм запрещал ему верить. Теннисон, типичный человек XIX века, высказал интуитивное убеждение своих современников, сказав, что есть вера в их честном сомнении
[111]. В этих словах была глубокая и ужасная правда. Их неверие в чудеса было верой в неподвижную безбожную судьбу, глубокой искренней верой, что мир неисцелимо скучен. Сомнения агностика — это всего-навсего догмы материалиста.
О свидетельствах в пользу сверхъестественного поговорим потом. Пока что ясно одно: если свобода мысли держит чью-нибудь сторону в этом споре, то она стоит за чудеса. Прогресс (в единственно терпимом смысле) означает только последовательную власть духа над материей. Чудо — мгновенная власть духа над материей. Если вы хотите накормить народ, вы можете считать, что накормить его в пустыне чудом невозможно; но не можете же вы сказать, что это не свободно. Если вы хотите, чтобы дети бедняков отправились к морю, вы можете думать, что они вряд ли полетят туда верхом на драконах, но вы не можете протестовать против этого. Праздник, как и либерализм, означает свободу человека. Чудо — свобода Бога. Вы можете искренне отрицать и то, и другое, но вы не можете считать свой запрет триумфом свободной мысли. Католическая церковь верит, что и человек, и Бог имеют право на особую, духовную свободу. Кальвинизм отнял свободу человека, но оставил ее Богу. Материализм связывает самого Творца, он сковал Бога, как дьявола в Апокалипсисе
[112]. И те, кто способствовал этому процессу, называются «либеральными теологами».
Это простейший случай. Мнение, будто неверие в чудеса родственно свободе и прогрессу, абсолютно неверно. Если человек не может верить в чудеса, говорить не о чем: он не слишком свободен, но он вполне честен и последователен, что гораздо важнее. Но если человек может верить в чудеса, он именно в силу этого более свободен, ибо чудеса означают, во-первых, свободу души и, во-вторых, ее власть над тиранией обстоятельств. Иногда даже чрезвычайно умные люди на редкость наивно забывают эту истину. Например, Бернард Шоу говорит о чудесах о искренним старомодным презрением, словно это отступничество со стороны природы; странно, но он не видит, что чудеса — лучший плод его любимого древа, учения о всемогуществе воли. Точно так же он называет жажду бессмертия жалким эгоизмом, забыв, что сам он только что назвал жажду жизни отважным эгоизмом. Как может быть благородным желание бесконечной жизни и низким — желание жизни вечной? Нет уж, если вы хотите, чтобы человек восторжествовал над тиранией природы или обычая, любите чудеса — а возможны ли они, мы потом обсудим.
Рассмотрим и другие примеры этого странного заблуждения, будто «либерализация религии» помогает раскрепощению общества. Следующий пример можно найти в пантеизме, в том современном подходе, который часто называют имманентизмом
[113] и который часто оказывается буддизмом. Но это слишком сложный вопрос, чтобы заняться им без предисловия.
То, что передовые личности убежденно говорят в переполненных залах, как правило, напрочь расходится с истиной. Наши трюизмы всегда лживы. Вот пример: на заседаниях этических и религиозных обществ очень любят поверхностную, якобы либеральную мысль: «религии отличаются только формой, учение их едино». Это ложь, это полностью противоречит фактам. Религии не очень отличаются обрядами, они страшно различны в учении. Все равно как если бы нам сказали: «Пусть вас не вводит в заблуждение, что газеты „Новости церкви“ и „Свободомыслящий“ выглядят совершенно по-разному, что одну рисуют на пергаменте, а другую высекают на мраморе, одна треугольная, а другая трапециевидная, — прочтите их, и вы увидите, что говорят они одно и то же». Конечно, они схожи во всем, кроме того, чт
о они говорят. Маклер-атеист в Сурбитоне — точная копия маклера-сведенборгианца в Уимблдоне. Можете кружить вокруг них сколько угодно и подвергнуть их самому пристальному и назойливому досмотру — вы все же не увидите ничего сведенборгианского
[114] в зонтике, ничего слишком уж безбожного в шляпе. Различны их души. Сложность всех верований на земле не в том, о чем говорит расхожая фраза. Все наоборот. Механика у них одна, почти все религии земли используют одни и те же приемы: у них есть священники, тексты, алтари, братства, праздники. Способ учения похож, но разница в том, чему они учат. Язычники-оптимисты и восточные пессимисты строят храмы, а тори и либералы издают газеты. Верования, которые стремятся уничтожить друг друга, вооружаются священными текстами, как враждующие армии — ружьями.
Замечательный пример мнимой схожести — духовное единство буддизма и христианства. Те, кто принимают эту теорию, обычно не приветствуют этику других религий, кроме конфуцианства, которое они любят за то, что оно — не религия. Но они сдержанны в похвалах мусульманству, обычно удовлетворяясь запретом на спиртное — и то только для низших классов. Они редко превозносят мусульманский взгляд на брак (а ведь в его пользу столько можно сказать), а их отношение к секте душителей и к фетишистам можно даже назвать прохладным. Но они видят нечто близкое в великой религии Гаутамы.
Представители популярной науки, вроде Блэтчфорда, настаивают, что христианство и буддизм очень похожи, особенно буддизм. Все верят этому, и я сам верил, пока не прочел их аргументы. Их аргументами были сходства, которые ничего не значат, так как они присущи всему роду человеческому, и сходства, в которых нет ничего общего. Автор попавшейся мне книги пресерьезно объяснял, что обе религии одинаковы в том, в чем одинаковы все религии, или же он находил сходство там, где они очевидно различны. Так, он напоминает, что и Христос, и Будда были призваны голосом с неба, — как будто голос Божий должен исходить из подвала. Он с важностью указывает нам, что оба восточных Учителя омывали ноги — вот удивительное совпадение, не менее удивительное, чем то, что у обоих были ноги. А другой класс сходств — сходства, где нет ничего похожего. Наш нивелировщик религий требует обратить внимание, что на празднике одеяние ламы раздирают на части и обрывки благоговейно хранят. Но ведь одежды Христа разодрали не из уважения, а насмехаясь, и обрывки оценил разве что старьевщик. Такую связь можно обнаружить и между двумя церемониями с мечом: ударом по плечу, посвящающим в рыцари, и казнью. Для человека, право, это не одно и то же. Наивный педантизм распространяется и на философские сходства — они доказывают или больше, чем нужно автору, или ничего не доказывают. Буддизм одобряет милосердие и самоограничение — в этом буддизм не совпадает с христианством, а попросту не слишком расходится с общечеловеческим чувством. Буддисты в принципе осуждают насилие и излишества, поскольку их осуждает любой нормальный человек. Но ложно утверждение, будто буддизм и христианство одинаково их понимают. Все люди чувствуют, что мы в сетях греха. Почти все думают, что должен быть какой-то выход. Но что до того, каков этот выход, — нет в мире религий, противоречащих друг другу больше, чем христианство и буддизм.
Даже когда я вместе с прочими хорошо осведомленными, хотя и не слишком педантичными людьми верил, что буддизм и христианство похожи, меня удивляла потрясающая разница в их искусстве. Я говорю не о технике изображения, но о том, что хотят изобразить. Никакие два идеала не противоречат друг другу так, как святой готической церкви и святой китайского храма. Они противоречат друг другу во всем, но самое главное — глаза буддиста всегда закрыты, глаза христианина широко распахнуты. Тело буддийского святого плавно и гармонично, веки отяжелели и сомкнуты сном. От тела средневекового святого остался шаткий скелет, но у него пугающие живые глаза. Не может быть родства между духовными силами, чьи символы столь различны. Даже если эти образы — крайности, отклонения от основной веры, такие крайности может породить лишь подлинное различие. Буддист пристально глядит внутрь себя. Христианин пристально смотрит наружу. Если мы пойдем по этому следу, мы обнаружим интересные вещи.
Недавно миссис Безант
[115] в увлекательном очерке объявила, что есть только одна подлинная религия, все остальные — ее отражения или искажения. Единая вера миссис Безант — это доктрина единой личности: все мы — один человек, и нет стен, ограждающих индивидуальность. Безант не учит нас любить своих близких — она хочет, чтобы мы стали своими ближними. Такова глубокая и многообещающая религия, которая должна примирить всех. Никакая теория не вызывает у меня более яростного протеста, чем эта. Я хочу любить ближнего не потому, что он — я, а именно потому, что он — не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая. Если души отделены друг от друга — любовь возможна. Если они едины — любви нет. Человек любит себя, но он не может в себя влюбиться, а если б смог — занудный вышел бы роман. В мире подлинных личностей «я» может быть неэгоистично, но мир миссис Безант — это всего лишь одно, неестественно эгоистичное «я».
Именно в этом вопросе буддизм на стороне современного пантеизма и имманентизма, а христианство стоит за человечность, свободу, любовь. Любви нужна личность, поэтому любовь жаждет различия. Христианин рад, что Бог разбил мир на кусочки, раз эти кусочки живые. Христианство велит детям любить друг друга
[116], а не взрослому любить самого себя. Вот пропасть между буддизмом и христианством: буддисты и теософы считают, что личность недостойна человека, христианин видит в личности высший замысел Бога. Мировая душа теософов требует любви от человека, растворенного в ней. Но божественное средоточие христианской веры выбрасывает человека вовне, чтобы он мог любить Бога. Восточный бог — это гигант, вечно ищущий свою ногу или руку. Христианский Бог — великан, с удивительным великодушием отсекающий себе правую руку, чтобы она могла по доброй воле пожать руку Ему. Мы возвращаемся все к той же основной особенности христианства: все модные философии — узы, объединяющие и сковывающие; христианство — освобождающий меч. Ни в какой другой философии бог не радуется распадению мира на живые души, но для католика отделение Бога от человека свято, потому что оно вечно. Чтобы человек любил Бога, нужен не только Бог, но и человек. Все туманные теософы, верящие в нерасчлененность мира, отшатываются от потрясающих слов Сына Божьего: «Не мир Я принес, но меч»
[117]. Это изречение истинно, даже если понимать его впрямую, — каждый, кто проповедует истинную любовь, порождает ненависть. Это касается и революционного братства, и божественной любви: поддельная любовь придет к компромиссу и единству во взглядах, подлинная любовь всегда ведет к кровопролитию. Но за очевидным значением этих слов Господа есть еще одна поразительная истина. Он сам сказал, что Сын — меч, разделивший братьев, чтобы они навеки ненавидели друг друга, — но Отец тоже был мечом, в темном начале разделившим братьев, чтобы в конце времен они полюбили друг друга.
Вот почему почти безумным счастьем сверкают глаза святого на старой картине. Вот почему закрыты глаза величественного Будды. Святой счастлив, потому что он отрезан от мира, отделен от других и смотрит на все в изумлении. Но может ли удивиться буддист, когда весь мир — одно, да и то безликое, так что оно не может удивиться себе? Многие пантеистические поэмы взывают к изумлению — и безуспешно. Пантеист не может удивиться, ибо он не может восхвалить Господа или хоть что-то, отличное от него самого. Нам особенно важно понять, как христианское преклонение перед божеством, отличным от верующего, связано с потребностью в активной этике и социальных реформах: связь эта очевидна. Пантеизм не побуждает к нравственному выбору, ибо все вещи для него одинаковы, а для выбора необходимо предпочесть одно другому. Суинберн в расцвете своего пессимизма напрасно пытался преодолеть эту трудность. В «Песнях перед рассветом», вдохновленных Гарибальди и итальянским восстанием, он провозгласил новейшую религию и чистейшего бога, который уничтожит всех священнослужителей на свете.
О, зачем ты взываешь
К небесам, говоря:
«Боже, ты — это ты,
Боже, я — это я»?
Я, Господь — это ты,
Ты, что ищешь меня,
А находишь — себя[118].
Отсюда следует одно: тираны — такие же сыны Божьи, как и Гарибальди, и неаполитанский «король Бомба»
[119], прекраснейшим образом «нашедший себя», — точно такой, как Бог. На самом же деле западная энергия, свергавшая тиранов, порождена европейской верой, провозгласившей: «я — это я; а Ты — это Ты». Та же способность различать, которая видела доброго царя мироздания, видела и скверного короля Неаполя. Те, кто верили в Бога Бомбы, свергли Бомбу. Те, кто верили в Бога Суинберна, тысячу лет живут в Азии и ни разу не свергали тиранов. Индийский святой закрыл глаза и созерцает то, что есть Я, Ты, Мы, Они и Оно. Разумное занятие; но не это — и на практике, и в теории — помогает индусам не спускать глаз с лорда Керзона
[120]. Направленное вовне бдение христианства («бодрствуйте и молитесь») выразилось и в истинно западной теологии и в западной политике: обе они держатся на идее трансцендентного, отличного от нас, другого Бога. Самые изощренные веры могут искать Бога в нижних, глубочайших слоях нашего «я». Только мы, христиане, ищем Бога на вершинах гор, словно орла, — и в этой охоте мы убили немало чудовищ.
Вот и выходит, что, если нам дороги демократия и обновляющиеся силы Европы, искать их надо не в новой теологии, а в старой. Если мы жаждем реформ, надо держаться ортодоксии, особенно когда речь идет об имманентности и трансцендентности Бога (об этом немало спорил Р. Дж. Кэмпбелл). Утверждая имманентность Бога, мы сосредоточиваемся на себе и получаем замкнутость, квиетизм, равнодушие к общественной жизни. Избрав трансцендентного Бога, мы получили изумление, любопытство, нравственный и политический выбор, праведный гнев — словом, христианство. Если Бог заключен в человеке, человек заключен в себе. Если Бог выше человека, человек выше себя самого.
Так же обстоит дело и с другими старомодными доктринами, например с учением о Троице. Унитарии (я глубоко уважаю их интеллектуальное достоинство и честь) бывают преобразователями случайно, поскольку недовольство — удел многих малых сект. Но чистый монотеизм не свободен и нисколько не поощряет реформы. Триединый Бог — загадка для разума, но таинственность и жестокость султанов свойственны ему куда меньше, чем одинокому богу Магомета. Одинокий бог не просто король, он восточный царь. Сердцу человека, особенно европейца, гораздо ближе неясные намеки и символы Троицы, образ совета, где равны милость и правосудие; вера в то, что свобода и разнообразие живут и в сокровеннейшем средоточии мира. Европейцы всегда остро чувствовали, что «нехорошо человеку быть одному». Тяга к обществу утверждалась всюду, и восточных отшельников вытеснили западные монахи. Так даже аскетизм стал братским, и немые трапписты
[121] нуждались друг в друге. Любя сложность жизни, мы, несомненно, должны предпочесть унитаризму веру в Троицу. Ибо для нас, тринитариев (если можно так выразиться), для нас сам Бог — не одиночка, а общество. Учение о Троице — бездонная тайна, а я не слишком умелый теолог. Достаточно сказать, что эта тройная загадка бодрит, как вино, и греет, как английский очаг; и то, что так смущает разум, удивительно успокаивает сердце. Но из пустыни, из глухого песка и яростного солнца идут жестокие дети одинокого Бога, настоящие унитарии, которые с ятаганом в руке разорили мир, — ибо нехорошо Богу быть одному
[122].
Так же обстоит дело и со спасением и гибелью — на этой проблеме надорвались многие славные умы. Надежда есть у каждой души, и вполне может быть, что спасение всех душ неизбежно. Это возможно, но такая мысль отнюдь не способствует активности и прогрессу. Наш творческий, борющийся мир стоит на вере в хрупкость всего, на той мысли, что каждый человек висит над бездной. Слова «все как-нибудь уладится» звучат ясно и внятно, но это отнюдь не трубный глас. Европа должна помнить о возможной гибели, и Европа всегда помнила о ней. Здесь ее высшая вера и одновременно ее популярное чтиво. Буддисты и фаталисты видят в жизни науку или заданную схему, которая ведет к определенному результату. Но для христианина жизнь — роман, и конец может быть любым. В приключенческом романе (вот подлинно христианский жанр) героя не съедят людоеды, но для самого существования романа необходимо, чтобы героя съесть могли; нужен, так сказать, съедобный герой. Вот и христианство не говорит, что человек погубит душу, но велит беречь ее. Дурно назвать человека проклятым, но вполне благочестиво и разумно сказать, что он может быть проклят.
Суть христианства — человек на распутье. Расплывчатые философии — нагромождения чепухи — толкуют об эпохах, эволюции, конечных достижениях. Подлинной философии важен миг. Куда пойдет человек — туда или сюда? Вот единственный стоящий вопрос для тех, кому нравится думать. Об эонах думать легко, миг удивителен и ужасен; и потому, что мы глубоко его чувствуем, в наших книгах так много сражений, а в религии рассуждений о грехе и каре. Наша вера полна опасностей, как книга для мальчиков; она говорит о вечном решении, о переломе. Религия и популярная литература Европы действительно очень схожи. Если вы скажете, что популярная литература вульгарна и безвкусна, вы просто повторите то, что осведомленные, сумрачные люди говорят об убранстве католических церквей. Жизнь (согласно нашей вере) похожа на журнальный детектив: она кончается обещанием (или угрозой), «продолжение следует». Жизнь с благородным простодушием подражает детективу и а том, что она обрывается на самом интересном месте. Разве смерть не интересна?
А главное — в том, что повесть волнует нас, потому что в ней присутствует воля; по-богословски — свобода воли. Нельзя решить задачу как вздумается, но можно закончить роман на свой вкус. Человек, открывший дифференциальное исчисление, мог открыть только одно дифференциальное исчисление, но Шекспир (если б захотел) мог не убить Ромео, а женить его на старой няне Джульетты. Именно вера в свободу воли породила европейский роман. Свобода воли слишком сложная проблема, чтобы достойно обсудить ее здесь, но важно понять, что именно она противостоит болтовне о преступлении как о болезни, о тюрьме как о подобии больницы, о научном лечении греха. Беда в том, что грех, в отличие от болезни, — плод свободного выбора. Если вы хотите лечить от распутства, словно от астмы, найдите сперва астматика, который любит астму, как распутник любит свой грех. Человек может лежать и ждать, пока его вылечат, но если он хочет избавиться от греха, ему придется попрыгать. Человек в больнице «пациент», «терпящий», это пассивное слово; «грешник» — слово активное. Если человек хочет избавиться от гриппа, он может «потерпеть», побыть пациентом. Если он хочет избавиться от лжи, он должен стать нетерпимым — нетерпимым ко лжи. Нравственный переворот начинается не с пассивности, а со свободного выбора.
И снова мы приходим к тому же выводу. Если нам по душе решительные преобразования и грозные революции, присущие европейскому миру, мы не должны забывать о возможной гибели, мы должны все время напоминать о ней. Если мы, подобно восточным святым, хотим созерцать, как все правильно, надо твердить, что все в порядке. Но если мы очень хотим все исправить, надо помнить, что дела могут быть плохи.
И наконец, все это верно, когда (как теперь принято) отвергают или преуменьшают божественность Христа. Об истинности этой доктрины я еще буду говорить. Но если она верна, она поистине революционна. Что доброго человека могут казнить, это мы и так знали, но казненный Бог навеки стал знаменем всех повстанцев. Лишь христианство почувствовало, что всемогущество сделало Бога неполноценным. Лишь христианство поняло, что полноценный Бог должен быть не только царем, но и мятежником. Христианство добавило к добродетелям Бога мужество, ибо подлинное мужество означает, что душа прошла смертное испытание и выдержала его. Я приближаюсь к тайне слишком глубокой и страшной и заранее прошу прощения, если мои слова покажутся недостаточно уважительными там, где боялись говорить величайшие мыслители и святые. Но в страшной истории Страстей так и слышишь, что Создатель мира каким-то непостижимым образом прошел не только через страдания, но и через сомнение. Сказано: «Не искушай Господа Бога твоего»
[123], — Но Бог может искушать Себя Самого, и, мне кажется, именно это произошло в Гефсимании. В саду Сатана искушал человека
[124], и в саду Бог искушал Бога
[125]. В каком-то сверхчеловеческом смысле Он прошел через наш, человеческий ужас пессимизма. Мир содрогнулся и солнце затмилось не тогда, когда Бога распяли, а когда с креста раздался крик, что Бог оставлен Богом
[126]. Пусть мятежники ищут себе веру среди всех вер, выбирают Бога среди возрождающихся и всемогущих богов — они не найдут другого Бога-мятежника. Пусть атеисты выберут себе бога по вкусу — они найдут только одного, кто был покинут, как они; только одну веру, где Бог хоть на мгновение стал безбожником.
Вот основы старой ортодоксии, и главная ее заслуга в том, что она — живой источник восстаний и реформ, а главный недостаток — в том, что она абстрактна. Ее преимущество в том, что она человечней и романтичней всех теологий, ее изъян — в том, что она теология. Всегда можно сказать, что она вымышлена и как бы висит в воздухе, однако не столь высоко, чтобы лучшие стрелки не пытались поразить ее своими стрелами, и они тратили на это все силы и самую жизнь. Есть люди, готовые погубить себя и разрушить мир, лишь бы уничтожить эту старую сказку. Вот самое удивительное в этой вере: ее враги используют против нее любое оружие — меч, который ранит им руки, и огонь, сжигающий их дома. Люди, начинающие борьбу против церкви во имя свободы и гуманности, губят свободу и гуманность, лишь бы биться с Церковью. Это не преувеличение — я могу наполнить книгу примерами. Блэтчфорд, как многие сокрушители Библии, начал с того, что Адам чист перед Богом; пытаясь доказать это, он попутно признал, что все тираны от Нерона до короля Леопольда
[127] чисты перед людьми. Я знаю человека, который так хотел, чтобы душа не жила после смерти, что стал отрицать свою, нынешнюю жизнь. Он взывает к буддизму и говорит, что все души слиты в одну; чтобы доказать, что он не может попасть в рай, он доказывает, что он не может попасть в Хартлпул. Я знавал людей, выдвигавших против религиозного образования доводы, сокрушающие любое образование: они говорили, что ум ребенка должен развиваться свободно или что старшие не должны учить младших. Я знавал людей, которые доказывали, что нет Божьего суда, отрицая человеческий суд. Они сожгли свой дом, пытаясь поджечь церковь, сломали свои орудия, пытаясь разбить ее. Любой камень шел в дело, даже если то был последний кирпич их разоренного дома. Мы не хвалим, мы едва можем понять фанатика, который крушит этот мир из любви к другому. Но что можно сказать о фанатике, который губит этот мир из ненависти к другому? Он жертвует жизнью людей, чтобы опровергнуть существование Бога. Он приносит жертву не на алтарь — он приносит ее для того, чтобы доказать, что алтарь не нужен, престол пуст. Он готов уничтожить простейшую этику, которой все живут, ради странной, неумолимой мести тому, кто никогда не жил.
И все же эта теология как висела в воздухе, так и висит. Ее враги сумели уничтожить только то, что было им дорого. Они не уничтожили ортодоксию, но уничтожили гражданскую смелость и здравый смысл. Они не доказали, что Адам прав перед Богом, — как доказать это? Зато они доказали (если вглядеться в их доводы), что царь прав перед Россией. Они не доказали, что Бог не должен был наказывать Адама, они всего-навсего доказали, что люди не вправе наказать тирана. Их восточные сомнения в существовании личности не лишают нас загробной жизни, но делают неполной и невеселой жизнь на земле. Их цепенящие слова о том, что любой вывод неверен, не помешают ангелу вести запись добрых и злых дел, но слегка осложнят бухгалтерский учет Маршалла и Снелгрова
[128]. Вера — родительница всех сил, движущих мир; мало того, все смуты порождены ее врагами. Секуляристы не уничтожили божественных ценностей, но (если это может их утешить) поколебали ценности земные. Титаны не разрушили небес — они разорили землю.
Глава IX
ВЛАСТЬ ДОГМЫ И ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В последней главе мы показали, что ортодоксия не только единственный надежный страж этики и порядка (об этом говорят часто), но и единственная разумная гарантия свободы и обновления. Новое учение о совершенстве человеческой природы не поможет нам свергнуть преуспевающего тирана, но в этом поможет нам старое учение о первородном грехе. Первичность материи не искоренит врожденную жестокость и не возродит погибшие поколения
[129], но и здесь нам поможет первичность духа. Если мы хотим пробудить в людях социальное чувство и стремление к неустанному труду, нам нужно не имманентное божество и внутренний свет, которые дают довольство, нам важен трансцендентный Бог, пламень ускользающий, ибо Он означает дивную неудовлетворенность. Когда мы утверждаем благородную демократию против тягостного единовластия, мы инстинктивно склоняемся к учению о Троице, а не к унитаризму. Если мы мечтаем, чтобы Европа была рыцарственной и романтичной, мы должны твердить, что нашим душам грозит гибель, а не отрицать возможность гибели. Если мы хотим возвысить униженных и распятых, надо верить, что был распят Бог, а не просто мудрец или герой. Чтобы защитить бедняков, надо держаться ясного учения и твердых правил. Правила клуба защищают бедных членов — стихийные перемены всегда выгодны богатым.
Вот мы и подошли к главной проблеме, которая завершит весь разговор. Разумный агностик, если даже он соглашался со мной до сей поры, сейчас опомнится и скажет: «Ну, хорошо, вы извлекли насущную философию из учения о первородном грехе. Вы обнаружили, что учение это укрепляет ту сторону демократии, которой сейчас напрасно пренебрегают. Вы отыскали истину в учении о преисподней — рад за вас. Вы убеждены, что верующие в личностного Бога прогрессивны, — что ж, рад за них. Но даже если в вашем учении есть истина, почему вы не хотите взять истину, а учение отбросить? Пусть современный мир слишком доверяет богатым, забыв о человеческой слабости, пусть преимущество средних веков было в том, что тогда, помня о первородном грехе, помнили и о человеческой слабости — почему вы-то не можете признавать человеческую слабость, не веря в грехопадение? Если вы нашли здравую идею опасности в учении о вечных муках, почему вы не можете принять идею опасности и плюнуть на вечные муки? Если вы видите зерно здравого смысла в шелухе христианства, возьмите зерно, но зачем вам шелуха? Почему вы не можете взять положительную сторону христианства (хотя я, образованный агностик, стыжусь столь газетного выражения), скажем — то, что вы цените в нем, то, что вы понимаете, — и отбросить все прочее, все эти абсолютные, непостижимые догмы?» Вот он, настоящий вопрос, последний вопрос, и приятна сама попытка ответить на него.
Видите ли, я рационалист: я ищу разумные основания для своих интуиций. Если я считаю человека падшим созданием, право же, большое подспорье для ума верить, что он действительно пал; и в силу некоторых странностей моей психологии мне легче толковать о свободе воли, если я в нее верю. Я не собираюсь делать из моей книги обычную христианскую апологию: я рассказываю только о моем пути к определенной вере. Но, должен сказать, чем больше я видел умозрительной критики христианства, тем меньше она меня занимала. Заметив, что нравственный урок Воплощения соответствует здравому смыслу, я глянул на признанные абстрактные доводы против Воплощения и увидел, что они — бессмыслица. Чтобы разговор наш не показался ущербным из-за отсутствия привычных доводов, я сейчас очень кратко подведу итог моим размышлениям о чисто объективной, научной истине всего этого дела.
Если от меня потребуют чисто логических доводов в пользу христианства, я отвечу, что верю в него в силу тех же доказательств, какими располагает и мыслящий атеист. Я верю вполне разумно, опираясь на опыт, но мой опыт, как и опыт разумного агностика, это не голословное утверждение, а огромное нагромождение малых, но согласных друг с другом фактов. Нельзя винить противника Церкви за то, что его доводы против христианства отрывочны и смешаны, — именно обрывочность, сбивчивость доказательств обычно убеждают нас. На мировоззрение человека меньше влияют четыре книги, чем одна книга, один пейзаж, одна битва и один старый друг. Важность их свидетельства возрастает именно от того, что столь разные вещи ведут к одному выводу. Атеизм обычного образованного человека строится ныне из такого разнородного и живого опыта. Я могу сказать только, что мои доказательства в пользу христианства так же ощутимы и различны. Вглядевшись в разные антихристианские истины, я обнаружил, что все они лживы: поток всех малых фактов устремлен в другую сторону. Обратимся к примерам. Многие разумные люди отвернулись от христианства под давлением трех убеждений: во-первых, люди и видом, и делом, и чувственностью все-таки слишком похожи на животных; во-вторых, первые религии зародились в невежестве и страхе; в-третьих, жрецы одурманили мир горечью и скорбью. Все три положения вполне законны и логичны, и вывод у них один. Единственный их недостаток в том, что они лживы. Оторвитесь от книг о людях и животных и посмотрите на самих людей. Если у вас есть юмор или воображение, если вам понятно безумие или нелепость, вы будете поражены не тем, как человек похож на животных, но тем, как он на них не похож. Это чудовищное несоответствие надо как-то объяснить. Что человек и зверь похожи, давно известно, но вот то, что при этом они столь невероятно разные, — потрясающая загадка. Руки обезьяны не так интересны мыслителю, как то, что, имея руки, она ничего ими не делает: не играет на бильярде, на скрипке, не режет по мрамору, не нарезает себе мясо. Пусть даже архитектура у нас варварская, искусство в упадке — но слоны не строят громадных храмов из слоновой кости, даже в стиле рококо; верблюды не рисуют верблюжьими кисточками даже плохих картин. Иные фантазеры говорят, что муравьи и пчелы создали лучшее государство, чем мы. У них, действительно, есть цивилизация, но это только напоминает о том, насколько она ниже нашей. Кто нашел в муравейнике памятники знаменитым муравьям? Кто видел на сотах портреты славных древних цариц? Быть может, есть естественное объяснение этой пропасти между человеком и прочими тварями, но пропасть существует. Мы говорим о диких животных, но ведь человек — дикое и вольное животное. Все остальные звери следуют жесткой морали племени и вида, только человек выломился из своих рамок. Все звери — домашние, только человек всегда бездомен, как распутник или как монах. Первый довод материализма оборачивается против него — там, где кончается биология, начинается религия.
Так же обстоит дело и со вторым аргументом — будто то, что мы считаем божественным, зародилось во тьме и страхе. Когда я стал искать основы этой идеи, я обнаружил, что их просто нет. Наука ничего не знает о доисторическом человеке именно потому, что он доисторический. Некоторые ученые предполагают, что человеческие жертвоприношения сперва были бессознательными и всеобщими, а затем постепенно исчезли, но у этого предположения нет прямых доказательств, а немногие косвенные ему противоречат. В самых ранних легендах, в историях Исаака и Ифигении
[130] человеческое жертвоприношение изображено не как нечто старое, а как новое, странное и ужасное исключение, которого потребовали боги. История не говорит ничего, а все легенды говорят, что раньше мир был добрее. Нет предания о прогрессе, но все человечество верит в грехопадение. Забавно, что даже распространенность легенды оказывается в устах образованных людей доводом против нее: они говорят, что раз все племена помнят о доисторической катастрофе, значит, ее не было. Мне не поспеть за их парадоксами.
И с третьим наудачу выбранным доводом, будто жрецы отравили мир горечью, выходит то же самое. Я посмотрел на мир и увидел, что эти слова лживы. В тех странах Европы, где еще сильно влияние церкви, сохранились песни, танцы, маскарады и уличные представления. Католическое учение и дисциплина — стены, но они ограждают площадку для игр. Представьте себе детей, играющих на ровной, покрытой травой вершине какой-нибудь скалы в океане. Пока вокруг их островка была стена, они могли забавляться самой неистовой игрой и превращали свою скалу в самую шумную из всех детских комнат. Но стену разрушили, и обнажился угрожающий отвесный обрыв. Дети не упали, но в ужасе сбились в кучку, и песня их смолкла.
Так эти три из опыта добытых факта, которые должны утвердить агностицизм, оборачиваются против него. Я все прошу: «Объясните мне вопиющее отличие человека от зверей, укажите истоки столь многим известного предания о прежнем блаженстве и причину возвращения некоторых языческих радостей в католические страны». Одна теория, по крайней мере, отвечает на все три вопроса: дважды естественный порядок был нарушен взрывом или внезапным откровением — тем, что теперь некоторые называют «духовным». Однажды небеса сошли на землю, даруя власть или печать образа Божьего, благодаря которой человек стал владыкой Природы; и вновь (когда во всех империях люди были взвешены и найдены очень легкими)
[131], чтобы спасти человечество, небеса сошли на землю в потрясающем облике Человека. Вот почему большинство людей вздыхает о прошлом, и единственный край, где люди в каком-то смысле надеются на будущее, это мир церкви Христовой. Я знаю, мне возразят, что Япония стала прогрессивной. Да разве это возражение, когда сами слова «Япония стала прогрессивной» для нас означают, что Япония стала похожа на Европу? Но сейчас для меня мое личное мнение не так важно, как то, о чем сказано вначале: я, как и любой атеист, ссылаюсь на три-четыре удивительных явления, которые ведут к одному выводу: только когда я вглядываюсь в эти явления, они указывают мне совсем не ту мысль, что атеисту.
Я привел три обычных довода против христианства; если это недостаточное основание для нашего разговора, я сейчас же назову еще. Некоторые предрассудки вместе создают впечатление, что христианство — это нечто слабое и болезненное. Во-первых, Христос был кроток, безответен и вообще не от мира сего — и Его призыв к миру был бесплоден; во-вторых, христианство появилось в темные века невежества, и церковь хочет снова вернуть нас во тьму, и, наконец, глубоко верующие или, если угодно, суеверные народы (ирландцы, например) отсталы, бессильны и непрактичны. Я перечисляю эти мнения, потому что с ними у меня вышло точно так же, как и с предыдущими: когда я сам задумался над ними, я увидел, что неверны не выводы из них, но сами факты. Вместо того чтобы смотреть книги и картины, посвященные Евангелию, я прочел само Евангелие. Там я обнаружил не описание человека с тонким пробором и умоляюще сложенными руками, но существо необычайное, чья речь гремела как гром и чьи поступки были грозно решительны: он опрокидывал столы менял, изгонял бесов, свободно, точно вольный ветер, переходил от одиночества в горах к страшной проповеди перед толпой — я увидел Человека, который часто поступал, как разгневанное божество, и всегда — как подобает Богу. У Христа был даже свой слог — такого, мне кажется, нет больше нигде. Отличительная Его черта — почти яростное употребление слов «насколько же более». Сравнения громоздятся друг на друга, словно башни в тучах. О Христе говорят — должно быть, так и надо — мягко и нежно. Но речь самого Христа исполнена странностей и мощи — верблюды протискиваются сквозь ушко, горы ввергаются в море. Эта речь ужасает. Он сравнил себя с мечом и велел мужам продать свою одежду, чтобы купить меч
[132]. То, что Он еще более грозно призывал к непротивлению, усугубляет таинственность, усугубляет и яростную силу. Мы не сможем объяснить это, даже объявив Его безумцем, — безумец обычно зацикливается на одной идее. Всякий маньяк — мономан. Придется вспомнить сложное определение христианства, о котором я уже говорил: христианство — сверхъестественный парадокс, в нем две враждебные страсти бушуют рядом. Вот объяснения Евангелий, которое вправду их объясняет: они — отпечаток еще более поразительного сочетания, открывшегося со сверхъестественной высоты.
Теперь займемся следующим примером: мнением, будто христианство породили Темные века. Тут я не ограничился изучением современных гипотез и немножко почитал историю. И в истории я обнаружил, что христианство не только не было продуктом Темных веков — оно было единственной светлой тропой сквозь Темные века. Христианство — сияющий мост, соединивший две сияющие цивилизации. Пусть говорят, что вера зародилась в невежестве и дикости; ответ прост: это неправда. Она зародилась в средиземноморской цивилизации в пору расцвета Римской империи. Мир кишел скептиками, и пантеизм был очевиден, как солнце, когда Константин прибил крест на мачту
[133]. Да, потом корабль затонул — но куда удивительнее, что он вновь появился на поверхности, яркий, сверкающий и по-прежнему с крестом наверху. Это чудо сотворила вера — она превратила тонущий корабль в подводную лодку. Ковчег жил под толщей вод. Мы были погребены под руинами династий и племен, мы восстали и вспомнили Рим. Если б наша вера была только капризом империи, в сумерках ее сменил бы другой каприз, и если бы цивилизация вновь вынырнула (а сколько их так и не вынырнуло), она появилась бы под каким-нибудь новым, варварским флагом. Но христианство было последним вздохом старого мира и первым вздохом нового. Оно обратилось к людям, забывшим, как строить свод, и научило их готике. Словом, самое нелепое, что можно сказать о христианстве, это именно то, что мы слышим каждый день. Что за мысль, будто Церковь хочет увлечь нас назад, в Темные века? Только Церковь извлекла нас оттуда.
Я присоединил к этой троице возражений праздное замечание тех, кому такие народы, как ирландцы, кажутся ослабленными и погрязшими в суеверии. Я добавил его потому, что это особый род фактов, которые оборачиваются ложью. Об ирландцах твердят, что они непрактичны. Но если мы на минуту отвлечемся от того, что о них говорят, и посмотрим, что из-за них делают, мы увидим, что ирландцы не только практичны, — они угрожающе близки к цели. Бедность их страны, их малочисленность — это условия, в которых им приходится действовать, но никакой другой народ в Британской империи не совершил столько в подобных условиях. Ирландские националисты — единственное меньшинство, сумевшее выбить из колеи британский парламент. Из всех наших бедняков только ирландские крестьяне сумели что-то вырвать у своих хозяев. Эти люди, якобы одураченные попами, единственные из всех британцев не дают дурачить себя помещикам. Когда я вглядываюсь в настоящего ирландца, я вижу все то же: ирландцы особенно хороши в трудных профессиях — в работе с металлом, в адвокатуре, в армии. И снова я прихожу к тому же: скептик делает правильный вывод из фактов, но он не знает фактов. Скептик слишком доверчив — он верит газетам и даже энциклопедиям. И вновь три вопроса дали мне не ответ, а три противоположных вопроса. Обычный скептик хотел знать, как я объясню слащавость Писания, связь веры с тьмой средневековья и политическую неспособность кельтских христиан. Но я хочу спросить серьезно и настойчиво: что это за необычайная сила, впервые проявившаяся в Том, Кто шел по земле как живое воплощение суда; сила, которая умерла с умирающей цивилизацией и все же заставила ее воскреснуть; сила, которая воодушевляет разоренных крестьян такой упорной верой в справедливость, что они получают свое, когда другие уходят ни с чем, и самый беспомощный остров империи прекрасно справляется со своими бедами?
Ответ есть. Разве не ответ — сказать, что эта сила не от мира сего, она духовна или, по крайней мере, рождена подлинно духовным потрясением? Мы обязаны величайшим уважением и благодарностью таким великим цивилизациям, как древнеегипетская или сохранившаяся китайская. Однако мы вправе сказать, что только современная Европа выказывает способность к самообновлению, которая проявляется через кратчайшие промежутки времени и не пренебрегает малейшими подробностями архитектуры и моды. Все прочие общества умирают достойно и бесповоротно. Мы умираем каждый день и всегда рождаемся вновь с почти непристойной живучестью. Едва ли будет преувеличением сказать, что в истории христианства присутствует какая-то неестественная жизнь, — можно считать, что это жизнь сверхъестественная. Можно считать, что это кошмарная гальванизация того, что должно было стать трупом. Судя по примерам и по судьбе других сообществ, наша цивилизация должна была умереть в ночь гибели Рима. Вот роковой дух нашей эпохи: и вас и меня не должно было быть. Все мы — пережиток, все живые христиане — призраки мертвых язычников. Как раз когда Европа должна была приобщиться к праотцам — к Ассирии и Вавилону, — что-то вошло в ее тело. И Европа обрела странную жизнь.
Я долго возился с триадами скептиков, чтобы показать главное: моя вера в христианство рациональна, но не проста. Она, как и позиция обычного агностика, порождена совокупностью разных фактов, но факты агностика лживы. Он стал неверующим из-за множества доводов, но его доводы неверны. Он усомнился, потому что средние века были варварскими, — но это неправда; потому что чудес не бывает — но и это неправда; потому что монахи были ленивы — но они были очень усердны; потому что монахини несчастливы — но они светятся бодростью; потому что христианское искусство бледно и печально — но оно знает самые яркие краски и веселую позолоту; потому что современная наука расходится со сверхъестественным — а она мчится к нему со скоростью паровоза.
Среди миллиона таких фактов, стремящихся к одному выводу, один вопрос, достаточно серьезный и обособленный, стоит разобрать отдельно, хотя и кратко: я имею в виду реальность сверхъестественных явлений. В другой главе я говорил об обычном заблуждении, будто мир безличностен, раз он упорядочен. Личность так же может желать порядка, как и беспорядка. Но мое глубокое убеждение (личностное творение куда приемлемей, чем материальный рок) доказать нельзя. Я не назову это убеждение верой или интуицией, потому что вера затрагивает чувства, а оно чисто интеллектуально, но оно и первично, как уверенность в существовании своего «я» и смысла жизни. Если угодно, назовите мою веру в Бога мистической, из-за этого не стоит спорить. Но моя вера в чудеса не мистична — я верю в них, полагаясь на свидетелей, точно так же, как я верю в открытие Америки. Тут надо только прояснить одну простую и логичную вещь. Каким-то образом возникла странная идея, будто люди, не верящие в чудеса, рассматривают их честно и объективно, а вот верящие принимают их только из-за догмы. На самом деле все наоборот. Верящие в чудеса принимают их (правы они или нет), потому что за них говорят свидетели. Неверящие отрицают их (правы они или нет), потому что против них говорит доктрина. Разумно и демократично верить старой торговке яблоками, когда она свидетельствует о чуде, точно так же как вы верите старой торговке яблоками, когда она свидетельствует об убийстве. Следует верить рассказам крестьянина о призраках настолько же, насколько вы верите его рассказам о помещике, — у крестьянина достаточно здравого недоверия к обоим, однако можно наполнить библиотеку Британского музея показаниями крестьян в пользу существования призраков. Раз уж речь идет о свидетелях, нас просто подавляет поток свидетельств в пользу сверхъестественного. Если вы их отбрасываете, то одно из двух: вы отбрасываете рассказ крестьянина о призраке или потому, что это рассказ крестьянина, или потому, что это рассказ о призраке. То есть вы либо отменяете первый принцип демократии, либо утверждаете первый принцип материализма — априорную невозможность чудес. Ваше право — но в таком случае вы догматик. Мы, христиане, принимаем все существующие факты — вы, рационалисты, отрицаете факты, потому что к этому вас вынуждает догма. Но я не ограничен никакой догмой и, вглядываясь беспристрастно в некоторые чудеса средневековья и современности, я пришел к выводу, что они были на самом деле. Любой спор против этих ясных фактов превращается в порочный круг. Я говорю: «Средневековые документы сообщают об известных чудесах точно так же, как они сообщают об известных битвах». Мне отвечают: «Средневековые люди суеверны». Если я пытаюсь понять, в чем их суеверие, единственный решительный ответ — «они верили в чудеса». Я говорю: «Крестьянин видел привидение». Мне отвечают: «Но крестьяне так легковерны». А если я спрошу: «Почему же легковерны?» — ответ один: «Они видят призраков». Исландии нет, потому что ее видели только глупые моряки, а моряки глупы, потому что они видели Исландию.
Должен сказать, что есть другой довод против чудес, но верующие обычно о нем забывают. Они могли бы сказать, что во многих историях о чудесах чувствуется некая духовная приуготовленность — чудеса бывают только с теми, кто в них верит. Это возможно, и если это так, то как нам проверить чудеса? Если нас интересуют определенные последствия веры, бессмысленно твердить, что они бывают только с теми, кто верит. Если вера — одно из условий, неверующие вправе смеяться, но они не вправе судить. Может быть, вера ничуть не лучше пьянства, но если бы мы изучали психологию пьяниц, было бы нелепо упрекать их за то, что они напились. Допустим, нас интересует, видят ли разгневанные люди красное облако перед глазами. Допустим, шестьдесят достойных домовладельцев присягнули, что видели эту алую тучку, — нелепо было бы возражать: «Да ведь вы сами сознаетесь, что были тогда рассержены». Они бы ответили громоподобным хором: «Как, черт возьми, мы бы узнали, видят ли рассерженные люди красное, если б сами не рассердились?!» Так и святые и аскеты вправе ответить: «Допустим, вопрос в том: бывают ли у верующих видения? — тогда, если вас интересуют видения, нельзя отвергать свидетельства верующих». Вы по-прежнему движетесь по кругу — по тому кругу безумия, с которого началась книга.
Вопрос, бывают ли чудеса, — вопрос здравого смысла и нормального исторического воображения, а не решительного физического эксперимента. Нужно отбросить безмозглый педантизм, который требует «научных условий» для проверки духовных явлений. Если мы хотим знать, может ли душа умершего общаться с живыми, смешно настаивать, чтобы они общались в условиях, в которых не стали бы всерьез общаться двое живых. То, что духи предпочитают темноту, не опровергает существования духов, как то, что любящие предпочитают темноту, не опровергает существования любви. Если вам вздумалось твердить: «Я поверю, что мисс Браун назвала своего жениха Лютиком или каким-либо другим ласковым именем, если она повторит его перед семнадцатью психологами», — я отвечу: «Прекрасно! Раз таковы ваши условия, вы никогда не узнаете правду, потому что она ни в коем случае ее не скажет». И ненаучно, и просто глупо удивляться, что в неблагоприятных условиях не возникнет ничто благое. Точно так же я могу утверждать, что не вижу тумана, потому что воздух недостаточно ясен, или требовать яркого солнца, чтобы разглядеть затмение.
Здравый смысл приводит меня к заключению — такому же, как те, что мы делаем о любви или о мраке (хорошо зная, что иные детали по природе своей должны быть скрыты), к выводу, что чудеса бывают. Меня принуждает к этому заговор фактов: факт, что люди, встречавшие эльфов и ангелов, не мистики и не угрюмые мечтатели, а рыбаки, фермеры и прочие люди, простые и осторожные; факт, что мы все знаем людей, свидетельствующих в пользу сверхъестественных явлений, хотя они никак не мистики; факт, что наука с каждым днем все больше признает такие явления. Наука признает даже Вознесение, если вы назовете его левитацией, и скорее всего признает Воскресение, когда придумает ему другое имя. Но самое главное — вышеуказанная дилемма: сверхъестественные явления отрицают либо из антидемократического, либо из материалистического догматизма; можно сказать — из материалистического мистицизма. Скептик всегда выбирает одно из двух: или не стоит верить обычному человеку, или не следует верить в необычные явления. Я надеюсь, можно опустить довод против чудес, который сводится к перечислению надувательств и шарлатанов. Это вовсе не довод. Фальшивые привидения не опровергают существования привидений, как фальшивая банкнота не опровергает существования банка — скорее она его подтверждает.
Согласившись, что бывают духовные явления (мои доводы в их защиту сложны, но разумны), мы тут же столкнемся с худшим злом нашего времени. Величайшая беда XIX века в том, что люди стали употреблять слово «духовный» в значении «хороший». Они решили, что изысканность и бестелесность — путь к добродетели. Когда была открыта научная эволюция, кое-кто боялся, что она высвободит животные инстинкты. Она сделала хуже: она высвободила «духовность». Она приучила людей думать, что, уходя от обезьяны, они приближаются к ангелам. Но можно уйти от обезьяны и отправиться к черту. Талантливый человек, типичный представитель того смутного времени, прекрасно выразил это. Бенджамен Дизраэли
[134] справедливо сказал, что он на стороне ангелов. Он и был на стороне ангелов — ангелов падших. Он не стоял за животный аппетит или животную жестокость, но он стоял за империализм князей тьмы, за их высокомерие, таинственность и презрение к очевидному благу. Между гордыней падших и возвышенным смирением небес должны быть духи разного вида и звания. Повстречав их, человек может ошибиться так же, как он ошибается, встречая разных людей в какой-нибудь дальней стране. Трудно сразу разобраться, кто господин, а кто подчиненный. Если бы тень поднялась из нижнего мира и воззрилась на Пиккадилли, она могла бы не понять, что такое кеб. Она бы решила, что кучер на козлах — триумфатор, влачащий за собой бьющегося, запертого пленника. Так же, впервые встретившись с духами, мы можем не понять, кто главнее. Мало найти богов — они очевидны, надо найти Бога, подлинного главу всех богов. Нужен долгий исторический опыт в сверхъестественном, чтобы отличить естественное. С этой точки зрения я считаю историю христианства, и даже его иудейских истоков, вполне практичной и ясной. Нет смысла твердить, что иудейский бог был одним из многих. Я знаю это и без ученых. Ягве и Ваал казались равными, как кажутся равными Солнце и Луна. Лишь понемногу мы узнаем, что безмерное Солнце — наш владыка, а маленькая Луна — только спутник. Веря в мир духов, я буду идти в нем, как в мире людей, отыскивая то, что я люблю и считаю хорошим, так же как в пустыне я искал бы свежую воду, а на Северном полюсе — топливо для уютного костра; я буду искать в стране пустоты и видений, пока не найду нечто чистое, как вода, и уютное, как огонь, пока не найду место в вечности, где я вправду буду дома. Есть только одно такое место.
Я сказал достаточно (для тех, кому важно такое объяснение) и предъявил то, чем располагаю по части апологетики, — обоснование веры. В простом перечне фактов, если их рассматривать демократично, без пренебрежения и предпочтения, есть свидетельства, во-первых, что чудеса бывают и, во-вторых, что наиболее благородные чудеса принадлежат к нашей традиции. Но я и не притворяюсь, будто это куцее объяснение — действительная причина, по которой я стал христианином вместо того, чтобы просто извлечь из христианства моральное благо, как я извлек бы его из конфуцианства.
У меня есть куда более основательная и важная причина принять христианство как веру, а не выдергивать из него намеки как из схемы. Вот эта причина: христианская Церковь — живая, а не умершая наставница моей души. Она не только учила меня вчера, но и почти наверняка будет учить завтра. Однажды мне открылся смысл очертаний креста, когда-нибудь, быть может, я увижу смысл очертаний митры. В одно прекрасное утро я понял, почему окна в храме сужены кверху; в другое прекрасное утро я, возможно, пойму, зачем выбривают тонзуру. Платон учил нас истине, но Платон мертв. Образы Шекспира поражали нас, но больше он ничем нас не поразит. Но представьте себе, каково жить в мире, где все еще живут такие люди; знать, что завтра Платон может прочесть новую лекцию и в любое мгновенье Шекспир затмит всех одним стихом. Человек, живущий в соприкосновении с тем, что он считает живой Церковью, всегда ждет к завтраку Платона и Шекспира. Он всегда ждет, что ему откроется истина, которой он еще не знал. Есть только одно состояние, подобное этому, — состояние, в котором мы начали жизнь. Когда отец, гуляя в саду, говорил вам, что пчелы жалят, а розы прекрасно пахнут, вы не пытались разделить пчел и его философию. Когда пчела жалила вас, вы не называли это занятным совпадением. Когда вы нюхали розу, вы не говорили: «Мой отец — примитивный варварский символ, хранящий (должно быть, бессознательно) глубокую тонкую истину о том, что цветы пахнут». Вы верили отцу, потому что вы обнаружили, что он, живой источник фактов, действительно знает больше, чем вы, и скажет вам правду завтра, как сказал сегодня. Еще больше это касалось матери, во всяком случае — моей матери, которой посвящена эта книга. Теперь, когда общество напрасно суетится и страдает из-за подчиненного положения женщины, неужели никто не признает, как сильно каждый мужчина обязан тирании и привилегиям женщин — тому, что только они управляют воспитанием до тех пор, пока оно не становится бесплодным? Ведь мальчиков посылают в школу, когда их уже поздно учить. Самое главное уже сделано и, слава Богу, сделано женщинами. Каждый мужчина подчинен женщине уже самим фактом рождения. Говорят о мужеподобных женщинах — но каждый мужчина женоподобен. И если когда-нибудь мужчины устроят демонстрацию, протестуя против этой привилегии женщин, я к ним не присоединюсь.
Ведь я отлично помню несомненный психологический факт: именно в то время, когда я был всецело под властью женщин, я был полон пыла и приключений. Мама говорила: «Муравьи кусаются», и они кусались, и снег шел зимой, как она говорила, — поэтому весь мир был для меня страной чудес, где все волшебно сбывалось, и это было похоже на жизнь в библейскую эпоху, когда сбывалось пророчество за пророчеством. Ребенком я выходил в сад; то было ужасное и удивительное место, потому что я знал его тайну, — если бы я не знал его тайну, он был бы не ужасным, а скучным. Дикие бессмысленные заросли не производят никакого впечатления, но сад моего детства зачаровывал, потому что все в нем имело точный смысл, который открывался мне в свое время. Шаг за шагом открывалось назначение уродливой штуки под названием «грабли» или складывалась смутная догадка о том, зачем мои родители держат кошку.
И вот, с тех пор как я принял христианскую веру как мать, а не как случайный пример, Европа и мир вновь стали маленьким садом, где я удивленно глядел на символические очертания кошки и граблей. Как и в детстве, я смотрю на все с волшебным неведением и предвкушением. Тот или иной обряд, та или иная догма могут выглядеть столь же уродливыми, как грабли, но я знаю по опыту, что цель их — трава и цветы. Священник может показаться бесполезным, как кошка, но он столь же занимателен — существует же он зачем-то. Я приведу один пример из сотни. У меня нет инстинктивного преклонения перед физической непорочностью, которое, несомненно, было свойственно христианству в свое время. Но когда я смотрю не на себя, а на мир, я вижу, что это преклонение было свойственно не только христианству, но и язычеству, и это — знак человеческой высоты. Греки восхищались девственностью, когда создавали Артемиду
[135], и римляне, когда окутывали покрывалом весталок
[136]; даже худшие и подлейшие из великих елизаветинских драматургов держались целомудрия женщины как основания мира. Более того, современный мир, хоть он и смеется над невинностью, сам сотворил из нее кумира, обожествив детей. Каждый, кто любит детей, согласится, что признаки пола наносят ущерб их особой прелести. Соединив человеческий опыт с авторитетом Церкви, я понял, что я ущербен, а Церковь всеобъемлюща. Церкви нужны разные люди, она не требует от меня девственности. Я не понимаю девственников — и смиряюсь с этим, как с тем, что у меня нет музыкального слуха. Лучший опыт человечества против меня, на стороне Баха. Безбрачие — один из цветов в саду моего Отца, чье нежное или ужасное имя мне неизвестно; но однажды, быть может, оно откроется мне.
Вот почему я принял веру, а не из-за надерганных разрозненных истин. Я принял ее потому, что она не просто открыла мне ту или иную истину, но потому, что она сама оказалась истиной. Все прочие философии говорят очевидное — только эта философия вновь и вновь говорила то, что казалось ложью, но оборачивалось правдой. Единственная из всех вер она убедительна, даже когда непривлекательна; она права, как мой отец в саду. Например, теософы проповедуют привлекательную идею переселения душ, но ее логическое следствие — духовное высокомерие и кастовая жестокость. Ведь если человек рождается нищим за грехи своей прошлой жизни, люди могут презирать нищих. Христианство проповедует непривлекательную идею первородного греха, но ее следствие — жалость и братство, смех и милость, ибо, только веря в первородный грех, мы можем в одно и то же время жалеть нищего и презирать короля. Ученые предлагают нам здоровье, очевидное благо; лишь позже мы догадываемся, что под здоровьем они понимают рабство тела и скуку души. Ортодоксия велит нам отпрянуть от разверзшейся бездны; но позже мы понимаем, что этот прыжок очень полезен для здоровья. Позже мы понимаем, что эта опасность — источник трагедии и романтики. Благодать Божия достоверна, ибо она не благостна. Все самое непопулярное в христианстве оказалось главной нашей опорой. Внешняя его сторона — строгая стража этических ограничений и профессиональных священников; но внутри жизнь человеческая пляшет, как дитя, и пьет вино, как мужчина, ибо лишь ограда христианства сберегает языческую свободу. В современной философии все наоборот: внешняя сторона красива и свободна — отчаяние внутри.
Отчаяние ее в том, что она на самом деле не верит в какой-либо смысл мира, и потому у нее нет надежды обрести романтику. У ее романов нет сюжета. В краю анархии нет приключений — приключения бывают там, где есть авторитет. Не найдешь смысла в джунглях скепсиса — но тот, кто идет по лесу Учения, с каждым шагом обнаруживает новый смысл. Тут все имеет свою историю, как инструменты и картины в доме моего отца. Я кончил там, где начал, — там, где надо. Я вошел во врата всякой доброй философии — вернулся в детство.
У полной приключений христианской вселенной есть еще одна, последняя особенность, которую трудно объяснить, но я попытаюсь, потому что она завершит наш разговор. Все настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли человек, родившийся вверх тормашками, понять, где верх, где низ. Первый, главный парадокс христианства — в том, что обычное состояние человека неестественно и неразумно, сама нормальность ненормальна. Вот она, суть учения о первородном грехе. В занятном новом катехизисе сэра Оливера Лоджа
[137] первые два вопроса: «Кто ты?» и «Что, в таком случае, означает грехопадение?» Я помню, как я пытался сочинить свои ответы, но вскоре обнаружил, что они очень неуклюжи и неуверенны. На вопрос: «Кто ты?» я мог ответить только: «Бог его знает». А на вопрос о грехопадении я ответил совершенно искренне: «Значит, кто бы я ни был, я — это не я». Вот главный парадокс нашей веры: нечто, чего мы никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и ближе нам, чем мы сами. Проверить это можно только тем опытом, с которого началась книга: помните сумасшедший дом и открытую дверь? Лишь с тех пор, как я узнал ортодоксию, я узнал свободу мысли. Но этот парадокс особым образом связан с важнейшей идеей радости.
Говорят, что язычество — религия радости, а христианство — религия скорби; не менее легко доказать, что язычество дает только скорбь, христианство — только радость. Такие оппозиции ничего не значат и никуда не ведут. Во всем человеческом есть и скорбь и радость; важно, как они соединяются или разграничиваются. Важно, что язычник (как правило) был счастливее, когда приближался к земле, и печальнее, когда приближался к небесам. Радость лучших язычников, веселье Катулла и Феокрита — это вечная радость, которую благодарное человечество никогда не забудет. Но они радуются мелочам жизни, а не ее истокам. Мелочи сладки для язычника, как маленькие горные ручейки, но все великое горько, как море. Увидев сердцевину мира, язычник замирал в ужасе. За богами, которые просто деспотичны, стоят губительные Мойры
[138]. Нет, Мойры не смертоносны, хуже — они сами мертвы. Рационалисты говорят, что античный мир был более просвещенным, чем мир христиан, — и они правы, ведь «просвещенный» означает для них «омраченный беспросветным отчаянием». Несомненно, античный мир был современнее христианского. И античные, и современные люди отчаялись в бытии, отчаялись во всем — тут средневековые люди, конечно, были счастливы. Я признаю, что язычники, как и современные люди, отчаялись только во Всем — впрочем и они были довольно счастливы. Я признаю, что средневековые христиане были в мире только со Всем — они враждовали со всем остальным. Но что до основ мира, было больше вселенского лада на грязных улицах Флоренции, чем в театре Афин или в открытых садах Эпикура. Город Джотто
[139] мрачнее, чем город Еврипида
[140]; вселенная его радостней.
Почти всем приходилось радоваться маленьким вещам, грустить из-за больших. Тем не менее (я дерзко объявляю последнюю догму) это несвойственно человеку. Человек больше похож на себя, человек более человечен, когда радость в нем — основное, скорбь — второстепенное. Меланхолия должна быть невинным предисловием, легким, ускользающим налетом — хвала должна быть жизнью души. Пессимизм, в лучшем случае, — выходной день для эмоций, радость — великий труд, которым мы живы. Язычник или агностик полагает, глядя на человека, что эта первичная потребность никогда не удовлетворится. Радость должна быть всепроникающей; агностик хочет ужать ее и загнать в один уголок мира — зато отчаяние его распространяется на непостижимую вечность. Вот что значит родиться вверх ногами. Скептик живет перевернутым: его ноги пляшут в пустячных забавах, голова его в бездне. Небеса современного человека оказались под землей — это понятно, ведь он стоит на голове, а на ней не устоишь. Но когда он обретает почву под ногами, то понимает, что обрел ее. Христианство внезапно и вполне удовлетворяет древнее стремление человека — стоять на ногах; удовлетворяет прежде всего в том, что радость становится великой, печаль — малой и узкой. Свод над нами глух не потому, что Вселенная неразумна. Это не бессердечное молчание бесконечного, бессмысленного мира; оно больше похоже на сострадательную, внезапную тишину в комнате больного. Быть может, нам из жалости дали трагедию, а не комедию — неистовая сила Божественного сбила бы нас с ног, как пьяницу в фарсе. Нам легче перенести наши слезы, чем потрясающее легкомыслие ангелов. Возможно, мы заключены в звездной палате молчания, ибо смех небес слишком громок для нас.
Веселье, маленькое и внешнее дело язычника, — великий секрет христианина. Завершая мою беспорядочную книгу, я вновь открываю ту небольшую книгу, с которой началось христианство, и вновь я приобщен к этой тайне. Поразительный герой, наполнивший Собою Писание, и здесь превосходит всех мыслителей, считавших себя гигантами. Скорбь Его естественна, хотя и редка. Стоики, древние и современные, гордятся тем, что скрывают свои слезы. Он не скрывал Своих слез, они были ясно видны на Его лице при свете дня — а день на Его родине ярок. Надутые супермены и важные дипломаты гордятся тем, что могут сдержать свой гнев. Он гнева не сдерживал. Он вышвырнул столы из храма и спрашивал людей, как думают они избежать гибели. Но кое-что Он сдерживал. Я говорю со всем благоговением: в этой поразительной Личности было то, что можно назвать застенчивостью. Что-то Он утаил от всех, когда удалился на гору для молитвы; Он всегда это скрывал, обрывая речь или внезапно уединяясь. Было нечто, слишком великое, чтобы Бог показал нам это, когда Он жил на земле, — и я думаю иногда, что это Его радость.
notes
Примечания
1
Сборник статей «Еретики» издан в 1905 г . Вошли в него статьи об Уэллсе, Киплинге и других современных Честертону писателях.
2
Стрит Джордж Слайт (1867—1930) — английский писатель и журналист. Честертон приводит его слова из рецензии, напечатанной в «Аутлук» 17 июня 1905.
3
Брайтонскийпавильон — Брайтон был модным курортом в конце XVIII—XIX вв. Георг IV, еще будучи наследником престола, построил там летнюю резиденцию, позднее переделанную Джоном Нэшем в «восточном стиле». Поэтому неопытный путешественник и может принять это здание за варварский храм.
4
Хэнуолл — сумасшедший дом в западном пригороде Лондона. Дальше Честертон обыгрывает сходство слов «Hanwell» и «hell» (ад).
5
Сауткотт Джоанна (1750—1814) — английская «пророчица», объявившая, что ей предстоит стать матерью нового Мессии.
6
Кэмпбелл Реджинальд Джон (1867—1965) — английский священник, богослов, сторонник обновления церкви, автор книги «Новая теология» (1907).
7
По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель-романтик, поэт и критик. Говоря о его склонности к анализу, Честертон имеет в виду, что в детективных рассказах По сыщик-любитель приходит к правильному выводу чисто логическим путем.
8
Коупер Уильям (1731 —1800) — английский поэт-сентименталист. По религиозным убеждениям Коупер был кальвинистом и в моменты душевного расстройства ему казалось, что он приговорен к вечным мукам за некий непростительный грех. Тем не менее он написал шуточную поэму «Увлекательная история Джона Джилпина» (1783), главный герой которой, торговец полотном, взобравшись на одолженную лошадь, не сумел удержать ее и был унесен в неведомое путешествие.
9
Кальвин Жан (1509—1564) — видный деятель Реформации, основатель крайнего течения в протестантизме, получившего его имя. Кальвинизм утверждает предопределение, по которому каждый человек изначально предназначен Богом к спасению или, чаще всего к вечной гибели. Честертон пользуется тем, что французское имя «Жан» соответствует английскому «Джон», имени персонажа поэмы Коупера «Увлекательная история Джона Джилпина».
10
Драйден Джон (1631 —1700) — английский поэт и писатель, один из основоположников классицизма. Честертон цитирует строку из его поэмы «Авессалом и Ахитофель» (1681).
11
Воэн Генри (1622—1695) и Герберт Джордж (1593—1632) — английские поэты-метафизики.
12
Безумен, как шляпник — английская поговорка, обыгранная в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
13
Журнал «Кларион» издавался Р. Блэтчфордом и Р. Б. Сазерсом. Кроме этого, о писателе Сазерсе ничего не известно. Спор с Блэтчфордом, отрицавшим свободу воли, происходил на страницах «Кларион» в 1903—1904 гг.
14
Если голова твоя соблазняет тебя — парафраза евангельского текста: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мф., XVIII, 8—9).
15
Маккейб Джозеф (1867—1955) — английский философ-рационалист, в юности был приверженцем католицизма и даже вступал в орден францисканцев (1883). В 1896 г . оставил церковь. Честертон разбирает его взгляды в книге «Еретики» (гл. XVI).
16
Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий биолог, последователь Дарвина.
17
Скептики, которые считают, что все началось с них самих — Честертон имеет в виду сторонников солипсизма.
18
Восточный символ: змея, кусающая свой хвост — Честертон имеет в виду изогнутый значок, принятый в математике как символ бесконечности.
19
Джеймс Генри (1843—1916) — англо-американский писатель, автор психологических романов, изощренный стилист.
20
Блэтнфорд Роберт (1891—1943) — английский литератор (см. прим. к с. 370).
21
«Правосудие и милосердие» — девиз инквизиции.
22
Кроткие наследуют землю — парафраза библейского текста: «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — (Мф., V, 5).
23
Написал изысканную скептическую вещицу «Сомнения прибора» — эссе «Скептицизм прибора» было прочитано Уэллсом перед Оксфордским философским обществом в 1903 г .
24
Митра — головной убор католического священнослужителя.
25
«Мыслю, следовательно существую» (Cogito ergo sum) — знаменитое изречение французского философа Рене Декарта (1596— 1650), считавшего мышление субъекта единственным фактом, в реальности которого невозможно усомниться и который поэтому может служить не только исходным пунктом философствования, но и свидетельством, удостоверяющим существование самого субъекта.
26
Мильтон Джон (1608—1674) — автор знаменитой поэмы «Потерянный рай» (1667), по убеждениям — пуританин.
27
Честертон приводит цитату из стихотворения А. Теннисона «Локсли Холл».
28
Дэвидсон Джон (1857—1909) — шотландский поэт, последователь философии Ницше. Покончил с собой.
29
Основатель утилитаризма Иеремия Бентам (1748—1832) объявил мерой добра и зла удовольствие, или принцип наибольшего счастья для наибольшего числа людей.
30
Бидль — церковный сторож.
31
«Любовь треугольников» — существование такой книги — вымысел Честертона.
32
Франклин Бенджамен (1706—1790) — американский политический деятель, один из авторов Декларации независимости.
33
Дантон Жорж Жан (1759—1794) — деятель французской революции, народный трибун, казненный Робеспьером.
34
Уилкс Джон (1727—1797) — английский политический деятель, обращавшийся, как и Дантон, с пламенными речами к народу. Отстаивал суверенность личности, выступал против войны с объявившей об отделении от Британской империи Америкой.
35
Известный журналист — Г. К. Честертон имеет в виду самого себя.
36
Анатоль Франс — Тибо Анатоль Франсуа (1844—1924) — известный французский писатель, одно время находился под влиянием Э. Ренана. В «Жизни Жанны д'Арк» (1908) изобразил главную героиню как несчастную, подверженную галлюцинациям женщину.
37
Иоанна — транскрипция имени Жанна, в католической традиции Жанна д'Арк называется святой Иоанной.
38
Разделили ризы Его… — Ср.: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон: хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: „разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий“ (Пс. XXI, 19). Так поступили воины» (Ин. XIX, 23—24).
39
Армагеддон — место последней битвы сил добра и зла (Откр., XVI, 16).
40
Карлтон-клуб — политический клуб консерваторов в Лондоне.
41
В английской народной сказке «Джек и бобовый стручок» Джек поднимается по бобовому стеблю на небеса.
42
Якобиты — сторонники восстановления английской династии Стюартов, приверженцы короля Якова II и его потомков.
43
«Величит душа Моя Господа» — слова Девы Марии, узнавшей, что ей предстоит стать матерью Мессии (Лк. I, 46).
44
Гримм Якоб Людвиг Карл (1785—1863) — немецкий филолог, один из составителей знаменитого сборника сказок братьев Гримм. Гримм открыл закон передвижения согласных в индоевропейских языках — «закон о звуках забытых языков», как говорит Честертон.
45
Возлюби Господа Бога своего, но не знай себя — Честертон перефразирует библейские заповеди (см. Мф. XXII, 37; Мф. XXII, 39).
46
Оселок — персонаж комедии Шекспира «Как вам это понравится». Фраза, о которой пишет Честертон, из пятого акта, сцена 4.
47
Честертон цитирует (неточно) строки из поэмы Йейтса «Будущей Ирландии».
48
Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Селены — богини Луны.
49
Эдем — рай.
50
Уайльд Оскар (1854—1900) — английский писатель, поэт, драматург. Мастер парадоксов, эстет, декадент; был заключен в тюрьму по обвинению в безнравственности.
51
Г. Спенсер утверждал, что сами размеры космоса указывают, что он никак не мог быть создан во имя замысла, предусматривающего такую малость, как человек.
52
Маттерхорн — вершина в Швейцарских Альпах.
53
Пимлико — район Лондона, по архитектуре очень скучный.
54
Челси — западный, фешенебельный район Лондона.
55
Теория общественного договора, выдвинутая французскими просветителями XVIII столетия (см., напр., трактат Жан Жака Руссо «Об общественном договоре» (1762), учила, что государство возникает на основе взаимной договоренности людей учитывать интересы друг друга, приносить друг другу пользу.
56
Десять заповедей, согласно Библии, были даны Господом еврейскому народу через Моисея, во время исхода евреев из Египта и многолетнего странствия в пустыне (Исх., XX, 3—17).
57
Англо-бурская война (1899—1902) — война Великобритании против южноафриканских республик Оранжевой и Трансвааля. В результате этой войны в 1910 г . был образован Южно-Африканский Союз.
58
Т. Карлейль отстаивал самобытность англосаксонской культуры, отрицая значимость для ее формирования нормандского (1066 года) завоевания.
59
Французская армия 1870 года — армия времен франко-прусской войны (1870—1871), в которой Франция потерпела сокрушительное поражение.
60
Пенденнис Артур — герой романа У. М. Теккерея «История Пенденниса».
61
Арчер Уильям (1866—1924) был первым английским переводчиком Г. Ибсена.
62
Ср.: «Кто эта блестящая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами» (Песн. II. VI, 10).
63
…когда золотой корабль пошел ко дну до начала времен — Честертон имеет в виду гибель, грозившую Римской империи, а вместе с ней и христианской церкви во время нашествия варваров (IV—VI вв.).
64
«Просят у Бога пищу себе» — Пс. CIII, 21.
65
Мерсия — англосаксонское королевство в Центральной Англии (IV—IX вв.).
66
Эдинбургскаятемница — вероятно, имеется в виду древнейшая часть замка в Эдинбурге (Шотландия), построенная в VI—VII вв.
67
Хэмптон-корт — самый большой дворец в Англии, подарен Генриху VIII в 1526 г . Лабиринт — один из аттракционов при дворе.
68
Ноттинг-хилл и Бэттерси— бедные районы Лондона.
69
Апологеты — защитники учения; специально это название применяется к христианским писателям II—III вв., отстаивавшим христианство в полемике с язычеством.
70
Бредлоу Чарльз (1833—1891) — сторонник отделения церкви от государства, известный журналист, писал под псевдонимом «Иконоборец».
71
Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский юрист и политический деятель, сам давший себе прозвище «Великого агностика», автор книг «Суеверие», «Ошибки Моисея» и др.
72
Цитата из «Гимна Прозерпине» А. Ч. Суинберна.
73
Эдуард Исповедник (1003—1066) — король Англии с 1042 г ., был набожен и кроток, не вмешивался в бесконечные феодальные распри, хотя они в итоге и стоили ему трона.
74
Ричард Львиное Сердце — Ричард I (1157—1199), король Англии с 1189 г ., большую часть жизни провел на войне, участвовал в крестовых походах.
75
Кромвель Оливер (1599—1658) — вождь английской буржуазной революции, протектор (правитель) Англии с 1653 г ., утопил в крови католическое восстание ирландцев.
76
Герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582) — испанский полководец, ввел в Нидерландах режим террора для подавления реформаторского движения (гезов).
77
Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ, идеалист, считавший природу воплощением Духа.
78
Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист, основатель особого экономико-демографического учения — мальтузианства. Мальтузианство считает основной причиной экономических трудностей перенаселение и полагает необходимыми войны, стихийные бедствия и проч. в качестве ограничителя прироста населения. Для католиков мальтузианство было неприемлемо еще и потому, что оно призывало к распространению противозачаточных средств и особенно абортов, совершенно недопустимых, с точки зрения католиков.
79
«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную» (Ин., XII, 35).
80
Честертон цитирует библейский текст: «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти, одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом; потому что все — суета!» (Еккл. III, 19). О печальнейшем уделе обреченного на смерть человека Гомер говорит постоянно.
81
Святой Бернард из Аосты — Бернард Ментонский (ум. 1081 г .) — протодьякон в Аосте, основатель (в 1050 г .) монастыря на Пеннинских Альпах, расположенного на высоте 8114 футов на перевале Большой Сен-Бернар.
82
Серая зола — символ покаяния, поскольку дело ордена проповедников, основанного святым Домиником — покаяние за грехи мира.
83
Преступника нужно прощать до семижды семидесяти — Ср.: Мф., XVIII, 22.
84
«ГенрихV» — трагедия У. Шекспира. При короле Генрихе V Англия добилась наибольших успехов в войне с Францией.
85
Величайший из Плантагенетов — Генрих II (1132—1189), английский король с 1154 г . Укрепляя королевскую власть, столкнулся с сопротивлением церкви, в первую очередь, епископа Кентерберийского, Фомы Беккета. Фома Беккет был убит в храме по приказу короля. После убийства Генриху II пришлось принести публичное покаяние.
86
Честертон упоминает известный эпизод из жизни святой Екатерины Сиенской — она навещала в тюрьме и сопровождала на казнь осужденного рыцаря Николаса ди Тольдо. Отрубленную голову казненного она взяла в руки и поцеловала.
87
Дугласы — знаменитый шотландский род, оставивший много героев и в истории, и в поэзии. Здесь скорее всего речь идет о сэре Джеймсе Дугласе (1286—1330), который после нескольких набегов на Англию отправился в Святую землю и был убит в пути.
88
Лев древнего отчаяния сорвался с цепи в северных лесах — Честертон имеет в виду протестантизм.
89
Горгульи — в готической архитектуре рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры.
90
Если они умолкнут, то камни возопиют — Ср.: Лк. XIX, 40.
91
Сесил, Хью Ричард (1869—1956) — британский политический деятель, консерватор, сторонник Высокой Церкви (См. прим. к С. 453).
92
КаннингэмГрэхем Роберт Бонтайн (1852—1936) — шотландский писатель, сторонник социализма.
93
ХербертОберон Эдвард Уильям Молине (1838—1906) — английский политический философ и писатель, агностик, сторонник полного отделения церкви от государства. Честертон перечисляет «модные ереси»: социализм (Маркс и Каннингэм Грэхем), ницшеанство и толстовство, агностицизм и воинственный антиклерикализм (Оберон Херберт).
94
Гредграйнд — персонаж романа Ч. Диккенса «Тяжелые времена», живший с девизом «факты, факты и никаких эмоций».
95
Уистлер Джеймс (1834—1903) — американский художник, близкий к импрессионизму, пользовался большой популярностью у современников.
96
Ср.: «Милость и сила сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. LXXXIV, II).
97
Иосиф — библейский патриарх, любимый сын Иакова, по преданию, в Юности любил нарядную одежду.
98
ЕлизаветаI (1533—1603) — английская королева (с 1558 г .). Укрепила абсолютизм, восстановила англиканскую церковь. При Елизавете началось морское господство Англии.
99
КарлI — следующий (после Иакова I) преемник Елизаветы. Низложен и казнен во время английской буржуазной революции.
100
Людовик Любимый — Людовик XV (1710—1774), король Франции с 1715 г . Его внук и преемник Людовик XVI (1754—1793) казнен во время французской революции.
101
Они правы, когда не доверяют тому, что установили люди — аллюзия на библейский текст: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей» (Пс. CXVII, 8—9).
102
Ср.: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк. XX, 25).
103
Лорд Бэкон — имеется в виду философ и политический деятель Ф. Бэкон, который, будучи лордом-канцлером при дворе Якова I, был обвинен в казнокрадстве и отстранен от должности.
104
Герцог Мальборо — Черчиль Джон, герцог Мальборо (1650— 1722) — английский полководец. В 1711 году был обвинен в присвоении казенных сумм, выделенных на военные расходы, и вышел в отставку.
105
«Не желаю быть епископом» (лат. ) («Не желаю быть епископом» — слова святого Амвросия (340—397), избранного в 374 г . епископом Милана.)
106
ФраАнжелико (Джованни да Фьезоле) — доминиканский монах, художник (1387—1455).
107
Прерафаэлиты — группа английских художников середины XIX в., пытавшаяся возродить средневековое (дорафаэлевское) искусство.
108
Берн-Джонс сэр Эдуард (1833—1898) — английский художник, близкий к прерафаэлитам, изобретатель цветного оконного стекла, которое должно было напоминать церковные витражи.
109
Леви Оскар (1867—1948) — врач-психиатр, осуществивший полный перевод Ницше на английский язык.
110
Высокая, Низкая и Свободная Церковь — течения английского протестантизма. Высокая Церковь наиболее близка к католицизму.
111
Есть вера в их честном сомнении — фраза из поэмы А. Теннисона «In memoriam» (1849).
112
Сковал Бога, как дьявола в Апокалипсисе — Ср.: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Отк. XX, 2).
113
Имманентизм, имманентная философия — философское течение конца XIX—XX века, утверждавшее, что реальность (бытие) имманентно сознанию, т. е. что существует только то, что мыслится, объект неразрывно связан с субъектом.
114
Не увидите ничего сведенборгианского в зонтике — Сведенборг Эммануил (1685—1772) — мистик, утверждавший, что получил откровение от Бога и в свете этого откровения истолковывавший Писание. Он упоминается здесь как пример мистического отношения к миру в противовес обыденному, сугубо материальному взгляду.
115
Безант Анни (1847—1933) — председатель теософского общества. Занимаясь созданием «универсальной религии» со многими элементами индуизма и буддизма, одновременно была политическим деятелем, председателем индийской партии «Национальный конгресс».
116
Христианство велит детям любить друг друга — Ср.: «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (I Ин. III, 18).
117
«Не мир пришел Я принести, но меч» — Мф., 10, 34.
118
Цитата из стихотворения А. Суинберна «Герта», вошедшего в сборник «Песни перед рассветом».
119
«Король Бомба» — Фердинанд II, король Обеих Сицилии (1830— 1859). Прозвище «Бомба» заслужил в 1848—1849 гг., подвергнув артиллерийскому обстрелу восставшие против него города.
120
Лорд Керзон — Керзон Джордж Натаниел (1859—1925), вице-король Индии в 1899—1905 гг.
121
Трапписты — члены католического монашеского ордена, образовавшегося в 1664 г . Трапписты давали обет молчания и общались с помощью знаков.
122
Нехорошо Богу быть одному — парафраза библейского текста: «…не хорошо быть человеку одному» (Бт. II, 18).
123
«Не искушай Господа Бога твоего» — Мф. IV, 7.
124
В саду Сатана искушал человека — пробравшись в райский сад, Сатана (змей) уговорил Еву отведать плод запретного древа познания. За нарушение запрета Адам и Ева были изгнаны из рая и навлекли беды на все свое потомство (Бт. III, 1—22).
125
Бог искушал Бога — Честертон имеет в виду искушение, которому был подвергнут Иисус в Гефсиманском саду, где он просил Бога-Отца о том, чтобы миновала Его «чаша сия» (Мф. XXVI, 36—43).
126
…с креста раздался крик, что Бог оставлен Богом — перед смертью распятый Христос закричал: «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?» (Мф. XXVII, 46).
127
Король Леопольд — Леопольд II (1835—1909), король Бельгии с 1865 г . Проводил жестокую колонизаторскую политику, вызвавшую в 1903—1905 гг. кампанию протеста.
128
«Маршалл и Снелгров» — большой лондонский магазин.
129
Погибшие поколения — возможно, аллюзия на «Божественную комедию» Данте («Я увожу к погибшим поколеньям» — «Ад», III, 3).
130
В историях Исаака и Ифигении — Бог потребовал от Авраама принести в жертву единственного сына, Исаака. В последний момент, когда нож уже был занесен, Исаак был заменен ягненком. В греческой мифологии по воле богини Артемиды Ифигения была принесена в жертву своим отцом, Агамемноном, ради благополучного плавания. Во время жертвоприношения Артемида заменила ее ланью и перенесла Ифигению в Тавриду, где та стала жрицей богини.
131
Люди были взвешены и найдены очень легкими — Ср.: «…Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. V, 27) — пророчество царю Валтасару о конце его царствования. В средние века слишком легкий человек считался одержимым бесом.
132
Ср.: «Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч» (Лк. XXII, 36).
133
Константин прибил крест на мачту — по преданию, в 306 г ., перед решающей битвой за престол Константин (280—337) увидел в небе крест и слова «Сим победиши». В 313 г . Константин объявил христианство государственной религией.
134
Дизраэли Бенджамен (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг. Сторонник имперской политики.
135
Артемида — греческая богиня охоты, девственница.
136
Весталки — римские жрицы — хранительницы священного огня. За нарушение обета целомудрия весталок закапывали в землю живыми.
137
Лодж Оливер (1851—1940) — английский физик, стремился соединить науку и религию. Честертон имеет в виду его «Субстанцию веры в союзе с наукой. Катехизис для родителей и учителей» (1907).
138
Мойры — в античной мифологии богини неумолимой судьбы, определяющие срок жизни человека.
139
Город Джотто — Флоренция XIII—XIV вв.
140
Город Еврипида — Афины V в. до н. э.