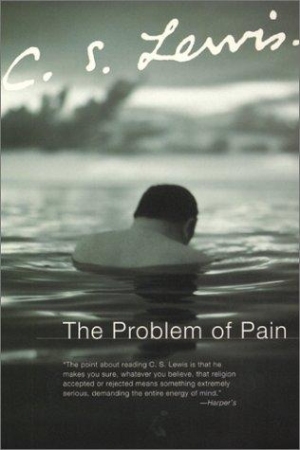Клайв Стейплз Льюис
БОЛЬ
О том, в ком отдалось эхо
Вступительная заметка литератора к русскому изданию
Мое истинное благо — в ином мире, мое единственное сокровище — Христос.
К. С. Льюис
Клайв Стейплз Льюис (1898-1963) за 65 лет своей жизни выпустил 45 книг: исторических, детских, литературоведческих, богословских, поэтических… Его имя известно всему просвещенному миру. Русскоязычный читатель, в разного уровня переводах, знает его книги: «Просто христианство» (Mere Christianity), «Письма Баламута» (The Screwtape Letters), «Лев, колдунья и платяной шкаф» (The Lion the Witch and the Wardrobe). Сейчас перед вами новая книга «Боль» (The Problem of Pain), и не за горами выпуск двух книг из детской серии: «Племянник чародея» (The Magician's Nephew) и «Серебряное кресло» (The Silver Chair). Кроме этого, в СССР книги Льюиса переводятся и в порядке личной инициативы любителями не навязанного чтения, вне издательского плана, так сказать. Это говорит о большой и все растущей популярности английского писателя. Думается, что немаловажную роль в этом интересе играет то, что Льюис — верующий, христианин.
Эту книгу, «Боль», Льюис заканчивает словами: «Боль дает повод для проявления героизма, и люди пользуются этим поводом на удивление часто». Думал ли он, написав эти строки в 1940 году, что через 16 лет увидит проявление такого героизма со стороны страдающей любимой женщины, жены? И что еще через три года, после ее смерти, он сам будет вести себя подобным образом? «Боль» — книга вещая. Задолго до своих испытаний Льюис описал их и объяснил их природу.
О Клайве Льюисе написаны сотни книг, исследований, научных работ, о его жизни снят художественный телефильм. Ремарк описывал, как умирают любимые на руках любящих, но сам этого не испытал. Льюис это испытал. По его книгам многие люди нашли Христа. Кстати, еще до встречи с Льюисом, женщина, которую он впоследствии полюбил, нашла Христа с помощью его книг.
Блестяще написанные, мудрые, грустные, веселые, спорные книги Льюиса — это высокое прославление Христа. Я знаю, были и есть христиане, не замечающие этого в книгах Льюиса. Думаю, это в первую очередь от непонимания. Ведь и люди, сжигавшие Джордано Бруно, искренне верили, что делают это во славу Богу. Есть и в наше время христиане, которым желание других глубже вникнуть в Божественную Сущность, во взаимоотношения Бога и человека — кажется нарушением христианской этики, если даже не большего. Для них все, что не укладывается во вполне заржавевший набор церковных понятий, — кажется «не истинно христианским». Эти христианские потомки фарисеев сами не в состоянии заглянуть в глубину трудов Льюиса, но еще и других туда не пускают, все отрицая и укоряя автора. То, что Льюис им непонятен, наполняет их страхом и раздражением, при этом они забывают, что Христу служили и рыбаки, и мытари, — и цари. Книги Льюиса не просты, но их духовная суть неподдельно искренна, глубока и ясна. Потому они привлекали и привлекают к себе интеллектуальный цвет человечества. Ведь сын Абсолюта, сам Абсолют, говорил не только с Закхеем, но и с Никодимом.
Я вижу Льюиса самым великим после Достоевского писателем, который коснулся Бога, а потом человека, с его ранами и грехами. И обо всем этом — рассказал. Достоевский писал для России, а написал для всего мира. Льюис писал для всего мира, а написал во многом для России.
О чем книга «Боль»? Все книги Льюиса, после его уверования, в разной степени описывают смысл, боль и радость христианства. Он рассказывал, что «Боль» начал писать, пытаясь ответить на один из самых типичных в мире вопросов: Если Бог добр, почему Он допускает боль и страдания?! Как и всегда, предполагая, что его книга может оказаться единственной христианской книгой, которая попадет в руки неведомому ему читателю, Льюис снабдил ее большим справочным материалом и не смущается отвлекаться в ней на другие, не менее важные вопросы бытия, физического и духовного. И все же, как это ни странно, в «Боли» Льюис описывает моральные истоки и происхождение христианства. Достоевский в своих книгах улыбался редко. Он видимо считал, что нехорошо, говоря о страданиях, улыбаться. У Льюиса огромное чувство юмора. Он часто, говоря о серьезном, смеется. Он боится, чтобы читатель не заподозрил его в сентиментально-банальной серьезности. Шутка — это его маска. Проходит много времени, и лишь тогда мы начинаем замечать, что это смех не самоуверенного счастливого человека, а шутки солдата перед последней атакой.
Естественно быть благодарным Богу за встречу с Христом, за все наши «дороги, ведущие в Дамаск», но также естественно быть благодарным Богу за тех редких представителей человечества, которые преломляют в себе и отражают свет Христа. По этому свету нашла дорогу к Христу Джой Дэвидман, жена Льюиса. Этот же свет помогает найти дорогу и другим.
«Разные дороги ведут к Христу. Но не забыть бы, что все они проходят через Голгофу».
Михаил Моргте
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда г-н Сэмпсон предложил мне написать эту книгу, я просил разрешения написать ее анонимно, поскольку для того, чтобы высказать истинные мои мысли о боли, я был бы вынужден выдвигать столь твердые суждения, что они воспринимались бы как смехотворные, будь их автор известен. Анонимность была отвергнута как неподобающая настоящему циклу книг, но г-н Сэмпсон заметил, что я могу написать предисловие и объяснить в нем, что я не вполне придерживаюсь своих же собственных принципов! Вот эту-то волнующую программу я и претворяю теперь в жизнь. Позвольте мне сразу же признаться, словами доброго Уолтера Хилтона, что на всем протяжении этой книги «я чувствую себя в толиком отдалении от истинного чувства излагаемого мной, что не могу не возопить о милосердии и не возжелать сего чувства посильно». Но именно по этой причине существует упрек, который нельзя против меня выдвинуть. Никто не может сказать: «Над шрамом тешится тот, кто не ведал раны», ибо в моей жизни не было мгновения, когда бы даже мысль о серьезной боли не была для меня невыносима. Если есть человек, застрахованный против недооценки такой враждебной стихии, то это я. Считаю также необходимым добавить, что единственная цель этой книги — рассмотреть страдание как интеллектуальную проблему; учить стойкости и терпению — задача гораздо более высокая, и у меня хватает ума не считать, что я ее достоин. Я могу только передать свое убеждение, что коли уж выпала боль, то немного мужества поможет лучше, чем много знания, немного людской симпатии поможет лучше, чем много мужества, а малейшая капля любви к Богу — лучше всего остального.
Если эти страницы прочтет настоящий богослов, он легко поймет, что это труд непосвященного и любителя. Кроме как в последних двух главах, которые отчасти представляют собой просто догадки, я, как мне думается, пересказываю древние и правоверные учения. Если какие-то места в этой книге и являются «оригинальными», в том смысле, что они новы или не ортодоксальны, то они таковы вопреки моей воле и в результате моего невежества. Пишу я, конечно, как мирянин англиканской церкви, но я стараюсь не выдвигать никаких принципов, которые не исповедовали бы все крещеные и признающие причастие христиане.
Поскольку это не ученый труд, я не слишком старался проследить происхождение и источник идей и цитат, в тех случаях, когда это представляло некоторую трудность. Любой богослов легко увидит, что именно я читал — и как немного.
Клайв Стейплз Льюис, Магдален Колледж, Оксфорд 1940
«Сын Божий принял смертное страдание не затем, чтобы люди пострадали, но чтобы их страдания могли уподобиться Его страданиям»,
Джордж Макдоналд
Непрочитанные проповеди. Цикл первый.
1. Введение
«Я дивлюсь дерзости, с какой подобные люди берутся говорить о Боге. В трактате, адресованном неверным, они начинают с главы, доказывающей существование Бога на основе природных фактов,.. что лишь дает их читателям основание полагать, что доказательства нашей религии весьма слабы… Замечательно, что ни один канонический автор никогда не ссылался на природу в доказательство существованию Бога».
Паскаль, «Мысли», 7V, 242, 243
Не так уж давно, несколько лет назад, когда я был атеистом, на вопрос «Почему вы не верите в Бога?» я ответил бы примерно таким образом:
«Взгляните на вселенную, в которой мы живем. В подавляющей своей массе она состоит из пустого пространства, совершенно темного и невообразимо холодного. Тела, двигающиеся в этом пространстве, настолько немногочисленны и малы в сравнении с самим пространством, что даже будь каждое из них до полной тесноты населено совершенно счастливыми существами, все же было бы трудно поверить, что жизнь и счастье не являются всего лишь побочным результатом силы, создавшей вселенную. На самом же деле, ученые склонны полагать, что очень немногие солнца во вселенной — возможно, что ни одно, кроме нашего — имеют планеты, а в нашей собственной системе невероятно, чтобы какая-либо планета, за исключением Земли, могла поддерживать жизнь. Да и сама Земля миллионы лет существовала без жизни и, возможно, просуществует еще миллионы лет, когда жизнь на ней исчезнет. А на что она похожа, пока она еще существует? Она устроена таким образом, что все ее формы могут жить лишь взаимным хищничеством. В низших формах этот процесс чреват лишь смертью, но в более высоких появляется новое качество, именуемое сознанием, в результате чего процесс может сопровождаться болью. Живые создания причиняют боль своим рождением, они живут, вызывая боль, и умирают чаще всего тоже с болью. В самом сложном из всех созданий, Человеке, появляется еще одно качество, которое мы именуем разумом, и благодаря которому он может предвидеть свою собственную боль, которой с этих пор предшествует острое душевное страдание, а также предвидеть свою собственную смерть, тогда как он страстно желает непрерывности существования. Это также позволяет людям, с помощью сотни ухищрений, наносить друг другу и неразумным существам куда больше боли, чем им было бы иначе под силу. Этой своей властью они пользуются сполна. Их история — это по большей части летопись преступлений, войн, болезней и ужасов, перемежающихся минимальными дозами счастья, достаточными лишь для того, чтобы, пока это счастье длится, вселять в людей мучительный страх потерять его, а когда оно потеряно — жгучее сожаление воспоминаний. Время от времени они немного улучшают условия своей жизни, и возникает то, что мы именуем цивилизацией. Но всем цивилизациям приходит конец, и даже существуя, они причиняют свои особые страдания, достаточные, наверное, для того, чтобы с лихвой компенсировать все облегчения, которые они несут обычным болям человека. Никто не будет спорить, что именно такова наша собственная цивилизация, и можно не сомневаться, что ей, как и ее предшественницам, наступит конец. А если и нет, что с того? Род человеческий обречен. Каждый род, возникающий в любом уголке вселенной, обречен — ибо, как нам говорят, завод вселенной кончается, и в конечном счете она превратится в монотонную бесконечность однородной материи с низкой температурой. Все сюжеты закончатся ничем — в конце концов окажется, что вся жизнь была лишь мимолетной и бессмысленной гримасой на идиотском лице бесконечной материи. Если вы призываете меня верить, что все это — дело рук великодушного и всемогущего духа, я отвечу, что все доказательства указывают на противоположное. Либо никакого духа за вселенной нет, либо этот дух безразличен к добру и злу, либо же это злой дух».
Примечание переводчика
Цитаты из Библии в некоторых случаях переведены с древнегреческого подлинника Нового Завета. В этих случаях рядом приводятся те же цитаты из Синодального издания русской Библии.
Мне никогда не приходило в голову задать себе один вопрос. Я никогда не замечал, что сама сила и легкость аргумента пессимистов тотчас же ставит перед нами проблему. Если вселенная так плоха, или даже наполовину так плоха, то каким же образом люди приписали ее создание мудрому и доброму Творцу? Люди, возможно, глупы, — но вряд ли настолько. Прямое умозаключение от черного к белому, от дурного цвета к доброму корню, от бессмысленного создания к бесконечно мудрому Творцу поражает воображение. Образ вселенной, преподносимый опытом, никогда не может послужить основой для религии — обретенная из иного источника, она всегда держалась вопреки ему.
Было бы ошибкой ответить, что наши предки были люди невежественные, и потому питали приятные иллюзии по отношению к природе, развеянные в наше время прогрессом науки. На протяжении столетий, когда все люди верили, им уже были хорошо известны жуткие размеры и пустота вселенной. В некоторых книгах вы прочитаете, что в средние века люди думали, что Земля плоская, а звезды расположены близко, но это ложь. Птолемей объяснил им, что Земля — это не имеющая размеров математическая точка по отношению к расстоянию до неподвижных звезд — расстоянию, которое один известный средневековый текст оценивает в сто семнадцать миллионов миль. Да и в более ранние времена, испокон века, у человека наверняка было то же чувство враждебной огромности, исходящее из более очевидного источника. Для доисторического человека соседний лес был вполне бесконечен, и то неизъяснимо чуждое и жуткое, что приводят нам на мысль космические лучи и остывающие солнца, еженощно, принюхиваясь и завывая, подходило к самым его дверям. Бесспорно, что боль и тщета человеческой жизни были очевидны во все времена. Наша собственная религия берет начало среди евреев — народа, зажатого между великими воинственными империями, постоянно терпящего поражения и уводимого в плен, знакомого не хуже Польши и Армении с трагической судьбой побежденного. Просто нелепо относить боль к числу открытий науки. Отложите эту книгу и поразмыслите минут пять над тем, что все великие религии впервые проповедовались и долгое время существовали в мире, в котором не было хлороформа.
Таким образом, во все времена умозаключение от хода мировых событий к доброте и мудрости Творца было одинаково нелепым и никогда не предпринималось, (т. е. никогда не предпринималось при зарождении религии. После принятия веры в Бога, «теодицеи», объясняющие или отметающие жизненные невзгоды, появляются естественно). Религия имеет иное происхождение. Читая нижесказанное, следует иметь в виду, что я не стараюсь в первую очередь доказать истинность христианства, но описываю его происхождение — задача, на мой взгляд, необходимая для рассмотрения проблемы боли в ее правильной постановке.
Во всех развитых религиях находим три элемента, — а в христианстве еще один. Первый из них профессор Отто именует чувством запредельного (Numionous). Мы можем пояснить этот термин следующим образом. Предположим, вам говорят, что в соседней комнате находится тигр — вы будете сознавать, что вам грозит опасность и, вероятно, почувствуете страх. Но если вам скажут: «В соседней комнате — привидение», и вы этому поверите, вы, конечно, тоже почувствуете страх, но уже иного рода. Он не будет порождаться сознанием опасности, ибо никто впрямую не боится того, что может ему сделать привидение, — он будет вызван самим фактом, что это привидение. Оно скорее сверхъестественно, чем опасно, и вызывает особый страх перед сверхъестественным. И тут мы уж подходим к порогу запредельного. Допустим, вам просто скажут: «В этой комнате находится могучий дух», и вы поверите. Ваши чувства в этом случае будут еще менее похожи на элементарный страх в присутствии опасности, но потрясение будет глубоким. Вас охватит восторженное изумление и в некоторой степени чувство собственной незначительности перед лицом такого посещения, равно как и чувство преклонения перед ним — одним словом, целый спектр чувств, который можно выразить словами Шекспира «Пред ним мой гений укорен». Такое чувство можно описать как благоговение, и предмет, вызывающий его, и есть запредельное.
Нет ничего достовернее того факта, что человек с древнейших времен стал верить в духов, обитающих во вселенной. Профессор Отто, вероятно, слишком легко полагает, что самые первые из этих духов были предметом «запредельного благоговения». Это невозможно доказать по той простой причине, что в выражениях запредельного благоговения и в выражениях элементарного страха перед опасностью употребляются одни и те же слова — мы в равной степени можем сказать, что мы боимся привидений и что мы боимся роста цен. Поэтому теоретически допустимо, что было время, когда человеку эти духи казались просто опасными, и он относился к ним точно так же, как и к тиграм. Бесспорно то, что сейчас, по крайней мере, чувство запредельного существует, и мы можем проследить его далеко в прошлом.
Современный пример можно найти (если только гордость не помешает нам там его искать) в детской книжке Кеннета Грэма «Ветер в ивах», где Крыса и Крот приближаются к Пану на острове.
— Крыса, — прошептал он, едва обретая дыхание и весь дрожа, — ты боишься?
— Боюсь? — пробормотала Крыса, глаза которой сияли невыразимой любовью. — Боюсь? Его? О нет, ничего подобного. Но все-таки — все-таки, о Крот, я боюсь».
Уйдя на столетие в прошлое, мы находим обильные примеры у Вордсворда — пожалуй, превосходнее всех место в первой книге «Прелюда», где он описывает свои чувства во время гребли на озере, в украденной лодке. Углубившись еще дальше в прошлое, мы находим весьма ясный и яркий пример в «Рыцарях короля Артура», когда Гэлэхад «задрожал великою дрожью, я ко смерти обетованная плоть узрела предметы духа». В начале нашей эры это чувство находит себе выражение в «Апокалипсисе», где автор падает в ноги воскресшему Христу, «словно мертвый». В языческой литературе мы находим у Овидия изображение тенистой рощи на Авентине, о которой можно безошибочно сказать numen inest — здесь обитают духи, или здесь ощутимо Присутствие, а Виргилий дает нам дворец Латина, который «ужасен (horrendum) лесами и святостью (religione) былых дней». Греческий фрагмент, без особых оснований приписываемый Эсхилу, повествует о земле, море и горе, содрогающихся под «ужасным оком Властелина». А в еще более отдаленные времена Иезекииль, рассказывая о Богоявлении, говорит нам об ободьях, что они были «высоки и страшны» (Иез. 1:18), а Иаков, пробудившись ото сна, говорит: «как страшно сие место?» (Быт. 28:17).
Мы не знаем, в каких глубинах истории зародилось это чувство. Первобытный человек почти наверняка верил в вещи, которых привели бы нас в волнение, если бы мы верили в них, и поэтому вполне вероятно, что трепет перед запредельным столь же стар, что и само человечество. Но нас в первую очередь волнует не то, когда он возник. Важно, что тем или иным образом он обрел существование, что он имеет широкое распространение и не покидает нашего сознания с развитием знаний и цивилизации.
Притом же, этот трепет не порожден видимой вселенной. Нет никакой возможности провести логическую связь между простой опасностью и страхом сверхъестественного, а тем более запредельного. Вы можете сказать: вполне понятно, что первобытный человек, будучи окружен реальными опасностями, а потому испуган, придумал сверхъестественное и запредельное. В каком-то смысле так оно и есть, но давайте выясним, что мы имеем в виду. Вы считаете это понятным и естественным, поскольку, имея ту же человеческую природу, что и ваши отдаленные предки, вы можете вообразить аналогичную реакцию со своей стороны на чреватое опасностью одиночество, и эта реакция будет естественной в том смысле, что она будет отвечать человеческой природе. Но она ничуть не «естественна», если. полагать, что идея потустороннего или запредельного уже заключена в идее опасности, или что любое ощущение опасности и отвращение к ранам и смерти, заключенное в нем, может дать хоть намек на понятие потустороннего трепета или запредельного благоговения для разума, в котором оно еще не заключено. Когда человек переходит от физического страха к трепету и благоговению, он совершает резкий скачок и постигает нечто, что не было «дано» физическими реальностями и логическими выводами из них, как бывает дана опасность. Все попытки объяснения запредельного предполагают объясняемый предмет — так антропологи производят его от страха перед мертвыми, не объясняя, однако, почему мертвые (люди, бесспорно, из числа наименее опасных) должны пробуждать к себе столь необычное чувство. Вопреки всем подобным попыткам мы настаиваем, что трепет и благоговение — чувства совершенно иного порядка, чем страх. Они заключены в природе интерпретации, которую человек дает вселенной, и подобно тому, как простое перечисление физических качеств красивого предмета никогда не включает в себя его красоты, и не дает существу, лишенному эстетического опыта, ни малейшего понятия о том, что мы считаем красотой, никакое фактическое описание среды обитания человека не будет включать в себя потустороннего и запредельного или даже намека на них. Похоже, что существует лишь два возможных взгляда на этот предмет. Либо это простой трюк человеческого сознания, не соответствующий ничему объективному и не служащий никакой биологической функции, но не проявляющий ни малейшей тенденции к исчезновению из этого сознания, достигшего полноты своего развития в поэте, философе или святом; либо же это непосредственное восприятие сверхъестественной реальности, которое следовало бы по справедливости именовать Откровением.
Запредельное не тождественно положительному в нравственном смысле, и человек, охваченный благоговением, если предоставить его собственным чувствам, будет склонен считать запредельный объект этих чувств лежащим «по ту сторону добра и зла». Это приводит нас ко второму элементу религии. Все известные нам из истории люди признавали существование какой-то нравственности — то есть, их чувства по отношению к неким предлагаемым поступкам выражаются словами «я должен» и «я не должен». Эти чувства в каком-то отношении напоминают трепет — а именно, их нельзя логически вывести из окружающей среды и материального опыта. Можно как угодно перетасовывать «я хочу» и «я вынужден», и «мне бы следовало», и «я не дерзну», не получив в результате ни малейшего намека на «должен» и «не должен». И, как и прежде, попытки свести нравственный опыт к чему-то иному всегда содержат в виде предпосылки именно то, что они пытаются объяснить, подобно тому как знаменитый психоаналитик выводит его из доисторического отцеубийства. Если отцеубийство вызвало чувство вины, то значит, люди понимали, что они не должны были этого делать — не понимай они этого, не было бы и никакого чувства вины. Нравственность, подобно запредельному трепету, есть скачок, в результате которого человек выходит за грань всего, что дано ему в фактическом опыте. И у нее есть одна характеристика, которая слишком замечательна, чтобы ускользнуть от внимания. Нравственные уложения, принятые у людей, могут быть различными — хотя, в конечном счете, не так сильно, как часто утверждают, — но все они сходятся в том, что предписывают поведение, которого их приверженцы не придерживаются. Люди, все как один, подлежат осуждению, и не в соответствии с этическими кодексами, которые им чужды, а со своими же собственными, и поэтому все люди чувствуют вину. Вторым элементом религии является чувство не просто нравственного закона, но такого нравственного закона, который одновременно и принят, и нарушен. Такое чувство не является логическим — равно как и алогичным — умозаключением из фактов опыта. Не принеси мы его в опыт, мы не могли бы его там обнаружить. Либо это необъяснимая иллюзия, либо — откровение.
Моральный опыт и запредельный опыт настолько далеки от идентичности, что в течение долгого времени они могут сосуществовать без взаимного контакта. Во многих формах язычества почитание богов и этические диспуты философов имеют очень мало общего друг с другом. Третья стадия (элемент) религиозного развития возникает тогда, когда человек их отождествляет — когда Запредельная Сила, вселяющая в него трепет, становится стражем нравственности, перед которой у него есть обязательства. Это тоже может показаться вам вполне «естественным». Что может быть естественнее для дикаря, некогда одолеваемого трепетом и угрызениями, чем прийти к мысли, что сила, повергающая его в трепет, есть также и власть, осуждающая его вину? И действительно, это для человечества вполне естественно. Но — никоим образом не очевидно. Истинное поведение вселенной, в которой обитает запредельное, ни в какой мере не похоже на поведение, требуемое от нас нравственностью. Первое кажется расточительным, беспощадным и несправедливым, второе предписывает противоположные качества. Отождествление этих категорий не объяснишь и исполнением желаний, ибо ничьих желаний оно не исполняет. Мы ничего не желаем менее, чем вооружить закон, чья прямая власть и без того непереносима, неисчислимыми притязаниями запредельного. Из всех скачков, совершаемых человечеством в его религиозной истории, это наверняка самый поразительный. Поэтому неудивительно, что многие человеческие сообщества от него отказались — неморальная религия и нерелигиозная мораль существовали и все еще продолжают существовать. Возможно, что с полной решимостью на этот шаг пошел, как единое целое, лишь один народ — я имею в виду евреев, — но везде и во все времена были выдающиеся люди, которые его делали, и лишь сделавшие этот шаг могут уже не опасаться непристойности и варварства веры, лишенной морали, или холодного и печального фарисейства голого морализма. Если судить этот шаг по его плодам, это шаг к оздоровлению. И хотя логика не подводит нас к нему, противостоять ему очень трудно — даже в язычество и пантеизм всегда прорывается мораль, и даже стоицизм мимовольно преклоняет колена перед Богом. Вновь повторим, это, возможно, лишь безумие, врожденное для человеческого рода и странным образом благополучное в своих результатах, но возможно, что это откровение. А если это откровение, то тогда истинно, что все народы благословятся в Аврааме, ибо евреи первыми со всей полнотой и недвусмысленностью отождествили грозный дух, обитавший на черных вершинах гор и в грозовых тучах, с «праведным Господом», который «любит праведность» (Пс. 10:7).
Четвертый элемент представляет собой историческое событие. Среди евреев родился человек, который, по его словам, и был то самое Нечто, столь жутко обитающее в природе и дающее нравственный закон, — или же сын его, или же «одно с ним». Подобное заявление настолько потрясающе, парадоксально и даже повергает в ужас — хотя можно отнестись к нему с чрезмерной легкостью, — что возможны лишь два взгляда на этого человека. Либо он был сумасшедший, одержимый бредом особо гнусного свойства, либо же Он был, и остается, именно тем, за кого Себя выдавал. Третьего не дано. Если написанное о нем делает первую гипотезу неприемлемой, следует принять вторую. А если так поступить, то все, что утверждают христиане, обретает правдоподобие, — что этот Человек, хотя и был убит, остался в живых, и что Его смерть, каким-то непостижимым для человеческого разумения образом, произвела реальную перемену в наших отношениях с «грозным» и «праведным» Господом, и что перемена эта — в нашу пользу.
Задаваться вопросом, похожа ли наблюдаемая нами вселенная скорее на создание мудрого и доброго Творца, или же на плод случая или злой воли, — значит с самого начала упускать из виду все важнейшие для нас факторы в религиозной проблеме. Христианство — это не завершение философского диспута о происхождении вселенной; это катастрофическое историческое событие, последовавшее за длительной духовной подготовкой человечества, которую я описал. Это не просто система, под которую надо подогнать неудобный факт существования боли — оно само по себе один из тех неудобных фактов, который должен быть прилажен к любой составляемой нами системе. В каком-то смысле оно скорее создает, чем решает, проблему боли, ибо боль не была бы проблемой, если бы, в дополнение к нашему ежедневному опыту в этом причиняющем боль мире, мы не получили бы твердого, на наш взгляд, заверения в том, что абсолютная реальность характеризуется праведностью и любовью.
Я уже более или менее объяснил, почему это заверение кажется мне твердым. Оно не обладает убедительной силой логики. На каждой стадии религиозного развития человек может восставать, хотя и не без ущерба для своей собственной природы, но без абсурда. Он может закрывать глаза своего духа на Запредельное, если только он готов расстаться с великими поэтами и пророками человечества, со своим собственным детством, с богатством и глубиной непредвзятого опыта. Он может рассматривать нравственный закон как иллюзию и оторваться, таким образом, от общей почвы человечества. Он может отказаться от отождествления Запредельного с праведным и остаться варваром, поклоняющимся сексуальности или мертвым, или жизненной силе, или будущему. Но цену он уплатит за это немалую. А когда мы подходим к самому последнему шагу, историческому Воплощению, то получаем наиболее твердое заверение. Это событие странным образом напоминает мифы, населявшие религию с начальных времен, и в то же время оно отлично от них. Оно непроницаемо для рассудка — мы не могли бы сами его придумать. Оно лишено подозрительной априорной ясности пантеизма или ньютоновской физики. Ему присуща кажущаяся произвольность и идиосинкратический характер, с которыми современная паука постепенно учит нас мириться в этой капризной вселенной, где энергия слагается из отдельных непредсказуемых малых количеств, где скорость не может быть беспредельной, где необратимая энтропия придает времени реальное направление, а космос, уже более не статичный и не циклический, движется, подобно драме, от реального начала к реальному концу. И если до нас и донесется когда-либо весть из центра реальности, нам будет естественно обнаружить в ней именно такую неожиданность, такую своенравную, волнующую затейливость, какую мы находим в христианской вере. Ей присущ отпечаток руки мастера — грубый, мужской вкус реальности, не созданной нами, ни даже для нас, но бьющей нас по глазам.
Если на этом основании, или еще на более прочном, мы следуем курсом, на который выведено человечество, и становимся христианами, перед нами встает «проблема» боли.
2. Божье всемогущество
Ничто, подразумевающее противоречие не подпадает под всемогущество бога.
Фома Аквинский
«Если бы Бог был благ. Он желал бы, чтобы Его создания были абсолютно счастливыми, и если бы Бог был всемогущ. Он мог бы сделать то, чего желал. Но Его создания не счастливы. Поэтому Богу недостает либо благости, либо могущества, либо и того, и другого». Такова, в ее простейшей форме, проблема боли. Возможность ее решения требует демонстрации того факта, что слова «благой», «всемогущий», и может быть также слово «счастливый», неоднозначны, — ибо если положить с самого начала, что общепринятое значение, придаваемое этим словам, является наилучшим или единственно возможным значением, то на такой аргумент ответа пет. В этой главе я выскажу кое-какие замечания по поводу идеи всемогущества, а в следующей — по поводу идеи благости.
Всемогущество — это власть делать все. А Писание говорит нам, что «Богу все возможно». Когда спорить с неверующими, обычно слышишь от них, что Бог, если бы Он существовал и был благ, сделал бы то-то и то-то, и если мы заметим, что предлагаемые действия невозможны, то услышим в ответ: «А я думал, что Бог может делать все, что угодно». Таким образом, выдвигается проблема невозможности.
В своем обычном употреблении слово «невозможно» обычно подразумевает неявное придаточное предложение, вводимое союзом «если только не». Так, мне невозможно увидеть улицу с места, где я сейчас сижу и пишу — то есть, улицу невозможно увидеть, если только я не поднимусь на верхний этаж, где я буду достаточно высоко, чтобы взглянуть поверх заслоняющего мне вид здания. Если бы я сломал ногу, я сказал бы: «Но ведь на верхний этаж подняться невозможно» — имея в виду, однако, что это невозможно, если только друзья не отнесут меня туда. Но перейдем к другому уровню невозможности, сказав: «Как бы то ни было, невозможно увидеть улицу, при условии, что я останусь на месте, и мешающее мне здание тоже останется на месте». Кто-то может также добавить: «если только не изменится, по сравнению с нынешней, сама природа пространства или зрения». Я не знаю, что на это ответят лучшие философские и научные умы, но мне придется ответить: «Я не знаю, возможна ли такая природа пространства и зрения, какую вы предлагаете». Ясно при этом, что слово «возможна» подразумевает здесь некую абсолютную возможность или невозможность, которая отличается от относительных возможностей и невозможностей, рассматриваемых нами. Я не могу сказать, можно ли, в этом смысле, заглядывать в невидимое, поскольку не знаю, заключено ли в этом внутреннее противоречие. Но я очень хорошо знаю, что если оно там есть, то это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможное можно также называть внутренне невозможным, потому что оно заключает свою невозможность внутри себя, а не заимствует у других невозможностей, которые, в свою очередь, зависят от третьих. Оно не влечет за собой никакого придаточного предложения с союзом «если не». Оно невозможно при всех условиях, во всех мирах и для всех исполнителей. В число «всех исполнителей» входит и Сам Бог. Его всемогущество означает власть делать все, что внутренне возможно, но не то, что внутренне невозможно. Ему можно приписывать чудеса, но не глупости. Это не полагает границ Его власти. Если вы скажете: «Бог может дать существу, свободную волю, и в то же время лишить его свободы воли», вы фактически ничего не сказали о Боге — бессмысленная комбинация слов не обретет внезапно смысла потому лишь, что вы предпошлете ей два других слова: «Бог может».
По-прежнему остается истинным, что для Бога нет вещей невозможных — внутренние невозможности не есть вещи, а лишь пустые места. Для Бога не более возможно, чем для Его слабейшего создания, осуществить две взаимоисключающие альтернативы — не потому, что Его могущество наталкивается на препятствие, а потому, что чепуха остается чепухой, даже когда мы говорим ее о Боге.
Следует, однако, помнить, что люди в своих рассуждениях нередко допускают ошибки либо потому, что исходят из ложных предпосылок, либо случайно в ходе самого рассуждения. Подобным образом мы можем счесть возможным вещи, которые в действительности невозможны, и наоборот. (Так, например, каждый хороший номер фокусника содержит в себе нечто, что публике с имеющимися у нее данными и с ее способностями к умозаключениям, кажется внутренне противоречивым.) Поэтому мы должны соблюдать большую осторожность в определении внутренних невозможностей, которые не под силу реализовать даже Всемогущему. Нижесказанное следует рассматривать скорее как пример того, каковы они могут быть, чем пример того, что они из себя представляют.
Неотвратимые «законы природы», которые действуют независимо от человеческих страданий и заслуг, которых не отвратить молитвой, на первый взгляд, как кажется, дают веский аргумент против благости и могущества Бога. Я позволю себе утверждать, что даже Всемогущий не может создать сообщества свободных людей, не создав одновременно относительно независимой и «неотвратимой» природы.
Есть причины полагать, что самосознание, узнавание существом своей природы в качестве «себя», неосуществимо, кроме как по контрасту с «другим», с чем-то, что не является «собой». Именно на фоне среды, и предпочтительно социальной среды, состоящей из других сознательных индивидов, мое собственное сознание становится заметнее. Это создало бы трудность с сознанием Бога, будь мы просто теистами, но будучи христианами, мы узнаем из учения о Святой Троице, что в самом Божественном Существе предвечно существует нечто аналогичное обществу, — что Бог есть Любовь, не просто в том смысле, что Он представляет Собой платоновский идеал любви, а потому что в Нем конкретная взаимность любви предшествует всем мирам и от Него передается Его созданиям.
Опять же, свобода создания (живого Существа) предполагает свободу выбора, а выбор предполагает существование вещей, из которых можно выбирать. Создание, лишенное среды обитания, не будет иметь никакого выбора, поэтому свобода, подобно сознанию (если только это не одно и то же), в свою очередь требует присутствия чего-то отличного от самосознающего индивида.
Таким образом, минимальным условием самосознания и свободы будет для создания восприятие Бога и самого себя, как отличного от Бога. Такие создания могли бы существовать, воспринимая Бога и себя самих, но не сродные себе создания. В таком случае их свобода состоит в элементарном выборе: любить Бога больше, чем себя, или себя — больше, чем Бога. Но для нас жизнь, в такой степени сведенная к простейшим компонентам, немыслима. Как только мы пытаемся ввести взаимное восприятие сродных себе созданий, мы сталкиваемся с необходимостью «природы».
Люди часто рассуждают так, словно нет ничего легче, чем «встреча» двух абстрактных умов или восприятие ими друг друга. Но, на мой взгляд, у них нет такой возможности, кроме как в общей среде, представляющей собой их «внешний мир» или окружение. Даже наша туманная попытка вообразить подобную встречу обычно бессознательно подтасовывает по крайней мере идею общего пространства и общего времени, чтобы придать смысл приставке «со?» в слове «сосуществование», а пространство и время — это уже среда обитания. Но этого недостаточно. Если бы ваши мысли и страсти воспринимались мной непосредственно, как мои собственные, без всяких признаков чуждости и инопринадлежности, то как бы я отличил их от своих? И откуда в нас взяться мыслям и страстям без объектов этих мыслей и страстей? Да и вообще, откуда у меня понятие о «внешнем» и «ином», если в моем опыте нет «внешнего мира»? Вы можете ответить, как христианин, что Бог (и дьявол) и впрямь влияет на мое сознание непосредственно, без всяких признаков «внешнего». Да — и в результате большинство людей не имеют о них понятия. Мы вправе, поэтому, предположить, что если бы души людей влияли друг на друга непосредственно и нематериально, то для них вера в существование других была бы редким триумфом веры и проницательности. При таких условиях мне было бы труднее составить мнение о своем соседе, чем сейчас — о Боге, ибо сейчас в признании влияния на меня Бога мне помогают вещи, достигающие меня через внешний мир, такие как церковная традиция, Священное Писание и беседа религиозных друзей. У нас есть именно то, что необходимо для человеческого общества — нечто нейтральное, не вы и не я, чем мы оба можем манипулировать, чтобы делать друг другу знаки. Я могу говорить с вами, потому что оба мы можем посылать звуковые волны в окружающем нас обычном воздухе. Материя, разъединяющая души, также сводит их воедино. Она позволяет каждому из нас иметь свое «снаружи», равно как и «внутри», и то, что для вас есть акт воли и мысли, доходит до моего слуха и зрения; вы имеете возможность не только быть, но и являться, и поэтому я имею удовольствие познакомиться с вами.
Таким образом, общество предполагает общее поле, или «мир», в котором встречаются друг с другом его члены. Если, как обычно верят христиане, существует ангельское общество, то ангелы тоже должны иметь такой мир и поле, нечто такое, что для них равносильно «материи» (в современном, а не в схоластическом, смысле).
Но для того, чтобы материя служила нейтральным полем, она должна иметь свою собственную фиксированную природу. Если бы «мир», или материальная система, имел лишь одного обитателя, он мог бы каждое мгновение меняться в соответствии с его желаниями — «деревья в тень столпятся для него». Но попади вы в мир, который таким образом меняется по каждому капризу, вы бы совершенно не могли действовать в нем и, таким образом, перестали бы располагать вашей свободной волей. Непохоже также, что вы сумели бы известить меня о своем присутствии — вся материя, посредством которой вы пытались бы подавать мне знаки, находилась бы уже под моим контролем, не будучи способной поддаваться вашей манипуляции.
Опять-таки, если материя будет обладать фиксированной природой и подчиняться постоянным законам, не все состояния материи будут одинаково созвучны желаниям данной души, и не все — одинаково благоприятны для конкретного материального агрегата, который она именует телом. Хотя огонь на известном расстоянии приятен телу, при сокращении этого расстояния он его уничтожит. Отсюда, даже в идеальном мире, — необходимость в сигналах опасности, для передачи которых, судя по всему, служат болевые волокна в наших нервах. Значит ли это, что в любом возможном мире неизбежен элемент зла — в форме боли? Не думаю, ибо хотя и справедливо, что малейший грех есть непомерное зло, зло боли зависит от степени, и боль ниже некоторой интенсивности не внушает никакого страха или отвращения. Никто не возражает против процесса: «тепло — очень тепло — слишком горячо — припекает», который принуждает нас отдернуть руку от огня. И, если я могу верить своим собственным ощущениям, некоторая ломота в ногах перед отходом ко сну, после целого дня ходьбы, даже приятна.
И опять же, если фиксированная природа материи возбраняет ей быть всегда и во всех своих проявлениях одинаково приемлемой даже для одной-единственной души, то уж куда менее возможно для материи вселенной в каждый данный момент быть распределенной таким образом, чтобы она была одинаково удобной и приятной для каждого члена общества. Если человек, путешествующий в одном направлении, идет под гору, то идущий в противоположном направлении должен двигаться в гору. Если даже галька лежит там, где мне угодно ее видеть, она не может, кроме как по совпадению, лежать там, где хотите вы. И в этом обстоятельстве нет никакого зла — напротив, оно дает повод для многообразных проявлений вежливости, уважения и бескорыстия, в которых находят свое выражение любовь, хорошее настроение и скромность. Но оно, конечно же, открывает дорогу великому злу, т. е. конкуренции и вражде. И если души свободны, им нельзя воспрепятствовать в решении проблемы путем конкуренции, а не путем взаимной вежливости. А развив в себе чувство враждебности, они могут затем воспользоваться фиксированной природой материи для нанесения друг другу вреда. Постоянная природа дерева, дающая нам возможность использовать его в качестве балки, позволяет нам также употребить его для удара по голове ближнему. Постоянная природа материи вообще означает, что когда люди сражаются, победа, как правило, достается тому, кто обладает лучшим оружием, искусством и численным преимуществом, пускай справедливость и не на его стороне.
Мы можем, наверное, вообразить себе мир, в котором Бог каждое мгновение исправляет результаты злоупотребления свободной волей со стороны Его созданий, так что деревянная балка становится мягкой, как трава, когда ее употребляют в качестве оружия, а воздух отказывается мне повиноваться, если я пытаюсь пустить в нем звуковые волны, несущие ложь и поношение. Но тогда это будет мир, в котором неправильные поступки невозможны, и в котором, поэтому, свобода воли ничего не будет значить — более того, если довести этот принцип до логического предела, невозможными станут и злые помыслы, ибо мозговое вещество, которым мы пользуемся при мышлении, отказало бы нам в их формировании. Вся материя вблизи дурного человека была бы подвержена непредсказуемым переменам. Тот факт, что Бог может менять поведение материи, а подчас и делает это, производя то, что мы именуем чудесами, составляет часть христианской веры, но сама концепция общего, а, следовательно, стабильного мира требует, чтобы подобные вещи случались исключительно редко. Играя в шахматы, вы можете пойти на некоторую произвольную уступку своему противнику, которая будет относиться к обычным правилам игры, как чудеса относятся к законам природы. Вы можете убрать у себя ладью или позволить партнеру изменить неудачный ход. Но если вы будете уступать во всем, что ему в любой момент угодно — если бы ему было позволено менять любой ход, а ваши фигуры исчезали бы, когда ему не нравится их положение на доске, то никакая игра не была бы возможной. Таким же образом дело обстоит и с жизнью душ в этом мире: фиксированные законы, результаты, к которым ведет причинная необходимость, весь природный порядок представляют собой пределы, в которые заключена совместная жизнь, а также единственное условие, в которых такая жизнь возможна. Попытайтесь исключить возможность страдания, требуемого естественным порядком и существованием свободной воли, и вы обнаружите, что исключили саму жизнь.
Как я уже отметил, это повествование о внутренних необходимостях в мире имеет целью лишь дать образец того, что они могут собой представлять. Знать, каковы они на самом деле, под силу лишь Всеведущему, располагающему информацией и мудростью, но вряд ли они менее сложны, чем я полагаю. Излишне говорить, что «сложность» существует лишь в человеческом понимании — мы не представляем себе, чтобы Бог аргументировал, подобно нам, от цели (сосуществование свободных духов) к связанным с ней условиям, но имеем в виду единый, совершенно самодостаточный акт творения, кажущийся нам, на первый взгляд, сотворением многих независимых вещей, а затем — сотворением вещей взаимно необходимых. Даже мы в состоянии слегка возвыситься над концепцией взаимных необходимостей в том виде, в каком я ее здесь обрисовал — мы можем свести материю как фактор разрознения душ и материю как фактор их сведения воедино в единой концепции Множественности, так что «разрозненность» и «единство» будут лишь двумя ее аспектами. По мере продвижения вперед нашей мысли все более очевидными становятся единство акта творения и невозможность перестройки творения таким образом, словно тот или иной его элемент вполне устраним. Вероятно, что это не «лучшая из всех возможных» вселенных, а единственно возможная. Возможные миры могут быть лишь мирами, «которые Бог мог бы сотворить, но не сотворил». Идея о том, что «мог бы» сделать Бог, содержит слишком антропоморфную концепцию Бога. Что бы ни значила человеческая свобода. Божественная свобода не может означать неопределенности альтернативных решений и выбора одного из них. Совершенная доброта не допускает спора о цели, которой необходимо достигнуть, а совершенная мудрость несовместима со спором о средствах, наиболее подходящих для ее достижения. Свобода Бога состоит в том факте, что никакая причина, помимо Него Самого, не лежит в основе Его актов, и никакое внешнее препятствие им не противостоит — что Его собственная благость есть корень, из которого они все произрастают, а Его собственное всемогущество — воздух, в котором все они цветут.
Таким образом, мы подходим к нашему следующему предмету — Божественной благости. Пока что об этом ничего не было сказано, равно как не было предпринято никакой попытки ответить на возражение, что если вселенная должна с самого начала допустить возможность страдания, то абсолютная благость воздержалась бы от создания вселенной. И я должен предупредить читателя, что я не потщусь доказывать, что создать было правильнее, чем не создавать — я не знаю человеческих весов, на которых можно было бы взвесить столь необыкновенный вопрос. Можно провести какое-то сравнение между одним состоянием бытия и другим, но попытка сравнить бытие с небытием завершается пустыми словами. «Лучше бы мне вообще не существовать» — но в каком смысле «мне»? Каким образом я, если я не существую, выигрываю от несуществования? Наше намерение куда проще, оно заключается лишь в том, чтобы, видя перед собой страдающий мир и имея заверение, на совсем ином основании, что Бог благ, составить себе понятие об этой благости и в этом страдании, не содержащее противоречия.
3. Божественная благость
Любовь может терпеть, и Любовь может прощать, но Любовь никогда не примирится с недостойным любви предметом… Бог, Который есть Любовь, никогда поэтому не примирится с вашим грехом, ибо сам по себе грех не способен к перемене, но Он может примириться с вашей личностью, потому что ее можно возродить.
Трэерн «Столетия медитации».
Любое рассмотрение благости Бога тотчас же угрожает нам следующей дилеммой.
С одной стороны, если Бог мудрее нас, Его суждения должны во многих вопросах отличаться от наших, и не в последнюю очередь в вопросе добра и зла. Поэтому то, что кажется нам благом, может не быть благом в Его глазах, а кажущееся нам злом может и не оказаться злом.
С другой стороны, если нравственные суждения Бога отличаются от наших настолько, что наше «черное» может быть для Него «белым», мы ничего не можем иметь в виду, говоря о Его благости, ибо сказать «Бог благ», утверждая одновременно, что Его благость есть нечто совершенно иное, чем наша, значит сказать всего лишь: «Мы не знаем, каков Бог». А наличие у Бога совершенно неведомого качества не может дать нам нравственного основания для любви и повиновения. Если Он не «благ» (в нашем смысле этого слова), мы будем повиноваться, если будем вообще, лишь из страха, и с тем же успехом повиновались бы всемогущему дьяволу. Таким образом, учение о полной греховности, приводящее к заключению, что, коль скоро мы полностью греховны, наша идея добра попросту ничего не стоит, может превратить христианство в форму дьяволопоклонства.
Избежать этой дилеммы можно с помощью наблюдения за тем, что происходит в человеческих отношениях, когда человек невысоких нравственных устоев попадает в общество людей лучше и мудрее его, и постепенно перенимает их устои — этот процесс, кстати говоря, я могу описать довольно точно, поскольку сам ему подвергся. Когда я впервые пришел в университет, я был настолько лишен морали и совести, насколько это возможно для подростка. В лучшем случае я чувствовал слабое отвращение к жестокости и к жадности — что же до целомудрия, правдивости и самопожертвования, то я относился к ним, как павиан относится к классической музыке. По милости Бога я попал в компанию молодых людей (ни один из них, кстати сказать, не был христианином), которые были достаточно близки мне по уму и воображению для установления немедленной близости, но которые знали о нравственном законе и пытались ему повиноваться. Таким образом, их понятия о добре и зле отличались от моих. То, что происходит в подобном случае, вовсе не похоже на ситуацию когда вас просят относиться как к «белому» к тому, что доселе именовалось черным. Новые нравственные суждения никогда не входят в сознание в качестве простых противоположностей прежних суждений, хотя и являются таковыми, но как хозяева, прихода которых ожидают. У вас не возникает сомнений относительно того, в какую сторону вы движетесь, они больше похожи на добро, чем те крохи добра, которые у вас уже есть, но в определенном смысле с ними неразрывны. Но великое испытание заключается в том, что принятие новых устоев сопровождается чувством стыда и вины, человек чувствует, что он попал в общество, где ему не место. Именно в свете подобных чувств и следует рассматривать благость Бога. Не подлежит никакому сомнению, что Его идея благости отличается от нашей, но вы можете не бояться, что, по мере приближения к ней, вас попросят попросту сменить нравственные устои на противоположные. Когда вы осознаете значимую разницу между Божественной моралью и вашей собственной, у вас не возникнет никакого сомнения, что требуемая от вас перемена направлена в сторону того, что вы уже называете «улучшением». Божественная «благость» отличается от нашей, но не радикально — она отличается от нашей не так, как белое от черного, а как совершенная окружность — от первой попытки ребенка нарисовать колесо. Научившись рисовать, ребенок будет сознавать, что окружность, которую он теперь изображает, есть именно то, что он пытался изобразить с самого начала.
Это учение подразумевается в Писании. Христос призывает людей к покаянию — этот призыв был бы бессмысленным, будь нравственные устои Бога резко отличными от тех, которые им уже известны, и которых они не в состоянии придерживаться. Он аппелирует к нашей нынешней нравственности:
«Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?»
(Лк 12:57). Бог в Ветхом Завете корит людей на основе их собственных понятий о благодарности, верности и справедливости и выносит Себя, так сказать, на суд Своих собственных созданий:
«Какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня?»
(Иер. 2:5).
После этих предварительных замечаний будет, на мой взгляд, уместно сказать, что иные из концепций Божественной благости, занимающие немалое место в наших мыслях, хотя и редко высказываемые вслух, не застрахованы от критики.
Под благостью Бога мы в наше время подразумеваем почти исключительно Его любвеобилие, и в этом мы, возможно, нравы. И под Любовью, в этом контексте, большинство из нас подразумевает доброту — желание видеть ближнего счастливым, и не то чтобы каким-то особым счастьем, а просто счастливым. По-настоящему нас удовлетворил бы Бог, Который говорил бы обо всем, что нам нравится делать: «Ну и что с того, раз они довольны?» Нам, по сути, нужен не столько Отец Небесный, сколько небесный дедушка — этакий благожелательный и расслабленный старичок, который, как говорится, «любит смотреть, как веселится молодежь», и чей план вселенной состоит просто в том, чтобы можно было искренне сказать в конце каждого дня, что «все погуляли на славу». Согласен — немногие сформулируют богословие именно в таких терминах, но весьма сходное понятие таится в уме у многих. Я не претендую на то, чтобы быть исключением — я бы очень хотел жить во вселенной, управляемой в соответствии с этими принципами. Но поскольку достаточно-таки ясно, что я не живу в такой вселенной, и поскольку у меня, тем не менее, есть основания полагать, что Бог есть Любовь, я прихожу к заключению, что мое понятие о любви нуждается в поправке.
К тому же я, возможно, уже слышал, даже от поэтов, что любовь — это нечто более суровое и прекрасное, чем просто доброта, что даже любовь между полами — это, как у Данте, «жена, чей лик вселяет трепет». В любви есть доброта, нелюбовь и доброта не одноименны, и когда доброта (в приведенном выше смысле) отделена от других элементов любви, в ней присутствует некоторое фундаментальное безразличие к ее предмету, и даже нечто вроде презрения к нему. Доброта очень охотно соглашается на устранение своего предмета — нам всем встречались люди, чья доброта к животным постоянно вынуждает их убивать животных, чтобы они не страдали. Доброта как таковая не беспокоится о том, хорошим или плохим становится ее предмет, коль скоро он избежал страдания. Как отмечается в Писании, балуют, как правило, незаконных детей, — законных же, которым надлежит хранить семейные традиции, подвергают наказаниям (Евр. 12:8). Именно для людей, чья судьба нас совершенно не волнует, мы требуем счастья на любых условиях;
что же касается наших друзей, возлюбленных и детей, то тут мы требовательны, и скорее примиримся с немалыми их страданиями, чем с таким счастьем, которое нам чуждо и которое мы презираем. Если Бог есть Любовь, то Он, по определению, есть нечто большее, чем доброта. И судя по всему, что об этом написано. Он часто упрекал и осуждал нас, но никогда не относился к нам с презрением. Он продемонстрировал уважение к нам Своей любовью, в ее самом глубоком, самом трагическом и самом неизбежном смысле.
Разумеется, отношение между Творцом и тварью уникально, и ему нет параллели в отношении одной твари к другой. Бог одновременно дальше от нас и ближе к нам, чем любое другое существо. Он дальше от нас, потому что сама разница между тем, кто имеет первооснову Своего бытия в Самом Себе и тем, кому эту первооснову нужно придать, такова, что в сравнении с ней разница между архангелом и червем незначительна. Он создатель, а мы — создание. Он оригинал, а мы — производное. Но в то же время и по той же причине близость между Богом и злейшей из тварей теснее, чем любая близость между двумя тварями. Наша жизнь каждое мгновение поступает к нам от Него, наша крошечная и чудом существующая сила свободной воли действует лишь на тела, бытие которых поддерживается постоянным притоком Его энергии — самая наша способность мыслить есть Его сила, сообщенная нам. Подобные уникальные взаимоотношения можно изъяснить лишь апологиями: от разных типов любви, существующих между тварями, мы восходим к неадекватной, по полезной концепции любви Бога к человеку.
Самый низкий тип, к которому слово «любовь» применимо лишь в расширительном смысле, есть чувство, питаемое художником к своему произведению. Отношение Бога к человеку описано в этих терминах в видении Иеремии о горшечнике и глине, или в том месте, где Петр говорит обо всей церкви как о здании, над которым работает Бог, а о ее индивидуальных членах – как о камнях. Ограниченность подобной аналогии состоит, конечно же, в том, что в символическом изображении объект действия лишен сознания, и что в связи с этим некоторые вопросы справедливости и милосердия, возникающие в том случае, если «камни» и впрямь «живы», аналогией не отражаются. Но при всем при том это довольно важная аналогия. Ведь мы, не метафорически, а по самой истине, представляем собой Божественное произведение искусства, нечто создаваемое Богом, и поэтому нечто, чем Он не будет удовлетворен, пока оно не приобретет определенные черты. Здесь мы вновь наталкиваемся на то, что я именую «невыносимым комплиментом». Художник не будет вкладывать особые усилия в эскиз, лениво набросанный на потеху ребенку, — он может махнуть на него рукой, даже если он и не вполне удался. Но над величайшей картиной всей своей жизни, над произведением, которое он, хотя и по-иному, любит так же сильно, как мужчина любит женщину или мать — ребенка, он будет трудиться без конца и, несомненно, обладай она сознанием, он причинил бы ей этим бесконечное беспокойство. Можно вообразить себе, как обладающая сознанием картина, после того, как ее растирали, скребли и начинали сначала в десятый раз, мечтает о том, чтобы быть попросту грубым наброском, на исполнение которого уходит минута. Подобным же образом, для нас естественно сетовать на то, что Бог не создал нас для менее славной и подвижнической судьбы, но в таком случае мы желаем не большей любви, а меньшей.
Другой тип любви — это любовь человека к животному, отношение, часто употребляемое в Писании в качестве символа отношений между Богом и людьми: «Мы — Его народ и овцы Его пастбища». Эта аналогия в некоторых отношениях лучше предыдущей, поскольку низший партнер обладает чувствами, и в то же время неоспоримо является низшим; но она не так уж хороша в том отношении, что человек не сотворил животное и не вполне его понимает. Ее большое достоинство состоит в том, что общение между, скажем, человеком и собакой существует в интересах человека: он приручает собаку в первую очередь затем, чтобы любить ее, а не чтобы она любила его, и чтобы она могла служить ему, но не чтобы он мог служить ей. И в то же время интересы собаки не приносятся в жертву интересам человека. Главной цели (чтобы он ее любил) нельзя полностью достичь без того, чтобы ока также, на свой манер, не любила его, и она не может служить ему, если он по-своему не служит ей. При этом, потому лишь, что собака по людским стандартам — одно из «лучших» неразумных существ и подходящий предмет для человеческой любви (конечно же, любви в той степени и того рода, какие соответствуют такому предмету, без дурацких антропоморфистских преувеличений), человек накладывает свой отпечаток на собаку и делает ее более достойной любви, чем она была в своем природном состоянии. В этом состоянии она обладает запахом и повадками, непереносимыми для человеческой любви. Человек же моет ее, учит ходить на двор, учит не воровать, и таким образом получает возможность любить ее безоговорочно. Будь щенок богословом, вся эта процедура породила бы в нем серьезные сомнения относительно «благости» человека. Но взрослая и полностью обученная собака, будучи крупнее, здоровее и долговечнее дикой собаки, и допущенная, как бы по благодати, в целый мир взаимных чувств, привязанностей, интересов и удобств, совершенно не присущих участи животного, не будет иметь подобных сомнений. Могут заметить, что человек (я все время имею в виду хорошего человека) берет на себя весь этот труд по отношению к собаке и задает весь этот труд собаке лишь потому, что это животное высокоразвитое — потому, что оно почти достойно любви, и ему имеет смысл сделать его полностью достойным любви. Он не учит ходить на двор уховертку и не устраивает купания сороконожке. Мы и впрямь могли бы пожелать иметь столь малое значение для Бога, чтобы Он оставил нас в покое, следовать нашим природным позывам — чтобы Он перестал пытаться выдрессировать нас в нечто отличное от нашего естества; но вновь мы просим не о большей любви, а о меньшей.
Куда благороднее санкционированная учением нашего Господа аналогия между любовью Бога к человеку и любовью отца к сыну. Но во всех случаях, когда она употребляется (то есть, во всех случаях, когда мы молимся молитвой Господней), следует помнить, что Спаситель употреблял ее в такие времена (и в таком месте), когда (и где) отцовский авторитет был куда выше, чем в современной Англии. Отец, который чуть ли не извиняется за то, что дал миру своего сына, боящийся урезонить его, чтобы не породить в нем комплекса торможения, или даже наставить его, чтобы не помешать независимости его мышления — это совершенно неподходящий символ для Божественного Отцовства. Я не рассуждаю здесь о том, был ли авторитет отца, как он практиковался в древности, хорош или плох — я лишь объясняю, что могла значить идея Отцовства для первых слушателей нашего Господа, да и для их потомков в течение многих столетий. И это станет еще яснее, когда мы посмотрим, каким нашему Господу (хотя, по нашей вере, и единому с Отцом и совечному Ему, чего не бывает с земными сыновьями земных отцов) видится его собственная Сыновность: Он полностью подчиняет Свою волю Отцовской и даже не позволяет называть Себя «благим», потому что Благой — имя Отца! В этом символе любовь между отцом и сыном обозначает, в общих чертах, авторитарную любовь с одной стороны и любовь-повиновение — с другой. Отец пользуется своим авторитетом для того, чтобы сделать из сына такого человека, каким он, по праву, в своей превосходящей мудрости, хочет его видеть. Даже и в наши дни, хотя человек и может сказать: «Я люблю своего сына, и по мне — будь он хоть последний негодяй, лишь бы ему было хорошо» — он не может вложить в это никакого смысла.
И, наконец, мы подходим к аналогии, полной риска, и куда более узко применимой, которая, тем не менее, наиболее полезна для нашей нынешней особой цели — я имею в виду аналогию между любовью Бога к человеку и любовью мужчины к женщине. Она сплошь и рядом встречается в Писании. Израиль — неверная жена, но ее небесный Муж не может забыть более счастливых дней:
«Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню»
(Иер. 2:2). Израиль — нищая невеста, беспризорная, которую ее возлюбленный нашел покинутой при дороге, разодел, изукрасил, и она, тем не менее, изменила Ему (Иез. 16:6-15). «Прелюбодейцы», называет нас Иаков, потому что мы отвлекаемся «дружбой с миром», тогда как Бог
«до ревности любит дух, поселенный Им в нас»
(Иак. 4:4-5). Церковь — Господняя невеста, которую Он так любит, что в ней не должно быть ни пятна, ни порока (Ефес. 5:27). Ибо истина, которую подчеркивает эта аналогия, заключается в том, что любовь, по своей природе, требует совершенствования своего предмета, что простая доброта, терпящая в своем предмете все, кроме страдания, представляет собой в этом отношении полярную противоположность любви. Когда мы влюбляемся в женщину, разве мы перестаем обращать внимание на то, чиста она или грязна, хороша собой или неприглядна? И какая женщина сочтет признаком любви в мужчине то, что он не знает, и не обращает внимания, как она выглядит? Любовь воистину может любить свой предмет, когда красота его утрачена, — но не потому, что она утрачена. Любовь еще чувствительнее, чем сама ненависть, к любому пороку своего предмета; ее «чувства мягче и ранимей нежнейших рожек улитки». Как ничто иное, она прощает очень многое, но очень немногому потворствует; она довольствуется немногим, но требует всего.
Когда христианство говорит о том, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог именно любит, а не то, что Он проявляет некую «беспристрастную», а в действительности безразличную, заботу о нашем благополучии — повергающая в трепет и удивительная правда заключается в том, что мы являемся предметом Его любви. Вы просили любящего Бога — так вот же Он. Великий дух, столь легкомысленно вами упоминавшийся, «чей лик вселяет трепет», — существует, и это не старческое благожелательство, сквозь дремоту позволяющее вам счастье по вашему выбору, не холодная филантропия старательного должностного лица, не забота хозяина, чувствующего ответственность за удобство гостей, но Сам, всепожирающий огонь, Любовь, создавшая миры, настойчивая, как любовь художника к своей работе, деспотическая, как любовь человека к собаке, предусмотрительная и освященная, как любовь отца к ребенку, ревнивая, неумолимая, требовательная, как любовь между полами. Я не знаю, каким образом такое возможно, это превосходит всякое разумение: каким образом любые создания, тем паче такие, как мы, могут иметь столь великую цену в глазах их Создателя. Несомненно, что такое бремя славы не только нам не по заслугам, но, за исключением редких мгновений благодати, не по желаниям — подобно девам в древней пьесе мы склонны протестовать против любви Зевса. Но, по-видимому, этот факт не подлежит сомнению. Лежащее превыше страстей говорит, словно бы претерпевая страсти, и содержащее в себе причины своего собственного и всякого иного блаженства говорит, как бы чувствуя жажду и стремление:
«Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? Не любимое ли дитя? Ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него»
(Иер. 31:20).
«Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во Мне сердце Мое»
(Ос. 11:8).
«Иерусалим, Иерусалим,.. сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели»
(Матф. 23:37).
Проблема примирения человеческого страдания с существованием любящего Бога неразрешима лишь постольку, поскольку мы придаем слову «любовь» тривиальное значение и смотрим на вещи так, словно человек является их центром. Но человек не является центром. Бог существует не ради человека. Человек не существует ради себя самого.
«Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено»
(Отк. 4:11). Мы не были созданы в первую очередь для того, чтобы мы могли любить Бога (хотя и для этого тоже), но чтобы Бог мог любить нас, чтобы мы могли стать предметами, в которых Божественная любовь имела бы «благоволение». Просить о том, чтобы Божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, — все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом: поскольку Он есть то, что Он есть. Его любовь, по природе вещей, должна ужасаться иных позорных пятен на нашем нынешнем характере, и поскольку Он уже любит нас. Он должен прилагать усилия, чтобы сделать нас достойными любви. Мы не можем даже пожелать, чтобы Он примирился с нашими нынешними недостатками, как не может нищая дева желать, чтобы король Кофетуа довольствовался ее лохмотьями и грязью, или собака, раз выучившись любить человека, не может желать, чтобы человек терпел в своем доме лязгающее зубами, кишащее паразитами и марающее пол существо из дикой стаи. То, что мы здесь и сейчас склонны называть своим «счастьем», это вовсе не цель, которую преимущественно имеет в виду Бог. Но когда мы станем такими, каких Он сможет любить беспрепятственно, тогда мы и впрямь будем счастливы.
Легко предвижу, что ход моих рассуждений может вызвать протест. Я обещал, что в попытке понять Божественную благость нам не придется попросту выворачивать наизнанку нашу собственную мораль. Но мне могут возразить, что нам здесь предлагается именно такое выворачивание наизнанку. Могут сказать, что любовь, которую я приписываю Богу, именно того рода, какую в людях мы называем «эгоистической» или «собственнической», и которая проигрывает в сравнении с любовью иного рода, стремящейся прежде всего к счастью возлюбленного, а не к удовлетворению любящего. Я не уверен, что я приложил бы эту мерку даже к человеческой любви. По-моему, мне не следовало бы особенно ценить любовь друга, который заботился бы только о моем счастье, и не обращал внимания, если бы я стал поступать бесчестно. Тем не менее, я принимаю выдвинутый протест, и ответ на него должен пролить новый свет на наш предмет и исправить кое-какую односторонность в наших рассуждениях до сего момента.
Говоря по правде, антитезис между эгоистической и альтруистической любовью нельзя четко приложить к любви Бога к Его созданиям. Столкновения интересов, а стало быть и возможности проявить либо эгоизм, либо альтруизм, случаются лишь между существами, обитающими в обычном мире — Бог соревнуется с тварью не более, чем Шекспир соревновался бы с Виолой. Когда Бог становится Человеком и живет в образе твари среди Своих собственных тварей в Палестине, тогда воистину Его жизнь становится величайшим самопожертвованием и ведет на Голгофу. Современный философ-пантеист сказал: «Когда Абсолют падает в море, он становится рыбой»; аналогичным образом мы, христиане, можем указать на Воплощение и сказать, что, когда Бог лишает Себя Своей славы и подчиняется условиям, при которых — и только при которых — эгоизм и альтруизм получают четкое значение, Он воспринимается как полный альтруист. Но о Боге и Его трансцендентности — о Боге, как безусловном основании для всех условий — трудно думать в таких категориях. Мы именуем человеческую любовь эгоистичной, когда она удовлетворяет свои собственные нужды за счет нужд своего предмета — когда, например, отец держит дома детей, так как не может лишить себя их общества, тогда как им, в их собственных интересах, следовало бы идти в люди. Такая ситуация предполагает наличие нужды или страсти в любящем, несовместимую с этим нужду со стороны предмета любви, и игнорирование или же вменимое в вину незнание этой нужды любящим. Ни одно из этих условий не присутствует в отношении Бога к человеку. У Бога нет нужд. Человеческая любовь, как учит нас Платон, есть дитя нищеты — отсутствия или нехватки; она порождается реальным или воображаемым благом в возлюбленном, в котором любящий нуждается, или которого он желает. Но любовь Бога не только не порождается наличием блага в своем предмете, но служит причиной всего блага, имеющегося в нем, давая ему прежде всего существование, а затем реальные, хотя и производные, качества, делающие его достойным любви. Бог — средоточие блага. Он может давать благо, но не может нуждаться в нем или получать его. В этом смысле вся Его любовь является, так сказать, бездонно самоотверженной по определению — она все отдает и ничего не получает. Поэтому, если порой Бог говорит так, словно то, что превыше страстей, может быть подвержено страсти, и предвечная полнота может иметь нужду, и при этом нужду в существах, которым она ниспосылает буквально все, начиная с самого их существования, это может лишь значить, если это вообще значит что-либо, доступное нашему разумению, что Бог посредством чуда придал Себе способность иметь такую нужду, и создал в Себе то, что может ее удовлетворить. Если Он имеет потребность в нас, такая потребность есть результат Его собственного выбора. Если не ведающее перемен сердце может быть отягощено куклами его собственного изготовления, то лишь потому, что ничто иное, как Божественное Всемогущество, в смирении, превосходящем разумение, одарило его такой способностью. Если мир существует в основном не затем, чтобы мы могли любить Бога, но чтобы Бог мог любить нас, то и этот факт, на более глубоком уровне, предполагает нашу пользу. Если Тот, Кто внутри Себя ни в чем не имеет недостатка, соизволяет нуждаться в нас, то это потому, что мы нуждаемся в том, чтобы в нас нуждались. Впереди и позади всех отношений Бога с человеком, какими мы узнаем их теперь из христианства, разверзается пропасть Божественного акта чистого даяния — избрания человека из небытия быть возлюбленным Бога, и поэтому, в некотором смысле, объектом нужды и желания для Бога, Который, за пределами этого акта, не имеет нужд и желаний, поскольку Он от вечности владеет всеми благами и Сам есть всяческое благо. И этот акт преследует нашу пользу. Знакомство с любовью — благо для нас, а в особенности с любовью наилучшего объекта. Бога. Но быть знакомым с ней как с любовью, в которой мы в первую очередь ухаживающая сторона, а Бог — ухаживаемая, в которой мы искали, а Он был найден, в которой на первом месте стоит Его соответствие нашим нуждам, а не наоборот, — значит быть знакомым с ней в форме, ложной по самой природе вещей. Ибо мы — всего лишь твари, наша роль всегда должна быть – ролью предмета действия по отношению к его агенту, женским началом по отношению к мужскому, зеркалом — к свету, эхом — к голосу. Нашей высочайшей деятельностью должен быть ответ, а не инициатива. Поэтому, испытать любовь Богу в ее истинной, а не иллюзорной форме, — значит испытать ее как нашу полную уступку Его требованию, наше согласие с Его желанием. Испытать же ее противоположным образом — это, так сказать, солецизм против грамматики бытия. Я, конечно, не отрицаю, что на определенном уровне мы вправе говорить о душе, ищущей Бога, и о Боге, как адресате любви такой души, но, в конечном счете, душа в поисках Бога — это лишь внешний образ поисков души Богом, поскольку все исходит от Него, поскольку самая возможность нашей любви — это Его дар нам, и поскольку наша свобода — это лишь свобода лучшего или худшего ответа. Поэтому, на мой взгляд, ничто так резко не противопоставляет языческий теизм христианству, как учение Аристотеля о том, что Бог движет вселенной, будучи Сам неподвижным, подобно тому, как предмет любви движет любовником (Метафизика). Но для христиан
«в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас»
(Иоан. 4:10).
Таким образом, первое условие того, что у людей именуется эгоистической любовью, у Бога отсутствует. У Него нет естественных нужд, нет страсти, которая соперничала бы с Его желанием благополучия для предмета любви. А если даже в Нем и есть нечто, что мы должны воображать себе по аналогии со страстью, с нуждой, то оно существует по Его воле и ради нас. Отсутствует также и второе условие. Реальные интересы ребенка могут отличаться от того, чего инстинктивно требует отцовская любовь, поскольку ребенок — создание отдельное от отца, с природой, которая имеет свои собственные нужды и не существует единственно ради отца, равно как и не достигает своего полного совершенства в его любви, и которая не до конца понятна отцу. Но тварь не отделена подобным образом от Творца, и Он не может ложно ее понять. Место, предусмотренное Им для Своих созданий во всеобщем плане вещей — это и есть место, для которого они созданы. Когда они достигают этого места, их природа обретает полноту и они обретают свое счастье: перелом во вселенной выпрямляется, и тревогам приходит конец. Когда мы хотим быть чем-то иным, а не тем, чем нас хочет видеть Бог, мы хотим того, что не приведет нас к счастью. Те Божественные требования, которые воспринимаются нашим естественным слухом скорее как требования деспота, чем как требования любящего, на самом деле направляет нас туда, куда нам следовало бы желать направляться, знай мы, чего мы хотим. Он требует, чтобы мы чтили Его, чтобы мы повиновались Ему, чтобы мы простирались перед Ним ниц. Полагаем ли мы, что это умножит Его благо, или же опасаемся, подобно хору у Мильтона, что человеческое вмешательство может привести к «умалению Его славы»? Человек так же не в состоянии умалить славу Бога отказом чтить Его, как безумец не может угасить солнца, нацарапав слово «тьма» на стенах своей камеры. Но Бог желает нашего блага, и наше благо состоит в любви к Нему, ответной любви, свойственной твари. А для того, чтобы любить Его, мы должны Его знать, и если мы узнаем Его, мы и впрямь падем ниц. А если мы этого не сделаем, это лишь докажет, что то, что мы пытаемся любить, еще не Бог, хотя это может быть самым точным приближением к Богу, посильным нашей мысли и воображению. Но призыв, адресованный нам, требует не только падения ниц и трепета, но также и размышления о жизни Бога, тварного участия в Божественных атрибутах, намного превосходящего наши нынешние желания. Нас призывают «принять Христа», уподобиться Богу. То есть, нравится нам это или нет. Бог намерен дать нам то, в чем мы нуждаемся, а не то, чего, как нам кажется, мы желаем. Вновь нас повергает в смущение невыносимый комплимент, избыток любви, а не ее недостаток.
Возможно, однако, что даже и такой взгляд не отражает полноты истины. Дело не просто в том, что Бог произвольно создал нас видящими свое единственное благо в Нем. Дело в том, что Бог есть единственное благо всякой твари, и каждый по необходимости должен обретать свое благо в том роде и степени полноты Бога, какие свойственны его природе. Род и степень могут варьироваться в зависимости от природы твари, но мнение о возможности иного блага — атеистическая греза. Джордж Макдоналд, в отрывке, который я не могу сейчас отыскать, пишет, что Бог говорит людям: «Вы должны быть сильны Моей силой и благословенны Моим благословением, ибо нет у Меня иных, чтобы дать вам». Таков окончательный вывод из всего рассуждения. Бог дает то, что у Него есть, а не то, чего у Него нет — Он дает существующее счастье, а не то, которого не существует. Быть Богом, быть подобным Богу и тварным ответом иметь долю в Его благости, и быть несчастным — таковы три единственные альтернативы. Если мы не научимся есть единственную пищу, производимую вселенной — единственную пищу, которую может производить любая возможная вселенная, — нас ожидает вечный голод.
4. Человеческое зло
Нет большего признака закоренелой гордыни, чем когда чувствуешь, что достиг достаточного смирения.
У. Ло. «Серьезное призвание»
Примеры, приведенные в предыдущей главе, показывают, что любовь может причинять боль своему предмету, но лишь в том случае, когда этот предмет нуждается в изменении, чтобы стать полностью достойным любви. Почему же мы, люди, нуждаемся в таких значительных изменениях? Христианский ответ — что мы употребили нашу свободную волю на то, чтобы стать очень плохими – настолько известен, что едва ли нуждается в повторении. Но приблизить это учение к реальной жизни в умах современных людей, и даже современных христиан, очень трудно. Когда проповедовали апостолы, они могли предполагать даже в своих слушателях-язычниках реальное сознание заслуженности Божьего гнева. Для успокоения этого сознания существовали языческие мистерии, а эпикурейская философия претендовала на освобождение людей от страха вечного наказания. Именно на этом фоне Евангелие явилось доброй вестью. Оно принесло весть о возможности исцеления людям, которые знали, что они смертельно больны. Но все это переменилось. Теперь христианству приходится проповедовать диагноз, который сам по себе весть довольно плохая, с тем, чтобы быть выслушанным относительно лечения.
Этому есть две основных причины. Одну из них составляет факт, что на протяжении примерно сотни лет мы настолько сосредоточились на одной из добродетелей — «доброте», или милосердии, — что большинство из нас не считает по-настоящему благом ничего, кроме доброты, а реальным злом — ничего, кроме жестокости. Подобные односторонние нравственные эволюции не являются чем-то необычным, и другие эпохи также имели свои излюбленные добродетели и случаи любопытной нравственной слепоты. А уж если культивировать одну добродетель за счет остальных, то не найти кандидата лучше милосердия — ибо всякий христианин должен с отвращением отринуть скрытую пропаганду жестокости, которая пытается сжить милосердие со свету, давая ему название вроде «гуманности» или «сентиментальности». Настоящая беда заключена в том, что «доброта» — это качество, которое с опасной легкостью можно приписать себе на совершенно недостаточных основаниях. Каждый человек чувствует благоволение, если в этот момент его ничто не раздражает. Таким образом, человек находит себе утешение за все свои прочие пороки в том, что «сердце у него на месте», что он «мухи не обидит», хотя на деле он никогда не сделал ни малейшей жертвы ради ближнего. Мы думаем, что мы добры, когда мы всего лишь счастливы — далеко не так легко, на тех же основаниях, вообразить себя умеренным, целомудренным или смиренным. Вторая причина — влияние психоанализа на общественное сознание, и в особенности учения о подавлении и торможении. Что бы эти учения на самом деле ни значили, они внушают большинству людей идею, что чувство стыда — вещь опасная и вредная. Мы трудимся над преодолением этого чувства самоустранения, этого желания скрыть, которым либо сама природа, либо традиция почти всего человечества сопроводила трусость, развращенность, лживость и завистливость. Нас убеждают «вытащить все на поверхность», не ради самоуничижения, а на том основании, что все это вполне естественно, и стыдиться здесь нечего. Но если только христианство не является полным заблуждением, наше самовосприятие в моменты стыда должно быть единственно верным, и даже языческое общество обычно признавало «бесстыдство» пределом душевного падения. В попытке истребить стыд мы разрушили один из бастионов человеческого духа, безумно ликуя по этому поводу, как ликовали троянцы, когда они разрушили свои стены и втащили деревянного коня в Трою. Я не знаю, что еще можно предпринять, кроме как приняться по возможности скорее все отстраивать. Сущее безумство — бороться с лицемерием путем устранения искушения к лицемерию. Откровенность людей, отвергнувших стыд, — это очень дешевая откровенность.
Для христианства существенно необходимо обретение заново прежнего чувства греха. Христос заранее мирится с тем фактом, что люди плохи. До тех пор, пока мы реально не почувствуем истинность этой Его предпосылки, мы, хотя и принадлежим миру, который Он пришел спасти, не принадлежим к аудитории, которой адресованы Его слова. Мы не располагаем первым условием понимания того, о чем Он говорит. И когда люди пытаются быть христианами без предварительного осознания греха, результатом почти неизбежно будет некоторая неприязнь по отношению к Богу, как к кому-то, кто всегда выдвигает невозможные требования и всегда объят необъяснимым гневом. Большинство из нас временами тайно разделяло чувства умирающего крестьянина, который, в ответ на проповедь священника о покаянии, спросил: «А какой же вред я Ему причинил?» Тут-то и происходит преткновение. Худшее, что мы делаем по отношению к Богу — это оставляем Его в покое; почему бы и Ему не отплатить нам той же монетой? Почему не дать нам жить? Ему-то — с чего «гневаться»? Ведь Ему так легко быть благим!
Но в минуты, когда человек чувствует настоящую вину — минуты, которые слишком редки в нашей жизни, — все эти кощунства рассыпаются в прах. Многое, чувствуем мы, можно списать на человеческие слабости, но только не это — этот невероятно гадкий и мерзкий поступок, какого не совершил бы никто из наших друзей, которого устыдился бы даже такой отпетый негодяй, как Икс, который мы ни за что в мире не хотели бы сделать достоянием гласности. В такие минуты мы действительно сознаем, что наш характер, демонстрируемый этим поступком, представляет собой, и должен представлять, предмет отвращения для всех праведных людей, а если есть сила, которая выше людей, то и для нее. Бог, в котором это не вызывает отвращения, не может быть благим. Мы не можем даже желать существования такого Бога — это было бы все равно, что желать устранения каждого носа во вселенной, чтобы запах сена, роз или моря никогда больше никого не восхищал, потому что, видите ли, у нас изо рта плохо пахнет.
Когда мы просто-напросто говорим, что мы плохи, Божий «гнев» представляется варварским понятием, но как только мы начинаем чувствовать наше зло, мы сознаем, что он неизбежен, что он всего лишь прямое следствие благости Бога. Поэтому для настоящего понимания христианской веры совершенно необходимо всегда хранить в себе опыт, извлеченный из мгновения, подобного описанному мной, научиться замечать то же реальное и непростительное зло под его все более и более сложными личинами. Учение это, конечно, не ново. В этой главе я не претендую ни на что особенно замечательное. Я просто пытаюсь перевести моего читателя (и в еще большей степени — себя самого) через «мост ослов» (pons asinorum) — сделать первый шаг прочь из рая дураков и царства иллюзии. Но в современном мире иллюзия обрела такую силу, что мне необходимо изложить кое-какие добавочные соображения, которые придадут реальности менее невероятный характер.
1. Мы обманываемся внешностью предметов. Мы полагаем себя в целом не намного хуже некоего Игрека, которого все признают порядочным человеком, и, конечно же (хотя об этом не следует заявлять вслух), лучше мерзкого Икса. Даже на поверхностном уровне мы, вероятно, в этом обманываемся. Не будьте слишком уверены, что ваши друзья считают вас не менее порядочным, чем Игрека. Сам по себе тот факт, что вы избрали его для сравнения, подозрителен — вероятно, он на три головы выше вас и вашего круга. Но допустим, что и Игрек, и вы производите впечатление «неплохих» людей. Насколько обманчива внешность Игрека — это останется между ним и Богом. Его внешность может и не быть обманчивой, но насчет своей вы точно знаете, что это так. Вам это, наверное, кажется простым трюком, потому что я могу сказать то же самое Игреку и так, по очереди, каждому человеку. Но в этом-то все и дело. Каждому человеку, не слишком святому или наглому, приходится равняться на видимые качества других людей — он знает, что в нем кое-что намного ниже даже самого неосторожного его поведения на людях, даже самого его развязного разговора. В мгновение ока, пока ваш друг подыскивает слово, — что проносится в вашем мозгу? Мы никогда не высказываем всей правды. Мы можем сознаться в мерзких фактах — в самой гадкой трусости или в самой пошлой и будничной пакости, — но наш тон будет ложным. Самый акт исповеди — беглый лицемерный взгляд, легкая примесь юмора — все это имеет целью отдалить факты от вашей личности. Никому не догадаться, насколько знакомы и, в каком-то смысле, близки вашей душе все эти вещи, как они сливаются со всем остальным — там, глубоко, в дремотном внутреннем тепле, они ничему не звучат диссонансом, они вовсе не так странны и отделимы от вас, как это может показаться, когда они превращаются в слова. Мы подразумеваем, и часто верим, что привычные пороки — это исключительные и одиночные поступки, и допускаем противоположную ошибку в отношении наших добродетелей, подобно плохому теннисисту, который именует свою обычную форму «неудачными днями», а редкие успехи принимает за норму. Я не вменяю нам в вину то, что мы не можем сказать истинной правды о себе, ибо настойчивое, пожизненное внутреннее нашептывание злости, ревности, похотливости, жадности и самоснисхождения попросту не укладывается в слова. Но важно, чтобы мы не принимали наши неизбежно ограниченные высказывания за полный отчет о самом худшем, что есть у нас внутри.
2. Сейчас воцаряется реакция, сама по себе вполне здоровая, на чисто частные и домашние концепции нравственности, пробуждение общественной совести. Мы чувствуем свою причастность к несправедливой общественной системе и свою долю во всеобщей вине. Это вполне истинно, но враг рода человеческого может и истину употребить нам в обман. Берегитесь, как бы не воспользоваться идеей всеобщей вины для отвлечения своего внимания от тех обыденных, старомодных провинностей — ваших собственных, — которые не имеют ничего общего с «системой», и в отношении которых необходимо принимать меры, не дожидаясь тысячелетнего царствия. Ибо вину всеобщую, наверное, нельзя почувствовать с той же силой, что и личную. Для большинства из нас, в нашем нынешнем состоянии, это понятие является простым предлогом для того, чтобы уйти от поистине важной проблемы. Когда мы и по-настоящему научимся понимать степень нашей личной испорченности, тогда и впрямь мы сможем посвятить себя размышлениям о всеобщей вине, и будем вправе уделять ей максимум внимания. Прежде, чем бегать, нам следует научиться ходить.
3. Мы питаем странную иллюзию, что простое течение времени сводит грех на нет. Я слышал, как люди, в том числе и я, рассказывали о жестокостях и обманах, допущенных в детстве, так, словно нынешний говорящий не имел к ним никакого отношения, и даже со смехом. Но само по себе время никак не отменяет факта или вины греха. Вина смывается не временем, а покаянием и кровью Христа; если мы раскаялись в этих детских грехах, мы должны помнить цену нашего прощения и быть смиренными. Что же до самого факта греха, возможно ли, чтобы что-то его отменило? Все времена вечно присутствуют в Боге. Не кажется ли вам по крайней мере возможным, что на каком-то из направлений Своей многомерной вечности Он от века видит вас в детской, как вы отрываете крылышки мухам, подлизываетесь, врете, томитесь от похоти в школе, трусите или пыжитесь в первом офицерском чине? Вполне возможно, что спасение состоит не в уничтожении этих вечных мгновений, но в совершенстве смирения, вечно несущего свой стыд, радующегося поводу проявиться, которое он предоставил Божественному состраданию и тому, что он навеки стал известен всей вселенной. Возможно, что в это вечное мгновение Святой Петр — он простит меня, если я неправ, — вечно отрезается от своего Учителя. Если это так, то поистине верно, что радости Царствия Небесного для большинства из нас, в нашем нынешнем состоянии, требуют определенного привыкания, и некоторые образы жизни делают такое привыкание невозможным. Возможно, что погибшие — это те, кто не смеет пойти в столь публичное место. Разумеется, я не знаю, правда ли все это, но я думаю, что следует считаться по крайней мере с такой возможностью.
4. Мы должны остерегаться чувства, что безопасность кроется в больших числах. Вполне естественно полагать, что если все люди так плохи, как говорят христиане, то их дурные качества вполне простительны. Если все школьники провалились на экзамене, то наверняка вопросы были слишком трудными. И учителя в этой школе так и думают, пока не узнают, что есть и другие школы, где девяносто процентов учеников сдали экзамен по тем же самым вопросам. Тогда они начинают подозревать, что виноваты не экзаменаторы. Опять же, многим из нас доводилось жить в дурных уголках человеческого общества — в какой-нибудь конкретной школе, колледже, полку или профессиональном кругу, где общий тон поведения был плох. И внутри этого уголка некоторые поступки считались попросту нормальными («все так поступают»), а некоторые другие — непрактично добродетельными или донкихотскими. Но когда мы покинули это дурное общество, мы к своему ужасу обнаружили, что во внешнем мире ни одному порядочному человеку даже в голову бы не пришло делать то, что мы считали «нормальным», тогда как почитаемое нами за «донкихотство» представляет собой в общем мнении минимальный стандарт порядочности. То, что казалось нам болезненной и фантастической щепетильностью, пока мы жили в «уголке», предстало нам теперь как единственные мгновения здравомыслия, выпавшие на нашу долю. С нашей стороны было бы мудро принять в расчет возможность, что весь род человеческий (будучи небольшим во вселенских масштабах объектом) представляет собой именно такой локальный уголок зла — изолированную плохую школу или полк, внутри которых минимальная порядочность принимается за героическую добродетель, а совершенная испорченность — за простительное несовершенство. Но существует ли, помимо самого христианского учения, доказательство того, что дела обстоят именно таким образом? Боюсь, что такое доказательство есть. Во-первых, есть среди нас люди, которые не принимают локальных норм поведения, которые демонстрируют ту тревожную истину, что возможно поведение, совершенно отличное от общепринятого. Хуже того, имеется еще тот факт, что эти люди, как бы ни отделены они были друг от друга пространством и временем, подозрительно сходятся друг с другом в основных пунктах, как если бы они состояли в контакте с каким-то широким общественным мнением за пределами нашего «уголка». Слишком велика и очевидна общность между Заратустрой, Иеремией, Сократом, Гаутамой, Христом (я упоминаю Воплощенного Бога в числе смертных учителей с тем, чтобы подчеркнуть тот факт, что основное различие между ними и Христом — не в нравственном учении (которое занимает меня в данный момент), а в Личности и Миссии), и Марком Аврелием. В-третьих, даже сейчас мы обнаруживаем в себе теоретическое одобрение этого никем не практикуемого поведения. Даже в своем уголке мы не утверждаем, что справедливость, милосердие, смелость и умеренность лишены ценности, а лишь считаем, что наш локальный обычай включает эти качества в разумных, на наш взгляд, пределах. Дело приобретает такой оборот, что пренебрегаемые нами школьные правила, даже в этой плохой школе, имеют связь с каким-то более широким миром, и что по окончании учебного года мы, возможно, предстанем перед общественным мнением этого широкого мира. Но вот что хуже всего: мы не можем не понимать, что лишь известная доля добродетели, полагаемой нами сейчас непрактичной, в состоянии, даже на этой планете, спасти человеческий род от катастрофы. Нормы, которые, как кажется, попали к нам в «уголок» снаружи, имеют, оказывается, прямое отношение к условиям, царящим внутри «уголка» — настолько прямое, что если род человеческий будет последовательно придерживаться добродетели на протяжении хотя бы десяти лет, земля, от полюса, преисполнится мира, изобилия, здоровья, веселья и душевного благополучия, и что никаким иным способом этого не добиться. У нас, возможно, вошло в обычай относиться к полковым правилам как к мертвой букве или стандарту недосягаемого совершенства, но даже и сейчас каждый, кто не почтет за труд задуматься над этим, в состоянии понять, что при встрече с врагом такое пренебрежение может стоить каждому из нас жизни. Вот когда мы позавидуем тому «отщепенцу», «педанту», «энтузиасту», который по-настоящему обучал свою роту стрелять, окапываться и делиться друг с другом флягами.
5. По мнению некоторых, того более широкого общества, которое я противопоставил здесь человеческому «уголку», может и не существовать — по крайней мере, мы не имеем о нем свидетельств. Мы не встречаем в жизни ангелов или существ, не знавших грехопадения. Но мы можем составить себе некоторое понятие об истине даже в пределах нашего собственного человеческого рода. Мы можем рассматривать различные эпохи и культуры как «уголки» по отношению друг к другу. Несколькими страницами выше я говорил, что разные эпохи преуспевали в различных добродетелях. И если вы временами испытываете искушение утверждать, что мы, современные западные европейцы, не можем быть такими уж плохими, потому что, рассуждая в относительных терминах, мы гуманны, спросите себя, считаете ли вы, что Бог может смириться с жестокостью жестоких эпох потому лишь, что они преуспевали в мужестве и целомудрии. Вы тотчас поймете, что это невозможно. Подумав о том, как выглядит в наших глазах жестокость наших предков, вы можете составить себе впечатление, как выглядели бы в их глазах наша уступчивость, суетность и робость, и как, таким образом, обе наши эпохи выглядят в глазах Бога.
6. Возможно, что мое злоупотребление словом «доброта» уже породило протест в умах кое-кого из читателей. Разве мы не живем в эпоху, становящуюся год от года все более жестокой? Не исключено, что так оно и есть, но я думаю, что мы сделались такими в результате наших попыток свести все добродетели к доброте. Ибо Платон верно учил, что добродетель едина. Нельзя быть добрым, не обладая всеми прочими добродетелями. Если вы, будучи трусом, хвастуном и лентяем, еще ни разу не причинили своему ближнему особого вреда, то лишь потому, что благополучие вашего ближнего пока не вступило в конфликт с вашей безопасностью, самомнением и досугом. Всякий порок ведет к жестокости. Даже доброе чувство, жалость, если оно не контролируется милосердием и справедливостью, ведет, через гнев к жестокости. Причиной большинства зверств служат рассказы о зверствах врага, а жалость к угнетенным классам, в отрыве от нравственного закона в целом, в силу естественного процесса ведет к неумолимой жестокости царства террора.
7. Некоторые современные богословы совершенно справедливо протестуют против чрезмерно моралистического толкования христианства. Святость Бога — нечто большее и отличное от нравственного совершенства. Требования, которые Он нам предъявляет, превосходят требования нравственного долга и отличаются от них. Я этого не отрицаю, но такая концепция, подобно концепции всеобщей вины, может легко послужить предлогом для уклонения от реальной проблемы. Бог может быть чем-то большим, чем моральное благо, но Он никак не меньше его. Дорога в обетованную землю лежит через Синай. Нравственный закон, возможно, существует для того, чтобы быть превзойденным, но его не превзойти тем, кто вначале не признал его требований, а затем не приложил все силы, чтобы удовлетворить этим требованиям и откровенно признал факт своего поражения.
8. «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает» (Иак. 10:13). Многие направления мысли побуждают нас свалить ответственность с наших плеч на некую изначальную необходимость, заключенную в природе человеческой жизни, и таким образом, косвенно, на Создателя. Популярными формами подобных взглядов являются эволюционная доктрина, в соответствии с которой то, что мы именуем злом, есть неизбежное наследие, полученное нами от наших предков-животных, или идеалистическая доктрина, в соответствии с которой оно есть попросту результат нашей конечной природы. Христианство, если я верно понимаю послания Павла, признает, что абсолютное повиновение нравственному закону, который мы находим начертанным в наших сердцах и в необходимости которого убеждаемся даже на биологическом уровне, не является возможным для людей. Это создало бы настоящую трудность в вопросе о человеческой ответственности, имей абсолютное повиновение какое-либо практическое отношение к жизни большинства из нас. Но какая-то степень повиновения, которой мы с вами не достигли за последние сутки, несомненно возможна. Не следует употреблять центральную проблему в качестве средства уклонения от существа вопроса. К большинству из нас имеет настоящее отношение не столько вопрос, поставленный Павлом, сколько простое утверждение Уильяма Ло: «Если вы сейчас спросите себя, почему вы не столь же набожны, как первые христиане, то собственное ваше сердце ответит вам, что не по невежеству или неспособности, а исключительно потому, что это никогда до конца не входило в ваши намерения» («Серьезное призвание», гл.2). Если кто-либо попытается охарактеризовать эту главу как реставрацию учения о полной греховности, значит он неверно ее понял. Я не верю в это учение, отчасти на том логическом основании, что если бы греховность была полной, мы не сознавали бы себя греховными и отчасти потому, что, как показывает опыт, в человеческой природе много хорошего. Я также не рекомендую впадать во вселенское уныние. Чувство стыда было высоко оценено мной не как чувство, а ради прозрения, к которому оно ведет. На мой взгляд, это прозрение должно быть постоянным в сознании каждого человека, но следует ли также поощрять сопутствующее ему болезненное чувство — это вопрос для специалиста в духовном наставничестве, каковым я не являюсь и потому многого об этом сказать не могу. Мое собственное мнение, чего бы оно ни стоило, заключается в том, что всякая печаль, не вызванная раскаянием в конкретном грехе и стремлением к конкретному исправлению и возмещению ущерба, или же не возникающая из жалости и стремления к активной помощи, попросту дурна. На мой взгляд, мы все грешим, без нужды ослушиваясь апостольского наставления «возрадоваться». Смирение, после первой встряски, — вполне бодрая добродетель. Поистине печален лишь высокомерный неверующий, отчаянно пытающийся, вопреки многократному краху иллюзий, сохранить свою «веру в человеческую природу». Я добиваюсь интеллектуального, а не эмоционального эффекта — я пытаюсь заставить читателя поверить в то, что мы и впрямь, в нашем нынешнем виде, являемся созданиями, чей характер должен, в некоторых отношениях, ужаснуть Бога, как он ужасает, в моменты прозрения, нас самих. В это я верю безоговорочно, и я замечаю, что чем больше в человеке святости, тем это для него очевиднее. Возможно, вы воображали себе, что это смирение в святых — набожная иллюзия, вызывающая у Бога улыбку. Это опаснейшая ошибка. Она опасна теоретически, потому что заставляет вас приравнивать добродетель (т. е. совершенство) к иллюзии (т. е. несовершенству), что абсурдно. Она опасна практически, потому что побуждает человека ошибочно принимать первые проблески понимания своей собственной испорченности за проблески нимба вокруг его бестолковой головы. Нет уж, будьте уверены: когда святые говорят, что они — даже они — мерзки, они попросту констатируют истину, с научной точностью.
Как же возникло такое положение вещей? В следующей главе я постараюсь, в меру своего понимания, дать христианский ответ на этот вопрос.
5. Грехопадение человека
Повиноваться — вот истинное назначение разумной души.
М. Монтень, II, AT1.
Христианский ответ на вопрос, заданный в предыдущей главе, содержится в учении о грехопадении. Согласно этому учению, человек в своем нынешнем виде ужасен в глазах Бога и своих собственных, существо, плохо приспособленное к жизни во вселенной — не потому, что Бог его таким сотворил, но потому, что он сам сделал себя таким, путем злоупотребления свободной волей. На мой взгляд, это единственная функция всего учения. Она существует, чтобы уберечь нас от двух неприемлемых для христианства теорий происхождения зла: монизма, согласно которому Сам Бог, будучи «выше добра и зла», нелицеприятно производит действия, которым мы даем эти два наименования, и дуализма, согласно которому Бог производит благо, в то время как некая равная и независимая сила производит зло. В противоположность обеим этим теориям христианство утверждает, что Бог благ; что Он сотворил все вещи благими и ради их блага; что одна из благих вещей, сотворенных Им, а именно, свободная воля разумных существ, по самой своей природе предполагает возможность зла; и что эти существа, испробовав такую возможность, стали злыми. Причем эту функцию — единственную, которую я приписываю учению о грехопадении — следует отличать от двух других функций, которые ей иной раз приписывают, но которые я отвергаю. Во-первых, я не думаю, что в этом учении содержится ответ на вопрос: «Что было лучше для Бога — сотворить или не сотворить?» Этот вопрос я уже отверг. Поскольку я верю, что Бог благ, я убежден, что если этот вопрос имеет какой-либо смысл, то ответ на него должен быть положительным. Но я сомневаюсь, чтобы этот вопрос имел какой-либо смысл — а если даже и имеет, то я уверен, что на него нельзя дать ответ в тех ценностных категориях, которые для человека составляют смысл. Во-вторых, я не думаю, что из учения о грехопадении следует «справедливость» воздаяния конкретным индивидам за грехи их далеких предков. Похоже, что некоторые формы этого учения развили в себе такой элемент, но я не особенно верю, чтобы они, в том виде, в каком они излагались их сторонниками, всерьез имели это в виду. Отцы церкви порой говорили, что мы несем наказание за грех Адама, но они куда чаще говорили, что мы согрешили «в Адаме». Не исключено, что мы не в состоянии понять, что они имели в виду, или же мы можем решить, что подразумеваемое ими было ошибкой. Но, по-моему, мы не можем отмести их высказывания как простую «идиому». Мудро ли, глупо ли, но они верили, что мы реальным образом, а не посредством юридической фикции, замешаны в поступке Адама. Попытка сформулировать это предположение, сказав, что мы были «в» Адаме в физическом смысле — что Адам был первым носителем «бессмертной зародышевой плазмы» — наверное, неприемлема, но возникает, разумеется, новый вопрос: представляет ли сама вера простое заблуждение или же действительное прозрение в область духовной реальности за пределами нашего обычного восприятия. Однако, в данном случае этот вопрос не при чем, ибо, как я уже сказал, у меня нет намерения доказывать, что передача современному человеку недостатков, развившихся в его отдаленных предках, представляет собой пример справедливого воздаяния. Для меня это скорее пример факторов, необходимо связанных с сотворением стабильного мира, что было нами рассмотрено в главе 2. Бог, без сомнения, мог бы чудесным образом устранить результаты первого греха, совершенного человеком, но это бы не особенно помогло, не будь Он готов устранять результаты второго греха, а затем третьего — и так далее, до бесконечности. Если эти чудеса прекратятся, тогда, раньше или позже, мы вернемся в наше нынешнее жалкое состояние. Если же они не прекратятся, тогда мир, постоянно поддерживаемый и исправляемый Божественным вмешательством, будет миром, в котором ничто важное никогда не будет зависеть от человеческого выбора, и в котором сам этот выбор в скором времени перестанет существовать в силу уверенности, что ни одна из видимых альтернатив, открывающихся перед вами, не приведет ни к каким результатам, а потому не является реальной альтернативой. Как мы видели, свобода шахматного игрока играть в шахматы основана на постоянстве квадратов и ходов.
Выделив таким образом то, что я считаю главной сутью учения о грехопадении человека, обратимся теперь к этому учению в целом. История, изложенная в Книге Бытия, — это история (полная глубочайшего содержания) о волшебном яблоке познания, но в разработанном учении присущее этому яблоку волшебство совершенно исчезает из виду, и история повествует только о неповиновении. Я испытываю глубочайшее уважение даже к языческим мифам, а еще более глубокое — к историям Священного Писания. Поэтому я не сомневаюсь, что версия, в которой уделяется особое внимание волшебному яблоку, и сводятся воедино древо жизни и древо познания, содержит более глубокую и тонкую истину, чем версия, в которой яблоко становится попросту, и исключительно, залогом повиновения. Но я полагаю, что Святой Дух не позволил бы этой последней версии произрасти в церкви и завоевать расположение ее великих докторов, не будь она истинной и полезной в отведенных ей пределах. Именно эту версию я и собираюсь обсуждать, потому что, хотя я и подозреваю куда большую глубину в первой версии, я знаю, что мне, по крайней мере, не под силу проникнуть в эти глубины. Я должен давать моим читателям не самое лучшее в абсолютном смысле, а лучшее из того, что у меня есть.
Итак, в разработанном учении утверждается, что человек, в том виде, в каком его сотворил Бог, был совершенно хорош и совершенно счастлив, но что он ослушался Бога и стал тем, что мы сейчас видим. Многие считают, что современная наука доказала ложность такого предположения. «Сейчас мы знаем», — говорят они, — «что человек не только не пал по сравнению с первобытным состоянием добродетельности и счастья, но напротив, совершил восхождение из состояния зверства и дикости». Похоже, что здесь царит полная путаница. Слова «зверство» и «дикость» принадлежат к печальному разряду тех слов, которые порой употребляются риторически, для выражения укоризны, а порой научно, как описательные термины, и псевдонаучный аргумент против грехопадения основан на смешении этих словоупотреблений. Если говоря, что человек поднялся над звериным уровнем, вы просто имеете в виду, что он физически произошел от животных, то у меня нет возражений. Но отсюда совсем не следует, что чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем более зверским — то есть, злобным или гнусным — становится поведение человека. Никакое животное не имеет нравственной добродетели, но неверно полагать, что все поведение животных таково, что, будь оно поведением людей, его следовало бы именовать «дурным». Напротив, не все животные так плохо относятся к существам своего вида, как люди относятся к людям. Не все так же прожорливы и похотливы, как мы, и ни одно животное не обладает амбицией. Подобным же образом, если вы говорите, что первые люди были «дикарями», имея в виду, что их изделия были немногочисленны и неуклюжи, как и у современных «дикарей», вы, возможно, правы, но если вы имеете в виду, что они «дикари» в том смысле, что они были похотливы, свирепы, жестоки и склонны к измене, вы выходите за пределы имеющихся у вас данных, и это происходит по двум причинам.
Во-первых, современные антропологи и миссионеры куда менее своих предшественников склонны присоединяться к вашему неблагоприятному мнению даже о современном дикаре. Во-вторых, нельзя по изделиям первобытных людей заключать, что они были во всех отношениях подобны современным людям, изготовляющим такие же изделия. Мы должны здесь остерегаться иллюзии, которую, по-видимому, естественно порождает изучение доисторического человека. Доисторический человек, именно в силу своей доисторичности, известен нам лишь по материальным предметам, которые он изготовил — или, скорее, по случайному набору наиболее долговечных из числа изготовленных им предметов. Археологи не виноваты, что у них нет лучших данных, но такая скудость создает постоянное искушение сделать выводы, заходящие дальше, чем мы имеем на то право, предположить, что община, изготовлявшая лучшие изделия, была во всех отношениях лучше. Для каждого очевидно, что такое предположение ложно — оно привело бы к заключению, что подобные слои общества нашего времени во всех отношениях выше аналогичных кругов викторианской эпохи. Вполне возможно, что доисторические люди, изготовлявшие самую плохую керамику, сочиняли самую лучшую поэзию, и нам никогда этого не узнать. И это предположение становится еще более нелепым, если сравнить доисторического человека с современными дикарями. Одинаковая примитивность изделий ничего в данном случае не говорит об умственном развитии и добродетели изготовителей. То, что постигается методом проб и ошибок, непременно вначале будет грубовато, каков бы ни был характер начинающего мастера. Тот же самый горшок, который был бы свидетельством гения его создателя, если бы это был первый горшок, изготовленный во всем мире, через тысячи лет гончарного дела покажет, что его создатель — растяпа. Вся современная оценка первобытного человека основана на низкопоклонстве перед «рукоделием», представляющем собой великий всеобщий грех нашей собственной цивилизации. Мы забываем, что наши доисторические предки сделали все самые полезные открытия, которые когда-либо были сделаны, за исключением хлороформа. Им мы обязаны языком, семьей, одеждой, использованием огня, приручением животных, колесом, кораблем, поэзией и сельским хозяйством.
Таким образом, науке нечего сказать как в пользу, так и против учения о грехопадении. На более философскую трудность указал Н. П. Уильямс, современный богослов, перед которым в большом долгу все, кто изучает этот предмет. Он отмечает, что идея греха предполагает закон, преступаемый грехом, а поскольку на то, чтобы «стадный инстинкт» выкристаллизовался в обычай, а обычай в закон, должны уйти столетия, первый человек, если было существо, которое можно охарактеризовать подобным образом, не мог совершить первого греха. В этом рассуждении предполагается, что добродетель и стадный инстинкт обычно совпадают, и что первый грех был в основном общественным грехом. Но традиционное учение указывает на грех против Бога, акт неповиновения, а не на грех против ближнего. И, конечно же, если мы хотим в сколь-нибудь реальном смысле придерживаться учения о грехопадении, мы должны искать великий грех на более глубоком и вневременном уровне, нежели уровень общественной морали.
Этот грех был охарактеризован Блаженным Августином как результат гордыни, посредством которой тварь (то есть, существо в основном зависящее, принцип существования которого заложен не в нем, а в ком-то другом) пытается обосноваться самостоятельно, существовать для себя. Подобный грех не требует для себя ни сложных общественных условий, ни обширного опыта, ни особого умственного развития. С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самое себя как себя, перед ней открывается жуткая альтернатива: избрать центром Бога или же себя. Этот грех ежедневно совершается маленькими детьми и невежественными крестьянами, равно как и людьми изощренными, одиночками не в меньшей степени, чем членами сообществ — это грехопадение в каждой индивидуальной жизни и в каждом дне каждой индивидуальной жизни, основной грех, стоящий за каждым конкретным грехом. В этот самый момент вы и я либо совершаем его, либо находимся накануне его совершения, либо раскаиваемся в нем. Мы пытаемся, по пробуждении, положить новый день к ногам Бога. Но прежде, чем мы кончим бриться, день становится нашим, и доля Бога в нем ощущается как дань, которую мы должны платить из «своего собственного» кармана, вычет из времени, которое, как мы чувствуем, должно быть «нашим собственным». Человек приступает к новой работе с чувством призвания и, вероятно, первую неделю еще ставит себе целью реализацию призвания, принимая и удовольствия, и огорчения по мере того, как они исходят от Бога, как «случайности». Но в ходе второй недели он уже начинает узнавать, что к чему, а к третьей он уже выделил из всего объема работы свой собственный план для себя внутри этой работы, и когда он имеет возможность ему следовать, он считает, что получает не более положенного ему по праву, а когда не имеет такой возможности, то пеняет, что ему мешают. Любящий, повинуясь вполне бесхитростному побуждению, которое может быть полно доброй воли, равно как и желания, и не обязательно упускает из виду Бога, обнимает свою возлюбленную, а затем, совершенно невинно, испытывает прилив сексуальных удовольствий. Но второе объятие может как раз преследовать достижение этого удовольствия, может быть средством к достижению цели, может быть первым шагом вниз к тому состоянию, в котором человек считает ближнего за вещь, за машину, которую можно употреблять для собственного удовольствия. Таким образом, каждый род деятельности лишается цвета невинности, элемента покорности и готовности принимать предлагаемое. Мысли, сосредоточенные на Боге — вроде той, что занимает нас в это мгновение — продолжаются так, словно они самоцельны, а затем так, словно целью является наше удовольствие от мыслительного процесса, и в конечном счете так, словно целью является наша гордость или слава. Таким образом, весь день напролет, и все дни нашей жизни, мы катимся, скользим, падаем, как будто Бог, для нынешнего нашего сознания, — это гладкая наклонность плоскость, на которой не за что зацепиться. И действительно, наша нынешняя природа такова, что мы неизбежно должны поскользнуться, и грех, поскольку он неизбежен, может быть простителен. Но Бог не мог создать нас такими. Это удаление от Бога, «обратный путь к привычному себе», должно быть, как мы полагаем, результатом грехопадения. Что, собственно, произошло в момент грехопадения, мы не знаем, но если позволено строить догадки, я могу предложить следующую картину — «миф» в сократическом смысле слова (т. е., рассказ о том, что могло бы быть историческим фактом. Не путать с «мифом» в смысле, придаваемом этому слову Нибуром, т. е. символическое представление внеисторической истины), вполне вероятную историю.
На протяжении многих столетий Бог совершенствовал животную форму, которой предстояло стать носителем человеческих качеств и Его образа. Он дал этому существу руки, большой палец которых мог касаться любого из остальных пальцев, челюсти, зубы и гортань, способные к артикуляции, а также мозг, достаточно сложный для того, чтобы выполнять все материальные операции, в которых воплощается разумная мысль. Возможно, что это создание просуществовало целые эпохи в таком состоянии, прежде чем стало человеком. Оно даже могло быть достаточно разумным, чтобы изготовлять вещи, которые археологи принимают за доказательство его человеческой природы. Но это было всего лишь животное, потому что все его физические и психологические процессы лишь преследовали чисто материальные и природные цели. Затем, когда пришло время. Бог ниспослал на этот организм, как в его психологии, так и в его физиологии, новый тип сознания, которое могло сказать «я» и «меня», которое могло взглянуть на себя, как на объект, которое знало Бога, которое могло судить об истине, красоте и благе, и которое настолько возвышалось над временем, что могло наблюдать его течение. Это новое сознание управляло всем организмом и освещало его, заливая все его части светом — оно не было, подобно нашему, ограничено одной частью организма, а именно — мозгом. В ту пору весь человек целиком воплощал в себе сознание. Современный йог утверждает, лживо или правдиво, что он осуществляет контроль над теми функциями, которые для нас являются чуть ли не частью внешнего мира, в том числе пищеварением и кровообращением. Этой власти у первого человека было в достатке. Его органические процессы повиновались закону его собственной воли, а не закону природы. Его органы возбуждали всевозможные аппетиты в рассудке не потому, что в этом была необходимость, а потому, что он сам принимал такое решение. Сон для него был не ступором, в который мы впадаем, но подчиненным воле и сознательным отдыхом — он, бодрствуя, ощущал удовольствие и долг сна. Поскольку процессы распада и восстановления в его тканях были столь же сознательными и послушными его воле, не будет чрезмерным предположить, что продолжительность его жизни в значительной степени была в его собственном распоряжении. Имея полную власть над собой, он осуществлял власть и над любой низшей жизнью, с которой он соприкасался. Даже сейчас мы сталкиваемся с редким типом людей, имеющих загадочную власть укрощать животных. Этой властью райский человек располагал в избытке. Вполне возможно, что традиционное представление о зверях, красующихся перед Адамом и ластящихся к нему, не является исключительно символическим. Даже сейчас большее число животных, чем вы можете себе вообразить, готово поклоняться человеку, если у них будет на то подходящая возможность, ибо человек сотворен быть священником и даже, в каком-то смысле, Христом для животных — посредником, через которого они воспринимают такую долю Божественного великолепия, какую им позволяет их неразумная природа. И для такого человека Бог не был скользкой наклонной плоскостью. Новое сознание было создано с точкой опоры в Боге, где оно ее и обрело. Как бы ни был богат опыт человека в общении с его ближними — в милосердии, дружбе, половой любви, — с животными, с окружающим миром, впервые явившимся в присущих ему красоте и ужасе. Бог занимал первое место в его любви и мыслях, без какого бы то ни было тяжкого усилия. Бытие, сила и радость в совершенном циклическом движении нисходили от Бога к человеку в форме дара и возвращались от человека к Богу в форме повинующейся любви и восторженного поклонения. И в этом смысле — хотя и не во всем — человек был тогда поистине сыном Бога, прототипом Христа, безупречно воплощая в радости и легкости всех способностей и чувств то сыновнее самоотрицание, которое наш Господь воплотил в Своей крестной муке.
Судя по его изделиям или, возможно, даже по его языку, это благословенное создание было, без всякого сомнения, дикарем. Все, чему могут научить опыт и практика, ему еще предстояло выучить, и если он обрабатывал кремень, он, несомненно, обрабатывал его довольно неуклюже. Не исключено, что он был совершенно неспособен выражать свой опыт райской жизни в форме понятий. Все это не имеет никакого значения. Из своего собственного детства мы помним, что еще до того, как взрослые подозревали в нас способность что-либо «понимать», мы уже имели духовные переживания, столь же незамутненные и полные значения, что и те, которые выпали на нашу долю с тех пор, хотя, конечно, и не столь богатые фактическим содержанием. Само христианство учит нас, что существует уровень — в конечном счете единственный важный уровень, — на котором ученые и взрослые не имеют никаких преимуществ над простодушными и детьми. Я не сомневаюсь, что если бы райский человек мог появиться сейчас между нами, мы бы видели в нем совершенного дикаря, существо, которое следует эксплуатировать или, в лучшем случае, воспринимать снисходительно. Лишь один-два человека, самые святые среди нас, не сочтут за труд приглядеться к этому голому, бородатому, немногословному существу — и через несколько минут они падут перед ним ниц.
Мы не знаем, сколько таких существ Бог сотворил и как долго они жили в райском состоянии. Но в конце концов они пали. Некто — или нечто — нашептал, что они могут стать как боги, что они могут прекратить посвящать жизнь своему Творцу и относиться ко всем своим восторгам, как к посторонним изъявлениям милосердия, простым «случаям» (в логическом значении слова), возникающим в течении жизни, направленной не на эти восторги, а на поклонение Богу. Подобно тому, как молодой человек ожидает карманных денег от отца, на которые он может расчитывать, как на свои собственные, в пределах которых он строит свои собственные планы (с полным основанием, ведь его отец — такое же сотворенное существо), так и они желали быть сами по себе, самим заботиться о своем будущем, строить планы для удовольствия и самообеспечения, иметь свое достояние, из которого они, несомненно, платили бы Богу известную дань времени, внимания и любви, но которое, тем не менее, было бы их, а не Его. Они, мы бы сказали, хотели «души свои заполучить себе во власть». Но это значило жить ложью, ибо наши души на деле нам не принадлежат. Они хотели иметь уголок во вселенной, о котором они могли бы сказать Богу: «Это наше дело, а не Твое». Но такого уголка нет. Они хотели быть существительными. Мы не имеем представления, в каком конкретном поступке или — последовательности поступков нашло себе выражение это противоречивое, невозможное желание. По мне, это вполне могло быть буквальное поедание плода, но это — вопрос совершенно несущественный.
Этот акт своеволия со стороны твари, совершенно ложный по отношению к ее истинному тварному положению, представляет собой единственный грех, который можно рассматривать как грехопадение. Ибо затруднение, связанное с первым грехом, заключается в том, что он должен быть поистине гнусным, иначе его последствия не были бы столь ужасными, и в то же время быть чем-то, что было бы под силу совершить существу, свободному от искушений падшего человека. Уход от Бога к самому себе отвечает обоим условиям. Это грех, возможный даже для райского человека, потому что само существование человеческой индивидуальности, сам факт, что мы можем назвать ее «я», с самого начала предполагает опасность самовозвеличения. Поскольку я — это я, то для того, чтобы жить Богом, а не собой, «я» должно совершить акт самоотрицания, как бы мал и легок он ни был. В этом, если угодно, состоит «слабое место», заключенное в самой природе творения, риск, на который очевидно, по мнению Бога, стоило пойти. Но это был весьма гнусный грех, поскольку индивидуальность, которой обладал райский человек, не заключала в себе естественного сопротивления самоотрицанию. Его, так сказать, данность, представляла собой психофизический организм, целиком подчиненный воле, а воля была полностью предрасположена, хотя и не понуждаема, направиться к Богу. Самоотрицание, которое было присуще ему до грехопадения, не предполагало борьбы, а лишь радостное преодоление бесконечно малой самонадеянности, причем само это преодоление заключало в себе свой восторг, бледную аналогию которому мы наблюдаем даже сейчас в восторженном взаимном самоотрицании влюбленных. У него, таким образом, не было никакого искушения (в нашем смысле) избрать свое «я» — никаких страстей или склонностей, упрямо тянущих его в эту сторону, — ничего, за вычетом простого факта, что «я» был он сам.
До этого момента человеческий дух имел полную власть над человеческим организмом. Он, конечно же, полагал, что сохранит эту власть, даже перестав повиноваться Богу. Но его власть над организмом была властью, доверенной ему, и он потерял ее, перестав быть доверенным лицом Бога. Отрезав себя, насколько это было возможно, от источника своего существования, он отрезал себя и от источника власти. Ибо когда мы говорим о твари, что А правит Б, мы имеем в виду, что Бог правит Б посредством А. Я сомневаюсь в том, что Бог имел органическую возможность продолжать управлять организмом посредством человеческого духа, находящегося в состоянии мятежа против Него. В любом случае Он этого не делал. Он стал управлять организмом более внешним образом, не через законы духа, а через законы природы. (Здесь я развиваю идею закона, принадлежащую Хукеру.) Не подчиниться своему собственному закону (т. е. закону, установленному Богом для подобных существ) — значит отказаться в повиновении одному из низших законов Бога. Так, например, если, идя по скользкому тротуару, вы пренебрежете законом предусмотрительности, вы внезапно будете вынуждены повиноваться закону тяготения.) Таким образом, органы, не управляемые более волей человека, подпали под власть обычных биохимических законов и, в результате действия этих законов, подверглись страданиям в форме боли, старения и смерти. И в сознании человека стали возникать желания не по выбору его разума, а по мере того, как они вызывались биохимическими факторами и окружающей средой. Да и само сознание подпало под власть психологических законов ассоциации и тому подобных, созданных Богом для управления психологией высших антропоидов. И воля, застигнутая приливной волной элементарной природы, не имела иного выхода как подавить, посредством основной силы, некоторые из новых мыслей и желаний, и эти неусмиренные силы бунта превратились в известное нам подсознание. Этот процесс, как я понимаю, не был сродни простому распаду личности, случающемуся сейчас в человеческом индивиде, — это была потеря статуса целым биологическим видом. В результате грехопадения человек лишился своей первоначальной видовой природы. «Прах еси, и во прах возвратишься». Всему организму, вознесенному в духовную жизнь, было позволено пасть назад, в элементарную естественную среду, из которой человек, в момент своего сотворения, был поднят — подобно тому, как на более ранних стадиях творения Бог поднял растительную жизнь до носителя животной, химический процесс до носителя растительной жизни и физический процесс до носителя химического. Таким образом, человеческий дух из повелителя человеческой природы превратился в простого жильца в своем собственном доме, или даже в пленника. Разумное сознание стало тем, чем оно является сейчас — судорожным пятном света, выхватывающим из тьмы небольшую область мозговой активности. Но это ограничение власти духа было меньшим злом, чем порча самого духа. Он отвернулся от Бога и стал своим собственным кумиром, так что, хотя он и мог еще вернуться к Богу (к сведению богословов, я не пытаюсь здесь внести какой-либо вклад в пелагианско-августинианский спор. Я лишь имею в виду, что такое возвращение к Богу не было, даже и в этот момент, невозможным. Где лежит инициатива в каждом случае такого возвращения — это вопрос, который я оставляю без ответа), это потребовало бы тяжкого усилия, и его центробежной силой влекло к себе. Таким образом, легче всего ему было впасть в такие чувства, как гордость и амбиция, желание красоваться в своих собственных глазах и подавлять и унижать всех соперников, зависть, неустанные поиски все больше и большей самообеспеченности. Он стал не просто слабым царем своей собственной природы, но также и плохим царем — он посылал вниз, в психофизический организм, желания куда худшие, чем организм посылал ему наверх. Это состояние передавалось через наследственность всем последующим поколениям, ибо оно было не просто тем, что биологи называют приобретенной вариацией — это было возникновение нового типа человека, нового вида, никогда не созданного Богом, но собственным грехом обретшего себе существование. Перемена, которой подвергся человек, не была даже аналогией развитию нового органа или повадки — это было радикальное изменение его конституции, нарушение взаимоотношения его составных частей и внутреннее извращение каждой из них.
Бог мог бы остановить этот процесс посредством чуда, но это — если мы позволим себе слегка «снизить тон — значило бы отринуть задачу, которую Он поставил Себе, когда сотворил мир: задачу выражения Своей благости во всеобщей драме мира, населенного свободными индивидами, несмотря на их мятеж против него и через посредство этого мятежа. Символический образ драмы, симфонии или танца уместен здесь в качестве корректива к бессмыслице, возникающей, когда мы слишком много говорим о планировании и сотворении Богом мира для торжества блага, и о препятствиях, чинимых этому благу свободной волей сотворенных существ. Это может послужить почвой для смехотворной идеи в том, что грехопадение застигло Бога врасплох и расстроило Его план, или же, — что еще смехотворней, — что Бог все это спланировал для условий, которые, как Ему хорошо было известно, были совершенно невыполнимы. На самом же деле Бог, конечно же, предвидел распятие в ходе создания самой первой звездной туманности. Мир — это танец, в котором благо, нисходящее от Бога, нарушается злом, исходящим от твари, и возникающий конфликт разрешается тем, что Сам Бог берет на Себя страдание производимое злом. Учение о свободном грехопадении предполагает, что зло, которое таким образом поставляет горючее или сырье для второго и более сложного рода блага — это вклад не Бога, а человека. Это не значит, что если бы человек сохранил невинность, Бог не мог бы создать равно прекрасного симфонического целого, коль скоро мы настаиваем на постановке таких вопросов. Но всегда следует помнить, что когда мы говорим о том, что могло бы произойти, о вариантах за пределами всего процесса, мы в действительности не знаем, о чем говорим. Нет такого времени и места за пределами существующей вселенной, в котором все это «могло бы произойти». На мой взгляд, реальную свободу человека можно точнее всего выразить, сказав, что если в каком-либо уголке действительной вселенной существует другой разумный вид, помимо человека, то не обязательно предполагать, что он тоже совершил первородный грех.
Таким образом, наше нынешнее состояние объясняется тем фактом, что мы принадлежим к пораженному порчей виду. Я не имею в виду, что наши страдания являются наказанием за то, что мы сейчас являемся тем, чем не можем не являться, и не хочу сказать, что мы ответственны за мятеж нашего далекого предка. И если, тем не менее, я называю наше нынешнее состояние состоянием первородного греха, а не просто первородного несчастья, то это потому, что наш реальный религиозный опыт не позволяет нам смотреть на это по-иному. Теоретически мы, конечно, могли бы сказать: «Да, мы ведем себя, как черви, — но лишь потому, что мы и есть черви. А уж это, по крайней мере, не наша вина». Но тот факт, что мы — черви, не только не служит нам извинением, но доставляет нам неизмеримо больше стыда и горя, чем любой из конкретных поступков, которые он понуждает нас совершать. Это совсем не так трудно понять, как кое-кто утверждает. Такая ситуация возникает среди людей, когда в порядочную семью попадает плохо воспитанный мальчик. Как вполне резонно напоминают друг другу члены семьи, «не его вина», что он задира, трус, ябеда и лжец. Но, тем не менее, его характер, как бы он ни сформировался, отвратителен. Они не только ненавидят его характер, но и должны его ненавидеть. Они не могут любить его таким, каков он есть, — они могут лишь пытаться изменить его. И притом же, хотя мальчику сильно не повезло с воспитанием, его характер нельзя вполне назвать «несчастным · случаем», как если бы сам он был что-то одно, а его характер — другое. Это ведь сам он — задирается, доносит и любит это делать. И если он начнет исправляться, он, в конечном счете, почувствует стыд и ощутит себя виновным в поступках того, кем он уже перестает быть.
В результате я сказал все, что я мог сказать на том уровне, на котором я только и могу рассматривать идею первородного греха. Но я вновь хочу предупредить моих читателей, что это неглубокий уровень. Мы ничего не сказали о деревьях жизни и познания, которые, несомненно, таят в себе великую загадку, и мы ничего не сказали о словах Павла:
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15:22). Именно это высказывание лежит в основе учения отцов церкви о нашем физическом присутствии в Адаме и учения Ансельма о нашей сопричастности, посредством юридической фикции, страдающему Христу. Это теории, возможно, сослужили в свое время хорошую службу, но мне они ничего не дают, а других я изобретать не собираюсь. Недавно мы узнали от ученых, что у нас нет права ожидать от реальной вселенной изобразимости, и что если мы пытаемся в мысленных образах проиллюстрировать квантовую физику, мы не приближаемся к реальности, а лишь удаляемся от нее. Очевидно, что мы еще менее вправе требовать изобразимости, или даже объяснимости в терминах нашей абстрактной мысли, от высочайших духовных реалий. Я отметил, что трудность выражения Павла сосредоточена в слове «в», и что это слово вновь и вновь употребляется в Новом Завете в не совсем понятных для нас значениях. Как мне кажется, тот факт, что мы можем умереть «в» Адаме и жить «во» Христе предполагает, что человек, каков он есть на самом деле, в значительной мере отличается от человека, каким он представляется в наших мысленных категориях и трехмерном воображении, что видящаяся нам отдельность индивидов, со скидкой лишь на причинно-следственные отношения, в абсолютной реальности уравновешена своего рода «межодушевленностью», о которой мы не имеем никакого понятия. Возможно, что страдания выдающихся архетипных индивидов, таких как Адам и Христос, являются также и нашими не посредством юридической фикции, метафоры, причинно-следственной связи, но каким-то более глубоким образом. Разумеется, не может быть и речи о каком бы то ни было растворении индивидов в некоем духовном континууме, как верят приверженцы пантеистических систем — это исключается всем характером нашей веры. Возможно, однако, существование некоторой взаимозависимости между индивидуализацией и каким-то иным принципом. Мы верим, что Святой Дух может реально присутствовать и действовать в человеческом духе, но мы не считаем поэтому, подобно пантеистам, что мы являемся «частицами» или «явлениями» Бога. В конечном счете нам, может быть, придется предположить, что нечто в этом роде в известной степени может быть истинным даже в отношении сотворенных духов — что каждый из них, будучи отдельным, вместе с тем реально присутствует во всех, или в некоторых, других, точно так же, как мы можем оказаться вынужденными допустить «действие на расстоянии» в нашу идею материи. Для всех очевидно, что Ветхий Завет, судя по всему, игнорирует нашу идею индивида. Когда Бог обещает Иакову, что
«Он пойдет с ним в Египет и выведет его обратно»
(Быт. 46:4), это исполняется либо погребением тела Иакова в Палестине, либо исходом потомства Иакова из Египта. Вполне разумно связывать эту идею с общественной структурой ранних общин, в которых индивид постоянно игнорируется в пользу племени или семьи, но мы должны выразить эту связь двумя Одинаково важными предположениями: во-первых, что общественный опыт древних не позволял им видеть некоторые очевидные для нас истины, и во-вторых, что он позволял им видеть истины, которые для нас неочевидны. Юридическая фикция, усыновление, а также перенос и вменение заслуг и вины никогда не могли бы играть столь значительную роль в богословии, если бы они всегда казались столь же искусственными, какими они кажутся нам.
На мой взгляд, мы вправе позволить себе этот единственный взгляд на то, что мне представляется непроницаемым занавесом, но, как я уже говорил, в моих нынешних рассуждениях он не занимает никакого места. Совершенно очевидно, что нет смысла пытаться решить проблему боли постановкой новой проблемы. Тезис этой главы состоит приросту в том, что человек, как вид, подверг себя порче, и что поэтому для нас, в нашем нынешнем состоянии, благо — это в первую очередь благо целительное, исправляющее. Рассмотрим же, какую роль в таком исцелении и исправлении играет боль.
6. Человеческая боль
Поскольку жизнь Христа во всех отношениях противна природе, самости и человеческому «я» (ибо в истинной жизни Христа сущность, «я» и природа должны быть отринуты, забыты, должны совершенно умереть), поскольку в каждом из нас природа повержена ею в ужас.
Theologia Germanica, XX
В предыдущей главе я попытался показать, что возможность боли заключена в самом существовании мира, где души могут встречаться. Когда души станут злыми, они наверняка употребят эту возможность для того, чтобы причинить боль друг другу — и в этом, наверное, состоит причина четырех пятых всех человеческих страданий. Люди, а не Бог, произвели на свет дыбы, плети, тюрьмы, рабство, огнестрельное оружие, штыки и бомбы. Благодаря человеческой жадности и глупости, а вовсе не из-за враждебности природы, мы видим нищету и работу на износ. Но остается, тем не менее, немало страданий, в которых мы не повинны. Даже если бы все страдания вызывались людьми, мы хотели бы знать причину той широчайшей свободы пытать своих ближних, какую Бог дает худшим из людей. (Или, возможно, точнее будет сказать «худшим из созданий». Я никоим образом не отвергаю взгляд, согласно которому «фактической причиной» болезней, хотя бы некоторых, может быть сотворенное существо, отличное от человека. В Писании дьявол конкретно ассоциируется с болезнью в Книге Иова, в Евангелии от Луки (13:16), в 1 Кор. 5:5 и (вероятно) в 1 Тим. 1:20. На нынешней стадии нашего рассмотрения безразлично, являются ли все воли, которые Бог попустил иметь власть пытать другие создания, человеческими или нет.) Сказать, как это было сказано в предыдущей главе, что благо для таких существ, какими мы сейчас являемся, значит в первую очередь благо целительное и исправляющее — не значит дать полный ответ. Не всякое лекарство противно на вкус, а будь оно и так, это был бы сам по себе один из неприятных фактов, причину которых нам хотелось бы знать.
Перед тем, как идти дальше, я рискну вернуться к сказанному во второй главе. Я писал там, что боль, ниже известного уровня интенсивности, не вызывает отвращения и может даже нравиться. Наверное, вам хотелось тогда возразить, что в таком случае мне не следует называть это болью, и вы, возможно, были правы. Но истина состоит в том, что слово «боль» имеет два значения, которые в данный момент необходимо различать, а) Особого рода ощущение, передаваемое, вероятно, специальными нервными волокнами и узнаваемое тем, кто ему подвергается, как таковое, — независимо от того, нравится оно ему или нет (т. е., слабая боль у меня в конечностях признается болью, хотя я и не возражаю против нее), б) Любое чувство, будь-то физическое или душевное, не нравящееся тому, кто ему подвергается. Следует отметить, что любая боль в значении «а» становится болью в значении «б», если она превышает определенный весьма низкий уровень интенсивности, но боль в значении «б» не обязательно является болью в значении «а». Боль в значении «б» фактически синонимична «страданию», «муке», «испытанию», «напасти» и «бедствию», и именно она порождает проблему боли. В остальной части этой книги слово «боль» будет употребляться в значении «б» и будет включать в себя все виды страдания. Значение же «а» нас больше не занимает.
Истинное благо твари состоит в предании себя воле Творца — умственной, волевой и эмоциональной реализации отношения, заданного тем простым фактом, что это — тварь. Когда она так поступает, она благополучна и счастлива. И это вовсе не тягота — этот род блага исходит от уровня, который намного выше тварного, ибо Сам Бог, как Сын, извечно воздает Богу Отцу сыновним повиновением за то бытие, которое Отец отчей любовью извечно порождает в Сыне. Это — образец, которому человек был сотворен подражать, которому райский человек воистину подражал, — и там, где воля, данная Творцом, столь совершенным образом предается ему в восторженном и восторгающем повиновении, там-то, несомненно, и есть царствие небесное, там-то и царит Святой Дух. В мире, каким он нам предстает, проблема состоит в том, как вернуться к этой самоотдаче. Мы не просто несовершенные создания, которые нуждаются в улучшении – мы, по словам кардинала Ньюмана, мятежники, которые должны сложить оружие. Поэтому первый ответ на вопрос, почему наше исцеление должно быть болезненным, состоит в том, что вернуть Творцу волю, которую мы так долго считали своей, — само по себе невыносимо больно, где бы и каким бы образом это ни происходило. Даже в раю я предполагаю наличие минимальной приверженности своему «я», которое необходимо преодолеть, хотя это преодоление, эта покорность сопряжены там с восторгом. Но уступить собственную волю, распаленную и разбухшую за долгие годы узурпации — это в своем роде смерть. Мы не помним эту волю, какой она была в детстве — злобную и неутолимую ярость при каждом пресечении, поток горьких слез, черное, сатанинское желание скорее убить или умереть, чем уступить. Поэтому няни и родители старой школы были совершенно правы, считая, что в воспитании первым делом необходимо «сломить ребенку волю». Их методы были часто неверными, но не видеть необходимости в этом — значит, на мой взгляд, отказаться от всякого понимания духовных законов. И если теперь, когда мы выросли, мы не так часто воем и топаем ногами, то это отчасти потому, что наши родители начали процесс ломки и уничтожения нашей эгоистической воли еще с пеленок, а отчасти потому, что те же страсти принимают сейчас более тонкие формы и стали хитрее в методах избежания смерти путем различных «компенсаций». Отсюда следует необходимость ежедневного умирания, ибо как бы часто мы ни полагали, что сломили мятежное «я», мы вновь обнаружим его живым. О том, что этот процесс невозможен без боли, свидетельствует выражение «умерщвление плоти».
Но эта неизбежная боль, или даже смерть, в процессе укрощения узурпированного «я» — это еще далеко не все. Как ни парадоксально, укрощение или умерщвление плоти, хотя и представляющее само по себе боль, облегчается присутствием другой боли. На мой взгляд, это происходит трояким образом.
Человеческий дух не сделает даже попытки уступить свою самостоятельную волю, пока с ним все в видимом порядке. Дело в том, что заблуждение и грех характерны тем, что чем глубже, тем менее их жертва подозревает о их существовании — их зло замаскировано. Боль — зло незамаскированное, узнаваемое безошибочно. Каждый человек знает, что когда он чувствует боль, что-то не в порядке. Мазохист не представляет собой в этом отношении настоящего исключения. Садизм и мазохизм изолируют, а затем преувеличивают некоторый «момент» или «аспект» нормальных половых отношений. Садизм (современная тенденция — подразумевать под «садистской жестокостью» просто сильную жестокость или жестокость, особо осуждаемую автором, — не точна) преувеличивает аспект пленения и господства до такой степени, что извращенца удовлетворяет лишь дурное обращение с объектом любви — как если бы он говорил: «Я имею над собой такую власть, что даже мучаю тебя». Мазохизм преувеличивает противоположно-дополнительный аспект и провозглашает: «Я настолько очарован, что приветствую даже боль от твоих рук». Если бы боль не ощущалась как зло — как поругание, подчеркивающее полное господство партнера — она перестала бы быть для мазохиста эротическим стимулом. И боль ведь не только немедленно опознаваемое зло, но и зло, которое невозможно игнорировать. Мы можем удовлетворенно погрязать в наших грехах и наших глупостях — и каждый, кто видел, как обжоры пихают в себя самую изысканную пищу, словно не отдавая себе отчета в том, что они едят, признает, что мы можем игнорировать даже удовольствие. Но боль настаивает на том, чтобы на нее обращали внимание. Бог шепчет нам посреди наших удовольствий, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли — это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир. Дурной человек, когда он счастлив, — это человек, нимало не подозревающий, что его действия не «соответствуют», что они не созвучны законам вселенной.
Понимание этой истины лежит в основе всеобщего человеческого мнения, что плохие люди должны поплатиться. Бесполезно отмахиваться от этого мнения, словно оно есть невесть какая подлость. В своем самом мягком выражении оно апеллирует к имеющемуся у каждого чувству справедливости. Однажды, когда мы с братом, еще маленькими детьми, рисовали за одним столом, я толкнул его под локоть, так что он провел ни к чему не подходящую линию через середину своего рисунка. Мы дружески утрясли это дело, позволив ему провести линию такой же длины через мой рисунок. Таким образом я был поставлен на его место, заставлен взглянуть на свою неосторожность его глазами. В моем более жестком выражении та же самая идея принимает характер «карающего воздаяния», наказания по заслугам. Некоторые просвещенные люди хотели бы изгнать любое понятие воздаяния или заслуженной кары из своей теории наказания, и сделать упор исключительно на предотвращении других преступлений и перевоспитании преступника. Они не понимают, что таким образом они делают любое наказание несправедливым. Что может быть безнравственнее, чем причинить мне страдание ради предотвращения моих будущих проступков, если я этого не заслуживаю? А если я этого заслуживаю, то вы допускаете справедливость «воздаяния». А что может быть бесчеловечнее, чем схватить меня и подвергнуть неприятному процессу нравственного возвышения без моего согласия, если и только, опять же, я этого не заслуживаю? В еще более жестком выражении мы имеем дело с такой страстью, как жажда мщения. Это, конечно же, зло, запрещенное христианам. Но мы уже, кажется, выяснили в ходе обсуждения садизма и мазохизма, что самые мерзкие стороны человеческой природы — это извращения добрых и невинных сторон. То доброе, извращением чего является страсть к возмездию, с разительной ясностью предстает в данном Гоббсом определении мстительности, «желания, причинив боль другому, принудить его осудить некоторый его поступок» («Левиафан»). Месть теряет из виду цель своих средств, но цель эта не вовсе плоха — она состоит в том, чтобы зло дурного человека явилось ему тем же, чем оно является для всех прочих. Это доказывается тем фактом, что мстящий желает, чтобы виновный не просто пострадал, а пострадал бы от его руки, и чтобы он знал об этом, и знал, почему. Отсюда побуждение напомнить виновному о его преступлении в момент исполнения мести, отсюда также такие естественные выражения, как «интересно, как бы ему понравилось, если бы с ним поступили так же» или «я его проучу». По той же причине, собираясь дать человеку словесную выволочку, мы говорим, что хотим «дать ему знать, что мы о нем думаем».
Когда наши предки упоминали о страданиях и скорбях, как о Божьем «возмездии» за грех, они не обязательно приписывали Богу дурные страсти — возможно, они лишь признавали добрый элемент в идее воздаяния. До тех пор, пока дурной человек не обнаружит несомненное присутствие зла в своем существовании, в форме боли, он погружен в иллюзии. Как только боль откроет ему глаза, он будет знать, что он каким-то образом противостоит реальной вселенной,- он либо взбунтуется (с возможностью более ясного прозрения и более глубокого раскаяния в будущем), либо попытается исправить положение, что, в конечном счете, может привести его к религии. Правда, ни тот, ни другой результат не является сейчас с той неизбежностью, с какой он являлся в эпохи, когда существование Бога (или даже Богов) было шире известно, но даже в наши дни мы видим эти результаты. Даже атеисты бунтуют и выражают, подобно Харди и Хаусману, свою ярость по отношению к Богу, хотя (или потому что) Он, на их взгляд, не существует. А другие атеисты, подобно Хаксли, вынуждены под давлением страдания обращаться ко всей проблеме существования искать какой-то способ ее решения – пусть не христианский, но все же стоящий почти бесконечно выше идиотского довольствования мирской жизнью. Нет сомнения в том, что боль в качестве Божьего мегафона — ужасный инструмент, который может привести к окончательному не ведающему раскаяния бунту. Но она дает дурному человеку единственную существенную возможность исправления. Она снимает завесу, она водружает знамя истины в крепости мятежной души.
Если первое и самое низкое действие боли уничтожает иллюзию полного благополучия, то второе уничтожает иллюзию, заключающуюся в том, что имеющееся в нашем распоряжении, будь оно само по себе плохо или хорошо, есть наше собственное, и что нам его достаточно. Каждый замечал, как тяжело обращать наши мысли к Богу, когда у нас все обстоит хорошо. У нас есть все, чего мы хотим» — что за ужасные слова, когда это «все» не включает себя Бога. Мы видим в Боге помеху. Как сказал где-то Бл. Августин: «Бог хочет дать нам нечто, но не может, потому что наши руки полны — и Ему некуда это положить». Или как сказал мой друг: «Мы относимся к Богу, как авиатор относится к своему парашюту — на случай аварии парашют у него есть, но он надеется никогда к нему не прибегнуть». Бог, сотворивший нас, знает, что мы такое, и что наше счастье состоит в Нем. Но мы не хотим искать в Нем этого счастья, покуда Он оставляет хоть какую-то возможность искать его в любом другом месте. До тех пор, пока то, что мы именуем «нашей собственной жизнью» остается сносным, мы не хотим предавать себя Ему. Что же тогда остается Богу предпринять в наших, интересах, как не сделать «нашу собственную жизнь» менее сносной и отнять у нас возможные источники ложного счастья? Именно здесь, где провидение Бога кажется на первый взгляд наиболее жестоким. Божественное смирение, снисхождение Всевышнего заслуживает наивысшей похвалы. Мы теряемся, видя, как сваливается беда на порядочных, безобидных, достойных людей — на способных и усердных матерей семейств, или на старательных и экономных мелких торговцев, на тех, кто заплатил таким усердным и честным трудом за свою скромную долю счастья и теперь, кажется, начинает по самому полному праву им пользоваться. Как мне сказать с достаточной кротостью то, что надлежит здесь сказать? Неважно, что, как я знаю, в глазах всякого враждебно настроенного читателя мне предстоит стать, так сказать, лично ответственным за все страдания, которые я пытаюсь объяснить — точно так же, как до сего дня все рассуждают так, словно Бл. Августин хотел, чтобы некрещеные младенцы отправлялись в ад. Но исключительно важно, чтобы я никого не отвратил от истины. Я умоляю читателя попытаться поверить мне, хотя бы на мгновение, что Бог, сотворивший этих достойных людей, может быть, прав, полагая их скромное благополучие и счастье их детей недостаточными для их блаженства — всего этого им предстоит впоследствии лишиться, и если они не познают Его, они будут несчастны. И потому Он тревожит их, предупреждает их заранее о недостаточности, которую им предстоит когда-нибудь обнаружить. Жизнь для своих семей загораживает им путь к признанию их нужды, и Бог делает эту жизнь менее приятной для них. Я называю это Божественным смирением, потому что нам не пристало посылать Богу мольбу о спасении, когда наше судно идет ко дну, жертвовать «нашим собственным», когда уже не стоит им обладать. Если бы Бог был горд. Он вряд ли принял бы нас на таких условиях, — но Он не горд, Он снисходит для победы, Он готов принять нас, несмотря даже на то, что, как мы показали, мы предпочитаем Ему все, что угодно, и приходим к Нему лишь потому, что уже не ожидаем ничего лучшего. То же смирение сквозит и в отношении Бога к нашим страхам, которые так не по вкусу читателям Писания с возвышенным образом мыслей. Вряд ли Богу лестно, что мы выбираем Его в качестве альтернативы аду, но Он принимает даже это. Присущая созданию иллюзия самодостаточности должна быть, ради самого создания, развеяна, и посредством бедствий или опасения бедствий на земле Бог развеивает ее, «не тщась об умалении Своей славы». Желающие, чтобы Бог Писания был строже в нравственном отношении, не сознают, чего они просят. Будь Бог кантианцем, ни принимающим нас до тех пор, пока мы не придем к Нему из самых чистых и лучших побуждений, — кто бы спасся? И эта иллюзия самодостаточности, возможно, наиболее сильна в некоторых очень честных, добрых и умеренных людях, и поэтому на долю таких людей должны выпадать бедствия.
Опасность кажущейся самодостаточности объясняет, почему наш Господь относится к порокам бездумных и беспутных людей намного снисходительнее, чем к порокам, которые ведут к мирскому успеху. Проституткам не грозит опасность настолько удовлетвориться своей нынешней жизнью, что они не смогут обратить взоры к Богу, но гордым, скаредным и самодовольным такая опасность грозит.
Третья функция страдания несколько труднее для понимания. Каждый согласится с тем, что выбор представляет собой принципиально сознательный акт — выбирая, человек должен сознавать, что он стоит перед выбором. Райский человек всегда, по собственному выбору, исполнял волю Бога. Следуя ей, он удовлетворял и собственное свое желание, как потому, что требуемые от него поступки вполне отвечали его невинной природе, так и потому, что само служение Богу было для него величайшим удовольствием, в отсутствие которого все радости, которым оно придавало остроты, стали бы для него пресными. Тогда не вставал вопрос: «Делаю я это для Бога, или же просто потому, что мне так нравится?», потому что райскому человеку как раз и нравилось в основном то, что он делал для Бога. Его устремленная к Богу воля держала его счастье под седлом, как хорошо ухоженную лошадь, тогда как наша воля уносится этим счастьем как кораблем, вниз по бурной реке. В то время удовольствие было приемлемым приношением Богу, потому что приношение было удовольствием. Но мы унаследовали целую систему желаний, которые не обязательно противоречат Божьей воле, но которые, после столетий узурпированной автономии, упорно ее игнорируют. Если вдруг нечто, что нам нравится делать, оказывается тем, чего хочет от нас Бог, то это не является для нас побуждением к совершению такого действия, будучи попросту счастливым совпадением. Поэтому мы не в состоянии осознать, действуем ли мы хоть в какой-то степени, или в первую очередь, в угоду Богу, если только природа наших действий не противна нашим наклонностям, или, иными словами, болезненна, — а если мы не сознаем, что осуществляем выбор, то мы не в состоянии выбирать. Поэтому акт предания себя Богу, во всей его полноте, требует боли, — совершенство такого поступка требует, чтобы он исходил из чистой воли к повиновению, в отсутствие, или вопреки, склонности. Насколько невозможно осуществить самоотречение путем действий, которые нам по душе, мне очень хорошо известно из моего собственного опыта в данный момент. Когда я взялся писать эту книгу, я надеялся, что в моих побуждениях хотя бы какое-то место займет воля к повиновению некоему «руководству». Но теперь, когда я полностью в нее погрузился, это стало скорее искушением, чем долгом. Я все еще могу надеяться, что написание этой книги в самом деле соответствует Божьей воле, — но было бы смехотворным утверждать, что я учусь самоотречению, делая нечто для меня привлекательное.
Здесь мы ступаем по очень неверному грунту. Кант считал, что никакое действие не имеет моральной ценности, если оно не предпринято из чистого преклонения перед нравственным законом — то есть, в отсутствие склонности, — и его обвиняли в «болезненном складе ума», измеряющем ценность поступка степенью его неприятности. И притом, общее мнение явно на стороне Канта. Люди никогда не восхищаются человеком, который делает то, что ему нравится. Уже сами по себе слова — «Да ведь это ему нравится?» — подразумевают вывод: «А значит, в этом нет заслуги». Но Канту противостоит тот очевидный факт, отмеченный еще Аристотелем, что чем добродетельнее становится человек, тем больше удовольствия он получает от добродетельных поступков. Не знаю, как быть атеисту с этим конфликтом между моралью долга и моралью добродетели, но, как христианин, я предлагаю следующее решение.
Иногда задается вопрос, дает ли Бог определенные повеления потому, что они верны, или же они верны потому, что отданы Богом. В согласии с Хукером, и вопреки доктору Джонсону, я ревностно принимаю первый вариант. Второй может привести к отвратительному выводу (к которому, кажется, пришел Пейли), что милосердие есть благо лишь потому, что так произвольно повелел Бог, — что Он мог с тем же успехом повелеть нам ненавидеть Его и друг друга, и тогда эта ненависть была бы правильной. Напротив, я считаю, что «заблуждаются полагающие, что воле Бога совершить то или иное нет причины иначе, как в Его воле» (Хукер. «Законы церковного устройства»). Воля Бога определяется Его мудростью, которая всегда различает изначальное добро, и Его благостью, принимающей это добро. Но говоря, что Бог дает определенные повеления лишь потому, что их предметом является добро, мы должны добавить, что одно из изначальных благ заключается в том, что разумные существа должны по собственной воле самоотречение подчиниться своему Создателю. Предмет нашего повиновения — то, что нам повелевают делать, — всегда будет изначальным благом, чем-то, что мы должны исполнять даже в том случае, если — предположим невероятное — Бог не повелел бы так поступить. Но, вдобавок к предмету, уже само повиновение есть также изначальное благо, ибо, повинуясь, разумное существо сознательно берет на себя свою тварную роль, обращает вспять действие, посредством которого мы пали.
Поэтому мы согласимся с Аристотелем в том, что изначально правильное вполне может быть приятным, и что чем лучше человек, тем больше оно будет ему нравиться. Но мы согласны с Кантом настолько, чтобы утверждать, что существует одно правильное действие — самоотречение, — которого не могут в полной мере возжелать падшие создания, если только оно не неприятно. И мы должны добавить, что это конкретное правильное действие включает в себя всю остальную праведность, и что полнейшее погашение Адамова грехопадения, движение «полным ходом назад», с помощью которого мы проходим вспять наш долгий путь от рая, развязывание старого крепкого узла имеет место тогда, когда создание, не помышляя о сопротивлении, обнаженное до голой воли к повиновению, принимает противное своей природе и совершает то, к чему возможно лишь одно-единственное побуждение. Такой поступок может быть охарактеризован как «испытание» возвращения к Богу, и потому наши отцы говорили, что беды посылаются нам «во испытание». Знакомый пример — «испытание» Авраама, когда ему было приказано принести в жертву Исаака. Меня сейчас занимает не историчность или мораль этого рассказа, а очевидный вопрос: «Если Бог всеведущ. Он должен был без всякого эксперимента знать, как поступит Авраам — к чему же эта ненужная пытка?» Но, как отвечает Бл. Августин («О граде Божием»), что бы там ни было известно Богу, Авраам, во всяком случае, не знал, что его повиновение может выдержать подобное повеление, пока факт не убедил его в этом. А так как он не знал, изберет ли он подобное повиновение, то и нельзя было сказать о нем, что он его избрал. Реальность повиновения Авраама состояла именно в его поступке, и то, что знал Бог в Своем осознании повиновения Авраама, было реальное повиновение Авраама, в то мгновение на вершине горы. Говорить, что Богу «незачем было экспериментировать», — значит утверждать, что то, о чем Бог знает, не обязано существовать.
Если боль порой и разрушает ложную самодостаточность создания, то в высочайшем «испытании» или «жертве» она учит его той самодостаточности, которой оно должно обладать — «силе, которая, дарованная свыше, принадлежит ему». Ибо тогда, в отсутствие всех попросту естественных побуждений и подпор, оно действует в той — и исключительно в той — силе, которую Бог ниспосылает ему через его подчинившуюся волю. Человеческая воля становится поистине творческой и поистине нашей собственной, когда она целиком принадлежит Богу, и в этом смысле — в одном из многих — потерявший свою душу обретет ее. Во всех прочих действиях наша воля движется природой, то есть сотворенными вещами, отличными от нашего «я», — желаниями, поступающими к нам от нашего физического организма и нашей наследственности. Когда мы действуем только от себя — то есть, от Бога внутри нас — мы являемся со-творцами, или инструментами творения. И поэтому такой акт снимает нетворческое заклятие, наложенное на наш вид Адамом. Поэтому, точно так же, как самоубийство является типичным выражением стоического духа, а битва — духа воинственного, мученичество всегда остается высочайшим выражением и совершенством христианства. Это великое действие было начато для нас, совершено ради нас, поставлено примером для нашего подражания и таинственным образом сообщено всем верующим Христом на Голгофе. Здесь степень принятия смерти достигает последних пределов вообразимого и, возможно, выходит за них. Не только все природные опоры, но даже присутствие самого Отца, которому приносится жертва, покидает жертву, и предание ее в руки Бога происходит неукоснительно, хотя Бог и «покидает» ее.
Учение о смерти, излагаемой мной, не является исключительным достоянием христианства. Сама природа выписала его жирным шрифтом по всему миру в повторяющейся драме погребенного зерна и восставших из земли колосьев. От природы, видимо, научились этому старейшие сельскохозяйственные общины, которые, принесением в жертву животных или людей, столетиями демонстрировали истину, что
«без пролития крови не бывает прощения»
(Евр. 9:22), и хотя на первых порах подобные идеи, возможно, имели отношение только к урожаю и к потомству племени, позднее, в мистериях, они стали относиться к духовной смерти и воскресению индивида. Индийский аскет, умерщвляющий плоть на утыканном гвоздями ложе, проповедует ту же истину. Греческий философ говорит нам, что жизнь в мудрости — это «занятие смерти» (Платон. «Федр»). Тонкий и благородный язычник нового времени заставляет своих воображаемых богов «умирать в жизнь» (Ките. «Гиперион»). Олдос Хаксли провозглашает «неприверженность». Мы не можем уйти от этого учения, просто перестав быть христианами. Это «вечное Евангелие», возвещаемое людям везде, где бы они ни искали истины и не жили с ней, это самая сердцевина искупления, всегда и везде обнажаемая анатомизирующей мудростью, это неизбежное знание, которое Свет, просвещающий каждого, влагает в разум всем, кто всерьез задается вопросом о смысле вселенной. Особенность христианской веры состоит не в том, что она проповедует это учение, а в том, что она делает его во многих отношениях более приемлемым. Христианство учит, что тяжкий путь уже в каком-то смысле пройден за нас — что рука учителя держит нашу руку, в то время как мы силимся выводить трудные буквы, и что написанное нами может быть лишь «копией» и не обязано быть оригиналом. Опять же, тогда как другие системы подвергают смерти всю нашу природу, как в буддистском отречении, христианство требует всего лишь, чтобы мы выправили ложное направление в нашей природе и, в отличие от Платона, ничего не имеет против тела, как такового, и физических элементов в нашем составе. И жертва в ее высочайшем воплощении спрашивается не с каждого. Исповедники, равно как и мученики, спасаются, а некоторые старики, в чьем благодатном состоянии мы вряд ли можем сомневаться, производят впечатление доживших до своих семидесяти лет с удивительной легкостью. Жертва Иисуса повторяется, или отдается эхом, среди Его последователей в различной степени — от жесточайшего мученичества до внутреннего подчинения, внешние признаки которого неотличимы от обычных плодов умеренности и здравомыслия. Причин такого распределения я не знаю, но с нашей нынешней точки зрения должно быть ясно, что настоящая проблема заключается не в том, почему иные смиренные и набожные люди страдают, а почему некоторые не страдают вовсе. Следует помнить, что Сам наш Господь объяснил спасение тех, кто был счастлив в этом мире, лишь сославшись на непостижимое всемогущество Бога (Марк. 10:27).
Все эти аргументы в оправдание страдания вызывают сильную неприязнь к автору. Вам хотелось бы знать, как я веду себя, когда испытываю боль, а не тогда, когда я пишу об этом книги. Вам ни к чему строить догадки, ибо я признаюсь вам: я страшный трус. Но какое это имеет отношение к нашему предмету? Когда я думаю о боли — о прожорливой, как огонь, тревоге, и об одиночестве, простирающемся подобно пустыне, о надрывающем сердце монотонном мучении, или же о тупой ноющей боли, затмевающей весь видимый мир, о внезапной тошнотворной боли, одним ударом парализующей сердце, о боли, которая уже казалась невыносимой, и вдруг внезапно усилилась, о повергающей в ярость, жалящей подобно скорпиону боли, которая заставляет человека, уже казалось бы полумертвого от предыдущей пытки, дергаться в маниакальных корчах — это затмевает во мне дух. Если бы я знал средство избежать этого, я бы пополз в поисках такого средства по канализационным трубам. Но что пользы говорить вам о моих чувствах? Вам они уже известны — они те же, что и ваши. Я не утверждаю, что боль не болезненна. Боль очень неприятна. Слово «боль» именно это и означает. Я лишь пытаюсь показать, что старое христианское учение о достижении
«совершенства через страдание»
(Евр. 2:10) не является невероятным. Сделать его приемлемым не входит в мои планы.
При оценке правдоподобия учения следует соблюдать два принципа. Прежде всего мы должны помнить, что реальный момент сиюминутной боли — это лишь центр того, что можно назвать целой системой бедствий, ширящейся посредством страха и жалости. Возможность благих последствий этих чувств зависит от центра — так что если бы даже сама боль не имела духовной ценности, но страх и жалость обладали бы ею, боль должна бы была существовать затем, чтобы был повод для страха и жалости. А в том, что страх и жалость помогают нам в нашем возвращении к повиновению и милосердию, нет никакого сомнения. Каждый знает по себе, как жалость помогает нам любить то, что не кажется достойным любви, — то есть, любить людей не потому, что они каким-то образом естественно нам приятны, а потому, что они наши братья. Благодатность страха большинство из нас изведало в период «кризисов», приведших к нынешней войне. Мой собственный опыт в общих чертах таков. Я движусь по тропе жизни в моем обычном, удовлетворенно павшем и безбожном состоянии, поглощенный предстоящей веселой встречей с друзьями, или какой-то работой, которая в настоящий момент потворствует моей гордыне, праздником или новой книгой, как вдруг внезапная боль в животе, грозящая серьезной болезнью, или заголовок в газетах, грозящий всем нам уничтожением, обрушивает весь этот карточный домик. Вначале я ошеломлен, и все мои маленькие радости похожи на поломанные игрушки. Затем, медленно и неохотно, мало-помалу, я пытаюсь привести себя в то расположение духа, в котором мне следовало бы пребывать всегда. Я напоминаю. себе, что все эти игрушки никогда не должны были владеть моим сердцем, что мое истинное благо — в ином мире, и что мое единственное сокровище — Христос. И возможно. Божьей благодатью, мне это удается, и на день-два я становлюсь созданием, сознательно зависимым от Бога и черпающим свою силу из верных источников. Но в то самое мгновение, как угроза минует, вся моя природа бросается назад к игрушкам — я даже тороплюсь изгнать из сознания, да простит меня Бог, то единственной, что поддерживало меня перед лицом угрозы, потому что теперь оно ассоциируется с горестями этих нескольких дней. Таким образом, ужасная необходимость испытаний совершенно очевидна. Я был с Богом лишь двое суток, и то лишь потому, что Он отнял у меня все остальное. Стоит Ему на мгновение вложить этот меч в ножны, и я веду себя, как щенок, когда с ненавистным купанием покончено, — я, как могу, отряхиваюсь насухо и мчусь прочь, чтобы вновь обрести свою привычную чумазость, если и не в ближайшей куче навоза, то, по крайней мере, в ближайшей клумбе. И поэтому испытания не могут прекратиться до тех пор, пока Бог не увидит, что мы либо переродились, либо ожидать от нас перерождения уже бесполезно.
Во-вторых, когда рассматриваем саму боль — центр всей этой системы бедствий, — мы должны, со всей осторожностью, обращать внимание на то, что нам известно, а не на то, что мы воображаем. Это одна из причин, по которой вся центральная часть этой книги посвящена человеческой боли, а боль животных отнесена в особую главу. Человеческая боль нам известна, а о боли животных мы можем лишь строить догадки. Но даже в пределах человеческого рода мы должны черпать свидетельства из примеров, которые нам доводится наблюдать лично. Тот или иной поэт или прозаик может иметь тенденцию изображать страдание, как нечто полностью отрицательное в своих последствиях, как вызывающее и оправдывающее всевозможное зло и жестокость в страдающем. И, конечно же, боль, как и удовольствие, можно воспринимать таким образом — все, что дается созданию со свободной волей, по необходимости имеет две стороны — не из-за природы дающего или дара, а из-за природы получающего. (Относительно двусторонней природы боли см. «Дополнение».) И опять же, зло, вызываемое болью, может умножаться, если посторонние лица упорно убеждают страдающих, что подобные результаты являются вполне подобающими и мужественными, и их следует выставлять на всеобщее обозрение. Такая великодушная страсть, как возмущение чужими страданиями, должна хорошо контролироваться, чтобы она не лишила страдающих терпения и смирения, заменив их гневом и цинизмом. Но я не думаю, чтобы страдание, в отсутствие подобного назойливого возмущения вчуже, имело естественную тенденцию приводить к такому злу. Я не нашел во фронтовых окопах большей ненависти, эгоизма, бунтарства и бесчестия, чем в каком бы то ни было другом месте. Я видел в иных великих страдальцах великую красоту духа. Я наблюдал, как люди с прошествием лет становятся большей частью лучше, а не хуже, и я видел, как предсмертный недуг обнажал в самых малообещающих кандидатах истинные сокровища стойкости и кротости. Я вижу в таких исторических фигурах, как Джонсон и Каупер, предметах любви и поклонения, черты, которые вряд ли были бы переносимыми, будь эти люди счастливее. Если мир и впрямь представляет собой «юдоль душетворения», то похоже, что в целом он справляется со своей работой. О нищете — бедствии, которое заключает в себе, в действительном или потенциальном виде, все прочие бедствия — я не стану говорить от своего имени, и те, кто отвергает христианство, не будут тронуты словами Христа о том, что нищета блаженна. Но здесь мне на помощь приходит один довольно замечательный факт. Те, кто наиболее гневно обличает христианство как попросту «опиум для народа», питают презрение к богатым» — то есть, ко всему человечеству, за исключением бедных. Они рассматривают бедных как единственных людей, которых стоит уберечь от «ликвидации», и видят в них единственную надежду человеческого рода. Но это несовместимо с мнением, что влияние нищеты на тех, кто ею обременен, целиком отрицательно — отсюда следует даже, что они обладают благом. Таким образом, марксизм парадоксальным образом сходится с христианством в этих двух пунктах веры, которых требует христианство — что нищета блаженна, но что ее следует устранить.
7. Человеческая боль (продолж.)
Все предметы, пребывающие, как им должно быть, подначальны сему второму вечному закону; и даже тем, кои сему вечному закону не подлежат, первым вечным законом известный придан порядок.
Хукер. «Законы церковного устройства»
В этой главе я выдвигаю шесть положений, необходимых для завершения нашего рассмотрения человеческого страдания. Эти положения не вытекают одно из другого, и поэтому излагаются в произвольном порядке.
В христианстве имеется парадокс, относящийся к испытаниям. Блаженны нищие, но мы должны, где только возможно, «судом» (т. е. социальной справедливостью) и милостыней устранять нищету. Блаженны мы, когда нас преследуют, но мы можем избегать преследования, скрываясь то в одном, то в другом городе, и можем молиться, чтобы оно обошло нас стороной, как наш Господь молился к Гефсиманском саду. Но если страдание — благо, не следует ли скорее стремиться к нему, чем избегать его? Я отвечу на это, что само по себе страдание — не благо. В каждом тяжелом испытании благом, для страдающего, является его покорность воле Бога, а для свидетелей — пробужденное в них сострадание и милосердные поступки, к которым оно приводит. В падшей и отчасти искупленной вселенной мы можем различать (1) простое благо, исходящее от Бога, (2) простое зло, произведенное мятежными созданиями и (3) использование этого зла Богом в Его искупительных целях, результатом чего является (4) сложное благо, в котором участвует смиренно принятое страдание и исповедание греха. При этом тот факт, что Бог может произвести сложное благо из простого зла, не извиняет — хотя по милосердию и может спасти — тех, кто творит простое зло. И это различие является кардинальным. Преступлениям надлежит свершиться, но горе тем, через кого они свершаются. Грехи и впрямь ведут к изобилию благодати, но мы не должны под этим предлогом продолжать грешить. Само распятие — это наилучшее, равно как и наихудшее, из всех исторических Событий, но Иуда остается вершителем простого зла. Мы можем в первую очередь применить это к проблеме страдания других людей. Милосердный человек хочет добра для своего ближнего, и таким образом совершает «Божью волю», сознательно трудясь для «простого блага». Жестокий человек угнетает своего ближнего, и совершает таким образом простое зло. Но, совершая это зло, он, без своего ведома и согласия, используется Богом для свершения сложного добра, так что первый служит Богу, как сын, а второй — как орудие. Ибо, как бы вы ни поступали, вы, несомненно, будете осуществлять Божью цель, но для вас не безразлично, служите вы как Иуда, или же как Иоанн. Вся система, так сказать, рассчитана на столкновение между хорошими и плохими людьми, и добрые плоды стойкости, терпеливости, жалости и прощения, ради которых жестокому человеку позволяется быть жестоким, предполагают, что добрый человек обыкновенно продолжает стремиться к простому добру. Я говорю «обыкновенно», потому что человек порой имеет право причинить боль ближнему или, на мой взгляд, даже убить его, но лишь тогда, когда необходимость в этом является неотложной, а преследуемое благо — очевидным, и обычно (хотя и не всегда) в том случае, когда причиняющий боль имеет определенную власть так поступить — родительскую власть, полученную от природы, власть гражданского служащего или солдата, полученную от общества, или же власть хирурга, полученную, по большей части, от пациента. Превратить это во всеобщее позволение причинять людям страдание, «потому что страдание полезно для них» (как у Марло безумец Тамерлан похвалялся тем, что он «бич Божий») — значит, конечно же, не нарушить планы Бога, но добровольно занять в этих планах роль дьявола. Если вы совершаете его работу, вы должны быть готовы принять положенную ему плату.
Проблема избежания нашей собственной боли допускает аналогичное решение. Некоторые аскеты занимаются самоистязанием. Как человек непосвященный, я не стану выдвигать свое мнение о благоразумности подобного упражнения, но я настаиваю на том, что, каковы бы ни были достоинства самоистязания, оно весьма отличается от испытаний, посылаемых Богом. Каждый знает, что пост — это нечто совсем иное, чем пропустить обед случайно или по бедности. Пост утверждает волю по отношению к аппетиту — чему наградой твердость характера, а опасность — гордость. Невольный же голод подчиняет как аппетит, так и волю Божественной воле, являясь поводом к проявлению покорности и подвергая нас опасности бунта. Но искупительное действие страдания состоит главным образом в тенденции усмирять волю к бунту. Аскетический образ жизни, который сам по себе укрепляет волю, полезен лишь постольку, поскольку он придает воле способность привести в порядок свой собственный дом (страсти), в качестве подготовки к приношению всего человека Богу. Он необходим, как средство — он был бы отвратителен, как цель, ибо поставив волю на место аппетита и на том остановившись, он попросту подменил бы животное существо дьявольским. Поэтому истинно сказано, что лишь Бог может укрощать страсти. Испытания поистине выполняют свою роль в мире, где человеческие существа, как правило, пытаются законными методами избегать своего собственного природного зла и достигать своего природного блага, и они предполагают существование такого мира. Для того чтобы подчинить волю Богу, мы должны иметь волю и эта воля должна быть направлена на объекты. Христианская отрешенность — это не стоическая «апатия», а готовность предпочесть Бога низшим целям, которые сами по себе законны. Поэтому Совершенный Человек пришел в Гефсиманский сад с волей, и с сильной волей, избежать страдания и смерти, если подобное бегство будет совместимо с волей отца, в сочетании с совершенной готовностью к повиновению, если это не так. Некоторые святые рекомендуют «полную отрешенность» в самом начале нашего ученичества, но по-моему это может означать лишь полную готовность к каждому конкретному отрешению, (ср. у Брата Лоуренса. «Практика Богоприсутствия», беседа 4, 25 ноября 1667 г.: там говорится об «одном единодушном отрешении» — «от всего, что, по нашему пониманию, не ведет к Богу), которое может быть потребовано, ибо не представляется возможным жить от мгновения к мгновению, не желая ничего, кроме чистого подчинения Богу. Что же было бы материалом такого подчинения? Высказывание «то, чего я хочу — это подчинить то, чего я хочу, воле Бога» представляется противоречивым, так как второе «то» бессодержательно. Не подлежит сомнению, что все мы уделяем слишком много внимания избежанию нашей собственной боли, но намерение законными средствами избежать ее находится в соответствии с «природой» — то есть, со всей рабочей системой тварной жизни, к которой приспособлено искупительное действие испытания.
Поэтому было бы совершенно ложным полагать, что христианские взгляды на страдание несовместимы с сильнейшим упором на нашем долге оставить мир, даже в самом мирском смысле, «лучшим», чем мы его нашли. В самой подробной притче о Суде, данной нам нашим Господом, Он словно бы сводит всю добродетель к активной благотворительности, и хотя было бы заблуждением рассматривать одну эту картину в отрыве от Евангелия в целом, ее достаточно, чтобы развеять все сомнения относительно общественной морали христианства.
2. Если испытания являются необходимым элементом в искуплении, мы должны предвидеть, что они не прекратятся до тех пор, пока Бог не решит, что этот мир либо искуплен, либо не поддается дальнейшему искуплению. Поэтому христианин не может поверить тем, кто обещает, что если только в нашей экономической, политической и гигиенической системе будет произведена известная реформа, то наступит Царство Божие на земле. Это может показаться фактором, отрицательно сказывающимся на деятельности общественного благотворителя, но, как показывает практика, это не охлаждает его энтузиазма. Напротив, сильное чувство общности наших несчастий, несчастий свойственных всем людям, представляет собой по крайней мере не худший стимул к посильному устранению их, чем все эти беспочвенные надежды, которые искушают людей на поиски их воплощения путем нарушения нравственного закона, и будучи реализованными, оборачиваются прахом и пеплом. Если учение о том, что воображаемое Царство Божие на земле необходимо для энергичного устранения присутствующего зла, применить к индивидуальной человеческой жизни, его абсурдность тотчас же станет явной. Голодные ищут пищи, а больные — исцеления, несмотря на то, что после еды или лечения их по-прежнему ожидают обычные взлеты и падет я жизни. Я, конечно, не разбираю вопроса о том, желательны или нет радикальные перемены в нашей общественной системе, — я лишь напоминаю читателю, что конкретное лекарство не следует принимать за эликсир жизни.
3. Поскольку мы уже упомянули политические вопросы, я должен со всей ясностью сказать, что христианское учение о самоотрицании и повиновении – это чисто богословское, и ни в коем случае не политическое, учение. Я не намерен ничего говорить о формах правления, о гражданской власти и гражданском повиновении. Характер и степень повиновения, полагающегося Творцу от твари, уникальны, потому что отношение между тварью и Творцом уникально, отсюда нельзя сделать никакого вывода, применимого к какому бы то ни было политическому положению.
4. Христианское учение о страдании объясняет, на мой взгляд, очень любопытный факт относительно мира, в котором мы живем. Бог, по самой природе этого мира, лишает нас установившегося счастья и обеспеченности будущего, но Он щедро наделил нас радостью, удовольствием и весельем. Мы никогда не застрахованы от опасности, но у нас в избытке веселья, а порой и экстаза. Нетрудно догадаться, почему. Обеспеченность будущего, которой мы жаждем, научит нас сердечной привязанности к этому миру, тогда как несколько мгновений счастливой любви, пейзаж, симфония, веселая встреча с друзьями, купание или футбольный матч не проявляют подобной тенденции. Наш Отец посылает нам в отдохновение в нашем путешествии приятные гостиницы, но не дает нам стимула по ошибке принимать их за наш дом.
5. Мы никогда не должны усугублять проблему боли туманными рассуждениями о «невообразимой сумме человеческих несчастий». Допустим, у меня возникла зубная боль интенсивностью в «х». Допустим также, что у вас, сидящего рядом со мной, также возникает зубная боль интенсивностью в «х». Вы могли бы, если угодно, сказать, что общее количество боли в комнате составляет теперь 2х. Но вы должны помнить, что никто конкретно не страдает от боли в 2х — обыщите все время и пространство, и вы не найдете этой составной боли ни в чьем сознании. Такой вещи, как сумма страданий, не существует, ибо никто ею не страдает. Когда мы достигаем максимума страданий, которые под силу одному человеку, мы, несомненно, достигаем чего-то весьма ужасного, но мы достигаем в то же время максимума страдания, возможного во вселенной. Добавлением миллиона других страждущих мы уже не добавим боли.
6. Из всех зол лишь боль является злом стерилизованным, дезинфицированным. Интеллектуальное зло, или ошибка, может повториться, потому что причина первой ошибки (допустим, усталость или плохой почерк) продолжает действовать. Но и помимо этого, ошибка сама по себе порождает ошибки — если неправильно первое положение в рассуждении, то неправильно и все, что из него следует. Грех может повторяться, потому что не устранено первоначальное искушение — но и помимо этого грех, по самой своей природе, порождает грех, укрепляя греховную привычку и ослабляя совесть. Конечно же, и боль, как всякое другое зло, может повторяться, потому что причина первой боли (болезнь или враг) все еще действует, но боль не имеет тенденции умножать сама себя. Когда она прекращается, она прекращается совсем, и ей на смену естественным образом приходит радость. Это различие можно пояснить и с обратной стороны. После совершения ошибки вам нужно не только устранить ее причины (усталость или плохой почерк), но также исправить саму ошибку. После совершения греха вы должны не только устранить, если возможно, искушение, но также вернуться к греху и покаяться в нем. В каждом случае требуется «обратное действие». Боль не требует такого обратного действия. Вам, может быть, нужно будет вылечиться от болезни, которая ее вызвала, но боль, коль скоро она прекратилась, стерильна, тогда как каждая неисправленная ошибка или не сопровожденный покаянием грех являются сами по себе источниками новых ошибок и грехов, продолжающихся до конца времен. Опять же, когда я ошибаюсь, моя ошибка заражает каждого, кто мне верит. Когда я грешу всенародно, каждый свидетель либо одобряет мой грех, соучаствуя, таким образом, в моей вине, либо осуждает его, что чревато опасностью для его милосердия и смирения. Но страдание, естественным образом, не вызывает у свидетелей (если только они не слишком испорчены) дурных последствий, а вызывает хорошее — жалость. Таким образом, зло, используемое Богом в основном для создания «сложного блага», наиболее явно дезинфецировано, то есть лишено тенденции к умножению, которая является самой худшей характеристикой зла в целом.
8. Ад
Что есть весь мир, солдаты?
Это я —
Я, этот снег, полночные края. Солдаты, одиночество в пути,
Где вместе нам идти — Все это я.
У. де ла Map. «Наполеон»
Ричард любит Ричарда, что значит:
Я — это я.
Шекспир
В одной из предыдущих глав я признавал, что боль, которая одна лишь в состоянии убедить дурного человека, что не все обстоит наилучшим образом, может также привести его к последнему без раскаяния бунту. И на протяжении всего повествования я признавал, что человек обладает свободной волей, и что в связи с этим все дары, предоставляемые ему, имеют как лицевую сторону, так и изнанку. Из этих посылок непосредственно следует, что Божественные труды по искуплению мира не могут наверняка обеспечить успех в отношении каждой индивидуальной души. Некоторых искупление обойдет стороной. Нет ни одного другого учения, которое я с такой охотой устранил бы из христианства, будь это в моей власти. Но оно полностью подтверждается Писанием и, в особенности, собственными словами нашего Господа — христианство всегда придерживалось этого учения, и оно подтверждается разумом. Если мы играем в игру, мы должны иметь возможность проиграть. Если счастье человека лежит в его самоотречении, оно никому не под силу, кроме него самого (хотя многие могут помочь ему в этом), и он может отказаться. Я бы уплатил любую цену, чтобы иметь возможность правдиво сказать: «Все будут спасены». Но мой разум выдвигает вопрос: «Посредством их воли, или без нее?» Если я скажу: «Без их воли», я тотчас же отмечу противоречив. Каким образом величайший акт воли, самоотречение, может совершиться помимо воли? Если я скажу: «Посредством их воли», мой разум ответит: «Каким же образом, если они этого не пожелают?»
Высказывания Господа об аде, как и все Его высказывания, адресованы не нашему рассудочному любопытству, а совести и воле. Когда они пробуждают нас к действию, убеждая нас в возможности ужасного результата, они, вероятно, делают все, на что они были рассчитаны, и если бы весь мир был населен убежденными христианами, больше не было бы нужды об этом говорить. Дело, однако, обстоит таким образом, что это учение составляет одно из главных оснований для нападок на христианство как на варварскую религию и для сомнений в благости Бога. Нам говорят, что это отвратительное учение — и оно мне самому до глубины души отвратительно — и напоминают о трагедиях, происходящих в человеческой жизни от веры в него. О других трагедиях, происходящих от неверия в него, нам говорят реже. По этим причинам — и только по этим — необходимо обсудить этот вопрос.
Проблема заключается не просто в том. что Бог предает некоторые из Своих созданий окончательной погибели. Это была бы проблема, будь мы магометанами. Христианство, верное, как всегда, сложности реального мира, предлагает нам нечто более запутанное и неоднозначное — Бога, в такой степени исполненного милосердия, что он становится человеком и умирает под пытками, чтобы отвратить от Своих созданий окончательную погибель, и который, тем не менее, там, где это героическое средство не действует, по-видимому не желает, или даже не может, предотвратить эту погибель простым актом власти. Мгновение назад я легкомысленно сболтнул, что уплатил бы любую цену, лишь бы избавиться от этого учения. Но я солгал. Я не мог бы уплатить и тысячной доли той цены, которую уже уплатил Бог, чтобы устранить не просто учение, а сам факт. В этом-то и состоит реальная проблема: при таком избытке милосердия все же существует ад.
Я не буду пытаться доказывать, что это учение вполне сносно. Выскажемся начистоту: оно невыносимо. Но по-моему, можно доказать нравственность этого учения путем критики обычно выдвигаемых, или чувствуемых, возражений против него.
Во-первых, у многих на уме возражение против справедливости воздаяния как таковой. Это мы отчасти обсудили в одной из предыдущих глав. Там утверждалось, что всякое наказание становится несправедливым, если из него устранить идею воздаяния по заслугам, и даже в самой страсти мщения было обнаружено ядро праведности — в требовании, чтобы злой человек не оставался в полном удовлетворении содеянным им злом, что оно должно предстать ему тем, чем оно истинно предстает другим — злом. Я говорил, что боль водружает флаг истины внутри мятежной крепости к покаянию. Но что, если этого не происходит — если за водружением флага не следует никаких побед? Попробуйте быть честным с самим собой. Представьте себе человека, который достиг власти и богатства путем непрерывной цепи измен и жестокостей, путем использования в чисто эгоистических целях благородных побуждений своих жертв, непрестанно посмеиваясь над их простотой, который добившись таким образом успеха, использует его для удовлетворения своей похоти и ненависти и, в конечном счете, расстается с последними остатками воровского кодекса чести, предавая своих собственных сообщников и глумясь над их ошеломленным прозрением в последние мгновения жизни. Предположим далее, что он делает все, вопреки нашим ожиданиям, не мучась угрызениями, но ест с аппетитом школьника и спит, как здоровый младенец, — этакий бодрый краснощекий детина, которого ничто в мире не тревожит, который до самого конца непоколебимо уверен, что один лишь он обнаружил разгадку жизни, что Бог и человек — дураки, которых он обвел вокруг пальца, что его образ жизни вполне успешен, удовлетворителен, безупречен. Здесь нам следует быть осторожными. Даже малейшая уступка страсти мщения — весьма тяжкий грех. В соответствии с христианским милосердием мы должны приложить все усилия к обращению такого человека на истинный путь, предпочесть его обращение — хотя бы и с угрозой нашей собственной жизни, даже душе — его наказанию, предпочесть его бесконечно. Но проблема не в этом. Допустим, он не захочет быть обращенным — какую судьбу в вечности вы сочтете подобающей ему? Можете ли вы и впрямь пожелать, чтобы такой человек, оставаясь тем, кто он есть (а он должен иметь такую возможность, коль скоро он обладает свободной волей), навсегда остался в своем нынешнем счастливом состоянии — чтобы он на протяжении всей вечности, пребывал в совершенном убеждении, что ему удалось всех провести? А если вы не можете этого вынести, то только ли ваше злонравие тому причиной? Или же вы обнаруживаете, что конфликт между справедливостью и милосердием, который временами казался вам таким устаревшим богословским вопросом, теперь и впрямь разыгрался в вашем сознании, сопровождаемый чувством, что он исходит cверху, а не снизу? Вами движет не просто желание причинить этому никчемному существу боль, но поистине моральное требование что, рано или поздно, справедливость должна восторжествовать, флаг должен быть водружен в этой до жути мятежной душе, даже если за этим не последует более полная и лучшая победа. В каком-то смысле для самого такого создания, даже если оно никогда не исправится, лучше, если оно будет сознавать себя чем-то неудавшимся, ошибочным. Даже милосердие вряд ли может пожелать такому человеку вечного самодовольного продолжения этой жуткой иллюзии. Фома Аквинский писал о страдании, подобно тому, как Аристотель писал о стыде, что само по себе оно не является благом, но что оно может обладать известным благом в конкретных обстоятельствах. Это значит, что, при наличии зла, боль в результате обнаружения зла, будучи своего рода знанием, является относительным благом, ибо альтернативой будет незнание души о присутствии зла или о том, что зло противно ее природе, тогда как «и то, и другое», пишет философ, «представляет собой явное зло» (Summa Thelogica). И, по-моему, пусть и с трепетом, мы должны согласиться.
Требование, чтобы Бог простил такого человека, пока он остается таким же, как и был, основано на смешении попустительства с прощением. Попустительствовать злу — значит попросту игнорировать его, относиться к нему так, как если бы оно было благом. Но прощение, для того, чтобы быть полным, должно быть не только дано, но и принято, а человек, не признающий за собой вины, не может принять прощения.
Я начал с понятия ада, как положительного наказания, воздаваемого Богом, потому что это форма, в которой учение носит самый отталкивающий характер, и мне хотелось совладать с самым сильным возражением. Но, конечно же, хотя наш Господь часто говорит об аде, как о месте отбывания приговора, вынесенного судом, Он также говорит в другом месте, что суд состоит в самом факте предпочтения людьми тьмы свету, и что людей судит не Он, но Его «слово» (Иоан. 3:48). А поскольку в конечном счете обе эти идеи означают одно и то же, мы вольны считать, что погибель дурного человека состоит не в навязанном ему приговоре, а просто в том, что он является тем, кем он является. Характеристика погибших душ — их «отказ от всего, что не является ими» (Фон Хюгель, «Что мы имеем в виду под раем и адом?»). Наш воображаемый эгоист пытается превратить все, что ему попадается, в свое владение или придаток. Вкус к иному, то есть самая способность наслаждаться добром, в нем угас, за исключением случаев, когда его тело все еще втягивает его в какой-то рудиментарный контакт с внешним миром. Смерть устраняет этот последний контакт. Исполняется его желание — жить полностью в себе и обходиться тем, что он там обнаружит. И он обнаруживает там ад.
Другое возражение основано на кажущейся диспропорции между вечным проклятием и преходящим грехом. И если мы думаем о вечности всего лишь как о продолжении времени, диспропорция и впрямь имеет место. Но многие отвергнут такое понятие о вечности. Если мы вообразим время, как линию, — а это хороший образ, потому что элементы времени расположены последовательно и ни один из них не сосуществует с другим — нам, вероятно, следует думать о вечности как о плоскости или даже объеме. Таким образом вся реальность человеческого существа будет представлена объемной фигурой. Это объемная фигура будет в основном делом рук Бога, действующего через благодать и природу, но человеческая свободная воля вносит в нее базисную линию, которую мы именуем земной жизнью — а если неверно провести базисную линию, вся объемная фигура окажется не в том месте. Тот факт, что жизнь коротка, или, возвращаясь к символу, что мы вносим во всю сложную фигуру лишь небольшую линию, можно считать актом Божьего милосердия. Ибо если даже проведение этой короткой линии, оставленное на нашу свободную волю, порой удается настолько плохо, что портит все целое, насколько же сильнее мы могли бы испортить эту фигуру, если бы нам доверили большее? В более простой форме это возражение состоит в том, что смерть не должна быть непреложной, что должна быть и возможность второй попытки. (Понятие второй попытки не следует путать ни с понятием Чистилища для уже спасенных душ, ни с понятием преддверия ада для уже погибших душ.) Я думаю, что если бы существовала вероятность пользы в миллионе попыток, такая возможность была бы предоставлена. Но учитель часто знает, от школьников и их родителей, что в действительности посылать школьника на переэкзаменовку бесполезно. Окончательное решение должно когда-нибудь быть принято, и не нужно иметь особенно крепкую веру, чтобы понять, что Всеведущий знает, когда. Третье возражение основано на ужасной интенсивности боли в аду, как о том свидетельствует средневековое искусство и даже некоторые места в Писании. Здесь фон Хюгель предостерегает нас, чтобы мы не путали само учение с образами, при помощи которых оно может излагаться. Наш Господь говорит об аде в трех символах: во-первых, наказания («вечная мука», Матф. 25:46), во-вторых, уничтожения (
«бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне»,
Матф. 10:28), и в-третьих, лишения, исключения, или изгнания в «тьму внешнюю», как например в притче о человеке без свадебной одежды или о мудрых и глупых девах. Преобладающий образ огня здесь важен, потому что в нем соединены понятия муки и уничтожения. Вполне очевидно, что все эти выражения имеют целью создать впечатление чего-то невыразимо жуткого, и любая интерпретация, не принимающая во внимание этот факт, не годится, на мой взгляд, с самого начала. Но нет необходимости сосредоточиваться на образах пытки, исключая из рассмотрения символы уничтожения и лишения. Что же это может быть такое, что одинаково верно отражено во всех этих трех символах? Нам следует естественно предположить, что уничтожение означает распад, или прекращение. И люди часто говорят так, словно «аннигиляция» души вполне возможна. Однако, во всем нашем опыте уничтожение одного предмета приводит к появлению другого. Сожгите бревно, и вы получите газы, тепло и золу. Быть в прошлом бревном — значит быть в настоящем тремя этими элементами. Если душа может быть уничтожена, нет ли какого-то состояния «бывшести» человеческой души? И не то ли это состояние, которое с равной достоверностью описывается как мука, уничтожение и лишение? Вы, конечно, помните, что в притче спасенные отправляются в приготовленное для них место, тогда как погибшие отправляются в такое место, которое никогда не предназначалось для людей (Матф. 25:34, 41). Попасть в Царствие Небесное — значит стать человеком в куда большей степени, чем это нам когда-либо удавалось на земле. Попасть в ад — значит быть отлученным от человечества. Низвергаемое (или низвергающееся) в ад — это не человек, это «остатки». Быть человеком в полной мере — значит иметь страсти, послушные воле, и волю, уступаемую Богу. Быть же человеком в прошлом — быть «бывшим» человеком, или «проклятым духом» — значит, по-видимому, состоять из воли, полностью сосредоточенной на себе, и страстей, совершенно не контролируемых волей. Невозможно, конечно, вообразить себе сознание подобного существа — уже скорее не грешника, а разрозненного скопления взаимно несовместных грехов. Не исключена истинность мнения о том, что ад является адом не с его собственной точки зрения, а с точки зрения рая. Я не думаю, что это противоречит суровости слов нашего Господа. Никому, кроме самих проклятых, их судьба не может показаться хоть сколько-нибудь сносной. И следует признать, что когда, в этих заключительных главах, мы говорим о вечном, категории боли и удовольствия, занимавшие нас на протяжении столь долгого времени, начинают уступать место более широким понятиям о добре и зле. Последнее слово не останется ни за болью, ни за удовольствием. Даже если бы было возможно, чтобы ощущения проклятых (если это можно назвать ощущениями) содержали бы в себе не боль, а немалое удовольствие, это мрачное удовольствие, тем не менее, было бы такого рода, что любая душа, на которой еще нет проклятия, отшатнулась бы в молитвах от этого неисповедимого ужаса, и даже если бы в раю была боль, все, кто не лишен понимания, возжелали бы ее.
Четвертое возражение состоит в том, что ни один сострадательный человек не мог бы благоденствовать в раю, зная, что хотя бы одна человеческая душа все еще остается в аду — а если это так, то неужели же мы милосерднее Бога? За этим возражением скрывается мысленная картина рая и ада, сосуществующих в однолинейном времени, как сосуществуют истории Англии и Америки, так что в каждый момент благоденствующие могут сказать: «Муки ада продолжаются в это мгновение». Но я заметил, что наш Господь, подчеркивая ужасы ада с беспощадной суровостью, обычно подчеркивает идею окончательности, а не продолжительности. Предание пожирающему пламени обычно трактуется как конец, а не как начало чего-то нового. Мы не можем сомневаться в том, что проклятая душа навеки застывает в своем дьявольском состоянии, но мы не можем сказать, подразумевает ли такое застывание навеки также и вечную длительность — или какую-либо длительность вообще. Интересные рассуждения на эту тему имеются у Эдвина Бевана. Нам известно о рае куда больше, чем об аде, потому что рай — это родина человечества, где есть все для человеческой жизни во славе, тогда как ад не был сотворен для людей. Он ни в каком смысле не параллелен раю — он есть «тьма внешняя», где бытие переходит в ничто.
И, наконец, выдвигают возражение, что окончательная утрата хотя бы одной души означает поражение всемогущества. И так оно и есть. Создав существа со свободной волей, Всемогущий с самого начала признает возможность такого поражения. То, что вы называете поражением, я называю чудом — ибо создание отличных от Себя объектов и обретение, таким образом, возможности встретить в каком-то смысле, сопротивление со стороны собственного создания, представляет собой самый поразительный и невообразимый из всех подвигов, признаваемых нами за Божеством. Я охотно верю, что проклятые, в некотором смысле, добиваются успеха и до конца остаются мятежниками, что двери ада заперты изнутри. Я не имею в виду, что эти духи не могут пожелать выйти из ада — в некотором неопределенном смысле, в каком завистливый человек «желает» быть счастливым. Но они наверняка не могут напрячь волю даже для первых предварительных стадий самоотречения, которое является для души единственным средством достичь какого-либо блага. Они вечно пользуются той жуткой свободой, которой они требовали, и поэтому они порабощены самим себе, тогда как благоденствующие, всегда преклоняющиеся в повиновении, становятся на протяжении вечности все свободнее и свободнее.
В конечном счете ответ всем тем, кто возражает против идеи ада, тоже принимает форму вопроса: «Чего, собственно, вы хотите от Бога?» Чтобы Он омыл все их прошлые грехи и, любой ценой, позволил им начать все сначала, сглаживая все трудности и предоставляя им всевозможную чудесную помощь? Но Он это уже сделал, на Голгофе. Простить их? Они не желают прощения. Оставить их в покое? Увы, боюсь, что именно так Он и поступает.
Одно предостережение, и я закончу. Для того чтобы дать современному сознанию понимание рассматриваемых вопросов, я попытался дать в этой главе портрет такого плохого человека, какого нам легче всего счесть поистине плохим. Но после того как этот портрет сделает свое дело, чем скорее вы его забудете, тем лучше. Во всех наших обсуждениях ада мы должны постоянно иметь в виду возможность проклятия не для наших врагов и друзей (поскольку оба этих варианта вносят замешательство в рассудок), но для нас самих. Эта глава — не о вашей жене или вашем сыне, не о Нероне или Иуде Искариоте, но о вас самих и обо мне.
9. Боль животных
И как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей.
Бытие 2:19
Чтобы понять, что является природным, мы должны изучать образцы, сохранившие свою природу, а не те, что подверглись порче.
Аристотель, «Политика».
До сих пор мы говорили о человеческом страдании, но все это время «пронзает твердь безвинной боли вопль». Проблема страданий животных приводит в ужас — не потому, что животные столь многочисленны (как мы видели, миллион страдальцев чувствует не больше боли, чем один), но потому, что христианское объяснение человеческой боли на них распространить нельзя. Насколько нам известно, животные неспособны ни на грех, ни на добродетель. Поэтому они не заслуживают боли, и она не может способствовать их улучшению. В то же время мы никогда не должны позволять проблеме страдания животных становиться центром проблемы боли — не потому, что она не важна (все, что дает основание ставить под вопрос благость Бога, поистине важно), а потому, что это лежит за пределами нашего знания. Бог дал нам информацию, которая позволяет нам в какой-то степени понять наши собственные страдания, но Он не дал нам такой информации о животных. Мы не знаем, почему они были созданы и кто они такие, и все, что мы о них говорим, есть плод догадки. Из учения о благости Бога мы можем с уверенностью заключить, что видимость безрассудной жестокости Бога в животном царстве — это иллюзия, и тот факт, что единственное страдание, о котором мы знаем из первых рук (наше собственное), вовсе не свидетельствует о жестокости, облегчает нам веру в это. За пределами этого лежит лишь область догадок.
Мы можем начать с исключения кое-какого пессимистического блефа, допущенного в первой главе. Тот факт, что представители растительного мира живут «охотой» друг на друга и пребывают в состоянии «беспощадной» конкуренции, не имеет для нас никакого нравственного значения. «Жизнь» в ее биологическом смысле не имеет никакого отношения к добру и злу до тех пор, пока не появляются ощущения. Сами слова «охота» и «беспощадный» — просто метафоры. Вордсворт верил, что каждый цветок «наслаждается воздухом, которым он дышит», но нет никакой причины полагать, что он прав. Не подлежит сомнению, что живые растения реагируют на нанесение им повреждений по-иному, чем неорганическая материя, но анестезированное человеческое тело реагирует опять же совсем по-иному, и подобные реакции не доказывают существования ощущений. Мы, конечно, с полным основанием говорим о смерти или причинении вреда растению, как о трагедии, — при условии, что это осознается нами, как метафора. Возможно, что одна из функций минерального и растительного царств — поставлять символы для духовных явлений. Но мы не должны становиться жертвами наших же собственных метафор. Лес, в котором половина деревьев убивает другую половину, может быть вполне «хорошим» лесом, ибо его хорошие качества состоят в полезности и красоте, и он ничего не ощущает.
Когда мы обращаемся к животным, возникает три вопроса. Во-первых, вопрос фактический: каковы страдания животных? Во-вторых, вопрос происхождения: каким образом болезнь и боль проникла в животное царство? И, в третьих, вопрос справедливости: каким образом страдание животных совместимо со справедливостью Бога?
1. В конечном счете, на первый вопрос можно ответить лишь «Мы не знаем», но некоторые догадки стоят того, чтобы их выдвинуть. Мы должны начать с различий между животными, ибо, если бы человекообразная обезьяна могла нас понимать, ей бы не слишком понравилось, что ее рассматривают, наравне с устрицей и земляным червем, в одном классе «животных», и противополагают человеку. Вполне очевидно, что в каких-то отношениях обезьяна и человек больше похожи друг на друга, чем каждый из них на червя. Нам нет нужды предполагать на нижней ступени животного царства существование чего-то такого, что мы признали бы способностью ощущать. Биологи, говоря о различиях между животным и растением, не ссылаются на ощущения, движение и другие подобные характеристики, естественно приходящие на ум непосвященному. Однако, в какой-то точке (хотя мы и не можем сказать, где) способность ощущать бесспорно начинает иметь место, ибо высшие животные имеют нервную систему, во многом подобную нашей собственной. Но на этом уровне мы еще должны различать между способностью ощущать и сознанием. Если вы никогда прежде не слышали о таком различии, оно может показаться вам довольно странным, но оно пользуется немалым авторитетом, и вам не следует от него отмахиваться. Допустим, три ощущения следует одно за другим: сначала А, затем Б, а затем В. Когда это происходит с вами, у вас создается впечатление процесса АБВ. Но присмотритесь к тому, что это предполагает. Это предполагает, что в вас существует нечто, находящееся в достаточной степени вне А, чтобы заметить, как Б начинается и заполняет место, освобождаемое А, и нечто, сознающее себя одним и тем же при прохождении от А к Б и от Б к В, так что оно может сказать: «Я получило впечатление АБВ». Именно это мы и называем сознанием, или душой, и только что описанный мной процесс является одним из доказательств того, что душа хотя и чувствует время, но не принадлежит ему целиком и полностью. Формирование простейшего впечатления АБВ в качестве последовательности требует присутствия души, которая сама по себе является не простой последовательностью состояний, но скорее постоянным ложем, по которому продвигаются различные элементы потока ощущений, и которое признает себя чем-то, пролегающим под этим потоком. Практически бесспорно, что нервная система одного из высших животных дает ему последовательность ощущений. Отсюда не следует, что оно обладает «душой» — чем-то таким, что признает себя имевшим ощущение А, имеющим сейчас ощущение Б и замечающим, как Б минует, уступая место В. При отсутствии у него такой «души» у него никогда не возникает то, что мы называем впечатлением АБВ. Пользуясь философским языком, будет иметь место «последовательность перцепций», т. е. ощущения будут и впрямь иметь место именно в таком порядке, и Бог будет знать, что они следуют этому порядку, но животное этого знать не будет. У него не будет «перцепции последовательности». Это означает, что если такому существу нанести два удара плетью, у него будет два болевых ощущения, но у него нет координирующего сознания, которое могло бы понять, что оно получило два болевых ощущения. Даже в случае единичной боли здесь будет отсутствовать «я», которое могло бы сказать «мне больно», ибо если это существо было способно отличить себя от своего ощущения, как ложе от потока, в степени, достаточной для того, чтобы сказать «мне больно», оно могло бы также связать два ощущения в одно впечатление. Правильнее всего в этом случае описать происходящее так: «В данном животном имеет место боль», — а не так, как мы говорим обычно: «Это животное чувствует боль», ибо слова «это» и «чувствует» как бы тайком протаскивают сюда предположение о существовании некоторой «души», «сознания», стоящего над ощущениями и, подобно нам, организующего их во «впечатление». Мы, конечно, не в состоянии вообразить себе такое наличие ощущений в отсутствие сознания — не потому, что с нами этого никогда не случается, но потому, что мы характеризуем состояние, в котором это с нами случается, как «бессознательное». И вполне справедливо. Тот факт, что животные реагируют на боль во многом подобно нам, не доказывает, конечно же, присутствия в них сознания, ибо мы можем точно так же реагировать под хлороформом, и даже, будучи погруженными в сон, отвечать на вопросы.
О том, насколько высоко по шкале развития животных поднимается такая подверженность ощущения в отсутствие сознания, я не хочу даже строить догадок. Очень трудно предполагать, чтобы человекообразные обезьяны, слон и высшие домашние животные не обладали, в какой-то степени, сознанием или душой, в которой впечатления сливаются воедино и формируют какой-то зародыш индивидуальности. Но, по крайней мере, значительная часть того, что кажется страданиями животных, не обязательно является страданиями в сколь-нибудь реальном смысле. Возможно, что это мы изобрели «страдальцев» посредством антропоморфизации, приписывания животному душу без всякого на то основания.
2. Минувшие поколения видели причину происхождения страданий животных в грехопадении человека — весь мир был заражен ущербляющим творение мятежом Адама. Сейчас такое предположение невозможно, ибо у нас есть серьезные основания полагать, что животные существовали задолго до человека. Плотоядность, со всем тем, что ей присуще, древнее человечества. Здесь невозможно не вспомнить некоторую священную историю, которая, хотя ее никогда не включали в каноны, является предметом повсеместной веры в Церкви, и на которую, похоже, намекают некоторые высказывания нашего Господа, Павла и Иоанна — я имею в виду историю о том, что человек не был первым созданием, поднявшим мятеж против Творца, но что еще раньше совершило отступничество некое древнее и более могущественное существо, которое теперь является властелином тьмы и (что характерно) князем мира сего. Кое-кому хотелось бы выбросить из учения нашего Господа все подобные элементы — и можно даже предполагать, что когда Он лишил себя Своей славы, Он также смирил Себя, приняв, как подобает человеку, ходячие предрассудки Своего времени. И я конечно же считаю, что Христос во плоти не был всезнающим — хотя бы потому, что человеческий мозг, надо полагать, неспособен быть носителем всезнающего сознания. А утверждение, что мышление нашего Господа на самом деле не было обусловлено размером и формой Его мозга, может быть истолковано, как докетизм, или отрицание реальности воплощения. Таким образом, если нашему Господу принадлежит какое-либо научное или историческое утверждение, которое, как нам теперь известно, не соответствует истине, это не поколеблет моей веры в Его божественность. (Прим. ред.: Позже К. С. Льюис пришел к убеждению, что наука и история не опровергают никаких библейских истин.)
Но учение о существовании и грехопадении сатаны не принадлежит к числу тех, чья неверность доказана — оно противоречит не фактам, открытым учеными, а лишь некой туманной «интеллектуальной атмосфере», в которой нам доводится жить. А я довольно низкого мнения об «интеллектуальных атмосферах». Каждый человек в своей собственной области знает, что именно люди, игнорирующие «интеллектуальную атмосферу», совершают все открытия и исправляют все ошибки.
Поэтому, на мой взгляд, резонно допустить, что задолго до появления человека некая могучая сотворенная сила уже вершила недоброе в материальной вселенной или в солнечной системе — или, по крайней мере, на планете Земля, и что когда произошло грехопадение человека, кто-то и впрямь искушал его. Эта гипотеза не приводится здесь в качестве всеобщего «объяснения зла» — она лишь дает более широкое применение принципу, гласящему, что зло происходит от злоупотребления свободной волей. Если такая сила существует, а лично я в это верю, она вполне могла привнести зло в животное царство до появления человека. Зло, присущее миру животных, состоит в том, что животные, или некоторые животные, живут уничтожением себе подобных. Тот факт, что растения ведут себя аналогичным образом, не является, на мой взгляд, злом. Таким образом, совращение сатаной животных в одном отношении аналогично совращению сатаной человека. Ибо одним из результатов грехопадения человека было низвержение его животной сущности с человеческой высоты, на которую она была поднята, но которая более не могла держать ее в повиновении. Точно так же животную сущность можно низвести до поведения, подобающего растениям. Правда, конечно, и то, что огромная смертность, вызываемая тем, что многие животные живут охотой на других, балансируется в природе огромной рождаемостью, и может показаться, что будь все животные травоядными и здоровыми, они бы вымирали от голода в результате такого размножения. Но я полагаю, что плодовитость и смертность — взаимодополняющие явления. Вполне вероятно, что необходимости в таком чрезмерном сексуальном импульсе не было — князь мира сего создал его в качестве ответа на плотоядие, обеспечив такой двойной уловкой максимальную эффективность пытки. Если мое утверждение о том, что злое ангельское существо совратило живые создания, вам не по вкусу, вы можете говорить о совращении «жизненной силы». Подразумеваем мы при этом одно и то же, но мне легче верить в миф о богах и демонах, чем в миф об олицетворенных абстрактных существительных. Да и наша мифология, в конце концов, может быть куда ближе к буквальной истине, чем мы предполагаем. Не будем забывать, что наш Господь по крайней мере в одном случае приписывает болезнь человека не Божьему гневу, а — вполне прямо — сатане (Лук. 3:16).
Если эта гипотеза достойна рассмотрения, достойно также рассмотрения и предположение, что человек, впервые придя в этот мир, должен был сыграть некую искупительную роль. Даже и сейчас человек способен на чудо в своем обращении с животными: мои кошка и собака живут вместе в моем доме, и похоже, им это нравится. Возможно, что одной из задач человека было восстановление мира в животном царстве, и не встань он на сторону врага, он мог бы так преуспеть в этом, что нам сейчас даже трудно это представить.
3. И, наконец, встает вопрос о справедливости. Мы сейчас имеем основание предполагать, что не все животные страдают в той степени, в какой нам это кажется. Но похоже, что, по крайней мере, некоторые обладают самосознанием, — как же быть с этими невинными созданиями? И мы считаем возможным полагать, что боль животных — не дело рук Бога, но что она возникла благодаря злобе сатаны и увековечена изменой человека. Тем не менее, хотя Бог и не был ее причиной, Он допустил ее, и опять встает вопрос — как быть с этими невинными созданиями? Меня предупреждали, чтобы я даже не поднимал вопрос о боли животных, дабы не уподобиться «старым девам», (но также и Джону Уэсли — см. его проповедь LXV, «Великое избавление»), Я не нахожу ничего дурного в таком уподоблении. Я не вижу ничего достойного презрения ни в девственности, ни в старости, и среди острейших умов, какие мне попадались, иные обитали в телах старых дев. Не особенно трогают меня и шуточные вопросы, вроде «Куда вы денете всех комаров?» — вопрос, на который можно дать достойный ответ, заметив, что вполне легко совместить рай для комаров с адом для людей.
Более серьезным возражением является полное отсутствие в Писании и христианской традиции каких-либо упоминаний о бессмертии животных. Но такое возражение было бы решающим лишь в том случае, если бы в христианском откровении усматривалось намерение служить systeme de la nature, отвечающей на все вопросы. Но оно ничем подобным не является — занавес был порван в одном, и только в одном месте, с тем, чтобы показать нам наши сиюминутные практические нужды, а не затем, чтобы удовлетворить наше интеллектуальное любопытство. Если бы животные и впрямь были бессмертны, то, судя по тому, насколько мы в состоянии различить метод Бога в откровении, Он не открыл бы нам истину. Даже наше собственное бессмертие — это учение, появляющееся в поздней фазе развития иудаизма. Поэтому аргумент, ссылающийся на такое молчание, слаб.
Истинная трудность, таящаяся в предположении о бессмертии большинства животных, состоит в том, что бессмертие почти ничего не значит для существа, не обладающего «сознанием» в вышеописанном смысле. Если жизнь тритона представляет собой простую последовательность ощущений, что мы можем иметь в виду, говоря о том, что Бог может вновь вызвать к жизни умершего сегодня тритона? Он не осознает себя тем же самым тритоном. Приятные ощущения любого другого тритона, жившего после его смерти, будут в той же мере вознаграждением за его земные страдания (если таковые имели место), что и собственные ощущения его воскрешенной — я чуть было не сказал «души», но все дело-то в том, что у тритона, вероятно, души нет. Так что то, что мы пытаемся сказать на основании этой гипотезы, даже не укладывается в слова. Поэтому, на мой взгляд, не может быть и речи о бессмертии для созданий, которым даны лишь ощущения. Равным образом, справедливость и милосердие не требуют отсутствия боли в жизни таких существ. Их нервная система передает им все буквы — Б, О, Л и Ь, — поскольку они не умеют читать, они никогда не складывают их в слово БОЛЬ. И возможно, что в этом состоянии пребывают все животные.
Если же, тем не менее, наша прочная убежденность — в том, что высшие, а в особенности прирученные нами животные обладают реальным, хотя и рудиментарным, самосознанием, — не является иллюзией, их судьба требует несколько более серьезного внимания. При этом ошибка, которой нам следует избегать, состоит в рассмотрении их самих по себе. Человека можно понять лишь в его отношении к Богу. Животных же следует понимать лишь в их отношении к человеку и, через человека, к Богу. Здесь нам следует принять меры предосторожности против одного из непереваренных комков атеистического мировоззрения, которое часто сохраняется в сознании современных верующих. Атеисты, конечно же, считают сосуществование человека и других животных всего лишь побочным результатом взаимодействия биологических факторов, а укрощение животного человеком — чисто произвольным вмешательством одного вида в дела другого. «Реальное» или «естественное» животное для них — дикое, а ручное животное — нечто искусственное, противоестественное. Но христианину не следует так думать. Человеку было назначено Богом иметь власть над животными, и все, что человек делает по отношению к животному, есть либо законное пользование властью, дарованной свыше, либо святотатственное злоупотребление ею. Поэтому ручное животное — это, в самом глубоком смысле, единственно «естественное» животное — единственное, которое занимает подобающее ему место, — и именно на ручном животном мы должны основывать наше учение о животных. Легко увидеть, что в той степени, в какой ручное животное обладает реальным самосознанием или личностными качествами, оно почти целиком обязано ими своему хозяину. Если хорошая пастушья овчарка обладает «почти человеческими» свойствами характера, то это потому, что такой ее сделал хороший пастух. Я уже отмечал загадочную силу слова «в». Я не считаю все значения, в которых оно употребляется в Новом Завете, идентичными — в том смысле, что человек во Христе, Христос в Боге и Святой Дух в Церкви содержат в себе различные «в». Это скорее параллельные и соответствующие друг другу значения, а не единое значение. Я хочу выдвинуть предположение, — хотя и в полной готовности быть поправленным настоящими богословами, — что может существовать смысл, соответствующий, хотя и не идентичный, вышеприведенным, в котором животные, достигающие истинного самосознания, пребывают в своих хозяевах. Это означает, что не следует думать о животном отдельно, именовать его личностью, а затем вопрошать, воскресит ли и благословит ли его Бог. Надо взять весь контекст, в котором животное достигает своей самости, то есть «доброго мужа с доброй женой, правящих своими детьми и домашними животными в добром семействе». Весь этот контекст может рассматриваться как (или почти как) «тело», в том смысле, какой придает этому термину апостол Павел, – а кто может предсказать, какая часть этого «тела» будет воскрешена вместе с добрым мужем и доброй женой? Очевидно такая, какая необходима не только для славы Божией и блаженства людской четы, — но для конкретной славы и конкретного блаженства, навеки окрашенных конкретным опытом земной жизни. И в этом смысле мне кажется возможным, что некоторые животные могут обладать бессмертием, — не в самих себе, а в бессмертии своих хозяев. И затруднение с определением личности в таком существе исчезает, если рассматривать это существо в должном контексте. Если выспросите, имея в виду животное, взращенное таким образом в качестве члена единого «тела» семьи, где расположен центр его личности, я отвечу: там же, где всегда находилась его личность еще в его земной жизни — в его отношении к «телу», и в особенности к хозяину, который есть глава этого «тела». Иными словами, человек познает свою собаку, собака познает своего хозяина и в этом познании обретает себя. Требовать, чтобы она познала себя каким-то другим образом, — значит, по-видимому, требовать чего-то, не имеющего смысла. Животные не таковы и не хотят быть такими.
Описанная мной ситуация с доброй овчаркой в доброй семье не имеет, конечно же, никакого отношения ни к диким животным, ни, что еще серьезнее, к домашним животным, с которыми дурно обращаются. Но она задумана лишь как иллюстрация, снимок с одного благополучного примера — на мой взгляд, единственно нормального и неизвращенного примера — общих принципов, которые следует соблюдать в построении теории воскрешения животных. На мой взгляд, у христиан есть все основания сомневаться в бессмертии каких бы то ни было животных, по двум причинам. Во-первых, потому что они опасаются, приписывая животному обладание «душой» в полном смысле этого слова, сделать неясным различие между животным и человеком, столь же резкое в духовном измерении, сколь туманное и проблематичное в биологическом. И, во-вторых, будущее счастье, относящееся к нынешней жизни животного просто как компенсация за страдания — тысячелетия на счастливых пастбищах, выплачиваемое им «возмещение» за годы хождения в упряжке — выглядит довольно неуклюжим подтверждением Божественной благости. Мы, поскольку мы подвержены слабости, зачастую причиняем боль ребенку или животному непреднамеренно, и тогда нам остается лишь искупить свою вину какой-нибудь лаской или гостинцем. Но вряд ли будет набожной мыслью вообразить себе Всеведущего, поступающего подобным образом — как если бы Бог наступал животным впотьмах на хвосты, а затем прилагал все усилия, чтобы это загладить! В подобном бестолковом воздаянии я не могу признать мастерскую руку — каков бы ни был ответ, он должен быть получше этого. Предлагаемая мной теория пытается обойти оба возражения. Она делает Бога центром вселенной, а человека — подчиненным центром земной природы. Животные не равны человеку, а подчинены ему, и их судьба полнейшим образом сопряжена с его судьбой. И предлагаемое для них производное бессмертие — не просто amende или компенсация, но неотъемлемая часть новых небес и новой земли, органически связанная со всем лежащим в основе страдания процессом грехопадения и искупления мира.
Выдвигая свое предположение о том, что личностность ручных животных является в значительной степени даром человека, что их простая способность к ощущениям перерождается в нас в одушевленность, подобно тому, как наша простая одушевленность перерождается в Христе в духовность, я, естественно, предполагаю, что лишь очень немногие, животные в своем диком состоянии достигают уровня «самости», или «одушевленности». Но если некоторые все же достигают, и если благости Бога угодно, чтобы они жили вновь, их бессмертие также будет связано с человеком — на этот раз не с индивидуальными хозяевами, но со всем человечеством. То есть, если нечто от той квази духовной и эмоциональной ценности, которую человеческое предание приписывает животному (вроде «невинности» в агнце или геральдической царственности в льве), имеет реальную основу в природе животного, а не является чем-то произвольным или случайным, тогда можно ожидать, что именно в этом — или в первую очередь в этом — качестве животное будет служить человеку и входить в состав его «свиты». Или же, если сложившийся в предании характер ошибочен, райская жизнь (то есть, его участие в райской жизни людей во Христе к Богу; предположение о «райской жизни» для животных, как таковых, по-видимому, лишено смысла) животного будет обеспечена ему благодаря реальному, но неизвестному, влиянию, которое оно имело на человека на протяжении всей его истории — ибо если христианская космология в каком-либо смысле (я не говорю, что в буквальном) истинна, то все, существующее на нашей планете, имеет отношение к человеку, и даже существа, вымершие до появления человека, лишь тогда видны в своем истинном свете, когда они рассматриваются как бессознательные провозвестники прихода человека.
Когда мы говорим о столь далеких от нас существах, как дикие звери и доисторические животные, мы не слишком понимаем, о чем говорим. Вполне возможно, что они не имеют самосознания и не страдают. Вполне возможно даже, что каждый вид имеет единое самосознание — что в трудах творения пребывает «львиность», а не львы, и что именно она будет участвовать во всеобщем воскресении. И если мы не можем вообразить даже нашу собственную вечную жизнь, то куда уж нам воображать жизнь, которая может быть дарована животным как нашим «членам». Умей земной лев прочитать пророчество о том дне, когда он будет есть сено подобно волу, он бы счел это описанием ада, а не рая. А если во льве нет ничего, помимо сгустка хищнических ощущений, то он бессознателен и его «загробная жизнь» лишена смысла. Но если существует некий зародыш львиного сознания, ему Бог также может дать тело по Своему усмотрению — тело, которое более не живет уничтожением агнца, но безупречно львиное в том смысле, что оно будет выражением всей энергии и красы, всей ликующей мощи, обитавшей в видимом льве на нашей земле. На мой взгляд — и я не возражаю, если меня поправят, пророк, говоря о льве и агнце, которые возлягут бок о бок, употребил восточную гиперболу. Со стороны агнца это будет довольно вызывающе. Иметь львов и агнцев, общающихся подобным образом (если только не на каких-то небесных сатурналиях, все меняющих местами), — все равно, что вовсе не иметь ни агнцев, ни львов. По-моему, лев, даже перестав быть опасным, будет по-прежнему ужасен — более того, именно мы впервые увидим то, чему являются лишь неуклюжим и сатанински извращенным подражанием нынешние клыки и когти. По-прежнему будет нечто, подобное сотрясанию золотой гривы, и не раз еще скажет славный Герцог: «Пусть он зарычит опять».
10. РАЙ
Пускай в сердцах Воскреснет вера. Стойте — начеку — Вперед. Кто возомнит преступным
мной Предпринятое, пусть уйдет.
Шекспир, «Зимняя сказка».
В пучине милости твоей почить Любой из душ живых желанной смертью.
Каупер. «Мадам Гюйон».
«Думаю, — говорит апостол Павел, — что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
Если это так, то книга о страдании, в которой ничего не говорится о рае, упускает почти целиком один из аспектов своего предмета. Писание и предание неизменно противопоставляют земным страданиям радости рая, и ни одно решение проблемы боли, упускающее этот аспект, не может быть сочтено христианским. В наши дни мы стесняемся даже упоминания о рае. Мы боимся насмешек над «небесными кущами» и упрека в том, что мы пытаемся бежать от нашего долга создавать счастливый мир здесь и теперь в мечты о потустороннем счастливом мире. Но «небесные кущи» либо существуют, либо нет. Если нет, то христианство лживо, ибо это учение вплетено во всю его ткань. Если да, тогда эта истина, подобно любой другой, достойна рассмотрения, независимо от того, насколько полезно упоминать о ней на политических сходках. Опять-таки, у нас возникают опасения, что рай — это своего рода подкуп, и поставив его своей целью, мы уже не можем быть беспристрастными. Но это не так. Рай не предлагает ничего такого, чего может желать падкая на подкуп душа. Вполне можно сказать, что лишь чистые сердцем увидят Бога, ибо лишь чистые сердцем хотят этого. Существуют вознаграждения, не замутняющие побуждений. Любовь мужчины к женщине не продажна потому только, что он хочет на ней жениться, и его любовь к поэзии не продажна потому, что он хочет ее читать, равно как его любовь к физическим упражнениям не страдает недостатком беспристрастности только потому, что он хочет бегать, прыгать и ходить. Любовь по определению стремится наслаждаться своим предметом.
Вам может показаться, что существует еще одна причина, по которой мы храним молчание относительно рая — а именно, что на самом деле мы к нему не стремимся. Но это, по-видимому, иллюзия. То, что я намерен сейчас сказать, представляет собой всего лишь мое собственное мнение, не подкрепленное никаким авторитетом и предлагаемое мной на суд христиан получше и специалистов поученее. Бывают времена, когда я думаю, что мы не стремимся к раю, но чаще я ловлю себя на мысли о том, желали ли мы когда-либо вообще, в глубине наших сердец, чего либо иного. Возможно, вы замечали, что книги, которые вы по-настоящему любите, связаны между собой тайной нитью. Вам очень хорошо известно, что это за общее качество, которое заставляет вас любить их, хотя вы не можете облечь его в слова, но большинство ваших друзей вовсе его не видит, и они часто удивляются, отчего это, любя одно, вы также любите и другое. Опять-таки, вы стоите перед каким-то пейзажем, который, кажется, воплотил в себе все, чего вы всю жизнь искали, но затем вы поворачиваетесь к стоящему рядом другу, который, казалось бы, видит то же, что и вы, — но при первых же словах между вами разверзается пропасть, и вы понимаете, что для него этот пейзаж имеет совершенно иное значение, что он стремится к чуждой вам цели и его совершенно не трогает невыразимое впечатление, только что вас преобразившее. Даже в ваших любимых досугах — разве не присутствует в них всегда некое тайное влечение, о котором другие странным образом не имеют понятия, нечто такое, с чем нельзя отождествиться, но что всегда находится на грани проявления, какой-нибудь запах свежеоструганого дерева в мастерской или бульканье воды у борта лодки? Разве не всякая дружба на всю жизнь рождается в тот момент, когда вы, наконец, встречаете другого человека с некоторым намеком (хотя, даже в лучшем случае, слабым и неверным) на то самое нечто, с желанием которого вы родились, и что, скрытое под налетом многих желаний и во все мгновения безмолвия в промежутках между более громкими страстями, день и ночь, год за годом, с детства до старости, вы разыскивали, выслеживали, к чему вы прислушиваетесь? Но вы никогда этим не обладали. Все то, что когда-либо безраздельно владело вашей душой, было лишь намеком на это — манящим проблеском, никогда не исполненным обещанием, эхом, замершим вдали, едва докатившись до слуха. Но если оно и впрямь явится вам, если когда-нибудь возникнет эхо, которое не замрет, но раскатится полным звуком, вы его узнаете. Без малейшей тени сомнения вы скажете: вот, наконец-то, и то, для чего я был создан. Мы не можем рассказывать об этом друг другу. Это тайное клеймо каждой души, невыразимая и неутолимая жажда, то, чего мы желали прежде, чем встретили своих жен, нашли друзей, избрали работу, и чего мы будем по-прежнему желать на смертном одре, когда наше сознание более не сможет распознать ни жены, ни друга, ни работы. Пока мы существуем, существует и это стремление. Теряя его, мы теряем все. (Я, конечно, не пытаюсь утверждать, что это бессмертное стремление, которое мы получаем от Творца, поскольку мы люди, следует принимать за дары Святого Духа тем, кто во Христе. Мы не должны мнить себя святыми только потому, что мы — люди.)
Это клеймо каждой души может быть результатом наследственности или окружающей среды, но это означает лишь, что наследственность и окружающая среда входят в число орудий, с помощью которых Бог творит душу. Меня интересует не как, а почему Он создает каждую душу неповторимой. Если все эти различия ничего для Него не значат, то мне непонятно, почему Он создал более одной души. Будьте уверены, что все закоулки вашей индивидуальности не представляют для Него тайны, и когда-нибудь они перестанут быть тайной для вас. Форма, в которой отливается ключ, покажется вам странной, если вы никогда не видели ключа, да и сам ключ покажется странным, если вы не видели замка. Ваша душа имеет странную форму, потому что это выемка, которая должна подойти к конкретному выступу в бесконечных контурах Божественной субстанции, или ключ, отпирающий одну из дверей в доме со множеством покоев. Ибо спасено будет не абстрактное человечество, но вы — вы, отдельный читатель, Джон Стаббз или Дженет Смит. Блаженное и счастливое создание, это ваши глаза узрят Его, а не чьи-либо другие. Всему, что вы собой представляете, за вычетом грехов, уготовано исключительное удовлетворение, если только вы позволите Богу повести вас по Его доброму пути. Брокенское привидение «казалось каждому его любовью первой», потому что оно было обманом. Но в Боге каждая душа будет видеть свою первую любовь, потому что Он и есть эта первая любовь. Ваше место в раю покажется созданным для вас и только для вас, потому что вы были созданы для него — созданы для него стежок за стежком, как делается по руке перчатка.
Именно с этой точки зрения мы можем понять ад в том смысле, в каком он является лишением. Всю вашу жизнь у самых границ вашего сознания простирался недостягаемый экстаз. Наступит день, когда вы проснетесь и, наперекор всем ожиданиям, обнаружите, что вы достигли его, или же, что он был в пределах вашей досягаемости, и вы навсегда его упустили.
Это похоже на исключительно личную и субъективную идею драгоценной жемчужины, но это вовсе не так. То, о чем я говорю, выходит за пределы опыта. Из опыта вам известно лишь его отсутствие. Сам же этот объект никогда реально не воплощался в каком бы то ни было предмете, образе или чувстве. Он всегда зовет вас выйти за пределы себя. И если вы не выйдете за пределы себя, чтобы последовать за ним, если вы усядетесь размышлять о своем желании и попытаетесь уберечь его, это желание ускользнет от вас. «Дверь в жизнь обычно открывается позади нас», и «единственная мудрость» для того, кого «преследует аромат невинных роз, это работа» (Дж. Макдоналд,«Алек Форбз», гл. 33). Тайный огонь гаснет, когда вы прибегаете к мехам. Подбросьте в него неподходящего, на первый взгляд, горючего — догм и морали, — повернитесь к нему спиной и вернитесь к своим обязанностям — вот тогда-то он и разгорится. Мир подобен картине с золотым фоном, а мы — фигурам на этой картине. До тех пор, пока вы не сойдете с плоскости картины в просторное измерение смерти, вам не разглядеть золота. Или, переходя к другой метафоре, затемнение совсем не такое уж полное. Имеются просветы. Иной раз будничная сцена прямо набухает тайной.
Таково мое мнение, и оно может оказаться ошибочным. Возможно, что это тайное желание также является частью ветхого человека, и в конечном счете его следует распять. Но это мнение любопытнейшим образом уклоняется от отрицания. Это желание, а еще в меньшей степени его удовлетворение, всегда отказывается проявиться во всей полноте в каком-либо опыте. Все, что бы вы ни пытались отождествить с ним, оказывается не им, а чем-либо другим, так что вряд ли какая-либо степень распятия или преображения может вывести нас за пределы того, что само это желание заставляет нас предвкушать. Опять-таки, если это мнение неверно, то верно нечто лучшее. Но «нечто лучшее» — не тот или иной жизненный опыт, но нечто за его пределами, — почти готово быть определением того, что я пытаюсь описать.
То, к чему вы стремитесь, призывает вас уйти прочь от самих себя. Даже само стремление сохраняется лишь тогда, когда вы от него отказываетесь. Таков всеобъемлющий закон:
зерно умирает, чтобы жить, хлеб следует бросать на воду, тот, кто потеряет свою душу, спасет ее. Но жизнь зерна, найденный хлеб, обретение души — все это столь же реально, сколь и предварительная жертва. Поэтому истинно сказано о рае: «В Царствии Небесном нет владения. Если бы кто назвал там что-либо своим владением, он бы тот час был низвергнут в ад и стал бы злым духом» (Theologia Germanica). Но сказано также:
«Побеждающему дам белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»
(Отк. 2:17). Что может быть более личным достоянием человека, чем это новое имя, которое даже в вечности остается тайной между ним и Богом? И как нам следует толковать существование этой тайны? Конечно же то, что каждый, из искупленных будет вовеки знать и восхвалять некий единственный аспект Божественной красы лучше, чем кто-либо другой. Зачем же еще были созданы индивидуальные существа, кроме как затем, чтобы Бог, бесконечно всех любя, любил каждого по-разному? И эта разница не только не мешает любви всех блаженных созданий друг к другу, сопричастию святых, но и наполняет ее новым значением. Если бы все воспринимали Бога одинаково и одинаково же поклонялись Ему, песнь торжествующей Церкви не имела бы гармонии, она была бы подобна оркестру, в котором все инструменты играют одну и ту же ноту. Аристотель говорит нам, что город — это единство несходных, а апостол Павел — что тело есть единство различных членов (1 Кор. 12:12-30). Рай — это город, а также тело, потому что блаженные навеки сохраняют свои различия; общество, потому что каждый имеет, что сказать другим, — все новые и новые известия о «Моем Боге», Которого каждый обретает в Том, Кого все восхваляют как «нашего Бога». Ибо нет сомнения в том, что постоянно успешная, но никогда не завершающаяся попытка каждой души передать всем другим свое неповторимое видение (и притом средствами, в сравнении с которыми земное искусство и философия выглядят жалкой имитацией) также входит в число целей, ради которых каждый отдельный человек был создан. Ибо единение существует лишь между различными элементами, и возможно, что эта точка зрения проливает для нас мгновенный свет на смысл всех вещей. Пантеизм — вера не столько ложная, сколько безнадежно устаревшая к нашему времени. Некогда, до сотворения мира, было вполне правильным сказать, что все в мире — это Бог. Но Бог сотворил мир. Он дал существование объектам, отличным от Себя, с тем, чтобы, будучи отличными, они научились любить Его и пришли к единству, а не к простому тождеству. Таким образом, Он тоже бросил хлеб Свой на воду. Даже внутри сотворенного мира мы можем сказать, что неодушевленная материя, не имеющая воли, тождественна Богу в том смысле, в каком люди таковыми не являются. Но в цели Бога не входит наше возвращение к этому тождеству (к чему, возможно, пытаются указать нам путь некоторые языческие мистики), но, напротив, достижение среди нас максимального разнообразия, чтобы мы могли воссоединиться с Ним более возвышенным образом. Даже когда речь идет о Самом Воплощении Святости, недостаточно, чтобы Слово было Богом, оно должно также быть у Бога. Отец вечно порождает Сына, а Святой Дух исходит: божество полагает различие внутри себя, с тем, чтобы единение взаимных категорий любви могло превзойти простое арифметическое единство или самотождество.
Но вечное отличие каждой души — тайна, возводящая единение между каждой душой и Богом в особую категорию — никогда не упразднит закона, запрещающего обладание собственностью в раю. Что касается аналогичных себе созданий, каждая душа, как мы полагаем, будет вечно отдавать всем остальным то, что она получает. Что же касается Бога, мы должны помнить, что душа — лишь выемка, которую заполняет Бог. Ее единение с Богом представляет собой, почти по определению, постоянное самоотречение — открытие, обнажение, принесение в дар себя самой. Благословенный дух — это форма, все терпеливее и терпеливее принимающая вливаемый в нее яркий металл, тело, все более открывающее себя полуденному блеску духовного солнца. Нам нет нужды полагать, что нечто аналогичное самопреодолению, когда-либо завершится, или что вечная жизнь не будет также вечным умиранием. Именно в этом смысле, аналогично тому, что в аду могут быть удовольствия (упаси нас Бог от них!), в раю возможно нечто, похожее на боль (да позволит нам Бог поскорее вкусить ее!).
Ибо в самоотдаче, как нигде, мы соприкасаемся с ритмом не только творения, но и всего бытия. Ибо Вечное Слово также отдает Себя в жертву, и не только на Голгофе. Ибо, когда Он был распят, Он «сделал в тяжком климате Своих отдаленных провинций то, что Он делал у Себя дома в славе и радости» (Дж. Макдоналд, «Непрочитанные проповеди».) Еще до создания мира Он уступал в повиновении порожденное Божество — Божеству порождающему. И подобно тому, как Сын прославляет Отца, Отец также прославляет Сына (Иоан. 17:4-5). И в смирении, подобающем непосвященному, я думаю, насколько истинно было сказано: «Бог любит в Себе не Себя, но Благо, и будь нечто, лучшее и Бога, Он возлюбил бы это нечто, а не Себя» (Theologia Germanica). С высшего до низшего, «самость» существует лишь затем, чтобы от нее отрекаться, и с этим отречением она становится более истинной самостью, чтобы вновь стать предметом отречения, и так вовеки. Это не небесный закон, которого мы можем избежать, оставаясь земными, и не земной закон, которого мы можем избежать, будучи спасенными. За пределами системы самоотречения лежит не земля, не природа, не «обыденная жизнь», но исключительно и неизбежно — ад. Но даже и ад приобретает благодаря этому закону свою реальность. Это яростное пленение внутри собственного «я» — всего лишь изнанка самоотречения, которое и есть абсолютная реальность, всего лишь отрицательная форма, принимаемая внешней тьмой, окружающей и определяющей форму реального, или же та, которую реальное навязывает тьме, так как обладает своей собственной формой и положительной природой.
Золотое яблоко «самости», упавшее среди ложных богов, сделалось яблоком раздора, потому что они наперебой кинулись к нему. Они не знали первейшего правила святой игры, которое заключается в том, что каждый игрок должен непременно коснуться мяча, а затем тотчас же бросить его другому. Застигнутый с ним в руках получает штрафное очко, а не желающий с ним расставаться — гибель. Но когда он летает взад-вперед между игроками, слишком быстро, чтобы следить за ним взглядом, и Сам великий учитель руководит забавой, вечно отдавая Себя Своим созданиям в процессе порождения, и вновь Самому Себе в жертве, или Слове, тогда поистине этот вечный танец «гармонией чарует небеса». Вся боль и все удовольствия, которые мы знали на земле, — это лишь предварительная инициация к участию в этом танце. Но сам танец совершенно не сравним со страданиями этого нынешнего времени. По мере того, как мы приближаемся к его предвечному ритму, боль и удовольствия почти исчезают из виду. В танце присутствует радость, но он существует не ради радости. Он существует даже не ради блага или любви. Он есть сама Любовь и само Благо, и потому он радостен. Не он существует для нас, но мы — для него. Размеры и пустота вселенной, испугавшие нас в начале книги, должны по-прежнему повергать нас в трепет, ибо хотя они, возможно, представляют собой лишь субъективный побочный результат нашего трехмерного воображения, они символизируют собой великую истину. В том отношении, в каком Земля находится ко всем звездам, несомненно пребываем и мы, люди, с нашими заботами, ко всему творению; и подобно тому, как. .все звезды относятся к самому космосу, все создания, все престолы и силы, все самые могучие из сотворенных богов относятся к бездне самодовлеющего Бытия, которое есть Отец наш и Искупитель, и обитающий в нас Утешитель, но о Котором ни один человек или ангел не может сказать, что Он есть в Себе и для Себя, и каков труд, который Он совершает с первых времен до последних. Ибо все они — производные и незначительные объекты. Их зрение изменяет им, и они прикрывают глаза перед невыносимым светом окончательной действительности, которая всегда была и будет, которая никогда не могла быть иной, которая не имеет себе противоположности.
ДОПОЛНЕНИЕ
(Нижеприведенное описание наблюдаемых явлений, связанных с болью, было любезно предоставлено мне доктором Р. Хэйвардом, почерпнувшим его из своего клинического опыта.)
Боль — явление обычное и определенное, его легко распознать. Но наблюдение за характером и поведением не так легко, не так полно и не так точно, особенно в преходящих, хотя и тесных, отношениях врача с пациентом. Несмотря на эту трудность, в процессе врачебной практики формируются определенные впечатления, находящие себе подтверждение по мере обогащения опыта. Короткий приступ сильной физической боли, пока он длится, носит ошеломляющий характер. Страдающий обыкновенно воздерживается от громких жалоб. Он молит об облегчении, но не тратит времени на подробное описание своих мук. Он очень редко теряет контроль над собой, впадает в бешенство и теряет разум. В этом смысле самая тяжкая боль очень редко становится невыносимой. Когда короткая и сильная физическая боль проходит, она не оставляет очевидных изменений в поведении. Продолжительная боль ведет к более заметным последствиям. Часто ее принимают без особых жалоб, развивая немалую выносливость и терпение. Гордость усмиряется или же, временами, порождает решимость скрывать страдания. Женщины с ревматическим артритом выказывают столь характерную бодрость, что ее можно сравнить cospes phthisica туберкулезных больных, и она проистекает, пожалуй, скорее от легкой интоксикации пациента инфекцией, чем от возросшей силы характера. Некоторые жертвы хронической боли демонстрируют отрицательные последствия в области характера. Они становятся раздражительными и злоупотребляют своим положением больных, устанавливая домашнюю тиранию. Но чудо состоит в том, что таких неудачных случаев очень мало, а героев куда больше — физическая боль бросает своего рода вызов, который большинство людей признает и принимает. С другой стороны, длительная болезнь, даже в отсутствие боли, изнуряет не только тело, но и сознание. Больной отказывается от борьбы и постепенно впадает, беспомощно и жалобно, в сосредоточенное на своем несчастье отчаяние. При всем том, некоторые, даже в аналогичном физическом состоянии, до конца сохраняют ясность и самоотверженность. Наблюдать их — редкий, но трогающий душу опыт.
Душевная боль менее драматична, чем физическая, но она шире распространена и труднее переносима. Частные попытки скрыть душевную боль усугубляют это бремя — куда легче сказать «у меня болит зуб», чем «у меня на сердце тяжесть». Но если принять причину этой боли и отдать себе отчет в ней, этот конфликт укрепит и очистит душу, и со временем боль обыкновенно проходит. Иногда, однако, она тянется долго и приводит к сокрушительным результатам: если не отдать себе отчета в ее причине и не смириться с ней, она приводит к безотрадному состоянию хронического невроза. Но некоторые люди силой личного героизма преодолевают даже хроническую душевную боль. Им часто удаются блистательные свершения, и они укрепляют и оттачивают свой характер до такой степени, что он становится подобен закаленной стали.
В случае настоящей душевной болезни вырисовывается более мрачная картина. Во всей медицине нельзя найти ничего более ужасного для наблюдения, чем человек с хронической меланхолией. Но по большей части сумасшедшие не несчастны, и даже не отдают себе отчета в своем состоянии. Как в том, так и в другом случае, если они поправляются, они меняются на удивление мало. Часто они ничего не помнят о своей болезни.
Боль дает повод для проявления героизма, и люди пользуются этим поводом на удивление часто.