Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)

Представляем цикл материалов о медицине и вере в истории и современности православия в рамках серии «Коллекция журнала «ФОМА» для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.
Оглавление
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
15 фактов из истории медицины и Церкви
Целитель и великомученик Пантелеимон и другие святые врачи
Клятва Гиппократа: как она возникла и приносят ли ее на самом деле врачи сегодня?
Клятва грузинских православных врачей XIV века
Евгений Боткин: Сердце доктора
Кисловодские врачи против Третьего Рейха: невероятная история подпольной больницы
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — профессор, врач, архиепископ
СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЧИ И ВЕРА
Митрополит Сурожский Антоний: Врач и пациент перед лицом смерти
Елизавета Владимирова. Отталкивая смерть…
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): «Если жизнь бесцельна, то и медицина не нужна»
Андрей Лопатин — хирург, который дарит лица детям
Ростислав Валихновский: «Эликсир молодости — это молитва и пост»
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Владимир Гурболиков: как относиться к врачам?
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
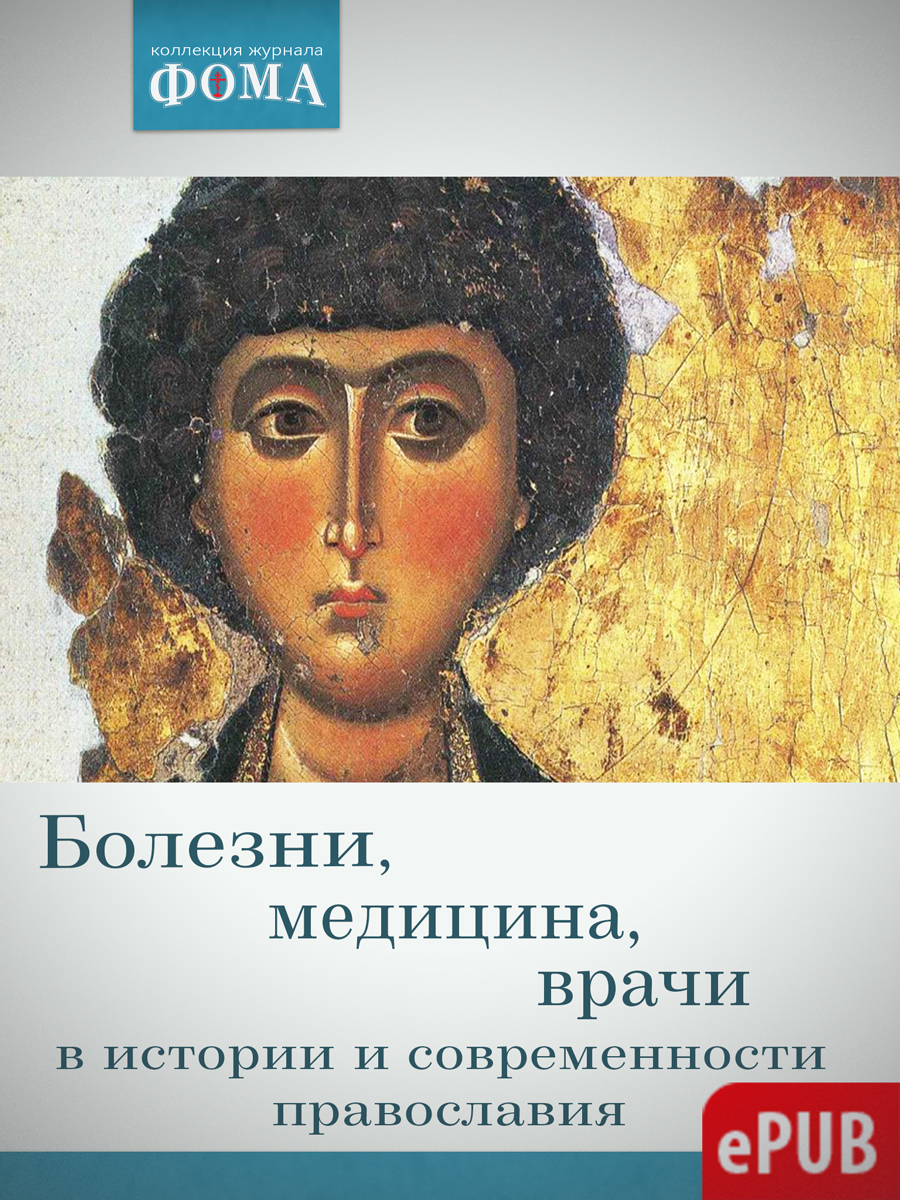
Представляем цикл материалов о медицине и вере
в истории и современности православия
в рамках серии "Коллекция журнала "ФОМА" для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.
Серия "Коллекция журнала "ФОМА" основана на материалах редакции.
ВНИМАНИЕ!
Полные выпуски доступны в приложении Журнал "ФОМА" в AppStore и GooglePlay,
а также вы можете получить их оформив редакционную подписку на оригинальное бумажное издание.
ИД "ФОМА"
2020 г.
(С)
в истории и современности православия
«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его», гласит Библия (Сир. 39:1). Напоминая о том, что причины болезней находятся глубже простой физиологии, Церковь никогда не одобряла пренебрежение помощью медицины.
Сегодня, когда весь мир стал перед вызовом вирусной пандемии, люди часто надеются на технологии, а оказывается, что помогают нам прежде всего другие люди — врачи.
Многие врачи, столкнувшись с серьезнейшим вызовом, в свою очередь понимают, что их силы не безграничны. И среди них были и есть те, кто сумел гармонично соединить свое служение с неиссякаемым Источником — глубокой верой в Бога.
Как могут сочетаться медицина и вера? Какие врачи попали в церковные святцы? Как верующие врачи относятся к своему ремеслу и как нам следует относиться к врачам? Предлагаем разобраться в этих вопросах вместе.
Один из самых известных в мире врачей родился в семье священника и прежде чем занять медициной окончил духовную семинарию. Другой готовился стать священником, а совершил переворот в психиатрии. Многим принципиально важными открытиями и этическими правилами в медицине мы обязаны монахам. В монастырях хранились и переводились основополагающие медицинские трактаты, зарождались больницы... Рассмотрим некоторые исторические факты о пересечении истории медицины и Церкви.

El charlatán sacamuelas, Rombouts Theodoor. Источник - сайт музея Прадо
1. Первую большую христианскую больницу построил святитель Василий Великий в Кесарии в 370 году.
Она была похожа на маленький город и имела столько зданий, сколько типов болезней тогда различали. Была там и колония для прокаженных— прообраз будущих европейских лепрозориев.
2. Прообразом монастырских больниц стали монастырские приюты для увечных и больных путников.
Обычай принимать в монастырях больных закрепил в составленном им Уставе киновитских общин святитель Василий Великий. Этот Устав сохранял свое значение во все века православного монашества, в том числе и на Руси.
3. Идея изоляции прокаженных от общества принадлежит монахам. В VI в. когда монахи ордена святого Лазаря (на территории Италии) посвятили себя уходу за прокаженными.
4. Первые приюты для душевнобольных стали появляться при христианских монастырях в Византии (IV в.).
5. При Киево-Печерской лавре была устроена больница, которая пользовалась широкой известностью и куда приходили раненые и больные со всей Руси. Для них были устроены специальные помещения, в которых дежурили монахи, ухаживавшие за больными.
Монастырские хроники («Киево-Печерский патерик», XII в.) сообщают о нескольких монахах-подвижниках, которые прославились своим врачебным искусством. Среди них — пришедший из Афона «пречудный врач» Антоний (XI в.), который лично ухаживал за больными, давая им свое исцеляющее «зелье»; преподобные Алипий и Агапит (умер в 1095 г.) — ближайший ученик преподобного Антония.
В патерике есть рассказ о святом и блаженном Агапите, бескорыстном враче:
«…когда кто-нибудь из братии заболевал, он, оставив келию свою, — а в ней не было ничего, что можно было бы украсть, — приходил к болящему брату и служил ему: подымал и укладывал его, на своих руках выносил, давал ему еду, которую варил для себя, и так выздоравливал больной молитвою его. Если же продолжался недуг болящего, что бывало по изволению Бога, дабы умножить веру и молитву раба его, блаженный Агапит оставался неотступно при больном, моля за него Бога беспрестанно, пока Господь не возвращал здоровья болящему ради молитвы его. И ради этого прозван он был «Целителем», потому что Господь дал ему дар исцеления».
Об Алипии рассказано, в числе прочего, как он «взял преподобный вапницу и разноцветными красками, которыми писал иконы, раскрасил лицо больного и гнойные струпья замазал, придав прокаженному прежний вид и благообразие. Потом привел его в божественную церковь Печерскую, дал ему причаститься Святых Тайн, и велел ему умыться водой, которой умываются священники, и тотчас спали с него струпья, и он исцелился»
6. Заботой о прокаженных активно занимались монахи из ордена францисканцев и лично основатель ордена святой Франциск Ассизский (1181 (1182) – 1226 годы).
«И не только он сам охотно прислуживал прокаженным, но также желал, чтобы все братья Ордена, когда они путешествуют по миру или же когда прерывают свой путь, ухаживали бы за прокаженными ради любви ко Христу, который ради нас желал, чтобы к нему относились, как к прокаженному», - сказано в главе XXV сборника «Цветочки святого Франциска».
7. Очки изобрел монах Джордано да Риальто, хранитель библиотеки монастыря доминиканцев (XIII век).
В монастырских библиотеках хранили и переписывали книги, зрение у переписчиков быстро портилось, так что очки были очень нужным предметом. Правда, в течение несколько веков они корректировали только дальнозоркость и только потом был создан второй вариант – для коррекции близорукости.
8. Кирилло-Белозерский монастырь (основан в 1397 году) был одним из одним из центров русской медицины.
Именно здесь на русский язык монах Кирилл Белозерский (1337—1427) перевел с греческого языка комментарии Галена к «Гиппократовому сборнику» («Галиново на Иппократа») – синтез всей античной медицины. Благодаря ему русским врачам стали доступны знания и опыт, которые были накоплены их предшественниками.
При монастыре было несколько больниц. Одна из них в настоящее время реставрирована и охраняется государством как памятник архитектуры.
9. Первую в России книгу по научной анатомии перевел монах Чудова монастыря Епифаний Славинецкий. Это был сокращенный труд Андреаса Везалия «Эпитоме» (изданного в Амстердаме в 1642 г.). Работа по переводу началась в 1657 году.
Монах Епифаний (1609—1675) окончил Краковский университет и преподавал сначала в Киево-Могилянской академии, а затем — в Лекарской школе при Аптекарском приказе в Москве.
Андреас Везалий - врач и анатомом, лейб-медик Карла VII и затем Филиппа II, младший современник Парацельса, основоположник научной анатомии.
Долгое время перевод «Эпитоме» хранился в Синодальной библиотеке, но во время Отечественной войны 1812 г. погиб при пожаре Москвы.
10. Первый российский профессор повивального искусства (1782), один из основоположников научного акушерства, педиатрии и фармакогии в России Нестор Максимович Максимович-Амбодик (1744—1812) родился в семье священника и первое образование получил в Киевской духовной академии.
После этого он поступил в Петербургскую госпитальную школу, затем - на медицинский факультет Страсбургского университета, в котором в 1775 г. защитил докторскую диссертацию о печени человека («De hepate humano»).
Вернувшись в Россию, Н. М. Максимович-Амбодик организовал преподавание бабичьего дела на высоком для своего времени уровне: приобрел акушерский инструментарий, лекции сопровождал демонстрациями на фантоме и у кровати рожениц, фантом женского таза с деревянным ребенком, а также прямые и изогнутые стальные щипцы («клещи») с деревянными рукоятками, серебряный катетер и прочие инструменты были изготовлены по его собственным моделям и рисункам.
Он впервые начал преподавание акушерства на русском языке и одним из первых в России он применил акушерские щипцы
Его капитальный труд «Искусство повивания, или наука о бабичьем деле» явился первым оригинальным российским руководством по акушерству и педиатрии.
11. Основоположник научной педиатрии в России Степан Фомич Хотовицкий (1796—1885) родился в семье священника православного прихода села Красилов Староконстантиновского уезда Волынской губернии. Окончил Волынскую духовную семинарию, как один из наиболее отличившихся семинаристов, получил право поступления в Медико-хирургическую академию.
Став ординарным профессором кафедры акушерства, женских и детских болезней, он первым начал читать (с 1836 г.) отдельный курс детских болезней из 36 лекций. В 1847 г. издал его в расширенном виде под названием «Педиятрика». Это было первое в России оригинальное руководство по педиатрии, в котором детский организм изучался с учетом его анатомо-физиологических особенностей, качественно изменяющихся в процессе развития.
12. Один из первых русских физиологов-экспериментаторов в стране, автор первого российского учебника «Физиология», создатель маски для эфирного наркоза Алексей Матвеевич Филомафитский (1807—1849) был сыном священника Ярославской губернии. Первое высшее образование получил в Ярославской духовной семинарии и после этого поступил в Харьковский университет, где перешел на медицинский факультет, затем в университет в Дерпте.
Был одним из первых пропагандистов экспериментального метода в российской физиологии и медицине. Вместе с Н. И. Пироговым разработал метод внутривенного наркоза; используя технику вивисекции, изучал вопросы физиологии дыхания, пищеварения, переливания крови («Трактат о переливании крови», 1848); создал аппараты для переливания крови, маску для эфирного наркоза и другие физиологические приборы.
13. Создателем генетики был монах из Австрии Грегор Мендель. Эксперименты, благодаря которым были открыты законы генетики, он проводил в маленьком приходском саду.
14. Иван Петрович Павлов – первый российский Нобелевский лауреат (1904 год, премия за за исследование функций главных пищеварительных желез), фактически заново создал современную физиологию пищеварения.
Происходил из священнического рода. Окончил Рязанское духовное училище и Рязанскую духовную семинарию, о которой вспоминал с большой теплотой.
На последнем курсе семинарии прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора И.М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. Поступил на юридический факультет (семинаристы были ограничены в выборе университетских специальностей) и через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.
15. «Очерки гнойной хирургии» (1934 год) - фундаментальный труд, не имеющий аналогов в мировой медицинской литературе, «энциклопедия гнойной хирургии», принадлежит перу епископа, причисленного к лику святых – святителю Луке Войно-Ясенецкому.
В книге представлена топографо-анатомическую концепцию хирургического лечения гнойных заболеваний. Несмотря на духовный сан, автор получил Сталинскую премию I степени (1946 год).
При подготовке материала использована книга Т. С. Сорокиной «История медицины (в двух томах), Academia, 2008 год.

В жизни очень часто бывает так: растет себе ребенок, родные учат его, хотят видеть в нем какого-нибудь профессора элитного вуза или знаменитого актера, а он, когда вырастет, возьмет – и сознательно свяжет свою жизнь с непрестижной, но очень близкой его душе профессией. Правда, сейчас этим трудно кого-либо удивить, а вот лет сто назад самостоятельный выбор жизненного пути вопреки местным традициям и ценностям мог иметь самые непредсказуемые последствия.
Вплоть до того, что глава рода или местной общины мог просто убить непокорного юношу. Особенно страшно было, если человек менял религию – в таком случае его, как минимум, ожидало всеобщее презрение. Этот путь прошли многие христианские мученики, которые, несмотря на отвержение обществом, до самой смерти были верны идеалам Христа, в которого они уверовали раз и навсегда. Одним из таких мучеников был молодой талантливый врач по имени Панталеон. Его мы знаем как Пантелеимона Целителя.
В конце III века в городе Никомедия на берегу Мраморного моря в семье знатного гражданина Евстрогия и его жены Еввулы родился мальчик. Назвали его Панталеоном – «подобный льву». Отец мечтал сделать сына мужественным и храбрым, оттого и дал ему такое имя. Но мальчик проявлял совсем иные склонности – мягкий и спокойный, он больше годился для мирного и созидательного дела, чем для военной или политической карьеры. Мальчик был особо чуток к боли других, обладал трепетной натурой и имел отзывчивое сердце.
Отец Панталеона был язычником, а мать – тайной христианкой. Евстрогий жену любил и не противился ее религиозным взглядам, но сам принимать христианство не хотел. Воспитанием сына первые годы занималась Еввула, которая и посеяла в его сердце семя слова Божьего. Евангельские заповеди нашли в кротком мальчике живой отклик, и под влиянием матери ребенок стал еще более чутким и отзывчивым. За свое доброе сердце мальчик получил свое второе имя – Пантелеимон, что означает «всемилостивый».
Но Еввула прожила недолго – еще даже не будучи подростком, Пантелеимон стал сиротой. Его воспитанием занялся отец, который сразу стал прививать ребенку языческие взгляды. Вскоре мальчик начал забывать христианство, но его характер не изменился – тот же пытливый ум, то же доброе сердце, та же отзывчивая душа. И отец решил отдать юношу в медицинскую школу, под руководство виднейшего доктора Евфросина.
В школе молодой врач нажил немало врагов, поскольку все завидовали его способностям. Пантелеимон был первым учеником и прекрасно знал не только теорию, но и имел необычайную профессиональную «хватку». Учитель доверял ему самых сложных больных, и юноша справлялся с задачей. Злые языки пускали различные слухи, но не могли ничего сделать против Пантелеимона – он обладал безупречной репутацией, уважением среди пациентов и благосклонностью своего учителя. При этом молодой врач не гордился собой, и чаще всего даже не брал платы за лечение. К нему шли толпы, и это вызывало еще большую ненависть коллег.
Но юношу мучило сомнение. Язычество казалось ему мертвым. Он искал подлинный смысл жизни. Ему надоели интриги, гонки за славой и деньгами. Размышляя об этом однажды, он шел по улице. Вдруг, его окликнул старик, сидевший на пороге дома. Старик был священником Ермолаем, который с немногочисленной группой христиан скрывался от преследования. Ермолай увидел внутренние терзания юноши и решил поговорить с ним. Они долго беседовали, и с каждым словом старого священника Пантелеимону становилось ясно, что истина, которую он так ищет, – в христианстве. Но крещение принимать он еще не решался. На помощь был послан случай.
Как-то, после очередного разговора с Ермолаем, Пантелеимон увидел на улице мертвого мальчика, которого укусила змея. Труп лежал у ног врача, а змея извивалась рядом. И тут Пантелеимон вскрикнул: «Господи, если Ты хочешь, чтобы я стал христианином, пусть мальчик оживет, а змея подохнет!». После его слов змея погибла, а малыш поднялся, словно он просто спал. Это чудо окончательно утвердило Пантелеимона в его выборе, и он принял Крещение.
Сначала об этом никто не знал. Но один раз к юному врачу на прием привели слепого. Несчастный потратил огромные деньги, но ни один доктор ему не помог. Пантелеимон понимал, что этого пациента не вылечить обычными методами, и тогда помолился Богу и провел рукой по глазам больного. Слепец стал зрячим. После этого чуда в христианство обратился и отец Пантелеимона Евстрогий. А исцеленного человека вскоре встретили на улице врачи. С этого времени они стали еще больше завидовать таланту святого, ведь он отнимал у них всех клиентов. Узнав от слепца, что Пантелеимон – христианин, нечистые на руку коллеги придумали, как избавиться от конкуренции.
Никомедия, где жил Пантелеимон, была восточной столицей империи, здесь находилась резиденция императора. В это время христиан убивали – императоры считали их врагами народа, нарушителями традиций и изменниками. Обвинение человека в том, что он христианин, автоматически подписывало смертный приговор. Но была и возможность спастись – многим последователям Христа предлагали отречься от своих убеждений. Отречение предложили и Пантелеимону. Император лично знал талантливого врача и хотел сделать его своим доктором. Поэтому убивать Пантелеимона правителю было жалко. Следствие стало настаивать на отречении, но святой был непреклонен, и даже пытки не сломили его веру. В конце концов, после долгих допросов и зверских мучений, Пантелеимона обезглавили. Случилось это в 305 году. Частицы его святых мощей находятся во многих местах христианского мира, а голова хранится на Афоне. В народе зафиксировано множество случаев исцеления по молитвам этого святого врача.
Пантелеимон – небесный покровитель медиков. Его профессионализм в сочетании с верой в Бога давал блестящие результаты. Его жизнь – яркий пример того, как доктор может служить своему пациенту. К сожалению, и раньше, и сейчас находились врачи, которые видят в больном объект наживы и которым абсолютно безразлична судьба пациента. Но есть и другие – те, на которых держится медицина. Те, кто ночами стоят у операционного стола, спасая жизни. Те, что пешком обходит участки, получая взамен нищенскую зарплату. Те, кто не вступает в сделку со своей совестью и на личные средства помогает людям. Те, кто с молитвой и верой в душе начинают свою смену. Церковь знает много врачей, до конца выполнивших заповедь Христа о любви к ближнему. Это Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Агапит и наш недавний современник профессор Валентин Войно-Ясенецкий, более известный как архиепископ Лука. Но первым в числе этих святых врачей, без сомнения, стоит Пантелеимон, заложивший духовные основы медицины и бескомпромиссно соединивший в своем служении высокий профессионализм и глубокую веру в Бога.
Иконография
Иконография святого великомученика и целителя Пантелеимона достаточно проста. В ней нет какого-либо глубокого богословского смысла, зачастую заложенного в образах Господа Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. С другой стороны, при написании образа святого Пантелеимона, конечно же, соблюдаются общие традиции православной иконописи, а основной акцент делается на максимальной передаче достоверности образа святого.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон изображается молодым юношей, без усов и бороды, что в целом является редкостью для православной иконописи. Однако именно так достигается историческая достоверность образа святого.
Святой Пантелеимон, как правило, изображается в традиционных одеяниях целителей и лекарей, – сине-зеленом хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым оплечьем и коричневом (красно-коричневом) плаще.
Иногда на левом плече святого изображается узкая белая лента, которая может напоминать диаконский орарь, – по одному из толкований, символ ангельского служения священнослужителя.

Единственная житийная икона св. Пантелеймона византийского времени
По сложившейся в Церкви традиции в левой руке святого Пантелеимона изображается ларец (коробочка) с лекарствами, которые напоминают чудотворные реликвии. Это прямая аналогия с врачебным служением святого, которое он нес при жизни. В правой руке святой Пантелеимон, в зависимости опять же от традиции, держит либо мученический крест, либо тоненькую ложечку, либо (еще реже) перо. Все эти предметы имеют определенный смысл, связанный с жизнью, служением и подвигом великомученика и целителя Пантелеимона. Собственно, крест символизирует его мученическую кончину и уподобление Самому Господу Иисусу Христу. Небольшая ложечка – это символ медицинского служения святого Пантелеимона, а также того дара целительства, которым он обладал. Тем самым он как бы подает каждому просящему то исцеление, которое у него просят. Что касается пера, то, по одной из версий, оно символизирует собой ту мудрость, те знания, которые имел святой Пантелеимон, так как в свое время он обучался в языческом училище.
Великомученик Пантелеимон — самый известный, но не единственный врач, которого канонизировала Православная Церковь. Что мы знаем о его святых коллегах?

Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, — пишет о нем апостол Павел в своем послании к Колоссянам (Кол 4:14). Лука — апостол от 70-ти, написал одно из четырех Евангелий под руководством апостола Павла и книгу «Деяния святых апостолов». По преданию, первым написал иконы Божией Матери. В честь евангелиста получил свое имя в монашестве еще один святой врач — архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Апостол Лука принял мученическую смерть: его повесили на дереве.

Православная Церковь чтит память сразу трех пар святых с именами Косма и Дамиан: все они прославились как врачи-бессребреники. Наибольшим почитанием пользуются Косма и Дамиан Асийские (IV в.), родные братья. Воспитанные матерью-христианкой (преподобной Феодотией), они безвозмездно исцеляли больных и, кроме этого, сами разыскивали и лечили диких животных, которые потом без страха ходили за ними. В конце жизни Дамиан нарушил обет безвозмездного врачевания: выздоровевшая безнадежная больная умолила его во имя Святой Троицы взять в дар за исцеление три яйца. Услышав о том, что брат пренебрег обетом, Косма завещал похоронить их с Дамианом отдельно. После смерти братьев Бог открыл людям, что Дамиан принял дар ради любви к Создателю, а не из корысти, и святых братьев погребли вместе.

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, лечил всех больных бесплатно, исцеляя в том числе и душевные недуги. При этом святой врач не боялся проповедовать Евангелие. Во время гонения императора Диоклетиана Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял монашество и продолжал лечить приходивших к нему людей. Однажды врача-монаха разыскал воин Иоанн, пожелавший стать его последователем. Через некоторое время учитель и ученик вместе отправились в Египет, чтоб поддержать христианку по имени Афанасия, вместе с тремя дочерьми заключенную в темницу. Кир и Иоанн были схвачены, их предали мукам на глазах Афанасии. Но ни она, ни ее дети, ни сами мученики не отреклись от Христа и были казнены.

Был известным в Каппадокии врачом. Христианин с детства, он открыто проповедовал христианство во время гонений. На допросе у царского сановника Орест проявил необыкновенное мужество: на повеление назвать свое имя он ответил, что имя его — Христианин, и оно кажется ему более высоким, чем имя, данное родителями при рождении. Твердо отказавшись отречься от своей веры, святой врач выдержал множество пыток: 40 воинов, сменяя друг друга, истязали его. Затем мученика привязали к дикому коню и влачили по земле, пока святой Орест не умер.
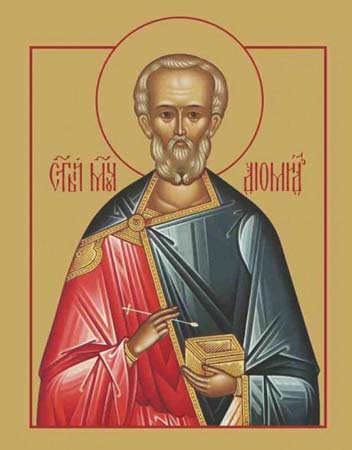
Врач по профессии, он исцелял не только телесные, но и душевные болезни. Много путешествуя, Диомид проповедовал Христа, обращая и крестя язычников. Однажды врач пришел в Никею, и император-язычник Диоклетиан послал воинов арестовать его. Но умер святой мирной смертью на обратном пути из Никеи. Согласно житию, найдя его тело, воины отсекли голову святого в доказательство исполненного поручения императора, но тотчас ослепли. Диоклетиан приказал отнести голову обратно к телу: исполнившим приказ воинам вернулось зрение. Имя мученика Диомида вспоминается при совершении таинства Елеосвящения (Соборования).
Насельники Киево-Печерской лавры были первыми прославленными святыми лекарями на Руси.

Преподобный Агапит
Он прославился тем, что исцелил Владимира Мономаха, будущего великого Киевского князя, прислав ему настой из трав. Однажды монаха-целителя из зависти попытался отравить известный в Киеве врач, однако яд не подействовал. Впоследствии завистник покаялся и принял монашеский постриг.

Преподобный Алипий
Кроме дара целительства, он известен как иконописец. Одна из икон его письма — Свенская икона Пресвятой Богородицы — хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее.
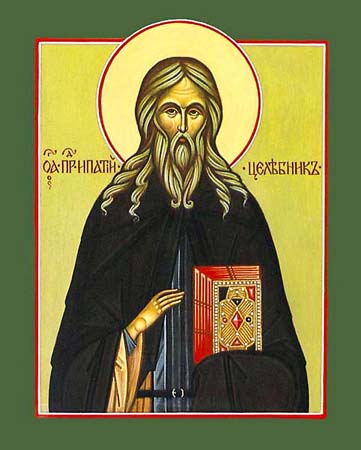
Еще один насельник Киево-Печерской лавры. Его послушанием было ухаживать за больными. За строгую подвижническую жизнь и самоотверженное служение людям получил от Бога дар исцеления. Нетленные мощи преподобного Ипатия находятся в Дальних пещерах Лавры.

Сын известного русского врача Сергея Петровича Боткина (лейб-медика Александра II и Александра III). Окончил с отличием Военно-медицинскую академию, работал в Мариинской больнице для бедных. С началом Русско-японской войны (1904 год) стал добровольцем в действующей армии, возглавил медицинскую часть Российского общества Красного Креста. В 1908 году приглашен в семью Николая II в качестве лейб-медика. На этой должности пробыл до самой смерти — в 1918 году его расстреляли вместе с царской семьей в Екатеринбурге. В 2016 году причислен Русской Православной Церковью к лику святых.
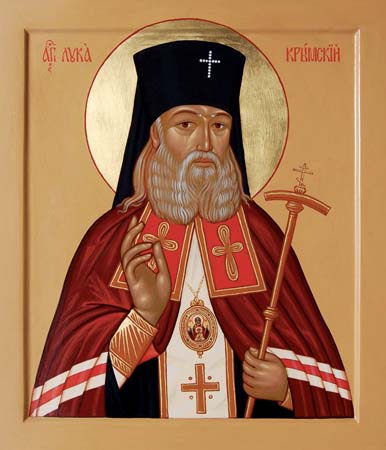
Родился в семье аптекаря-католика, но был воспитан матерью в православной вере. В 1903 году окончил медицинский факультет Киевского университета. Во время Русско-японской войны (1904 год) возглавил отделение хирургии при госпитале Киевского Красного Креста в Чите. Женился на сестре милосердия Анне, которая родила ему четверых детей и в 1919 году умерла от туберкулеза. Через некоторое время принял сан диакона, затем пресвитера. В 1923 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был пострижен в монашество с именем Лука в честь врача-евангелиста. В том же году рукоположен во епископа, после чего его арестовали по стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности». Началась череда арестов и ссылок, которые продлились 11 лет, при этом владыка не переставал служить и лечить людей, писать медицинские и богословские труды. В 1946 году за научные разработки в области медицины удостоился Сталинской премии. Последние годы жизни святитель Лука провел в качестве архиепископа Крымского, до конца спасая жизни и души людей. В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.
как она возникла и приносят ли ее на самом деле врачи сегодня?
Как родилась клятва Гиппократа», что в ней странного и как она соотносится с теми обещаниями, которые дают выпускники медицинских вузов сегодня? Мы попросили рассказать об этом Ольгу Александровну Джарман, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Она была написана примерно в 400 году до Р. Х. Это один из самых древних текстов античных врачей из сохранившихся до наших дней.
Гиппократ — древнегреческий врач, живший в V-IV веках до Р. Х. Основоположник античной научной медицины, в которой болезни объяснялись не вмешательством богов, а изменением состава четырех жидкостей организма — крови, флегмы (слизи), желчи и черной желчи. Труды Гиппократа и врачей, его современников, разделявших его теорию, вошли в «Сборник Гиппократа» и оказали огромное влияние на европейскую медицину.
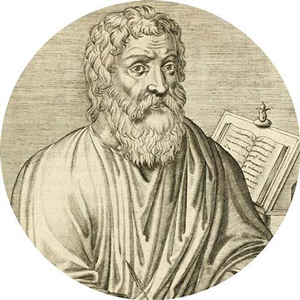
Гиппократ
Текст, о котором мы говорим, называется просто — «Клятва», без имени Гиппократа, но, поскольку она находится в «Сборнике Гиппократа» с другими трактатами, которые считали принадлежащими великому «отцу медицины», то ее обычно и называют клятвой Гиппократа.
Однако в последнее время некоторыми учеными эта датировка оспаривается и «Клятву» считают значительно моложе, придвигая ее к рубежу нашей эры.
В I веке по Р. Х. Скрибоний Ларг, личный врач императора Клавдия, упоминает о «Клятве» Гиппократа в связи с запретом врача совершать аборты ( в тексте «Клятвы» говорится: «не вручу абортивного (буквально: разрушительного) пессария беременной женщине») и высоко ставит самого Гиппократа как основателя медицины. Однако самый старый текст «Клятвы», дошедший до нас — это папирус 300 года по Р. Х. Всего сохранилось 38 манускриптов с «Клятвой», восходящих к античности.
Вообще, давать клятву в античности было делом распространенным. Сохранилось много античных клятв, в том числе знаменитая «Клятва» эфеба, которую давали юноши-призывники в древних Афинах. Должностные лица античного полиса присягали в том, что будут честно исполнять свои обязанности, заключавшие союз республики клялись соблюдать договоры, в судах Греции тяжущиеся приносили разные клятвы. Тексты важнейших клятв высекались на стелах для всеобщего обозрения. Однако врачебная клятва до нас дошла только одна. Мы не можем сказать, были ли другие врачебные клятвы.
Известный римский политический деятель Катон Старший остерегался греческих врачей именно из-за какой-то клятвы, которую они приносят. Он подозревал, что они поклялись уморить всех римлян. В детали он, видимо, глубоко не вдавался, а, скорее всего, смешал знаменитый отказ Гиппократа служить персам — врагам греков и саму «Клятву», с которой не был знаком.
Почему появилась «Клятва» — однозначного ответа нет. Самое распространенное мнение — ее появление ознаменовало переход от семейной врачебной школы, когда только дети врача, потомки легендарного Асклепия, упоминаемого Гомером в «Илиаде», могли стать врачами (врачей так и называли — Асклепиады). В семейные школы начали брать учеников из неврачебных семей и обучать их за плату. Кстати, Платон в своем диалоге «Протагор» упоминает о том, что сам Гиппократ (а он был современником Платона) берет учеников за плату. «Клятва», собственно, и состоит из двух частей. Первая часть — контракт студента с учителем-врачом и его семьей, вторая часть — торжественные обещания и в конце — благословения врачу, верному «Клятве».
Да. «Клятва» даже начинается с упоминания античных богов — Аполлона, Асклепия и других, в ней используются религиозные термины той эпохи — например, слова из «Клятвы», такие как «чисто и непорочно» и «считать подобные вещи тайной», звучали для древнего грека однозначно как религиозно нагруженные. Вообще, центральная часть «Клятвы» читается как возвышенный религиозный текст. Кроме того, это жемчужина литературного искусства — по построению и противопоставлению различных понятий текст напоминает речи знаменитых афинских философов.

Статуя античного бога медицины Асклепия. Фото Википедия/CC BY-SA 3.0
Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария.
Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство.
Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.
Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
(Пер. В. И. Руднева)
Медицинских университетов в античности не было. Они родились уже в христианскую эпоху, в Средневековье. Поэтому нельзя представлять выпуск молодых античных врачей, дающих клятву. Кроме того, у нас нет сведений, что клятву давали вообще все врачи. Напротив, это было довольно редким явлением, и часто в похвальной эпитафии тому или иному врачу писалось, что он давал клятву.
Ее стали чаще давать в период поздней античности, но врач вполне мог практиковать и без клятвы. Яркий пример — святой Кесарий, брат святого Григория Богослова (IV век). Он получил блестящее медицинское образование в Александрии, центре медицинской науки того времени, потом был придворным врачом у четырех императоров. Но клятвы он не давал — именно потому, что он был христианин, а в клятве упоминались языческие боги. И, как пишет его брат, Григорий Богослов, все доверяли ему и без Гиппократовой «Клятвы». Христианского варианта клятвы тогда еще не было.

Cвятой Кесарий, брат святого Григория Богослова
Если христиане давали клятву, то только модифицированную, именами античных богов, разумеется, никто не клялся. Когда традиция принесения врачебной клятвы утвердилась, текст ее стал меняться, расширяться и уточняться. Цель всегда была — сохранить не букву, а дух, дух Гиппократовой этики применительно к настоящему времени.
C XI века существовал вариант клятвы на латинском языке, начинавшийся со слов «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа! Я не лгу». Фраза об абортах звучала с детализацией: «Я не дам абортивного средства женщине никаким путем».
Интересно, что в манускриптах текст клятвы писали в виде креста.
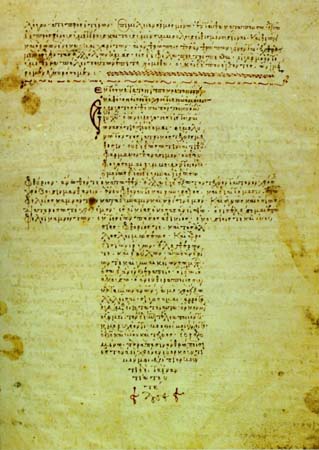
Историки медицины не случайно называют «Клятву» загадочным документом.
Очень сложное место, о которое все спотыкаются — это камнесечение. Почему врач не будет делать больному камнесечение? Было много вариантов ответа — конкуренция, предостережение от переоценки своих возможностей, специализация, регулирование отношений между коллегами… Но вопрос так и не решен. Есть мнение, что это связано с запретом (он тоже есть в «Клятве») на хирургическое лечение, на разрез ножом и пролитие крови. Такой запрет, по сути, был ритуальным. Поэтому есть даже версия, которой придерживались некоторые крупные историки медицины, что «Клятва Гиппократа» — это текст какой-то религиозной медицинской группы, например, пифагореанской.
В «Клятве» говорится о «режиме», или «диэте» («diaita»). Это очень важное понятие в античной медицине. Это не просто распорядок дня и прием пищи, это образ жизни как таковой. Именно образ жизни — с едой, сном, половой жизнью, гимнастикой и так далее — являлся главным лекарственным средством в руках врачей-гиппократиков.
Обычно считают, что вся проблематика клятвы сводится к абортам, эвтаназии и врачебной тайне. Это крайне важные темы сейчас, но «Клятва» значительно шире.
Мало обращают внимание на такие вещи, как учить детей учителя бесплатно — сейчас-то дети врачей учатся наравне со своими однокашниками из немедицинских семей.
Еще момент — в этой клятве упомянуто отношение к рабам наравне со свободными. Раб, с точки зрения образованного человека той эпохи, как это сформулировано у Аристотеля, — говорящее орудие. А «Клятва» не делает различия в отношении между мужчинами и женщинами, рабами и свободными.
И еще — врач не должен вступать в интимные отношения с пациентами. Таким образом, получалось, что брак между врачом и пациенткой был априори невозможен.
Еще важный момент: Гиппократова этика не сводится только к «Клятве». Часто с «Клятвой» путают другие тексты из «Сборника Гиппократа», касающиеся этики врача (трактаты «Закон», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставления»).
Врачи времен Гиппократа и вообще в античности делали много и хорошего, и дурного. Тексты «Сборника Гиппократа» — это рациональная, а не религиозная медицина. Но «Клятва» словно возвышается над всем этим, даже над другими этическими трактатами Гиппократа, показывает какой-то прекрасный идеальный мир.
Доктор философских наук И. В. Силуянова, один из основоположников современной российской биоэтики — пишет об «удивительном согласии принципов гиппократовской врачебной этики с христианскими представлениями о человеческих взаимоотношениях.

Гиппократ и Гален. XII век. Фото Википедия/CC BY-SA 2.5
Нельзя сказать точно. «Клятву», безусловно, знали в Средневековье, так как «Сборник Гиппократа» был известен. Две цитаты из «Клятвы» упомянуты авторами в IV веке по Р. Х. С V по XI века — еще две цитаты, в том числе у святых отцов. Однако она, несомненно, была известна — так, поговоркой монахов, занимавшихся лечением больных в монастырях, было: «Что Гиппократ сказал, то и разрешено». Неизвестно, применялся ли данный текст как клятва в прямом смысле слова, или был просто руководством к этике врачевателя. В любом случае, если она и применялась, то редко и в исправленном виде, без упоминания языческих богов.
«Клятва» была «переоткрыта» в эпоху Возрождения, и в модифицированном виде получила широкое распространение с XVIII века.
Нет. В Российской Федерации врачи дают «Клятву врача». Ее текст установлен статьей 71 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
А в США, например, любой выпускник может написать свою клятву врача, индивидуальную. Но все-таки врач в Европе и США, как и в России, то есть в европейской культуре, дает клятву, восходящую к «Клятве» Гиппократа.
То, что мы называем сейчас «клятвой врача», по своей сути не клятва, подразумевающая обращение к сверхъестественным силам, а торжественное обещание. Так же это воспринималось, например, в Российской империи, когда врач давал «Факультетское обещание», и в СССР, где существовала «Присяга врача Советского Союза».
Интересно, что древнегреческое слово «horkos» («клятва») родственно слову «herkos» («ограда»). Врач словно очерчивает пределы, в которых будет действовать.
Факультетское обещание врача в Российской Империи (XIX век)
Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня этим званием, даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачить чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим; свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию, сообщая учёному свету всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных, когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям.
Текст современной клятвы врача в Российской Федерации
Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.
Не так давно в Интернете был опубликован текст клятвы, которую давали перед началом своего служения грузинские православные врачи в XIV веке.

Данная клятва во многом совпадает со всемирно известной клятвой древнегреческого врача Гиппократа (V-IV вв. до Р.Х.), однако имеет и принципиальные отличия, связанные, прежде всего, с ее христианской составляющей.
Познакомил с текстом клятвы читателей портала «Karibche.ambebi.ge» врач и священник, настоятель храма святого Иоанна Богослова в Тбилиси Константин Гиоргадзе.
Клятва православного врача:
Да святится имя Господа, Отца Спасителя нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков!
Я не солгу!
Я не оскверню учения врачебного искусства!
Никому, даже желающему этого, не подам смертельной смеси, и не обучу путям ее получения, также не подам и женщине ни внешних, ни внутренних средств вытравления плода.
Без претензии и без всяких договоренностей обучу врачебному искусству всех, кто в этом нуждается.
Применю все методы, соответствующие моим возможностям и разумению, для помощи страдающим.
Соблюду в святости и чистоте жизнь свою и искусство.
В какой бы дом я ни вошел, войду лишь для помощи больному; воздержусь от всякой известной или неизвестной мне несправедливости, которая ведет к смерти или мучениям человека; а также от постыдных связей с зависимым или свободным человеком – мужчиной или женщиной.
Что бы я ни увидел и не узнал в процессе лечения (а также в ближнем кругу больного), не разглашу того, о чем нельзя говорить, сочту это за священную тайну.
Если я соблюду и не нарушу эту клятву, да поможет мне Спаситель в жизни и врачебном искусстве, если же нарушу, да лишит меня Спаситель всего этого.
Перевод клятвы на русский язык - портал «Благовест-инфо».

«Когда вы входите в палату, вас встречает радостное и приветливое настроение — драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко гораздо больше поможете, чем микстурами и порошками… Только сердце для этого нужно, только искреннее сердечное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой давать его тому, кому оно нужно. Так пойдем с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как ему быть полезным».
Это слова из лекции, которую доктор Боткин читал в Императорской военно-медицинской академии. Он учил студентов «неизмеримо сердечному отношению» к своим пациентам. И сам пронес это учение по жизни — до самой мученической кончины.
В роду Боткиных было много творческих личностей — врачей, художников, писателей. Сам Евгений Боткин, получив серьезное музыкальное образование, все же пошел по стопам своего отца, знаменитого лейб-медика Сергея Боткина. Он окончил Императорскую военно-медицинскую академию и начал свой профессиональный путь в больнице для бедных. Потом уехал в Германию, где стажировался у ведущих врачей, а потом вернулся в свою больницу.
На Русско-японскую войну он ушел добровольцем и стал заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста. Но, несмотря на высокую должность, большую часть времени проводил на фронте. Известен даже случай, когда в одном из полевых лазаретов Боткин оказал помощь раненому ротному фельдшеру, взял его медицинскую сумку и вместо него отправился на передовую.

Евгений Боткин с великими княжнами Анастасией и Марией
«Я удручаюсь все более и более ходом нашей войны, и не потому только, что мы столько проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше потому, что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга, что мелкие расчеты становятся выше понятий об Отчизне, выше Бога», — писал Боткин.
После окончания войны он выпустил книгу «Свет и тени Русско-японской войны». Книгу прочла императрица Александра Федоровна и на вопрос, кого бы она хотела видеть на должности придворного врача, ответила: «Боткина. Того, который воевал». И осенью 1908 года семья доктора Боткина переехала в Царское Село, а сам Евгений Сергеевич был назначен почетным лейб-медиком императорской семьи.
Особого его внимания требовала тяжелая болезнь цесаревича Алексея.
Бывало, дни и ночи он проводил у постели мальчика — лечил, подбадривал, беседовал с ним. Алеша очень полюбил своего доктора и писал ему в письмах: «Я вас люблю всем своим маленьким сердцем».
В 1910 году от Боткина ушла жена, и с тех пор он целиком посвятил себя царской семье, к которой привязался всей душой. Когда в 1917 году дети государя один за другим заболели корью, доктор вместе с Александрой Федоровной сутками не отходил от их постелей. А потом проявил еще один свой талант: стал заниматься с цесаревичем русской литературой и сумел очаровать Алешу лирикой Лермонтова. Обоим эти занятия доставляли невероятное удовольствие.
Когда для императорской семьи наступило время испытаний, доктор Боткин решил разделить с ней ее участь. Вместе с ней он отправился в ссылку — сначала в Тобольск, а затем и в Екатеринбург.
В Тобольске Боткин жил отдельно от остальных, не на правах узника: квартира, в которой поселили его с детьми, никогда не подвергалась досмотру. Сам он мог свободно передвигаться по городу, и любой желающий мог записаться к нему на прием.
«Крестьянские пациенты, — вспоминал он, — постоянно пытались платить, но я, разумеется, никогда ничего с них не брал. Тогда они, пока я был занят в избе с больным, спешили платить моему извозчику. Это удивительное внимание, к которому мы в больших городах совершенно не привыкли, бывало иногда в высокой степени уместным, так как в иные периоды я не в состоянии был навещать больных вследствие отсутствия денег и быстро возрастающей дороговизны извозчиков. Поэтому в наших обоюдных интересах я широко пользовался другим местным обычаем и просил тех, у кого есть, пусть присылают за мной лошадь. Таким образом, улицы Тобольска видели меня едущим и в широких архиерейских санях, и на прекрасных купеческих рысаках, но еще чаще потонувшим в сене на самых обыкновенных розвальнях».

Евгений Боткин и император Николай II
Об отъезде отца из Тобольска в Екатеринбург вспоминает его дочь Татьяна:
«Был теплый весенний день, и я смотрела, как он осторожно на каблуках переходил грязную улицу в своем штатском пальто и в фетровой шляпе. Мой отец носил форму: генеральское пальто и погоны с вензелями государя и в Тобольске всё время, даже с приходом большевиков, когда ходили уже вообще без погон, пока, наконец, отрядный комитет не заявил, что они, собственно говоря, ничего против не имеют, но красногвардейцы несколько раз спрашивали, что тут за генерал ходит, поэтому, во избежание недоразумений, попросили моего отца снять погоны. На это он им ответил, что погон не снимет, но если это событие действительно грозит какими-нибудь неприятностями, просто переоденется в штатское».
В доме Ипатьева Боткин делал все, чтобы облегчить участь императорской семьи. Он добровольно взял на себя роль ходатая по всем, даже незначительным вопросам, став посредником между узниками и комендантом «дома особого назначения», будущим непосредственным руководителем расстрела царской семьи Яковом Юровским: просил вывести семью на прогулку, позвать священника, «часики подчинить»...
Сам Юровский потом вспоминал: «Доктор Боткин был верный друг семьи. Во всех случаях по тем или иным нуждам семьи он выступал ходатаем. Он был душой и телом предан семье и переживал вместе с семьей Романовых тяжесть их жизни».
Последний в своей жизни день рождения доктор встретил в доме Ипатьева: 27 мая ему исполнилось 53 года. Вскоре он написал из заточения своему младшему брату: «Бог помог мне оказаться полезным… Обращались ко мне всё больше хронические больные, уже лечившиеся и перелечившиеся, иногда, конечно, и совсем безнадежные. Это давало мне возможность вести им запись, и время мое было расписано за неделю и за две вперед по часам, так как больше шести-семи, в экстренных случаях, восьми больных в день я не в состоянии был навестить: все ведь это были случаи, в которых нужно было очень подробно разобраться и над которыми приходилось очень и очень подумать. К кому только меня не звали, кроме больных по моей специальности?! К сумасшедшим, просили лечить от запоя, возили в тюрьму пользовать клептомана… Я никому не отказывал, если только просившие не хотели принять в соображение, что та или другая болезнь совершенно выходит за пределы моих знаний. Я отказывался только идти к только что заболевшим, если, разумеется, не требовалось немедленная помощь…»
В ночь расстрела охрана разбудила Боткина и велела поднять обитателей Ипатьевского дома. Сказали, что их собираются перевести в другое место, потому что в городе неспокойно. Все узники спустились в подвал. Когда Юровский объявил о расстреле, доктор, по свидетельствам некоторых очевидцев, успел глухим голосом спросить: «Так нас никуда не повезут?»
В 2000 году Русская православная церковь канонизировала императора и его семью. А спустя 16 лет был канонизирован и доктор Евгений Боткин. Церковь вспоминает и его как праведного страстотерпца.

Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик царской семьи
Родился 27 мая старого стиля (11 июня нового стиля) 1865 года в Царском Селе в семье лейб-медика Российских императоров Александра II и Александра III Сергея Петровича Боткина, основателя бесплатной московской больницы для бедных, которая позже в советское время была названа Боткинской. С отличием окончил Военно-Медицинскую Академию. Добровольцем прошел всю русско-японскую войну. В 1908 году назначен лейб-медиком императорской семьи. Находился с марта 1917 года под стражей вместе с Царской семьей. Отпущен в связи с болезнью невестки. 1 августа 1917 года добровольно сопровождал Царскую семью в Тобольск, затем – в Екатеринбург, оставив в Тобольске собственных детей. В Екатеринбурге через Боткина шли все переговоры с тюремщиками из охраны и исполкомом Уралоблсовета. В ночь на 17 июля 1918 года расстрелян с Царской семьей в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. По свидетельству коменданта Дома особого назначения Я. Юровского, Боткин не умер сразу. Его пришлось пристреливать.

Евгений Боткин со своими детьми - Глебом, Татьяной, Юрием и Дмитрием, 1910
9 июля 1918 года, за неделю до расстрела, Е.С. Боткин начал писать письмо:
"Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писания настоящего письма, – по крайней мере отсюда, – хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь еще писать, – мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я уже умер, умер для своих детей, для друзей, для дела...
Когда мы еще не были выпуском, а только курсом, но уже дружным, исповедовавшим те принципы, с которыми мы вступили в жизнь, мы большей частью не рассматривали их с религиозной точки зрения, да и не знаю, много ли среди нас и было религиозных. Но всякий кодекс принципов есть уже религия, и наш так близко подходил к христианству, что полное обращение наше к нему, или хоть многих из нас, было совсем естественным переходом. Вообще, если "вера без дел мертва", то дела без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединялась и вера, то это уже по особой к нему милости Божьей. Одним из таких счастливцев, путем тяжелого испытания, – потери моего первенца, полугодовалого сыночка Сережи, – оказался я. С тех пор мой кодекс значительно расширился и определился, и в каждом деле я заботился не только "о курсовом", но и "о Господнем". Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца..."
Письмо оборвано на полуслове, Евгений Сергеевич не дописал его.
В 1981 году он прославлен Русской Православной Церковью за рубежом (РПЦЗ) в лике новомучеников. В Русской Православной Церкви прославлен в лике святых на Архиерейском Соборе 2016 года как праведный страстотерпец (день памяти — 4/17 июля).
Сведения о Евгении Сергеевиче Боткине взяты из базы данных "Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
невероятная история подпольной больницы

Фюрер приказал этот город не трогать. У фашистов были планы превратить курорт с уникальными источниками минеральной воды и целительным горным воздухом во второй Баден-Баден. Городу даже придумали новое имя — Гитлерштадт. Планировалось, что здесь будут поправлять здоровье бюргеры и офицеры Великой Германии. Сюда уже приезжали немецкие инженеры, продумывали, как приспособить санатории и лечебницы под новых отдыхающих, как подновить бюветы с нарзаном и где разместить новые ванны. Приезжали и состоятельные немцы на предмет присмотреть себе недвижимость на территории, которая теперь, казалось, навечно принадлежала Третьему Рейху.
А в это время врачи под носом у фашистов оперировали и спасали наших бойцов. А местные жители скрывали в своих домах раненых под видом мужей, отцов, сыновей... И как только врага удалось выбить из города, курорт опять превратился в большой госпиталь.За годы Великой Отечественной войны медики Кисловодска пролечили более шестисот тысяч раненых! Более 450 тысяч из них вернулись в строй.
В Кисловодске и сегодня практически нет производств, кроме «Нарзана». Большинство местных жителей работает в санаториях и домах отдыха. Так было и в советское время. На курорте, который с девятнадцатого века славился лечебницами для аристократов, после революции активно строились образцово-показательные санатории для советских граждан.
Лучший медицинский персонал, оборудование, десятки ведомственных и профсоюзных здравниц — для Кисловодска советская власть денег не жалела.
Уже через неделю после начала войны, 29 июня 1941 года, в городах Кавказских Минеральных Вод начали организовывать госпитальную базу Красной армии. Дома отдыха, гостиницы, пансионаты, санатории срочно переоборудовали для приёма раненых. Сделать это было не так просто, ведь госпиталь — не обычная больница. Раненым в первую очередь нужна была помощь хирургов, а значит, требовались новые операционные, медицинское оборудование, аппаратура для черепных, челюстных, глазных операций, восстановительной хирургии. Необходимы были лекарства и перевязочные материалы... Медики, в том числе высококвалифицированные врачи, переучивались на занятиях по госпитальной хирургии, лечебной физкультуре, переливанию крови и лечению травм.

К концу июля сорок первого в городе развернули тридцать семь госпиталей на двадцать одну тысячу коек. 9 августа на городской вокзал прибыл первый санитарный поезд. Раненых выгружали и доставляли в госпитали всем миром. Школьники, учителя, служащие бежали на вокзал, принимали бойцов буквально на руки и несли их в госпитали. А потом стали приносить бинты, постельное бельё, посуду, а ещё яблоки, пирожки, молоко... У кого что было.

В Кисловодске на тот момент собрался цвет советской военной медицины — кандидаты и доктора медицинских наук, профессора... Лучшие хирурги оперировали тяжелораненых в шею, лицо, ротовую полость, восстанавливали раздробленные пальцы, заставляя их работать... В Кисловодске находился единственный в СССР огромный медицинский магнит Милленгера. С его помощью врачи удаляли осколки из глаз бойцов.
В госпиталях не хватало санитаров-мужчин. Шестнадцати-семнадцатилетние медсёстры выносили из вагонов раненых и развозили по бывшим санаториям. Не хватало перевязочных материалов — стирали и гладили использованные бинты, чтобы вновь пустить их в дело. Не было анестезии — давали бойцам стакан спирта и палочку, чтобы закусить её зубами, а потом, пока шла ампутация, клали голову солдата себе на колени, и гладили, пытаясь успокоить.
Фельдшеры, сёстры, нянечки сами недоедали и недосыпали, но сутками дежурили у коек тяжелораненых, писали письма родным под диктовку солдат, убирали, ухаживали, выхаживали искалеченных воинов, возвращая их буквально с того света.

Не хватало крови — медики сами становились донорами для раненых. Вот приходит хирург, профессор на дежурство к медсестре: «У меня на столе сейчас парень умрёт, нужна кровь!» — и сестрёнка ложится рядом с парнем на прямое переливание. Всего несколько фактов: медсестра Р. Ф. Колоянц-Сиденко из эвакогоспиталя № 4226, располагавшегося в санатории «Нарзан», сдала 250 литров крови. Сорок раз — сорок! — получила звание «Почётный донор» и четыре раза — «Почётный донор СССР» всех трех степеней. Уборщица пункта переливания крови Е. В. Артамонова сдала сорок пять литров крови! Работница нарзанного завода В. И. Перегудова за одиннадцать месяцев — 12 литров крови, Т. И. Шевченко за год с небольшим — почти 19 литров, а за всё время войны жители Кисловодска сдали свыше пяти тонн (!) крови для раненых.
Понимая сложное положение на фронтах, начальники госпиталей в конце июля сорок первого года обратились в Кисловодский эвакопункт: пора эвакуировать раненых дальше в тыл! Но получили ответ — не паниковать, мы и так в тылу, враг далеко, а кто ещё раз заикнётся об эвакуации будет исключён из партии и пойдёт под трибунал.
Но вот в начале августа 1942 года немцы перешли в наступление на Дону. И тогда из Кисловодска срочно стали эвакуировать раненых.
Не хватало машин — бойцов опять несли к вокзалу на руках. Не хватало поездов — успели загрузить только три эшелона. В них поместилось 1800 солдат с тяжёлыми ранениями. Их отправили в Среднюю Азию и Закавказье.
Те, кто мог ходить, собрались утром 5 августа. Каждому выдали одеяло, матрацный мешок, сухой паёк на сутки и отправили из города пешком. Снарядили подводы с продуктами и медикаментами. Вместе с начальниками эвакогоспиталей часть раненых отправилась по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси, другая часть двинулась в сторону Нальчика. Многие присоединились к нашим отступавшим войскам или ушли в партизаны.
К сожалению, несколько сот человек с тяжёлыми ранениями в грудь, живот, череп вывезти из госпиталей не смогли. Кого-то нельзя было транспортировать, а кого-то просто не успели. А в ночь на девятое августа Кисловодск начали бомбить.
В тот же день начальники горкома и горисполкома вместе с руководителями эвакопункта сели в машины и срочно уехали из Кисловодска. А ведь впереди было ещё пять дней для спасения людей — немцы заняли город только 14 августа. Уполномоченный комиссией партийного контроля И.В. Гуров писал, что, если бы не трусость начальства, многих раненых можно было успеть эвакуировать.
Фашисты забросали снарядами и бомбами вокзал и взорвали мост через Подкумок. Некоторым раненым, которые уходили организованно, пришлось вернуться в Кисловодск. Плюс, уже после бомбёжки, в город прибыл ещё один санпоезд, который не смог прорваться в тыл. В нём было пятьсот раненых из Пятигорска, Черкесска и Микоян-Шахара. Всего в оккупированном немцами городе оказалось отрезанными от наших более пяти с половиной тысяч раненых, в том числе более двух тысяч — с тяжёлыми ранениями.
550 врачей, профессоров, медсестёр, имея возможность покинуть город хотя бы даже пешком, не сделали этого — остались с бойцами, прекрасно понимая, чем это им грозит. А грозило следующим: за лечение воинов Красной армии — расстрел. За помощь воинам Красной армии — расстрел. За сокрытие воинов Красной армии — расстрел.
Пять с половиной тысяч раненых. Которых для начала нужно куда-то деть. И так, чтобы немцы поверили, что это не раненые.
На многих санаториях уже висели предупреждающие билеты с надписью «Занято немецким командованием — вход воспрещён», но инициативная группа врачей всё же нашла больницу и два санатория для того, чтобы на их базе организовать новое лечебное учреждение на тысячу коек. На крыше одного из санаториев натянули белое полотнище с красным крестом — дескать, это никакой не госпиталь, а больница Международного Красного Креста и Полумесяца. А раненые — обычные гражданские: колхозники, служащие... А вот эти чернявые пациенты — никакие не евреи, а кавказцы, местные, их здесь таких много... И раны у них не боевые, а бытовые. И это вообще даже не раны, а обычные травмы, опухоли, переломы, заболевания желудка... Или, что ещё «лучше», туберкулёз и даже тиф! Да, в больнице Красного Креста — много «тифозных»! Инфекции нацисты очень боялись.
Переписывались истории болезни, сжигались комсомольские и партийные билеты, документы, фотографии, письма. Ордена и медали закапывали в землю. Военную одежду, по которой хоть как-то можно было идентифицировать владельца, уничтожали. Койки раненых «перемешивали» с кроватями «мирных» больных.
Фашисты не дураки. Они, конечно, скоро захотели проверить странное лечебное учреждение, в котором вдруг оказалось так много мужчин призывного возраста. Но инспекция начальника местного гестапо Вельбена прошла, на удивление, мирно. Красный Крест — серьёзная организация, немцам в начале войны не хотелось с ней ссориться. Кисловодск — город многонациональный. Оккупанты показывали миру, что они помнят о международных соглашениях о ведении войн и соблюдают их.
В то же время наши врачи делали всё, что от них зависело: быстро проводили немецкую инспекцию мимо палат, где лежали переодетые раненые, а у «венерических», «опухолевых», «туберкулёзных» и «тифозных» старались задержать. Проверяющие от этого большого восторга не испытывали и торопились закончить инспекцию.
Никакого милосердия в поведении нацистов, разумеется, не было. Только брезгливость и холодный расчёт. Тот же Вельбен вместе с военным комендантом Кисловодска Полем 9 сентября 1942 года вывезли из города в район стекольного завода под Минеральные Воды и расстреляли больше двух тысяч человек — раненых, евреев, в том числе стариков, женщин и детей. Всего за пять месяцев оккупации фашисты убили больше трёх тысяч жителей Кисловодска — русских, армян, карачаевцев, евреев... Среди них было более 400 детей.
Но пока фашисты были лояльны к медикам. Даже оставили в Кисловодске Ленинградский медицинский институт, который был эвакуирован на Кавказ в самом начале войны. И даже разрешили набрать в него студентов...
«Тайный» госпиталь в больнице Красного Креста опекал раненых бойцов Красной армии целых 72 дня. И это были героические дни, потому что задачи приходилось решать, казалось бы, неразрешимые. Начиная с того, что нелегальных пациентов нужно было чем-то лечить и чем-то кормить, а есть было нечего и лекарств катастрофически не хватало. Врачи использовали все довоенные запасы лекарств. Продукты, которые остались с довоенных времён в санаториях, где был размещён госпиталь, — мука, сахар, жиры, крупы, — быстро закончились. Фашисты строго контролировали хозяйства, которые поставляли в больницу самый минимум для выживания больных — молоко, мясо, овощи, и списки тех, кому полагался паёк... Но многие красноармейцы, по понятным причинам, не входили в списки! Врачи обратились к местным жителям: «Помогите раненым!» И люди, сами голодные, понесли из дома в госпиталь фрукты, овощи, хлеб, молоко... Собирали в горах целебные травы, тоже сдавали врачам — хоть что-то вместо лекарств...

В больнице устроили пекарню: можно было сдать муку, получить за неё хлеб, а припёк шёл в пользу раненых.
Врачи работали по шестнадцать часов в сутки. В первые же дни после открытия больницы Красного Креста в ней было проведено сто шесть операций, из них пятьдесят пять сложных.
Настоящий подвиг совершил хирург Михаил Ильич Кауфман. Его семья имела возможность уехать из Кисловодска, но известный в городе врач решил остаться вместе с близкими, чтобы помогать раненым, понимая, что грозит евреям в оккупированном городе.
Как-то в больницу привезли сразу нескольких раненых немцев. Оказалось, немецкий отряд столкнулся в горах с нашими партизанами, завязался бой... Особого внимания немцы потребовали к офицеру с ножевым ранением — партизан ранил его кинжалом. Правда, офицер и сам успел выстрелить в своего противника, чем страшно гордился. Для операции вызвали самого опытного хирурга больницы — Кауфмана. Доктор сумел сохранить жизнь немцу. Той же ночью в ту же больницу — подпольный госпиталь — наши тайно доставили раненых партизан. Среди них оказался и тот воин с огнестрельным ранением. И вновь у операционного стола встал доктор Кауфман. И спас партизана.
Оба пациента, не зная друг о друге, лежали в одной больнице и шли на поправку. И вот однажды в больничном коридоре немец нос к носу столкнулся со своим противником! Конечно, он тут же сообщил в гестапо. Партизана забрали, а хирурга Кауфмана, который давно был под подозрением, арестовали.
На допросах Михаилу Ильичу предлагали выдать врагов рейха, скрывающихся в больнице — партизан, солдат, евреев, коммунистов... Врачу и его близким гарантировали за это жизнь. Кауфману даже предлагали продолжить врачебную практику — рейху нужны хорошие хирурги! Михаил Ильич отказался. Тогда фашисты арестовали его жену, Маргариту Робертовну. Пытали её. Били и самого врача, заставляя его слышать крики супруги. В итоге Михаил Ильич привёл гестаповцев в госпиталь:
— Может быть, в другом месте, на поле боя, есть большевики, солдаты, иуды, а у меня в палатах больницы находятся только больные.
Рассвирипевшие гестаповцы арестовали дочь врача Зинаиду вместе с внуком Виктором. Страшно пытали всех. Врач терял сознание, слыша крики близких, но так никого и не предал. Фашисты расстреляли всю семью — Михаила Ильича, Маргариту Робертовну, Зинаиду и маленького Витю.
Нацисты казнили многих кисловодских медиков. Известный в городе терапевт Фаинберг был расстрелян вместе с женой и дочерью. В соседних Минеральных Водах погибли кисловодчане — врачи Дрибинский, Сокольский, Чацкий, Шварцман, профессор Баумгольц... Всего 117 медицинских работников.

Главный хирург Т. Е. Гнилорыбов (в центре) с коллегами
Имя ещё одного врача особенно чтят в городе. Главный хирург госпитальной базы Тимофей Ермолаевич Гнилорыбов, великолепный врач, профессор, ведущий хирург Кисловодска, поставил на ноги сотни бойцов! Во время оккупации он провёл двести девять сложнейших операций при самых тяжёлых ранениях, в том числе четыре операции на сердце! И это лишь часть его служения. Тимофей Ермолаевич сумел организовать жителей Кисловодска, сподвигнуть их на то, чтобы люди разбирали красноармейцев по домам, выдавая раненых за родственников — братьев, сыновей, мужей... Были семьи, которые взяли к себе троих, четверых и даже пятерых бойцов! Некоторые укрывали раненых в подполье. Семья самого доктора Гнилорыбова спрятала у себя нескольких пациентов. Всего же в городе «по семьям» скрывалось свыше тысячи человек! Опять же, их нужно было не только прятать, но и кормить, выхаживать, а вечерами, в комендантский час, тайно принимать у себя врачей, которые приходили осматривать солдат. А ведь город круглые сутки патрулировали нацисты, а в семьях у кисловодчан были маленькие дети... Тем не менее медицинские бригады, пряча инструменты и лекарства, приходили по секретным адресам к кисловодчанам, осматривали, лечили, умудрялись даже проводить операции на дому. Доктор Гнилорыбов сам принимал участие в этих смертельно опасных обходах.
В Кисловодском музее «Крепость» хранятся письма с фронта, адресованные врачам. Среди них — немало обращённых к Тимофею Ермолаевичу Гнилорыбову:
«...Я очень вас благодарю за то, что вы спасли мне жизнь. Благодаря вам, товарищ профессор, я снова в нашей доблестной Красной армии и в любую минуту готов громить немецких захватчиков. Не посчитаюсь с жизнью для полной победы над фашистскими бандитами. Савин В. Г.»
Вопреки всему, врачи вылечивали наших воинов. Но этим дело не заканчивалось. Им же, врачам, приходилось думать о дальнейшей судьбе бывших пациентов. Отпускать их просто так в оккупированный город было равноценно смерти. В штатской одежде, со справками о нетрудоспособности и настоятельными медицинскими рекомендациями о дальнейшей поправке здоровья в дальних аулах с целебным горным воздухом советские воины выписывались из больницы Красного Креста. Кого-то сразу прятали у себя местные. Многие уходили в горы, в партизаны. Кто-то пытался прорваться через линию фронта, к своим...
Два с половиной месяца продержалось полотнище с Красным Крестом на подпольном госпитале, пока немцы не приняли решение больницу закрыть, а в зданиях её разместить свой госпиталь.
Но куда девать больных? Фашистов этот вопрос интересовал мало. Приняли простое решение: отправить «ненужный материал» в Житомир и уничтожить. Наши врачи, узнав о приближающейся беде, стали спешно выписывать всех, кто мог передвигаться. Но медики были не всесильны. 350 пациентов с тяжёлыми ранениями спасти не удалось — в середине октября 1942 года нацисты погрузили их в эшелон, дали в сопровождение несколько врачей и медсестёр. Как свидетельствуют выжившие и сбежавшие по дороге, ослабевших раненых расстреливали ещё в пути. Судьба остальных неизвестна — прибыл ли эшелон в Житомир, никто не знает.
Пять месяцев Кисловодск был «под немцами». Отступая в январе сорок третьего, нацисты окончательно разграбили свой несостоявшийся курорт. Самое ценное уникальное медицинское оборудование из санаториев и больниц было вывезено. Бальнеологические здравницы приведены в негодность Электростанция, ТЭЦ, железнодорожный мост над рекой Подкумок, мясокомбинат, хлебзавод, четырнадцать библиотек сожжены. Грабители вывозили из города все ценности, до каких могли дотянуться, — мебель, ковры, картины...
Казалось, городу ещё долго не подняться, но прошло всего несколько дней после освобождения Кисловодска, и сотрудники эвакогоспиталей уже взялись за ремонт. Через три месяца первые пять вновь сформированных лечебных учреждений опять стали принимать раненых. В марте 1943-го по восстановленной железной дороге прибыли первые санитарные поезда. Ещё через два месяца госпиталей в городе было уже тридцать девять.

И вновь весь Кисловодск жил судьбой раненых бойцов. Городская филармония давала в госпиталях концерты. Сюда приезжали известные музыканты, артисты... Но больше всего раненые любили выступления детей. Школьники города не только пели, читали стихи и плясали для пациентов — дети заменяли в госпиталях сестёр милосердия и нянечек! Двенадцати— четырнадцатилетние мальчишки и девчонки мыли посуду, дежурили в палатах, чистили на кухне картошку, кормили солдат с ложечки и писали под их диктовку письма домой.
Слесари, сапожники, счетоводы, портные, бухгалтеры... Все эти специальности можно было получить во время войны... в кисловодских госпиталях! Для инвалидов, которые после лечения не могли отправиться обратно на передовую, организовали курсы, на которых обучали разным профессиям. Уже после войны этот опыт взяли на вооружение другие госпитали страны.

Группа врачей эвакгоспиталя № 5400
280 тысяч раненых прошли лечение в Кисловодске в период после освобождения города от фашистов и до Победы. Из всех поступивших в госпитали 82 % были вылечены — это гораздо больше, чем где бы то ни было в СССР.
Война закончилась. Раненые разъехались по домам. Последний военный госпиталь Кисловодска свернул свою деятельность в ноябре 1946 года. Бывшие госпитальные палаты были вновь переоборудованы в номера для отдыхающих и скоро наполнились мирными советскими гражданами, прибывшими на курорт по санаторным путёвкам.

Памятник медикам-героям ВОВ 1941-1945 гг.
Кисловодск помнит войну. На корпусах многих санаториев и пансионатов можно увидеть мемориальные доски, установленные в 1975 году к 30-летию Победы — «...здесь находился госпиталь...». А в 1997 году в центре города установили памятник «Медикам-героям Великой Отечественной войны» — купольные ворота с крестом и бронзовая фигура сестры милосердия.
В тексте использованы материалы статьи Виктора Сапрыкова «600 000 командиров и бойцов — именно столько раненых вернули в строй медики Кисловодска» и материалы историко-краеведческого музея «Крепость»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…
Святитель Лука пока не так широко известен, как патриарх Тихон или преподобномученица великая княгиня Елисавета. Мы предлагаем вниманию читателя наиболее яркие факты его необыкновенной биографии, которой, кажется, вполне хватило бы на несколько жизней.
О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене,
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) вдруг… подает документы на медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», — вспоминал архиепископ Лука.
В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что будет... земским врачом — занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признается: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница — трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил их, а его мать — кормила.
Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.
В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: делаем полторы тысячи операций в год — силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций…

Архиепископ Лука в окружении паствы. Фото из книги Марка Поповского «Жизнь и житие святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа и хирурга» предоставлено православным издательством «Сатисъ»
В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций!
Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания — регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия — самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако — самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела — по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.
Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия — «святой сестре», как ее называли коллеги, — Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало.
Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и случилось.
В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два — монашеский постриг, с именем Лука.

Жена Валентина Феликсовича Анна Васильевна Войно-Ясенецкая (Ланская). Фото предоставлено пресс-службой Симферопольской и Крымской Епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре… в рясе и с наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги Советской власти”, — мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…» — вспоминает бывшая медсестра, работавшая с отцом Валентином.
Лекции студентам он читал также в священническом облачении, в облачении же являлся на межобластное совещание врачей... Перед каждой операцией молился, благословлял больных. Его коллега вспоминает: «Неожиданно для всех прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В последнее время он это делал всегда, вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды после крестного знамения больной — по национальности татарин — сказал хирургу: „Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: „Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины“.
Однажды в ответ на приказ властей убрать из операционной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, сказав, что вернется только тогда, когда икону повесят на место. Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого в больницу привезли больную жену партийного начальника, нуждавшуюся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться только у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось пойти на уступки: вернулся епископ Лука, а на следующий после операции день вернулась и изъятая икона.
Войно-Ясенецкий был превосходным и бесстрашным оратором — оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения, он выступал в Ташкентском суде по «делу врачей», которых обвиняли во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс, известный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс. Войно-Ясенецкий был вызван в качестве эксперта-хирурга, и, защищая осужденных на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в пух и прах. Видя, что триумф ускользает из его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:
— Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
— Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель? — парировал тот.
Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось…
В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности» — неделю спустя после того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд... но тот минут двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте…
В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной» и получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...
А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору пришлось произвести операцию молодому крестьянину. «После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр (омертвевший участок кости — авт.)»
Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.
Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в больницу. Представился заведующему больницей, назвав свое монашеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, должность, просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У меня плохой инструмент — нечем делать». Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную — довольно высокую — оценку.
На ближайшие дни была назначена сложная операция... Едва начав ее, первым широким и стремительным движением Лука рассек скальпелем брюшную стенку больного. «Мясник! Зарежет больного», — промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция прошла превосходно.
Позже заведующий признался, что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. «Это не мои приемы, — возразил Лука, — а приемы хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы. Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно столько и ни одним листком больше». Ему тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность, остроту скальпеля и резанул. Пересчитали листочки — порезано было ровно пять, как и просили...
Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки — «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал молодой милиционер, который признался ему, что чувствует себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь. Милиционер не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной из них и поселили владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. <…> Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже — холодно»…
Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось крестить двух детей совершенно необычным образом: «В станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а всё время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели»…

Хирург В. Ф. Войно–Ясенецкий (слева) проводит операцию в земской больнице. Фото предоставлено пресс-службой Симферопольской и Крымской Епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и находил в себе силы для юмора. Он рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: «Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры».
Конечно, не на одном чувстве юмора держался епископ Лука. «В самое трудное время, — писал владыка, — я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».

Епископ Лука, Ташкент, тюрьма НКВД, 1939 год
Однако было время, когда он и роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжелая северная ссылка... А во время третьего ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния от мучений. К нему применили жесточайшую пытку — 13-дневный «допрос конвейером». Во время этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях...
Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию — не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и пространстве…
С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор и епископ был назначен главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом — консультантом всех красноярских госпиталей. «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, — вспоминает владыка. — Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».
После, получив, словно подачку, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от которой у партработников волосы встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома стал было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну нет уж, извините, не забуду никогда!»
В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой впоследствии очень сильно жалел. Он просил об увольнении на покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной — он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал носить гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице…
С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила Божья благодать...
Однажды ему приснился невероятный сон: «Мне снилось, что я в маленькой пустой церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором… Я с ужасом проснулся…»
Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с работой в больницах. В конце жизни был назначен в Крымскую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущевскую эпоху не угасла церковная жизнь.
Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питался и одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, говорил: «Латай, латай, Вера, бедных много». Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: «К сожалению, папа опять одет очень плохо: парусиновая старая ряса и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое пришлось стирать для поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа... хуже всех, просто обидно...»
Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую часть своей Сталинской премии он пожертвовал на детей, пострадавших от последствий войны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности зарабатывать на хлеб. Однажды он увидел на ступеньках больницы девочку-подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер, а мать надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе домой, нанял женщину, которая приглядывала за ними, пока не выздоровела их мать.
«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил Лука.
Как человек, святитель Лука был строг и требователен. Он нередко запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не терпел формального отношения к служению и подхалимства перед властями. «Вредный Лука!» — воскликнул как-то уполномоченный, узнав, что тот лишил сана очередного священника (за двоеженство).
Но архиепископ умел и признавать свои ошибки... Сослуживший ему в Тамбове протодиакон отец Василий рассказывал такую историю: в храме был пожилой прихожанин, кассир Иван Михайлович Фомин, он читал на клиросе Часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Архиепископу Луке (тогда возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно его поправлять. В один из дней, после службы, когда владыка Лука в пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошла неприятность: эмоционально размахивая богослужебной книгой, Войно-Ясенецкий задел Фомина, а тот объявил, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать храм... Через короткое время глава Тамбовской епархии, надев крест и панагию (знак архиерейского достоинства), через весь город отправился к старику просить прощения. Но обиженный чтец... не принял архиепископа! Спустя время владыка Лука пришел снова. Но Фомин не принял его и во второй раз! «Простил» он Луку лишь за несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова.

Похороны архиепископа Луки, Симферополь, 1961 год. Фотография предоставлена архивом Издательского Совета РПЦ
В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
Власти сделали все, чтобы похороны не стали «церковной пропагандой»: подготовили к публикации большую антирелигиозную статью; запретили пешую процессию от собора до кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченного по делам религии никто не обращал внимания. Когда катафалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент собора, Анна, крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они не пойдут на это — хватайтесь за борт!» Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла тронуться только с очень небольшой скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед поворотом на окраинные улицы женщины легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. Центральная улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры функционеров отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа»...
Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том же году определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.

Митрополит Сурожский Антоний:
Человеческие ценности в медицине*
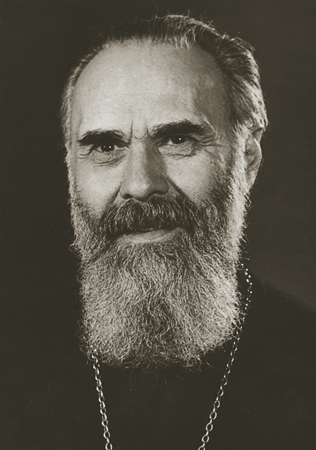
Возможно, у меня недостаточно прав и оснований выступать здесь с такой темой, но Достоевский в одном из своих сочинений говорит, что если вас действительно занимает какой-то вопрос, если вы подлинно заинтересованы и убеждены в чем то, вы и вправе, и обязаны говорить об этом. И я хотел бы поговорить о некоторых основоположных, непреложных человеческих ценностях в их связи с медициной и затронуть вопрос страдания вообще и вопрос смерти, ее места по отношению к нам, медикам, христианам, священникам, потому что я - так уж случилось - одновременно священник и бывший медик.
Сразу после войны, в связи с Нюрнбергским процессом и расследованиями относительно концентрационных лагерей, появились документы об использовании пленных в качестве подопытного материала для медицинских исследований. Не вдаваясь в обсуждение или описание фактов, я хотел бы подчеркнуть, что изначально с точки зрения медицинской традиции пациент никогда не может рассматриваться как предмет объективного исследования, с ним нельзя обходиться как с подопытным животным.
Я думаю, медицина как отрасль человеческой деятельности занимает совершенно особое место именно потому, что наука в ней сочетается с ценностями, подходом, не имеющими ничего общего с наукой. В основе врачебного подхода сострадание, а сострадание по самой своей природе ненаучно. Это человеческий подход, который может быть привнесен в любую отрасль человеческой деятельности; но медицины вовсе не существует вне сострадания, без сострадания.
Медик, если он только человек науки, способный холодно, хладнокровно, бесстрастно делать то, что требуется, без всякого отношения к пациенту, медик, для кого главное - не пациент, а действие врачевания, будь то лекарственное лечение, хирургическое вмешательство или иные методы -не медик в том смысле, в котором, я надеюсь, я хотел бы, чтобы мы все думали о медицине.
Я помню молодого врача (сейчас он занимает кафедру хирургии во Франции), с которым мы обсуждали перед войной аргументы за и против анестезии при той или иной операции, и он прямо заявил, что единственная цель анестезии облегчить работу хирурга. Страдает ли пациент или нет - совершенно неважно. Я не преувеличиваю, он именно это говорил и имел в виду; он бы разделал пациента живьем, если бы это можно было сделать без помех, без того, чтобы операция не стала труднее и менее приятна - для него, врача.
Я также встретил во время войны молодого военнопленного хирурга. Он имел доступ к пленным солдатам и офицерам своей страны. Я предложил ему свои услуги в качестве анестезиолога. Он пожал плечами и сказал: "Мы имеем дело с солдатами, они должны быть готовы к страданию". И он оперировал без анестезии всякий раз, когда это не создавало проблем ему. Я помню одну из его операций. У солдата был огромный нарыв на ноге, при вскрытии которого врач отказался применить анестезию. Он оперировал без наркоза; солдат выл и ругался. Когда операция кончилась, к пациенту вернулось самообладание, и, будучи дисциплинированным и хорошо вымуштрованным солдатом, он извинился перед лейтенантом за свои выражения. И я помню, тот ответил: "Ничего, ваши выражения были соразмерны вашей боли, я вас извиняю". Но ему и в голову не пришло, что боль была соразмерна его бесчеловечности и полному отсутствию чувства солидарности.
Я даю вам эти примеры, потому что, хотя такие ситуации встречаются не каждый день, люди теряют восприимчивость и порой в самой обычной ситуации могут быть столь холодны, до такой степени лишены человеческого сострадания, чуткости, что теряют право считаться медиками. Они мясники, техники, но не медики. Французский писатель Ларошфуко говорит: "Человеку всегда достаёт мужества нести страдания других людей". Именно этого медик не вправе делать, таким он не может быть.
В основе отношения врача к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважение и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет самую свою суть.
Однако сострадание не означает сентиментальность. Те из вас, из нас, у кого есть опыт трагических ситуаций, в хирургии или при срочной медицинской помощи, особенно в напряженных обстоятельствах и ситуациях, прекрасно знают, что следует оставаться без эмоций, по крайней мере, пока мы заняты пациентом. Невозможно оперировать под обстрелом в состоянии волнения; стреляют по вам или нет, все ваше внимание должно быть сосредоточено на пациенте, потому что он важнее вас, вы существуете ради него, единственный смысл вашего бытия - он, его нужды.
Сострадание - не сочувствие того рода, какое мы временами испытываем, которое порой ощутить легко, а порой вызывается ценой больших усилий воображения. Это не попытка испытать то, что чувствует другой; ведь это просто невозможно, никто не может пережить зубную боль своего ближнего, уж не говоря о более сложных эмоциях, в тот момент, когда человек узнает, что у него рак или лейкемия, что его подстерегает смерть, что ему предстоит умереть.
Я помню одну из моих прихожанок, которая потеряла ребенка. Молодой священник подошел к ней после службы выразить сочувствие и безрассудно добавил: "Я так хорошо вас понимаю". Она, человек прямой, повернулась к нему и резко сказала: "Глупец, вы ничего не понимаете! Во-первых, вы не мать, во-вторых, вы никогда не теряли ребенка; вы не можете понять, что я чувствую".
Это очень важное различие; надо пройти воспитание, надо решиться воспитывать в себе способность отзываться всем умом, всем сердцем, всем воображением на то, что случается с другими, но не стараться ощутить почти нутром, почти физически страдание, которое не наше, эмоцию, которая не принадлежит нам. Пациент не нуждается в том, чтобы мы ощущали его боль или его страдание, он нуждается в нашей творческой отзывчивости на его страдание и его положение, нуждается в отклике достаточно творческом, чтобы он подвигнул нас к действию, которое в первую очередь коренится в уважении, в благоговении по отношению к этому человеку.
Не к анонимному пациенту, не к седьмой койке тринадцатой палаты, но к человеку, у которого есть имя, возраст, черты лица, у которого есть муж или жена, или возлюбленный, или ребенок. К кому-то, кто должен стать для нас до предела конкретным и чья жизнь, следовательно, значительна не только потому, что таково наше отношение к жизни вообще, не потому, что нас научили, что наша цель - оберегать жизнь, продлевать ее как можно дольше и т.д., но потому, что этот определенный человек, нравится он мне или нет, значителен.
Но для кого? На этот вопрос мы можем ответить по-разному, согласно нашей вере или ее отсутствию. Если мы христиане, если мы вообще верим в Бога, если мы верим, что никто не приходит в этот мир иначе как призванный быть, желанный, возлюбленный Богом любви, тогда этот человек значителен по крайней мере для Бога. Но - боюсь, это мы забываем очень легко - нет человека, который не был бы значителен хоть для кого-то. Это особенно касается злодеев, военных преступников, людей, которых мы обвиняем в бесчеловечности. Кто бы он ни был, у него есть мать, жена, брат, сестра и т.д. Возможно, самые близкие люди, действительно любящие того, кого - как представляется нам - следует не любить, а только осудить, знают лишь одну сторону его личности.
Вполне возможно, что та сторона, которую знают они, столь же реальна, как та, которую знаем мы, но неизвестна им.
Я сейчас читаю "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. В одной из глав он подчеркивает тот факт, что человек, мужчина или женщина, совершенно по-разному предстает различным сталкивающимся с ним людям; и он цитирует разговор, который был ему передан. Один из самых жестоких следователей был женат, и однажды его жена, которая знала его под совершенно иным углом, сказала подруге: "Мой муж такой хороший следователь. Он рассказывал мне, что был с заключенным, который неделями отказывался признаться в своих преступлениях, пока его не отправили к моему мужу, и после ночи беседы муж вынудил у него полное признание". Эта женщина понятия не имела о том, каким образом это признание было получено. Она не знала мужа с этой точки зрения. Разумеется, это крайний пример; но никто из нас не знает других со всех сторон.
Мы очень мало знаем себя, мы и не подозреваем, каким человеком мы способны стать при неожиданных обстоятельствах, не под давлением, а просто потому что мы внезапно растворяемся в анонимности. Столько случается с людьми во время войны, столь многое люди совершают из-за своей безликости: у человека нет имени, он просто один из множества солдат. Я настаиваю на этом, потому, что очень легко в некоторых ситуациях сказать, что жизнь данного человека не имеет значения, в то время как жизнь другого важна. Оставляя в стороне ту абсолютную ценность, которую Бог придает каждому из нас, несомненно, что если мы спросим самих себя или Писание, какова ценность каждого из нас в глазах Бога христиан, мы можем ответить: вся жизнь, вся смерть Христовы...
Но кроме того, как я уже сказал, никто, ни один человек в мире не одинок. Всегда есть кто-то, для кого он значителен, и наше отношение как медиков должно быть - благоговение к жизни, не просто в общих словах, но в конкретном призвании: он значителен, она значительна; как бы это мне ни было непостижимо, есть кто-то, для кого его смерть, ее страдание - острая боль и подлинная трагедия.
В отношениях между медиком и пациентом есть и другая сторона, которая также связана с чувством сострадания, человеческой солидарностью, с благоговением к его личному, единственному, неповторимому существованию. Это - то, как пациент отдает себя в руки врача и вверяет себя врачу. Тут есть элемент, который представляется мне очень важным.
Врач - это мужчина или женщина, у кого есть сознание значимости и, я бы сказал, священности человеческого тела. Пока мы здоровы, мы думаем о себе как о существах духовных. Конечно, у нас есть тело, которое позволяет нам передвигаться из одного места в другое, действовать, наслаждаться жизнью; мы обладаем пятью чувствами, у нас есть сознание, чувствительность - и все это мы рассматриваем в терминах нашего духовного бытия.
Мы принимаем свое тело как нечто само собой разумеющееся, в каком-то смысле мы им пользуемся, как только можем, но никогда не думаем о нем (или очень редко) как о партнере, равноправном с душой. И однако, когда это тело слабеет, когда болезнь, боль поражает наше тело, тогда мы внезапно обнаруживаем, что мое тело - это я сам. Я - не мое смятенное сознание, не мои чувства в тревоге, я то тело, которому теперь грозит гибель, которое полно боли. Болезнь эта - не обязательно рак, мы можем лезть на стену и от зубной боли.
Я однажды попробовал вести себя аскетически или героически: у меня разболелся зуб, и я решил, что буду просто терпеть: разве я не чисто духовное существо? Мой чистый дух терпел боль в течение дня всё с большим трудом, затем настала ночь, и я не мог спать. Как ни странно, мой возвышенный дух не спал из-за моего жалкого тела. И около двух часов ночи я порылся в ящике с домашними инструментами и вырвал свой зуб клещами, которые обычно служили для вытаскивания гвоздей.
В тот момент я осознал, что странным образом мое тело и мое "я" можно было отождествить, они необычайно близки одно другому. Разве тот, кто болен - каждый из нас, все мы - не обнаруживает, какое большое значение имеет наше тело? Что - если это тело разрушается, что - если оно становится непристойной, отвратительной, разлагающейся массой плоти и костей? Подумайте о проказе, подумайте о многих других заболеваниях, которые могут превратить наше тело в нечто отталкивающее, отвратительное. А затем подумайте о том, как вы приводите себя, вернее, как ваш величавый, прекрасный дух приводит это тело к врачу и говорит: вот я, беспомощный, без надежды, в страхе. Я болен, я не знаю, что мне делать, но ты - можешь спасти меня. Помоги, будь внимателен к этому телу, отнесись к нему с благоговением, отнестись к этому телу заботливо!.. И как мы благодарны, когда врач, к которому мы пришли, относится к телу с благоговением, целомудренно.
Как мы бываем благодарны, когда обнаруживаем, что врач, которому мы доверили свое тело, понимает, что такое человеческое тело: что это не просто материальная оболочка для нашего возвышенного духа!
Все это лежит в основе чисто человеческого отношения врача. Но существует множество проблем, прямо связанных с медицинской этикой.
Я хотел бы остановиться на двух вопросах. Один из элементов клятвы Гиппократа или старой врачебной клятвы гласит, что врач будет сохранять жизнь и облегчать страдания больного.
Практически вплоть до последней войны не было проблем относительно пределов деятельности врача. Лишь после войны ситуация вышла из-под контроля в том смысле, что сейчас мы располагаем лекарствами и овладели хирургическими и иными приемами, позволяющими унимать страдание до ранее недоступных пределов, успокаивать душевные муки и боль и продлевать жизнь. Так вот: до какого предела мы вправе идти в этом направлении? Позволительно ли и возможно ли двигаться в этом направлении до бесконечности или же есть критерии, которые позволят нам (или заставят нас) войти в сотрудничество со страданием и смертью?
Я поясню это слово "сотрудничество" одним примером.
Некоторые из вас, возможно, читали книгу Акселя Мунте, очень популярную в тридцатые годы, ("Книга о Сан-Микеле"). Я читал ее давно и не могу вспомнить в деталях то, что хочу изложить вам, но суть вот в чем. Когда автор был молодым студентом-медиком в парижском госпитале Отель-Дьё (где и я начинал свое медицинское образование), сначала у него было впечатление, что вся медицина - борьба между врачом и его врагом - смертью. Смерть надо было победить, смерть надо было ненавидеть, смерть нельзя было принять, ей надо было противостоять любыми средствами. А затем, наблюдая за врачами и особенно, возможно, за сестрами, он обнаружил в том, что касается пациента, гораздо более тонкое взаимоотношение между врачом и смертью.
Есть период, когда можно бороться за жизнь, надежда велика, медицинские средства обнадеживают в большей или меньшей степени, и действительно, надежда порой оправдывается. Но в иных случаях, с другими пациентами, несмотря на все, что предпринято, жизнь не может сопротивляться натиску распада, болезни, будь то инфекция, рак или туберкулез, или старость. И он с изумлением, а затем и с возрастающим интересом, с чувством, которое все углублялось в нем, заметил, что между врачом и смертью устанавливается новое взаимоотношение, и что приходит момент, когда врач будто оборачивается к смерти и говорит: "Мое время прошло, настало твое время; давай сотрудничать; вступи, будь добра..."
Я думаю, это отношение к смерти очень важно, оно просто соответствует реальности жизни. Верующие мы или неверующие, мы все стоим перед тем фактом, что придет момент, когда борьба, сражение за то, чтобы человек не умер, превратит его тело и ум и сердце в поле битвы; оно будет раздираемо, попираемо. Борьба будет идти не за этого конкретного человека, борьба будет анонимна. Это будет анонимная битва против смерти, безотносительно того, что сам человек претерпевает в процессе этой борьбы за его жизнь.
Опыт показал мне (и я должен с грустью сказать, что мой опыт умирающих велик - в семье и вокруг, в годы войны, в годы обучения и работы в госпиталях, а также и за двадцать пять лет моего священства), что два рода людей спокойно встречают смерть. Они сравнительно редки. Это истинно верующие и искренние неверующие. Не могут смотреть в лицо смерти полуверки или те, кто верит на четвертушку, люди незрелые, люди, которые не верят в жизнь, в вечность, в Бога, но в то же время не уверены, что умирание означает полное уничтожение.
Если бы можно было думать о смерти в терминах полного уничтожения, не-бытия, проблемы в каком-то смысле не было. Но беда в том, затруднение в том (вы ведь знаете, насколько процессы в нашем сознании бывают лишены логики), что многие люди думают: да, но как ужасно будет обнаружить, что меня больше нет... Вы смеётесь, но спросите себя, насколько вы бываете логичны в других областях и насколько вы уверены, что сами, думая о смерти - не чьей-то, а своей собственной - не чувствуете, что будет ужасно впасть в небытие и увидеть: я - пустота, от меня ничего не осталось...
Разумеется, с точки зрения логики это абсурд, но очень многое в нашей жизни абсурдно. Люди неверующие, по-настоящему уверенные в полном своем уничтожении, могут умирать, - я это видел; а также люди, которые встречаются со смертью в момент, в ситуации, которая придает смысл их смерти. Я вам дам пример. Мотивы его я похвалить не могу, но он хорошо иллюстрирует именно это отношение.
Во время боев в 1940 году я был на фронте, принимал раненых, и мне сказали, что в углу нашей палатки двое умирающих немцев. Поскольку я говорю по-немецки, меня попросили сказать им несколько слов, чтобы им было не так одиноко умирать. Они были до того изрешечены пулями, что это не поддается описанию. Я обратился к одному из них и, просто чтобы что то сказать, спросил: "Очень страдаешь?" Он на меня посмотрел угасающим взором и ответил: "Я не чувствую страдания, мы же вас бьем!.."
Я не хочу сказать, что причина, по которой он забыл о собственных страданиях, хороша сама по себе, но так же сказали бы мученики, так же сказала бы мать, если бы речь шла о жизни ее ребенка.
Мы можем смотреть в лицо смерти, если что-то придает ей смысл, если наша вера позволяет нам рассматривать смерть как один из этапов жизни; иначе мы на это неспособны. Роль врача, дилемма для врача вот где. В реальной ситуации мы не спрашиваем, точнее, вы не спрашиваете пациента, что он думает о жизни и смерти. Вы заставляете его жить, вернее, не жить, а существовать, претерпевать жизнь. Вы продлеваете его жизнь, заставляете его пережить себя и претерпевать всю тяжесть и боль, и тоску этого выживания дольше, чем он бы хотел; и в этом этическая проблема для профессиональных медиков.
Но как возможно разрешить эту проблему? Не иначе, как учитывая человеческие ценности и немедицинские факторы, потому что если у нас нет определенного отношения к жизни и ее ценностям, к смерти и ее месту и значению, нам не остается иного выбора, кроме как заставлять людей жить, пока они не смогут наконец со вздохом облегчения вырваться из наших рук и войти в покой. Но это проблема, с которой должны считаться профессиональные медики, она должна быть предметом размышления студента-медика. Да, жизнь - высшая ценность, но является ли жизнью простое ее дление? Да, для христианина смерть последний враг, которого надо победить, но является ли победой над смертью просто искусственное поддержание жизни в ком-то, в ком ее не осталось?
Является ли искусственное продление жизни частью нашей человеческой борьбы за победу жизни над смертью? Я не решаю эту проблему за вас. я ставлю ее вам; у самого меня есть по этому поводу собственное мнение.
Надо принимать в учет и страдание. Нам теперь известны средства облегчать физические страдания и душевные переживания и тоску. Оправдано ли употребление этих средств? Вы, вероятно, сразу пожмете плечами и скажете: конечно, разве не в этом наша цель, разве не этого каждый, кто страдает, ожидает от нас?.. Возможно и так. но в какой момент мы должны вмешаться и до какой степени? Это, опять-таки, вопрос человеческих ценностей. Какова нравственная ценность лености, которая перед лицом тяжелой утраты предпочитает погрузиться в бесчувственность, предпочитает избежать боли и страдания и ужаса утраты? Что это говорит о взаимоотношении, какое было между этим человеком и тем, который умер?
Такая позиция определяется отношением к жизни, отношением к смерти и отношением к себе, определяется страхом, определяется она очень многим; но достойна ли она человека, можно ли ее оправдать? Хотел ли бы любой из нас, чтобы его жена (мать, дочь) отказалась принять горечь утраты его и сказала: "Я хочу забыться, я хочу чувствовать, будто он не умер, или будто это не имеет значения"? Что это говорит о человеческих взаимоотношениях, о которых мы твердим до бесконечности, до тошноты? Где моя любовь, если я скажу: "Теперь, когда любимый умер, любимая умерла - лучше забыть об этом, лучше стать бесчувственным, потому что это меня расстраивает..."? И еще: какова человеческая ценность того, кто настолько боится страдания, что от страха страдания никогда не посмотрит в лицо никакому физическому испытанию?
Я был воспитан, возможно, странным образом, но благодарен этому. Что касается смерти, я помню две фразы моего отца. Когда я был очень молод, мы говорили о смерти, и, не объясняя мне, что это такое, потому что этого надо дознаться самостоятельно, отец сказал мне: "Научись в течение всей жизни так ждать свою смерть, как юноша ждет свою невесту". И в другой случае, при моем возвращении из летнего лагеря, он меня встретил и сказал: "Я беспокоился о тебе". Я легкомысленно ответил: "Ты что, боялся, что я сломаю себе шею?" Отец, который меня любил сильно, но трезво, сказал: "Нет, это было бы неважно. Я боялся, не потерял ли ты свою цельность". И он прибавил: "Помни: жив ты или мертв - не имеет значения, даже для тебя. Важно - ради чего ты живешь и ради чего ты готов умереть".
Это относится к смерти, это относится и к страданию. Что я готов вынести? Чему меня научит врач в отношении моего страдания? Проще всего щедро снабжать пациентов успокоительными средствами, аспирином, фенобарбитоном и прочим, чтобы никто из них не страдал. Но какова цена этому? Во-первых, только в противостоянии наш характер крепчает, растет мужество, способность бороться и отстаивать наши ценности. Разве следует подрывать это, поощрять трусость, позволять людям жить в страхе и из-за страха уходить от вызова, который бросают нам жизнь, смерть, страдание?
С другой стороны - и это, думаю, вполне очевидно - если начать облегчать боль, вы сначала способны выдерживать какую-то ее степень, а затем меньше, еще меньше; и когда вы уверены, что в любой момент можете быть избавлены от боли, вступает новое страдание: боязнь боли. Есть люди, которые принимают аспирин, чтобы не заболели зубы.
Ну, можно сказать: какое нам, врачам, дело? Пациент приходит, и мое дело - отозваться на его потребность... Нет, наше дело - не просто отозваться на его потребность, так же как дело священника - не просто отзываться на нужду. Мы не лавка, не ресторан, мы не цирк, наше дело не просто раздавать то, что нам приказано раздавать.
В современном обществе, где у людей - по крайней мере, теоретически - возросло чувство общности, взаимной ответственности, солидарности (я не говорю о высших качествах любви, потому что она далеко выше нашего обычного уровня), мы обязаны ставить своего ближнего - и, разумеется, самих себя в первую очередь - перед требованием быть человеком. А быть человеком - великое дело, это подразумевает дерзание, бесстрашие, творческий подход, и все это не выше человеческих возможностей, только мы сами недостаточно используем свои возможности.
Я думаю о Солженицыне, который сейчас в центре общего внимания. Несколько лет тому назад он был задержан КГБ и имел одну из тех милых бесед, какие можно иметь с политическим сыском. Ему было сказано замолкнуть, больше не писать, не говорить, стать, как все, - и он отказался. Тогда ему сказали: "Вы уже были в тюрьме, в лагере, разве вы не понимаете, что мы можем с вами сделать?" И он ответил: "Да, вы уже сделали с мной все, что могли, и не сломили меня, и я вас больше не боюсь". Мы восхищаемся им, но можем ли мы подражать ему, если не готовы противостоять трудностям? Не воображаете ли вы, что пробыть несколько лет в тюрьме и концлагере - своего рода харизма, которая дает человеку бесконечную выносливость, героическое мужество? Нет, в тюрьму попадаешь, в лагерь отправляешься с тем количеством мужества, какое у тебя есть.
Разумеется (и это другая сторона вопроса), если мы позволяем себе жить по самой низшей отметке, если удовлетворяемся тем, что пресмыкаемся, вместо того, чтобы жить, если наша жизнь -трясина, когда она могла бы бить ключом, тогда, конечно, мы ничего не можем требовать от себя.
Я хотел бы дать вам пример и не богословский, и не медицинский. Во время одной из бомбардировок Парижа я был в увольнении и оказался на четвертом этаже дома с матерью и бабушкой. Мы никогда не спускались в убежище, потому что нам казалось, что лучше уж взлететь на воздух, чем быть погребенными под землей. Мы посидели, затем моя мать сделала очень заманчивое предложение: пойти на кухню, развести огонь из кучки усердно нами собранных щепок, согреть воды и назвать это чаем - это все что у нас было. Она пошла на кухню, раздался взрыв, затем ее крик, и я подумал, что маму ранило. Она никогда не боялась обстрела, она и до революции вела очень мужественную жизнь. Я бросился на кухню и нашел мать на четвереньках на кухонном столе. Она указывала в угол и говорила: "Там... там..." - а там была мышь.
Интересно, осознавали ли вы когда-нибудь, как трудно посмотреть на мышь? Она слишком мала, она далеко внизу. Посмотреть можно на что-то большое, что является вызовом для нас, но если смотреть на мышь, нет ни мыши, ни человека.
Это приложимо к страданию, это приложимо к нашему отношению к смерти. Я верю и хотел бы, чтобы и вы верили, что в ответственном обществе, которое хочет построить град человеческий, достойный Человека (и для тех из нас, кто верующий - град человеческий, который мог бы вырасти в град Божий), роль медика - как и священника, как и каждого члена общества, но в своем роде не уклониться от вызова, какой ставит нам жизнь, не быть тем, кто делает людей мягкими, трусливыми, беспомощными.
Это профессия, у которой есть видение жизни, потому что у нас есть видение смерти и их противостояния, потому что у нас есть видение того, что такое человек, и благодаря этому видению мы не смеем позволить себе или кому бы то ни было быть ниже человеческого роста.
* Опубликована на сайте электронной библиотеки "Митрополит Сурожский Антоний" (http://www.metropolit-anthony.orc.ru/index.htm).
Печатается в "Фоме" с любезного согласия редактора сайта Елены Майданович.
Первые публикации: Human values in Medicine. Delivered to the Bristol Medico-Chirurgical Society on 8th May 1974// Bristol Medico-Chirurgical Journal. 1974. Vol. 91 (I/II). P. 3-7. В пер. с англ. публиковалось также с небольшими редакционными сокращениями в журнале "Врач". 1995. № 6 (июнь). С. 37-39.
Не перестающий звонить мобильный телефон, расписанный по минутам день, два рабочих кабинета, совмещение должности большого начальника и практикующего специалиста, длинный перечень обязанностей… Я всегда думал, что таков портрет современного предпринимателя. Оказалось, что не только. Подобную жизнь может вести и представитель совершенно другой профессии. Увидел я это своими глазами, когда приехал в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к научному консультанту отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии Елизавете Семеновне Владимировой.«И что Вы будете писать о медицине? Вы же в ней ничего не понимаете…», — заметила Елизавета Семеновна. Действительно, не понимаю. Только в тот день я приехал писать не о медицине. Мне был интересен человек: врач и больной, врач и вера, врач и смерть. Конечно, не обошлось без «врача и медицины». Но только совсем чуть-чуть — настолько, чтобы врач все же выглядел врачом. А не предпринимателем.

По нескончаемому коридору одиннадцатого этажа главного корпуса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Елизавета Семеновна Владимирова ехала… на роликах! «На дежурстве с утра надо за десять минут обойти все реанимационные, — рассказала она. — А корпуса у нас очень большие. Вот и встаю на ролики. Не всегда, разумеется — иногда. Перед самой палатой я их, конечно, снимаю и убираю в рюкзак. Хотя, бывало, прямо на роликах в реанимацию и влетала». Один пациент вспоминал: «Лежу — и вдруг вижу: за стеклом палаты кто-то плывет… Подумал, что это мираж». Но это не мираж, это Владимирова на дежурстве.
На ролики Елизавета Семеновна встала давно. Первой, кто увидел доктора медицинских наук на колесах, стала ее такса — и была настолько ошеломлена увиденным, что «дала задний ход». Впрочем, потом очень обрадовалась. Что же касается коллег по работе, они сначала недоумевали и даже ругались, потом привыкли, а потом те, что помоложе, и сами попытались кататься по больнице. Но надолго запала не хватило — не так-то это просто, как кажется. «А мне так комфортно, — говорит Елизавета Семеновна. — Я вообще очень люблю движение, активность…» В итоге сегодня в НИИ им. Н. В. Склифосовского на роликах можно увидеть одну Владимирову.
Оно и понятно. «Современное молодое поколение — слабое, как мне кажется, — рассуждает наша героиня. — Особенно это заметно в мужчинах. Мужиков-то не осталось! Идет, что называется, феминизация мужчин — мама одевает мальчика в школу, мама проверяет, не забыл ли он учебник по алгебре, и т. д. В итоге вырастает хлипкий паренек, который едва ли может поднять шестидесятикилограммовый мешок. Хотя это могу сделать даже я…» С виду не скажешь: маленькая женщина с тонкими запястьями… Однако в юности занималась женской тяжелой атлетикой — и шестьдесят килограмм поднимала. «В современных мужчинах нет атлетизма. Ведь мужчина — не тот мятущийся интеллигент, который размышляет о вишневом саде. Он должен быть вожаком, должен выдерживать удары судьбы… Не знаю, может быть, я так рассуждаю, потому что воспитывалась отцом…»
А вот это заметно. Манера общения Елизаветы Семеновны — жесткая, резкая, поначалу даже пугающая. «Я слушаю… — она отвечает на телефонный звонок, — …ты чего хотел-то? …ну, я от тебя шалею!... вы меня уже за жабры взяли!»... Ей приходится говорить так — вульгаризмами, как она это называет. Иначе при ее рабочем ритме просто не выходит: она бы не успела высказать ни одну свою мысль — «нет времени строить литературную фразу».
«У хирурга резкость в общении — отпечаток профессии, — делится коллега Елизаветы Семеновны. — Она же занимается неотложной хирургией — больных часто привозят в таком состоянии, когда речь идет о жизни и смерти. И это огромное напряжение. Но знаете, я видела много хирургов и должна сказать: она общается резко, но не зло. Не грубо».
Елизавета Семеновна начинает операцию: «Как Вас зовут?» — «Сергей…» — «Потерпите, Сережа, я Вам укольчик сделаю — обезболю». Это к вопросу о манере общения: резкость в разговоре может достаться от Владимировой кому угодно, только не больному. Будь это операционный стол или просто больничная палата. «Как Вам здесь? — спрашивает она у девушки-пациентки. — Вы нас простите, что мы Вас в коридоре положили. Но ни в одной палате мест уже нет…» — «Да ничего страшного, все хорошо…»
Взгляд Елизаветы Семеновны на окружающую действительность полон едких оценок. «У сегодняшнего человека нет проблем». Простите, то есть, как это нет?! Да их, кажется, столько… «Нет проблем — в том смысле, что человеку, сформированному телевидением, многое безразлично. Его уже ничем не удивишь. Наркомания, проституция — для него это не проблема. На врачебной конференции узнаем, что человек отравился таллием. И все спокойно на это реагируют. Но позвольте: такое отравление — типичный случай для XVIII века. Как это могло произойти сегодня? Меня это шокирует. Но многих оставляет совершенно равнодушными…»
Недавно хирурги-гинекологи делали операцию: у молодой женщины с передозировкой героина на восемнадцатой неделе беременности в утробе умер плод. «Двадцать лет назад я не могла предположить, что врач когда-нибудь будет удалять из утроба матери-наркоманки плод, разложившийся на части. К смерти плода может привести, скажем, женская болезнь — такое бывает. Но когда причиной становится то, что будущая мать в период беременности употребляет наркотики, — это за гранью моего понимания. Это трагедия! Но сегодня для человека нет проблем…» Послушаешь Елизавету Семеновну — и становится как-то не по себе. Это ведь не просто сетования людей старшего поколения. Это — взгляд врача, который не только видит болезни (в прямом и переносном смысле) общества, но еще эти болезни в прямом смысле лечит. И знает, о чем говорит. «Есть черта, за которую нельзя заходить. Если человек ее переступает, он попадает в группу риска. Вначале девочке говорят, что нельзя переходить дорогу на красный свет, а она переходит. Потом девочка начинает одеваться так, что оголять становится уже нечего. А потом…»
У Елизаветы Семеновны есть сын. Наверное, поэтому она очень чутко воспринимает все проблемы молодого поколения и говорит о современной молодежи без улыбки. Только это не ворчание. Это — взгляд матери. Взгляд, полный непрерывного беспокойства о молодых. «Здесь все зависит от внутренней культуры, которая передается не с образованием, а с молоком матери. И возрождение Православия в России дает надежду, что все образуется. Православные семьи в этом плане — пример того, как должно быть. Когда мама водит ребенка в церковь и там говорит ему о том, что такое хорошо и что такое плохо, ребенок начинает понимать, что есть та самая черта, которую нельзя переступать. А главное, дети, воспитанные в вере, действительно слышат, когда им что-то говорят, — и воспринимают это». Звонок мобильного телефона — как потом оказалось, как раз звонил сын. Разговор закончился фразой: «Смотри не простудись». Повесив трубку, Елизавета Семеновна пояснила: «Он только что вернулся из командировки — из Африки. А там у них жара плюс 40…»
В кабинете Елизаветы Семеновны активную жизнь ведут четверо: сама хозяйка и… три ее телефона. Сидя в рабочем кресле, напряженно закрыв глаза, левой рукой она массирует висок, а правой держит трубку мобильного: «Я слушаю… Да, я его осматривала. Там ситуация вот какая…» А дальше даже не рискну пересказывать — без медицинского образования такую беседу едва ли возможно воспроизвести: слишком много незнакомых слов, «дренаж» и «желудочный тракт» — самые простые из них. Звонит еще один телефон — на этот раз городской. Владимирова отвечает, бросает в трубку короткое: «Минуту…», кладет ее на плечо — и возвращается к разговору по мобильному. Все это не открывая глаз. Рука снова у виска. Через десять секунд оживает и третий телефон — звонят из операционной. «Секунду подождите…» — отвечает врач, и трубка вслед за своей предшественницей отправляется на плечо. Это называется дежурство.
Пока Елизавета Семеновна разговаривает по телефону, есть время осмотреть ее кабинет. Вроде ничего необычного. Рабочий стол, диван, книжный шкаф до потолка. Удивляет только обилие икон. Одна стена целиком отведена под иконостас. В центре — складень из Казанской иконы Божьей матери и образа Спасителя. У одной из коллег по НИИ дед был священником, погиб на Соловках. Эта женщина принесла Владимировой складень. Тогда он был весь черный. Елизавета Семеновна не знала, куда отдать его на реставрацию, и решила пока оставить у себя в кабинете. И через некоторое время изображение Богоматери просветлело само. А за ним — и лик Спасителя.
«Меня крестили новорожденной, — рассказала Владимирова. — Дедушка был старостой прихода. Хотя в Церковь меня не водили, только просфоры приносили. Дома, понятное дело, не было икон, но семья всегда была верующей. Началась перестройка, и один мой друг стал решительно уверять меня, что надо сходить к священнику, надо жить по закону Божьему. Я сначала возражала, что и так живу по этому закону, но в конце концов все-таки стала ходить в Церковь. Не потому что «петух клюнул», как это часто у людей бывает. А потому, что просто понимала: так надо, так правильней».
Владимирова не считает себя «православным врачом»: «Что такой врач должен делать? По-православному оперировать? По-моему, такие выражения, как «православный врач» — это нонсенс. Нельзя так делить людей одной профессии — на православных и неправославных. Да, у меня в кабинете висят иконы. Перед особо сложными операциями молюсь. Но это бывает нечасто. Потому что, когда привозят больного и речь идет о жизни смерти, надо быстро бежать оперировать — тут уже не до молитвы. И в этом плане я ничем не отличаюсь от своих коллег. Единственное — я абсолютно уверена, что врач отвечает за каждого больного не только перед законом. Мы отвечаем перед Богом».
Хирург часто оказывается в нравственно сложной ситуации: уже слова «Вам нужна операция» возлагают на него огромную ответственность. А тот, кто операцию делает, держит в руках жизнь пациента. «Так в хирурге появляется чувство властности, — рассказывает Елизавета Семеновна. — Вдруг понимаешь, что ты немало в этой жизни решаешь. И это колоссально влияет на психологию. А потом, существует своего рода «рейтинг» хирурга среди коллег, и когда осознаешь, что занимаешь в этом рейтинге не последнее место, чувство властности усиливается». Через все это Елизавета Семеновна проходила.
Однажды, когда несла послушание в сестричестве при храме св. блгв. царевича Димитрия в Первой Градской больнице, одна из сестер дала ей задание: вымыть в больнице полы и побрить ногу больному перед операцией. «Меня переполняло возмущение, — вспоминает Елизавета Семеновна. — С какой стати я, к тому времени уже кандидат наук, должна мыть полы и тем более брить ногу пациенту, когда это входит в прямые обязанности медсестры! Ведь я со своими знаниями могу оказать намного более серьезную помощь!» В тот раз Елизавета Семеновна как-то стерпела: и полы помыла, и ногу побрила. Но потом долго думала об этом — и постепенно начала понимать, по ее словам, очень важную для себя вещь: «Во мне в тот момент играло профессиональное высокомерие. Но этого быть не должно! Да, я хирург высшей категории, но я все равно остаюсь обычным человеком, несмотря на то, что решаю вопрос о жизни человека. Потому что перед Богом — все равны. Все едины. Что касается мытья полов, то всякий труд есть труд. Как и хирургия — труд. И надо просто служить. Честно и самозабвенно».
Может, медицинский работник, который руководствуется такими рассуждениями и есть «православный врач»?
Оранжево-розовые стены коридора в реанимационном отделении настраивают на тишину. Здесь в одной из палат Владимирова осматривает больную. Потом в приватном разговоре пациентка получает неформальное имя «желтой» женщины. Цвет кожи у нее и вправду далек от румяного. «Знаете, чем мы отличаемся от Запада? — говорит Елизавета Семеновна. — «Желтая» женщина — бесперспективная больная. Но, зная это, мы все равно будем ее лечить». Почему? «Потому что ее к нам привезли — и на нас надеются. Потому что врач — это служение». На фоне сегодняшних разговоров о нравах современных медработников такая формулировка вызывает скепсис. Но на примере Владимировой и ее коллег понимаешь, что это действительно так.
К «желтой» женщине Елизавета Семеновна во время дежурства возвращалась снова и снова, причем, как правило, в сопровождении кого-то из коллег. И всякий раз вокруг больной собирался своего рода консилиум: я даже сбился со счета, сколько врачей опекает одну пациентку. Каждый из них высказывал свои варианты лечения, а позже, случайно встречая Владимирову в коридоре, непременно вспоминал: «Да, что касается нашей с вами больной, я бы предложил…» Мне в сознание врезался этот оборот речи — «нашей с вами больной». В этом — искренность врача. Пациентка — не «ваша, Елизавета Семеновна», и не «моя, которую я — помните? — просил посмотреть», а действительно «наша с вами».
«Раньше врач действительно принимал личное участие в судьбе больного. И нес добро, — говорит Елизавета Семеновна. — А сегодня врачей все чаще обоснованно обвиняют в формализме, а медицину рассматривают как службу быта. И пациент приходит не к врачу, а к своего рода диспетчеру, которому, кажется, и спасибо говорить не за что». И неслучайно: пациента отправляют на одно обследование, затем на второе, проверяют то-другое, и… Никакого личного участия врача? Ничего человеческого? И да, и нет. «Мы сегодня живем шаблонами и алгоритмами, — продолжает Елизавета Семеновна. — Это американская система: при определенном типе травмы есть определенный стандарт наших действий. И мы обязаны его выполнить, даже если не считаем его целесообразным».
С одной стороны, это действительно необходимо: например, в случае смерти пациента, независимо от ее причин, родственники могут подать на врача жалобу, что был применен, по их мнению, неправильный метод лечения. А дальше любому юристу достаточно «разыграть пасьянс» — и врача признают виноватым. Однако, если врач действовал согласно стандарту, от такой ситуации он защищен. С другой стороны, подобная система и научно-технический прогресс при всех своих преимуществах привели к тому, что хирургу иногда даже не надо знакомиться с больным, достаточно посмотреть на компьютере определенные снимки. «Чувственное восприятие больного и его болезни перестает быть кому-то нужным, в результате все тех же стандартов — «такая-то температура, значит, такая-то таблетка через такой-то промежуток времени». Врач перестает быть творческим работником, — рассуждает Владимирова. — Но ведь в медицине не бывает одинаковых ситуаций...» Коллеги Елизаветы Семеновны рассказывают: «Она придерживается других взглядов, и все равно работает по принципу, которого по идее должны придерживаться все врачи, — мы лечим не болезнь, а больного. Она действительно лечит больного».
Елизавета Семеновна рассказывает, что раньше чувствовала боль каждого своего пациента. С годами это ощущение притупилось. Но это — самосохранение. «Я должна выжить в сложившихся условиях. Если давать волю эмоциям и делать при этом по нескольку операций в день, практически невозможно сохранить внутреннее равновесие...» Хирург — он как солдат, не может покинуть свой пост. И в пиковых ситуациях чувство чужой боли возвращается. «Землекоп может прервать работу, пойти перекурить, отдохнуть и вернуться к делу. Хирург так не может — не имеет права. Поэтому, бывает, и пульс во время операции скачет. И после тяжелых больных три дня в себя прийти не можешь».
Мобильный телефон Елизаветы Семеновны не умолкает ни на минуту. И поэтому с ней непросто общаться: идет какая-то беседа, но вот ей звонят, и после короткого разговора по ее глазам видно: сама она тут, но мысленно уже в операционной. Там, кстати, мобильный телефон тоже не смолкнет, и ассистентка будет то и дело подносить маленькую красную трубку к уху хирурга. И пускай иногда разговор по телефону будет ограничиваться словами: «Не могу сейчас говорить, я на операции». Просто не взять трубку — даже в операционной — Владимирова не может: вдруг что-то срочное. Глядя на это, еще раз понимаешь: врач — это настоящее служение.
На столе в рабочем кабинете у Елизаветы Семеновны лежит толстый том: «Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)». Она очень часто упоминает этого человека в разговоре. У него, хирурга и монаха, ныне причисленного к лику святых, была непростая судьба: пережил смерть жены, трижды был сослан за свою веру, а потом — небывалый случай — получил Сталинскую премию за медицинскую работу. «Я читаю его труды — и поражаюсь, насколько эмоционально он описывает каждого своего больного. Он о какой-то тетке Фекле, которую оперировал по поводу нагноительного процесса, говорит так, как будто она — его родной человек. А между тем это простая баба из соседней деревни. По Войно-Ясенецкому видно: для него не существовало ничего кроме его служения — людям и Богу. Бесконечные гонения, ссылки… От него отреклись его дети… Он говорит, что выжить ему помогла только вера. И меня потрясает глубина и истинность этих слов. Ведь и вправду: что еще может помочь в этой жизни?» Елизавета Семеновна на секунду замолчала. «А знаете, что самое главное? Войно-Ясенецкий действительно жил по принципу «светя другим, сгораю сам». Мне кажется, к этому должен стремиться каждый».
«Елизавета Семеновна, — говорит сотрудница НИИ им. Н. В. Склифосовского, — напоминает мне доброго священника. В том смысле, что к ней обращаются сотни незнакомых людей, и она всех их внимательно выслушивает. И когда разговаривает с пациентом, никого, кроме этого человека, для нее не существует».
Знакомая Елизаветы Семеновны рассказала: «Однажды мы вместе ездили в Троице-Сергиеву Лавру. Я первый раз видела ее на службе — и это поразило меня. Она встала в углу храма, слегка ссутулившись, положила в ноги свою сумку, опустила голову — и четыре часа простояла не шелохнувшись. И по ней было видно: у нее душа болит о многом, о многих...»
«Я слушаю… — отвечает Елизавета Семеновна на звонок мобильного телефона. — Если Вы приедете не позже пяти, я Вас проконсультирую, а потом мне надо уходить. Не можете? Ну давайте в полшестого? Все равно не можете… А во сколько можете? После шести? (она устало смотрит на часы) Сильно болит… Ну что с Вами делать — приезжайте».
Елизавета Семеновна всегда настолько сосредоточена на своей работе, что получить у нее ответ, не связанный с ее медицинским опытом, иногда практически невозможно. Пытаюсь задать вопрос: «Мы часто советуем больным молиться и воспринимать болезнь как испытание. Но вот один мой знакомый рассказывал: была пустяшная операция, но когда отходил после заморозки, боль была такая, что…» Елизавета Семеновна резко перебивает: «Ну не знаю… Я считаю, что его надо было обезболить — и все современные средства это позволяют». Честно говоря, от такой категоричности я забыл, о чем спрашивал. А Владимирова продолжает: «Просто человеку не нужна боль». Она в данном случае говорит о предельно конкретной вещи — о лечебном процессе. Но в этих словах — намного больше. Здесь — формула ее труда. Она работает, потому что человеку не нужна боль.
Ну а как же возрастание через испытание? Смирение? «Не надо путать боль и болезнь, — отвечает Елизавета Семеновна. — Я абсолютно убеждена, что любая болезнь — во исцеление души и тела. Однажды привезли женщину с тяжелой травмой — ехала на автомобиле и врезалась в столб. Она опытный водитель. Почему произошла авария — непонятно. Но просто так болезни никогда не случаются». Владимирова продолжает: «Бывают ситуации, когда человек ведет себя так, что в результате оказывается «на грани». Наступает момент что-то в жизни менять. И если он сам этого не делает, то Кто-то делает это за него».
Неужели хирург на операции берет в руки инструмент и думает о том, что для лежащего перед ним человека травма печени — во исцеление души и тела? Елизавета Семеновна говорит, что нет. И это понятно: в глазах хирурга во время операции — совсем другие картины. И губы не шепчут молитву. И помогает он «священнику и убийце одинаково». И православный врач — не важно, существует такой или нет — во время операции в первую очередь врач, а потом уже… «После операции, когда больной просто у нас лежит, бывает, кому-то и скажешь: дескать, Вам бы в церковь сходить — свечку поставить. И не одну…» Многие ходят. И — уж не знаю, связано ли одно с другим или не связано — есть больные, ценности которых после операции радикально меняются. Был милиционер — пил, с женой не мог ужиться. Однажды с задания привезли прямо в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Владимирова, как говорится, вытащила его с того света. А потом милиционер стал примерным семьянином и пить бросил. Во исцеление души и тела…
«Елизавета Семеновна, а каково работать за операционным столом, когда смерть — фактически с вами в одной комнате?» Владимирова удивилась вопросу. Не потому что он слишком метафоричный. Просто во время операции она уж точно не философствует о жизни и смерти. И никаких бурных эмоций относительно смерти как таковой не возникает. Не за это ли врачей считают циниками? «Да что вы, какой тут цинизм! — восклицает Елизавета Семеновна. — Врач отталкивает смерть. Отталкивает! Он с ней борется, и в этой борьбе — ежедневно и еженощно — забывает себя». И если больной умирает на операционном столе — это полное опустошение. И это опустошение страшно тяготит. И речь здесь даже не идет о врачебной ошибке. «Бывает, вроде все сделаешь, что в твоих силах, по максимуму в больного вложишься, двенадцать часов оперируешь — а он все равно умирает». Помимо воли хирурга. И сердце болит. Почему? Потому что отвечает врач за пациента перед законом — и перед Богом. И существует суд собственной совести. И этот суд не дает покоя.
На моих глазах Владимирова разговаривала по телефону и рассказывала о том, что утром на операционном столе умер больной. Не она оперировала. Но было четкое ощущение: винит она именно себя.
И в этом нет того облегченного отношения к смерти, которое порой ставят врачам в укор. И Владимирова здесь отвечает по-своему, резко, но пронзительно точно: «Если бы у врача было облегченное отношение к смерти, то тогда зачем бы он стал спасать больного? Зачем бы стал он делать операцию, когда «больной, коль умрет, и так умрет, а коль выживет, и так выживет?» В этом Елизавете Семеновне трудно не поверить: врач переносит смерть человека болезненней, чем кто бы то ни было.
«В ситуации, когда операция больного не спасла, для меня есть один путь рассуждения: я сделала все, что могла, но… на все воля Божья. И в этом — смирение врача».
А еще в этом — маленький пример того, как человеческая воля сочетается с Божьей. Уповать на Божью волю не значит сидеть, сложа руки. Наоборот, надо сделать все от тебя зависящее, но признать осмысленность любого исхода операции. «Наверное, в этом отличие неверующего врача от верующего: последний может более «гибко» относиться к смерти. Он в этом плане свободнее. Почему? Потому что в нем великая сила веры. И великая сила смирения. На все воля Божья», — снова повторила Елизавета Семеновна, подняв глаза к потолку, словно пытаясь найти более рациональные доводы. Но, видимо, не нашла: «Да, иначе я к такой ситуации отнестись не могу».
Она, по собственному признанию, «вечно борется»: ей практически никогда в жизни не приходилось делать плановые, а не экстренные операции. Закончив мединститут в 1971 году, она мечтала «красиво и искусно удалять аппендициты», чтобы все было так: пришел, увидел, победил. «Но Господь распорядился по-Своему», — говорит Елизавета Семеновна. И большинство ее операций — это какие-то «чужие» осложнения, тяжелые случаи.
И, возможно, каждый второй врач находится в похожей ситуации. Молодой человек встречает Владимирову в лифте. «Ну как, адаптировался к обстановке?» — спрашивает она. «Да вроде ничего, у меня, правда, как бы две специальности получается: одна — аналитик-химик, а вторая — аналитик-грузчик». — «Это почему?» — «Так я же единственный мужчина на все отделение…» Молодой человек закончил МИФИ, а потом увлекся фармацевтикой. «Пришел к нам — и стал аптекарем, — шутит Елизавета Семеновна. — У всех своя судьба…»
«Ну как, адаптировался?» — повторяет свой вопрос Владимирова, обращаясь на этот раз к семидесятилетнему врачу. «Да нормально…» — «Ну давай, держись. И курить бросай…» Он в молодости был летчиком-испытателем, потом перенес тяжелую травму, потом стал хирургом. «Долго оперировал, — рассказывает Елизавета Семеновна, — но сейчас уже от дел отошел, теперь на новом месте все больше с бумагами возится. Тяжело ему, наверное…»
«Елизавета Семеновна, — слышим за спиной, — тут больную привезли, так там…» Коллега просит совета и предлагает сходить посмотреть пациентку. Потом Елизавета Семеновна делилась: «Вот, кстати, пример глубоко верующего врача. Разные люди у нас работают…»
Действительно, разные. Есть и врачи-циники — привычные, во многом знакомые. А есть и другие — верующие.
«Я слушаю, — отвечает Елизавета Семеновна по мобильному телефону, — … ну тогда просите благословения у батюшки, а потом будем решать». Я не о том, что такой разговор — показательный пример живой веры. Просто я ожидал услышать его где угодно, только не в стенах НИИ им. Н. В. Склифосовского.



Понятно, что у человека, который со смертью работает, отношение к ней более трезвое, спокойное. У меня нет священного ужаса перед смертью. Я отношусь к ней как к работе. В Писании сказано, что дело врача — продление жизни: Ибо и они (врачи) молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни (Сир 38:14). В этом смысле разница между врачом и обычным человеком, может быть, только в том, что врач более трезво смотрит на это. Умер человек — помяну его потом: весь мой помянник исписан моими покойниками. Но тайна смерти от этого никуда не девается!
К примеру, есть определенная точка, после которой мы не можем отвратить смерть. Самый характерный пример этому — уход моей бабушки. Она тяжело болела и в последние минуты была уже без сознания. Я и еще несколько человек находились рядом. И вдруг, будучи без сознания, бабушка подняла руку и сделала жест, который можно было понять однозначно только одним образом: «Всё». После этого никакие реанимационные меры не помогали — сердце не запускалось. Свидетелей этого жеста было несколько, так что показаться мне не могло.

Не всегда этот момент можно определить — мы же люди, можем ошибиться. И даже если точка пройдена, это не значит, что мы должны все бросить: врач должен спасать до конца, это его работа, он инструмент в руках Бога.


Биографическая справка:

Этот человек творит чудеса: он дарит лица детям. А через это и детям, и родителям он дарит радость. Зачастую — и другую жизнь. Он — хирург Андрей Лопатин, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы.

— Андрей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, чем занимается Ваше отделение.
— У детей встречаются врожденные патологии — деформации в области лица, головы. Например, свод черепа, расщелина верхней губы, нёба, проблемы с нижней челюстью. Эти дефекты чаще всего носят чисто косметический характер, с ними можно жить, но внешность этих детей не соответствует общепринятой эстетической норме. Черепно-челюстно-лицевая хирургия пытается это исправлять. И в некоторых случаях можно добиться такого эффекта, что будет даже незаметно, что у человека когда-то были проблемы.
— Как реагируют родители на такие заболевания детей?
— Знаете, вот мы привыкли называть подвигом что-то неординарное. А на практике людьми, которые каждый день совершают подвиг, являются вот эти родители. Особенно когда дети совсем маленькие. Потому что ладно ребята старшего возраста — они могут как-то и сами за собой поухаживать. А тут совершенно невозможно без ежедневного родительского присутствия: тут и перевязки надо делать вместе с мамой или папой, и я вижу, как малыш к ним прижимается, и тогда ему не так страшно и не так больно.
Патологические деформации всегда связаны с многоэтапностью лечения, с недешевыми поездками в Москву. Плюс лечение иногда внезапно затягивается и длится месяцами, потому что ситуации бывают разные, бывают осложнения. И родителям надо отрешиться от многих вещей и целый день заниматься только ребенком. Люди надолго выпадают из привычного быта, из круга общения.
— Все ли родители способны на это? К Вам ведь и из детских домов поступают дети. Их, выходит, бросили?
— Да. Причем после так называемой реконструкции (современные возможности черепно-лицевой хирургии позволяют достичь очень хороших результатов, значительно улучшить состояние ребенка) родители иногда забирают ребенка обратно в семью.
— Как это возможно? Получается, ребенка бросают из-за его внешности, потом Вы делаете его «нормальным» — и тогда он снова нужен?..
— Вы знаете, мне трудно судить этих родителей. Все дело в том, что у некоторых родителей просто нет денег. Попробуйте представить, насколько все это тяжело: например, если ребенок родился с патологией в Красноярском крае или где-то еще дальше, то смогут ли родители каждый раз возить его в московскую клинику, смогут ли оплачивать билеты до Москвы, свое проживание? А это ведь не пару раз съездить на прием: это многолетняя работа. И иногда получается так, что родители просто не в силах себе это позволить. У них опускаются руки, они не понимают, как быть, и благом считают то, что, может быть, через систему, через детский дом ребенку удастся помочь.
Хотя некоторые родители, да, как только понимают, что есть трудности, — отстраняются от проблем, отказываются от ребенка. И бывает, даже не знают о дальнейшей его судьбе, о том, что их ребенок уже частично или полностью от тех проблем избавлен.

80 процентов времени хирург тратит на общение с родителями. Это очень важно, потому что от их настроя зависит очень многое
— То есть с родителями, наверное, надо отдельно и немало общаться, пытаться вразумить их, чтобы они не отказывались от своего ребенка?
— Безусловно. Есть ряд деформаций, которые в действительности не страшны: как я уже сказал, они носят больше косметический характер. Теоретически даже если ребенка не оперировать и оставить как есть, у него физически есть все возможности прожить счастливую жизнь, нарожать много детей и умереть глубоким стариком. Но тут возникает вопрос социальной адаптации. Обычно имеется в виду адаптация самого ребенка в обществе. Но здесь речь идет и о нем, и о его родителях тоже. Потому что с деформированной внешностью будет непросто не только ему, но и его маме и папе. Это будет их общим страданием.
— А что с ними происходит?
— Понимаете, врожденный порок развития у ребенка — это сильный удар по маме и папе. Их самооценка резко падает. Они боятся, что такой ребенок просто «вышибет» их из социума. Обычно ведь принято своего ребенка показать, похвастать его успехами и достижениями. А тут — ребенок с патологией… и вроде бы и похвастаться нечем.
Мы можем теоретически сказать: ну и что, не надо на это обращать внимание, главное — любовь! Да, но мы с вами находимся в среде образованных людей, в определенном культурном слое, и у нас, конечно, некоторые понятия сформированы. Но для людей, у кого уровень образования и культуры низкий, осуждение соседей, окружения является большой проблемой.
Особенно там, где ты все время на виду: в малых городах и сельской местности, где все друг друга знают. Это в Москве легко скрыться: ты живешь в квартире и порой даже не знаешь, кто твои соседи по лестничной клетке. Здесь легче как-то затеряться и спокойно решать все свои проблемы. А вот в небольших местностях это уже сложность: начинаются какие-то разговоры, слухи, шепот за спиной, окружающие дистанцируются.
И клинические психологи, которые работают в нашем отделении, обозначили нам такую проблему: некоторые родители годами живут с ощущением внутри себя, что это не их ребенок. То есть, да, они его не бросают, они за ним ухаживают, но тем не менее — «у меня такой просто не мог родиться». Вот такая, к сожалению, страшная проблема. И это, конечно, надо преодолеть, перешагнуть.
— Удается?
— Удается. Потихонечку, с большим трудом, но удается.
— Что Вы им объясняете?
— Мы пытаемся ответить на самый основной их вопрос: кто виноват? Особенно его любят задавать бабушки ребенка, тещи и свекрови. И мы объясняем, что виноватым может быть кто угодно. А лучше, конечно, виноватым не считать никого. Потому что здесь могут быть и спонтанные мутации, очень редко, но они бывают.
— А ведь к Вам попадают не только новорожденные, но и 14-15-летние мальчики и девочки, которым хочется выглядеть красивыми… Как с ними ведется работа?
— Повторюсь, с ними много работают наши психологи, очень детально и скрупулезно. Потому что, действительно, ребенок подросткового возраста, глядя на себя в зеркало, задается вопросом: «За что мне такое? Вокруг все здоровые и красивые. А почему я не такой?» И слезы бывают, и крики, и угрозы навредить себе. И мы, естественно, стараемся ему помочь, поддержать. Показываем фотографии детей, которым уже удалось помочь, фотографии, где шаг за шагом, операция за операцией у ребенка исправляется его дефект. Рассказываем, каким будет результат, убеждаем в том, что и он скоро станет «нормальным», красивым.

— А Вы сами для себя разобрались с этим вопросом: за что? За что такие страдания этому конкретному ребенку, этим конкретным родителям?
— В ряде случаев заболевания ребенка явно наследственные, и тогда мы стараемся направить на консультации к генетикам. Есть синдромальные, действительно генетически обусловленные состояния. А есть и внесиндромальные. Еще раз говорю, спонтанные мутации, которые трудно предсказать: два молодых здоровых человека рождают ребенка, и вот — проблема. Либо это вторые, третьи дети: то ли накапливаются какие-то антигены, антитела, реакции… Пытаемся что-то понять, но пока не очень удается.
Но вообще объяснения — вне нашей сферы, нам об этом трудно судить. Да и в наши функциональные обязанности это не входит. Мы просто делаем свое дело — выправляем дефекты. И, честно признаться, на другое времени просто нет, поток пациентов бесконечный.
— Я вижу, что у Вас в кабинете немало икон. Вера Вам помогает в Вашей работе? Отвечает на те же самые вопросы, о которых мы говорили?
— В большинстве своем эти иконы — подарки пациентов. Конечно. Я не могу сказать, что я сильно воцерковленный человек, но тем не менее я верю. В общем-то, думаю, как и все мои ближайшие коллеги. Потому что без этого невозможно. Хотя биологическое образование не всегда позволяет совместить в голове веру и знание. Очень трудно, обладая естественно-научным мышлением, до конца понять и принять, уловить связь между нашей работой и замыслом Бога о нас. Думаешь иногда: неужели настолько Божий Промысел глубок и тонок, неужели до такой степени? Но пытаться понять головой — это одно, а в то же время порой ну такие необъяснимые вещи происходят, что иначе как вмешательством свыше, помощью Божией это не назовешь. И в такие моменты ты действительно поражаешься и радуешься этой глубине.

Бывает, операции длятся по 14 часов. Бригада врачей делает все поэтапно, сменяя друг друга
— Чем отличается работа детского хирурга от работы взрослого хирурга?
— Это очень большая специфика. У нас один доктор уходил во взрослую хирургию — и не смог работать со взрослыми. Я пришел в РДКБ из взрослой хирургии, но сейчас, проработав уже больше 23 лет в «детстве», во взрослую возвращаться уже не хочу. Для меня это уже не интересно.
Во-первых, более благодарных пациентов, чем дети, вообще трудно себе представить. Иногда бывают такие сцены, такие реакции, которых у взрослых ты никогда не увидишь. И я конечно, очень радуюсь, когда общаюсь с детьми и с подростками, устанавливаю с ними контакт во время первичного осмотра, осмотра до и после операции, во время перевязок, что-то им объясняю, рассказываю. Кто-то слушает и понимает, кто-то нет, но мне с ними все равно хорошо и интересно. Мне есть с чем сравнивать, я знаю, о чем говорю.
При этом, конечно, почти 80 процентов времени ты тратишь на общение с родителями. И это тоже очень важно, потому что от их настроя, их состояния зависит очень многое.

— Что в Вашей работе самое трудное для Вас?
— Самое трудное — когда у ребенка начинаются необъяснимые осложнения, с которыми трудно справиться. Это большая проблема, и ты не всегда понимаешь, что происходит, ищешь ответы на эти вопросы и не всегда находишь. Иногда ведь не все зависит от тебя: вроде бы и все лекарства есть, и операция сделана хорошо, никаких осложнений не было — а послеоперационный период идет тяжело, и ребенок никак не хочет из него выходить.
— А можете назвать самый запомнившийся Вам случай из Вашей рабочей практики?
— Ой, нет. Это такой поток пациентов, который идет ровным строем: у нас в неделю проходит до 15-16 операций. Из них 3-4 больших, на целый день. И здесь, в этой череде, не запомнишь и не выделишь кого-то конкретного. А если запомнишь, то через год имени ребенка или родителей уже не будет в твоей голове: она уже забита другими именами, которые накладываются друг на друга.
Хотя есть, конечно, и такие пациенты, с которыми мы уже достаточно долго поддерживаем отношения, и уже даже выросшие дети звонят, пишут эсэмэски, поздравляют с праздниками и с днем рождения, приезжают и показываются.
— Операции, которые длятся у вас целый день: как их выстоять?
— Для этого и существует большая бригада врачей: делаем все поэтапно, заменяя друг друга. Напряжение очень велико, ведь бывают и по 14 часов операции: поэтому порой надо отойти — поесть, например, или даже под музыку потанцевать, чтобы взбодриться.
Бывают очень тяжелые ситуации, когда удаляем, например, часть челюсти с опухолью, и челюсть надо тут же восстановить: берем, например, кость с ноги, из нее делаем замену нижней челюсти. Все это подшивается к сосудам на шее. То есть их надо сначала выделить, убрать, взять трансплантат, там зашить, сюда поставить… Над этим по три-четыре бригады работают. Но все равно на протяжении всей операции врачи на месте: а вдруг одному станет плохо — надо бежать и заменять.
— Как Вы боретесь с нервным напряжением?
— Катаюсь на горных лыжах, плаваю в бассейне. Ну, и еще Сандуновские бани. Без этого, наверное, быстро бы сломался. И для меня большое счастье, конечно, зимой хотя бы на денек вырваться в Подмосковье, провести день на лыжах. А если выехать куда-то на горнолыжный курорт — то там ты как будто за пределами всего и вся, на другой планете, забываешь обо всем, ну и организм восстанавливается.

Хотя больше двух недель отдыхать не могу: больше не выдерживаю, уже привязан к работе. Сразу начинает крутить: что там и как в больнице?
Радостные наклейки позволяют создать благоприятную среду, комфортные условия пребывания маленьких пациентов в стенах отделения
— Насколько важна атмосфера, которая царит в отделении?
— Она важна невероятно. Знаете, нам помогают многие благотворительные фонды, за что им большое спасибо. Они стараются работать адресно: вот есть ребенок с такой-то проблемой, будем направлять средства на его лечение. Однако мало кто реагирует и на проблемы самого отделения. Ведь здесь требуется не только операция, ведь ребенок не находится в каком-то вакууме: он на достаточно длительное время остается у нас.
И иногда элементарно не хватает игрушек, таких, которые можно использовать в условиях хирургического отделения, которые моются, дезинфицируются. Не хватает раскрасок, каких-то развлекательных и обучающих занятий, детских книжек и прочего, чем можно занять свободное время ребенка.
Совсем маленькому ребенку это все пока, конечно, не нужно. А вот деток от полутора лет уже необходимо каким-то образом занимать, давать им что-то в руки. И новая игрушка всегда может хорошо отвлечь. Но их всегда не хватает, они как-то быстро рассасываются: понятно, что кто-то увозит полюбившуюся игрушку с собой домой. И у нас пока нет отдельной игровой комнаты, хотя, конечно, она в таких местах как наши, я считаю, необходима. Некоторые фонды привозят нам большие настенные наклейки, и это нам позволило немножечко скрасить стены холла, скрасить само отделение, сделать его повеселее, это тоже очень важно. Эти вещи не влияют непосредственно на здоровье пациента. Но они позволяют создать благоприятную среду, комфортные условия пребывания маленьких пациентов в наших стенах.
— Есть устоявшиеся мифы о российской медицине, в медиа, как правило, говорится о том, как все плохо в сфере здравоохранения. При этом Вы в неделю делаете невероятное количество операций, успешно трудитесь. Вас это не задевает?
— Наверное, действительно, хотелось бы больше положительных примеров нашего труда в СМИ и меньше мифов. Потому что все это действительно мифы. Все, конечно, в какой-то степени упирается в финансирование, в какой-то степени в организацию здравоохранения… Но я бы ни за что не сказал, что все и везде провально, что только складывай ручки и помирай.
Вопрос сложный у первичного звена: надо поднимать и воспитывать педиатров, акушеров, неонатологов в роддомах. С трудом, но дело движется: мы пытаемся проводить и семинары, и рабочие программы. Людей тоже понять надо: трудно ожидать чего-либо от тех, кто получает копейки, а спрашивают с них непосильно много.
Но при этом в разных медицинских сферах многое делается, и где-то на хорошем очень уровне делается. Порой, честно вам скажу, многие процедуры мы делаем и лучше, и честнее, чем платное лечение за рубежом. Не все так радужно и там: потому что к нам иногда обращаются и за «перелечиванием» из-за границы. Бывает, с такими осложнениями возвращаются люди, что за голову хватаешься.
Поэтому говорить о том, что у нас прямо все-все-все плохо, я бы не стал. Буквально несколько месяцев назад прошел российско-американский симпозиум по черепно-челюстно-лицевой хирургии, которой я занимаюсь. На симпозиуме выступали наши американские коллеги, в том числе и один из основоположников такой хирургии доктор Кеннет Сельер, известный человек. И когда мы сравнивали результаты американских хирургов и наших врачей — ну, в общем-то, на сегодняшний день они фактически одинаковые. Поэтому если вплотную, внимательно заниматься каким-то разделом медицины, то постепенно мы все равно накопим тот опыт, который позволит нам идти наравне со своими зарубежными коллегами и, конечно, помогать максимальному количеству людей.
Беседовала Дарья Баринова
Фото Владимира Ештокина







Если вам близко то, чем мы занимаемся – ПОДДЕРЖИТЕ НАС.