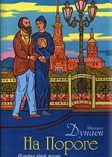Михаил
ДУНАЕВ
На Пороге (история одной жизни)
Роман в трёх частях
…Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения…
Из молитвы преподобного Ефрема Сирина
…дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья…
А.С.Пушкин
МОСКВА
«АЛЬТА-ПРИНТ»
2005
Михаил Михайлович Дунаев — профессор Московской Духовной Академии, автор шеститомного труда «Православие и русская литература», а также многих работ по истории русской культуры, представляет свой новый роман «На пороге», повествующий о судьбе человека, живущего многими грехами, совершившего преступление, но не сознающего до времени причин обрушившихся на него бед и испытаний. Мы застаем его в тот момент, когда он, вспоминая прошлое, начинает с трудом, но истинно постигать значение всего совершившегося с ним. Он стоит на пороге новой жизни, которая верою освещает подлинный смысл бытия.
Написанные в разные время пьесы посвящены теме бессмысленности жизни, проходящей в пространстве безоблачного существования.
Книга может быть интересна для всех, кто озабочен вопросами веры и безверия.
Часть первая
I
И вот опять прошло время, и из его постоянно ускользающего от меня движения я всё оглядываюсь туда, в прошлое, в глубины дальние и ближние; и часто всё сливается в сознании, всё скользит в памяти неразлучно. То кажется, будто текут два потока, разделённые пропастью, то видится один внутри другого. А то и не разделить вовсе.
Хуже всего было, когда я вышел оттуда, из пропасти... Пытался сознать, что стряслось со мною. И не мог. Совсем недавно:
Заставляю себя и заставляю понять: за что меня так судьба... Господи, за что?!. Но будто загадка неразрешимая на экзамене — силишься, силишься её одолеть, но только время переводишь, и от ощущения тягостного, что время-то идёт, убегает, от ощущения этого лишь пуще разум цепенеет — и не совладать с ответом вовсе. Господи, за что? А впрочем, чему было быть, того и не миновать... Ладно.
Экое ведь фаталистическое мудрствование находит порою, и до чрезвычайности банальное, так что хоть и самому смешно, а и обидно, и всё казнишь себя: неужто я так пошл, что кроме общих мест иного ничего и выдумать не умею? Однако: что не банально в этом мире? День да ночь — сутки прочь, и так спокон веков. Но каков смысл во всей вот в этой обыдёнщине — вопрос же ведь вовсе и не банальный. То есть тоже не новый, как и сам мир, но не банальный.
То ли я себя утешить стараюсь, поднимающееся отчаяние и раздражение утишить, и улестить собственное самолюбие паршивенькое, и себе же очки втереть, то ли само положение нынешнее меня на подобные рассуждения обрекает — не ведаю.
Помню, когда я там обретался, мне снилось часто, что я свободен, до крайних пределов и даже более того — свободен. Свободен, а весь окружающий кошмар — так, снится только, и лишь проснуться — никакой тюрьмы не было и нет. Не было и нет. А просыпаюсь — есть! Есть. Тут она, при мне — тюрьма. Зона. Теперь же и не сплю как будто, а мне и свобода как неволя. Деться некуда — вот что.
Умники такие есть, что всю жизнь сном считают. Хорошо им, если не врут. Но думаю, что врут. Хрясни им по зубам, сразу забудут свои бредни. Потому что больно станет.
И мне больно. Жизнь меня в кровь измочалила.
Повалил снег крупными хлопьями, всё побелело, даже мостовая на улице на нашей — благо по ней машины не так часто ездят — и снег, густой и обильный, успел покрыть всю проезжую часть. Но снегу этому не радуешься, как в начале зимы, наоборот: раздражает он, потому что знаешь: лишь больше завтра сырости станет, слякоти, а это как будто бы весну задержит, время у неё отнимет. Времени и жалко. Хотя и так подумать: что мне та весна! Пасмурность же на душе. И куда время девать?
Когда-то — маленький я ещё был, меня на полгода почти в деревню к деду отправляли — так вот соседка у нас там была, тётя Маша, в тюрьме сидела. Сразу после войны с нею стряслось: мешок мякины унесла в колхозе. И вот когда вышла она, помню: даже смотреть на неё страшно было немного, потому что само слово жуткое — тюрьма. Пришла, как будто из тайны какой появилась — из тюрьмы. Хотя что я тогда понимал?
Так и я, наверное, для многих — из тайны. А какая тут тайна! До тошноты обыденно.
Снегу вот навалило. Пошёл я на улицу. Так просто, пошляться. Впрочем, улиц-то у нас и нет никаких. Улицы — в центре, а тут кварталы, свободная планировка. Дороги же, для проезда которые,— то не улицы. Улиц нету. Неуютно на них, на этих на дорогах. Нет тут ясности, чёткости нет, но и простора тоже нет — всё удручает хаосом бессмысленным. Рваное тут пространство. И жизнь рваная. Хотя: как у других — не знаю. Моя это жизнь — рваная.
И пасмурность ещё в природе, и раздражает что-то, и злобность какая-то появляется, и не поймёшь: на кого и зачем. Все эти кварталы новые — бесчеловечны они. И мысли среди них пустые всё приходят, прямолинейные, шаблонные.
А тут ещё слякотность повсюду, и снег уже таять принялся, и волглость в воздухе. Я же — странно?— как будто люблю ходить по этим по расхлябанным по мостовым и тротуарам, в мерзкой в сырости — потому что соответствует то моей душевной хандре — тому, что и тяготит меня и с чем расстаться я не желаю, как с разношенной, хоть и готовой развалиться обувью: новая слишком уж жестка и жмёт нещадно, одно мучение, пока не разносишь. Так и настроение — к чему менять его? Да и на что менять?
Впрочем, тут, верно, моя особенность, моя инертность внутренняя: мне трудно порою менять одно состояние на иное какое на другое. Прочие, по моим наблюдениям, многие люди не таковы, — но что мне до тех?
И что мне вообще до всех, до всего мира? Вот странно: я подчас такую ко всему миру злобу ощущал, а в то же время и полное равнодушие. Какое мне до всех прочих дело, что за печаль?
И вот ещё один шаблон препошлейший: я самому себе вдруг начинал казаться героем в духе Достоевского, который Фёдор Михалыч. Почему-то мне сие льстило внутренне и утешало. Утешало и всё тут. Будто я человека навроде подпольного, сижу, злобу на весь мир коплю, и кукиш в кармане тайно для всех сложил: ну что, мир, накося — выкуси. Но почему в том утешение можно найти — в толк и сам не возьму.
Я даже нарочно изъясняться старался порою под какого Прохарчина-господина (ведь и сам же прохарчился), самоуничижением себя растравлял. Думал: пусть скажут: подлаживаюсь, ибо неоригинален. Болваны! Вы в смысл вникните, который я под формой под такой под поддельной скрываю — вот тут-то и испытание вам: сможете ли оригинальную суть мою из-под банальной внешности выколупнуть? А я над вами исподтишка позлорадствую: ибо есмь нечто иное, чем подпольный тот человеконенавистник, или прохарчившийся неудачник. Ну-ка, раскусите, попробуйте! То-то и оно-то вот.
И все же: что мне до всего до мира? Такое во мне равнодушие ко всему сидело, будто и не живу, а выполняю лишь непонятно чьё и непонятно зачем нужное мне предписание, и на лекции свои по вечерам хожу, и в телевизор тупо смотрю, и газеты читаю про славу капээсэс, и по пространству по окрестному брожу — и всё не потому, что в том потребность испытываю, а просто заведено так, непонятно кем заведено, ржавым паскудным ключом заведено, нечто такое заведено, что и не механизм даже вовсе какой ни на есть, а просто недоразумение некое, без цели и смысла непонятно где обнаружившееся. Мне всё это не нужно — уж точно.
Ничего не хотелось. То есть никаких абсолютно желаний, стремлений. Если что делаю — кому то надо? Не мне.
Я утратил напрочь остроту восприятия мира, свежесть ощущений — закостенел внутренне.
Маме, помню, плохо стало, пришлось врача вызывать, потом скорую. В больницу отправили. Все суетятся — врачи, санитары. А я думаю: ну и что? Годом раньше, годом позже — что за разница? И самое главное: от этой мысли мне ведь даже страшно за себя не сделалось — вот ведь ужасно.
Музыка всюду орёт, животная, машинная, даже по улицам, по дорогам нашим по квартальным свободнопланировочным, слоняются всякие разные — для меня, отвыкшего, и вовсе в новинку — носят на себе свою звукотехнику и запускают на всю мощь порою. А почему я должен их слушать? Зачем они мне себя навязывают? А вот зачем, я думаю: бессознательно хотят меня (то есть не меня именно: меня-то они и не знают и знать не хотят, и плюют на меня), всякого ближнего вообще — себе хотят уподобить. Чтобы я как они стал такой же дурной. Как они мне отвратны! Моя бы воля — вот не вру — я бы таких в иной момент своими бы руками удавил бы. И не задумался бы даже. С наслаждением бы то проделал.
Вот что: я там (а даже и прежде), в себя вслушиваясь, понял в себе внутреннюю готовность на всё — и на самое высокое и на самое ужасное, что впущено в меня. И вот думал: вроде и есть во мне какие-то сдерживающие начала, которые ограничивают мою разнузданность — спасают от выброса вовне всей моей душевной гадости, но вдруг тормоза те сорвутся — я же тогда на всё способен стану, на самую мерзопакостную мерзость, и даже хуже того. Что меня удержит? И откуда вообще те тормоза? Не ложь ли они? Не выдумка ли наша? И именно не оттого ли, что в действительности они лишь химера, условность, продукт абстрактного умствования — не оттого ли разве я уж раз сорвался, так что десять лет, лучших моих лет коту под хвост пошли?
Безнравственно так рассуждать? Полноте, я бы всем сказал, кто бы заикнуться только посмел. Какая может быть нравственность у сочетания химических элементов — я ведь какой-никакой, а химик и знаю, что мы такое есть — что за мораль в одном из способов существования белка? Обмен веществ — и больше ничего-с, милостивые государи вы мои! Так-то. Нечего людям и голову дурить.
Помню, как поразила меня эта мысль чуть ли не в детстве ещё, когда я узнал: всё состоит из молекул и атомов — они движутся по каким-то там по своим законам... и всё. И как будто уж и не я живу, а электроны движутся, в атомах крутятся-вертятся — и в том вся суть. Теперь меня уверяют, будто уже около сотни элементарных частиц скоро понаоткрывают,— а пусть хоть и тыщу изобретут: что изменится?
Экий всё же вздор!
Я думал: вот странно: мне, то есть тому, кто ощущает, что “я” есть “Я” — не знаю, как понятнее сказать,— так вот источнику моего самосознания и самоощущения дано в распоряжение моё тело, во временное дано пользование, чтобы я им с умом распорядился, а уж и сам того не заметил, как вдруг из хозяина превратился в раба этого моего самого тела и давно ему предавно подвластен, а оно — всему вокруг вообще, даже вот мерзостному слякотному снегу, от которого я уже ноги промочил. Выходит: тело что ли собственную свою волю имеет, чтобы мною располагать? И как оно может верховодить моими стремлениями? И вдуматься опять же в который раз: а есть ли в таком случае я-то сам-то? Я в мистику не верю. Я на то и в науку пошёл, чтобы знать. Но я не знаю.
Или вот ещё закавыка: сам процесс мышления. Какие-то электрохимические реакции в мозгу. Но ежели я управляю мыслью по собственной воле (а это так), то посредством чего я теми реакциями управляю? И в то же самое время я — не более чем результат химико-физико-био-процессов. И ещё социальных условий. Если моё сознание ко всему тому вторично, то как я могу направлять всё то по нужному мне пути? Химическая реакция — неужто она сама над собою собственную волю имеет? И что есть воля с химической точки зрения?
А всё-таки обидно: что за тривиальность! Миллионы людей, без сомненья, таковые думы уже передумали — и всё без толку. Впрочем, не мысли сами по себе — а именно я банален пожалуй что.
Ан нет! Со стороны — вроде бы и избито, а вот как сам заглянешь в глаза всем тем страшным и вечным вопросам — так вовсе не банальность. Мороз порою по коже, а когда так, что за ребячество рассуждать: банально — не банально? Вопрос пусть и не нов — ответ-то где?
Всё-таки загадка — для меня во всяком случае — это непостижимое рассудком соотношение внутреннего и внешнего миров, в которых я влачу ныне своё никчёмное существование. Со стороны опять же — я со всем своим внутренним миром есть ничтожество в сравнении с тем, что меня окружает — со всею Вселенною. А изнутри — так тот мир, в какой я погружён, как бы и не пообширнее оказался и всей той Вселенной хвалёной.
По крайней мере, бесспорно для меня, что объективные качества окружающего мира для меня прямо зависят от субъективного качественного состояния моей души. Причём не примитивная тут зависимость, а весьма даже и сложная, прямая и опосредованная одновременно. Вот смотрю я, допустим, по сторонам — и всё-то мне мерзким представляется, но я же и знаю: не вокруг мерзко, а на душе у меня. Тут ведь как дважды два четыре, и ещё Гамлет про то рассуждал.
Но: ведь мир-то и на самом деле мерзок, оттого и на душе на моей мерзко. А мерзок он потому, что я смысла в нём не вижу. И вообще: посиди в тюрьме с десяток лет — да и поищи в том смысла. А я посмотрю, какие у тебя розы в душе расцветут. Да что тюрьма! Всё рухнуло.
Однажды вдруг... там ещё... какое-то ощущение болезненное во мне прояснилось: что вот эта моя внутренняя жизнь неуничтожима и будет тянуться вечно, как огонёк тлеющий, который не может погаснуть, но и не имеет силы разгореться ярко. Я вовсе не обрадовался: так нечиста и бездарна моя жизнь. И уж если выбирать между бесконечным её дурным продолжением и полным небытием, уничтожением меня, я бы предпочёл небытие. Тогда бы предпочёл.
Но мало ли что взбредёт в шалый ум. Поверить в безсмертие было бы ретроградно. До пошлости ретроградно. Только не стоит безпокоиться: погасну я, погасну.
А пока не погас ещё мой внутренний огнишка, всё занимает меня тот вопрос: в чём суть взаимодействия двух сих миров — внешнего и внутреннего? Что на что влияет в конце концов и в начале начал? То есть важнее-то, разумеется, внешний мир, раз мой лишь на время объявился, — но это и обидно. Оскорбительно даже. Жалок тот, кто не оскорблён этим. Всякий же, догадываюсь я, хочет всё потаённое, что в душе сидит (не всё, само собою, отнюдь не всё: стыда же не оберёшься),— всякий стремится внутреннее своё вовне проявить. К примеру: ежели я умён, то какой мне прок от того моего ума, когда я не смогу его перед всеми выказать и прочих перед собой дураками отрапортовать? И: если у меня душевные богатства несметные (я вообще говорю, а не про себя именно) — мне те богатства самому в себе до безконечности что ли копить?
Между двумя мирами, лишь соприкоснутся — искра... нет: высочайшего разряда молния порою всё испепеляет. А что именно сгорит — кому как повезёт. Или душу сожжёт, или мир опалит.
Да нет, то у немногих. У большинства всё ж таки искорки слабонькие. А самомнение, впрочем, порою неимоверное.
Нет, лучше сравнение иное: как кислота всё разъедает, так и внутренние стремления наши в соприкосновении с окружающим миром — тоже всё выжечь норовят. Это и есть самоутверждение.
Утверждаю: не эдипов комплекс правит миром, а... геростратов — так его назовём. Герострат, впрочем, это уж крайность, отчаяние от собственного ничтожества при разъедающем душу стремлении выказать себя и утвердить во внешнем мире на всевечные времена.
Однако: не непременно же всё жечь и ломать. Можно и построить. При первом приближении тут ничего общего: ломать и строить. Но лишь для поверхностного взгляда. Противоречие внешнее, а суть одна: самообнаружение в действии. Действие же — оно с точки зрения внутренней цели, конечного своего внутреннего результата — оно к конкретности собственной и безразлично вовсе. Хошь строй, хошь ломай — главное, чтоб другие знали.
Поглядеть непредвзято: все поголовно только и делают, что самопроявляются в окружающей реальности, ибо у внутренней жизни реальность подчас весьма сомнительна. Гении — о них и говорить нечего, они счастливые люди, потому что имеют средства к тому, а бездарю примитивному что делать? У него же какое-никакое, а имеется-таки своё внутреннее, никому невидимое и неведомое — так что хоть поразрушать чего — и то выход. Вот ведь как. Впрочем, скучно, тоскливо эту тему дальше развивать, хоть и до бесконечности можно.
Одно только: религиозная мысль в одну роковую ошибку психологического свойства впадает: мы самовыявляемся, а нам смирение проповедуют: в разрез с основным законом жизни нам навязывается ценностная переориентация: принудительное признание в глубине души собственной же неполноценности — презабавный императив.
Но уж кто сознал или ощутил свою неполноценность — тому одна дорога: в забытьё-небытие. Вариантов множество: от верёвки на горле до дихлофоса в пиве. На любой вкус. Я тоже в своё время одно средство подбросил на потребу человекам.
Всего же приятнее свои комплексы на других вымещать.
Я вывел для себя: все почитатели Ницше должны иметь скрытый комплекс неполноценности. Он и сам-то такой был: читал я от скуки “Заратустру” — уж неприкрытая почти исповедь закомплексованного. У комплекса же неполноценности, у него всегда оборотная сторона — мания величия. Но раз мания, то как же без того, чтобы ближнего своего в дерьмо не втоптать? Да и вообще: все пороки от гордыни, от комплекса который самоутверждения.
Но опять-таки странно: я в себе, вслушиваясь, порою все добродетели мыслимые и немыслимые нахожу. Недоразвитые, разумеется, но обнаруживаю. Вплоть до того, что готов порою за ближних за своих чуть ли не живот положить. Откуда сие? Что опять же за чушь?
Я это к тому всё вспомнил, что покоя не давало: кому и зачем всё это моё нужно? Мне? А я кому? Другим? А другие кому? Мне? А я кому? Так вот в тупике и бился постоянно: я-то ведь никому не нужен: меня вон десять лет назад разжевали и выплюнули.
Но я же существую. Азъ есмь! Неужели вот мною так уж и можно в белый свет плюнуть? Плюнуть и позабыть. Меня презирать, быть может, и должно, но нельзя же просто отбросить как ненужную ветошь. Впрочем, я не у кого-то о милости прошу, я себя спрашиваю, у себя и прошу — к самому себе о милости взываю.
Я всю оную глубокую философию на мелком месте к чему развёл? Это то, что меня изнутри жжёт. Жжёт, потому что и выхода не имеет и не будет иметь никогда. Так я думал.
Никогда! С глубочайшим отчаянием вникал тогда в лютый для меня смысл этого никогда. Всё, что во мне,— оно, казалось, только внутрь меня расти может — пока не задушит.
Всё вспоминал, как на суде шеф мой, покойник, повернулся ко мне и с тоской такой выдавил: “Андрюша! Что же вы над собой совершили? Ведь вы же выдающимся учёным должны были стать. И больше того...”— и голос задрожал. А меня придавило тогда такое безысходное отчаяние — невподъём,— что я сам его принял лишь за безразличие ко всему.
А потом — то ли рассосалось за десять лет, то ли так срослось с плотью, что уж стал и не замечать той тяжести. Может, и впрямь ко всему равнодушен стал. Насовсем.
Или это осознание абсурдности не просто моего, но бытия вообще?
А так всё ясно мне теперь: не мог своей гордыни побороть. И не хотел того. Она же меня в уныние и ввергала.
В унынии таком человек Самому Богу проклятия посылает: зачем сделал меня таким и в мир кинул! Нет ничего тяжелее, потому что выхода не видишь. Один выход — петля.
И вижу я теперь ясно: всё во мне от безверия тогда кипело, а больше и ни от чего.
Я не понимал: я упёрся в законы падшего мира и им себя во власть отдал. Требовалось же только одно: сознать их неистинность. Но это сказать просто — а поди-ка, сознай!
II
Мы его все звали: Рост. А если полностью, то он — Ростислав Аркадиевич. Баранников.
На три года он меня старше. Я студентом — он уже в аспирантуре. Когда я в аспирантуру пришёл, он кандидатскую домучивал. А шеф у нас один был.
Шеф наш, Михаил Матвеевич Петельский, академик, директор Института. Я потом часто пытался догадаться: а не это ли счастливое обстоятельство меня и сгубило? Парадоксально, но что-то в этой мысли меня не отпускало.
Росту же положение шефа основою карьеры стало. Шеф, пока я сидел, помре, и Рост на его месте оказался. В академики выбился, из самых молодых, лауреатство огрёб. Депутатом стал, хотя и невысокого на первых порах ранга.
По телевизору его показывали. Смотрел я на него и думал: до чего же благопристоен! Симпатичен. Женщины таких обожать должны — так и было всегда. И моложав оставался, для своих лет просто юношей казался. На Есенина похож. В студенческом театре он даже и играл однажды Есенина. Думаю, многие из тех, кто на экран тогда, как и я, смотрели,— многие бабы готовы были, хоть и понимая ясно, что вздор всё, что даже и мысленно вздор и неосуществимо, что и одного шанса из миллиона нет,— а всё же хоть и вздор, но на миг да готовность ощутили всё отдать, чтобы только... И что за чепуха порою в голову лезет! Кто их там знает, что кому в ум взбредёт. Я же смотрел и думал: до чего же благопристоен!
Когда-то он мне завидовал. От того вся моя жизнь наперекосяк. Может, и потом, после всего, в глубине души зависть ту не изжил? Вряд ли. Чему тут... Наверно, старался не вспоминать даже. Я растоптан. Я — падаль, грязь и гнусь. А он! Директор. Лауреат. Академик. Сволочь.
Неужели же хоть на самом донушке своей подлой душонки не должен он был сознавать, что падаль-то — он и есть? Кто его знает. Но все мы мастаки — гнать от себя всё, что совесть нашу хоть чуть царапнуть может.
“Вошёл в Институт подобно метеору, коллегам казалось: щёлкает проблемы как орехи”. Так о нём в передаче той говорилось. Помню я те орехи. Из горла у меня выцарапал — не побрезговал.
“Меня унижает незнание”,— прямо мне в глаза с экрана сказанул. Экий забавник. Сам-то будто только до последних пределов знания стремился добраться. А ведь он, пожалуй, так искренне и считает — чуть ли не всегда себя в том уверял, обманывал. И обманул-таки.
“Химию мы ставим на расшифровку тайн живого”. Только последний кретин подобное мог ляпнуть.
Я думаю — да почти наверняка знаю: когда он один остаётся, он порою все свои регалии, дипломы там всякие, грамоты, бляхи нагрудные и прочее что есть — выкладывает перед собою и любуется. Разложит и кайф ловит. Как скупец над своим золотом. Это в его характере. Уверен.
А что я перед ним? Клеймёный каторжник. Шлёпнулся и не подымусь.
Странно: от какой ерунды судьбы человеческие зависят. Когда-то он мне говорил, что случайно он в химики попал. Поначалу в артисты намеревался. В самодеятельности много играл, и хвалили как будто. Артистический-то талант у него — это точно: есть. Много раз я в том убеждался. Да вот хоть по телевизору — сразу видно. Так и шёл бы себе в актёры! Глядишь, уже заслуженным-народным каким сделался бы. Открытки бы в киосках продавались. От девиц письма бы влюблённые получал.
Хотя: девицы от него и так без ума. Много их у него. Целый штат. Мне уже всё про него передали. Коллеги бывшие. Гарем, мол, учинил. Иные из наложниц — даже и бескорыстно. Хотя и покорыстоваться от него не грех. Щедрый он, и мог всегда много. Однажды встретил, к примеру, девочку-провинциалочку... а через месяц она уже с пропиской и квартирой однокомнатной в столице обосновалась. Так-то! Знай наших.
“Для меня учёный важен прежде всего как человек”,— сказал, а у самого глаза такие честные-честные. И по-доброму так с экрана откровенничает: “Если человек мне раз солгал, он для меня кончен, не существует”. Вот этому я верю: чтоб ему врали — он не потерпит.
III
………………………………..
Ужас, ужас, лютый ужас...
Как будто я посреди огромного пустого поля. И как будто вокруг — я это знаю — много таких же испуганных, растерянных и жалких людей, как и я сам, но в то же время — я вижу это — вокруг никого нет, я один в этом необъятном безграничном поле. Всё поле неровное, в ямках и буграх, кое-где покрытых сухою затоптанной травою, и мне нужно бежать куда-то, но от ужаса я не знаю куда и бегу со всеми, хотя и не вижу никого, но всё-таки вслед за другими бегу к виднеющемуся где-то на горизонте коробчатому городу, в котором есть как будто какой-то очень близкий и родной мне человек. Горизонт темно синий, почти чёрный, и в яркой тьме его вспыхивают ослепительные беззвучные взрывы. Но небо чисто и как будто это день. Нет, сумерки, солнце куда-то делось, но всё же светло, очень светло.
И ясно виден почти над головой, очень чётко виден, даже с заклёпками на брюхе, виден огромный, почти неподвижно висящий — в том-то и ужас ещё, что висит, а вовсе не летит со скоростью — висящий почти над головою, с широкими крыльями, так что похож больше на гигантского воздушного змея, грохочущий, чёрный — аэроплан. Не самолёт, а именно аэроплан — почему-то именно это я хорошо знаю. И все — и я тоже — понимают, что он несёт смерть и что не скрыться от неё никуда, но всё-таки все бегут, бегут куда-то, и я бегу вместе со всеми, с трудом отрывая ноги от земли, и, одинокий в этом поле, одинокий на всём белом свете, не знаю, где искать спасения. И только маленькая, очень крохотная надежда, что может быть, это всё-таки не конец, что всё-таки обманчива эта тягостная безысходность...
Потом вдруг вокруг не поле, а бегу я по длинной пустой улице какого-то города, и дома все из красного кирпича, а окна и двери распахнуты, и опять никого рядом, но чувствую я, что плотно окружён народом, и все бегут уже в какое-то убежище, где можно спастись. И все знают, что убежище ненадёжно и что спасения не будет. И какие-то самолёты, теперь уже самолёты, плавно, но с диким грохотом летят — летят, а не висят — над городом, а вдали — всем видно — гремят взрывы... и ужас, лютый ужас...
Я проснулся. Ужас ледяной глыбой давил изнутри. Назойливо болело сердце. Боль была не очень сильная, ноющая. Она как будто начала оттаивать понемногу, уменьшаясь, но это не приносило облегчения, а лишь больше раздражало, не давая успокоиться.
Я взглянул на часы: уже за полдень. Спал я теперь мучительно долго, до полной одури. И то: спешить некуда.
Я работал на вечерних подготовительных курсах при некоем средней руки институте — и сюда еле взяли: по протекции. Руководитель же курсов, когда меня к нему привели, морщился и всем видом выражал сомнение в моей доброкачественности, хотя прежде уже позволил уломать себя, согласившись меня взять. Пришлось и это вытерпеть. Я уже ко многому притерпелся.
Теперь вот вдалбливал всякого рода балбесам и шалопаям то, чего они не удосужились осилить в школе, да и ныне не особенно утруждали себя, надеясь на какую-то чудодейственность самого посещения наших занятий. Пусть себе — мне-то что.
Я знал: эти курсы — мой потолок на всю оставшуюся жизнь. Лет двадцать у меня ещё впереди сего занудного существования. Приятели советовали мне бороться, опять идти в науку. Нет у меня для того — не знаю: внутренней энергии что ли. Да и кем идти? Степень у меня отобрали — так наравне что ли со вчерашними студентами? Да и Роста же на кривой не объедешь, у него везде схвачено. А на поклон к нему... Было бы ради чего — и тут бы себя не переломил.
Меня только одно в недоумение вводило: степень-то мне не за добродетели же давали — так за что же назад взяли? Рост вон скоро академиком станет — добродетелен что ли чересчур? Или: с другой стороны взглянуть: если бы, допустим, Ньютон преступление какое совершил, убил даже — его законы за то другому бы кому передали? Галилею какому-нибудь за примерное поведение. Нет, законы всё равно ньютоновскими бы остались, как ты там ни мудри. Но: тут уж никому ничего не докажешь. Отобрали — и дело с концом. Курсы так курсы.
Поэтому хоть и за полдень перевалило, когда я пробудился, а для меня рано, и до вечера ещё долго тянуть. И в больнице неприёмный день — к маме тоже не идти. Как тут она без меня была, больная такая? Меня ведь и в Москве только из-за неё прописали. Ради болезни её. Не было бы, как говорится, счастья...
А сердце всё болит. Чего только не приснится! И как бы вытряхнуть всё это из себя? Не знаю. Да и вставать не хочется. И лежать не хочется. И ничего не хочется.
Но даже когда встал, когда из дому вышел — всё какой-то остаточный страх во мне сидел. И вообще уже давно почти постоянно находился я в непонятном тревожном состоянии, так что даже и свыкаться с ним стал. А ведь я же в сущности ничего не боюсь. Страшнее же смерти ведь ничего и не придумаешь, и наяву-то она вовсе не ужасает так, как порою во сне. Она даже любопытна для меня: а что там? Спорим, утверждаем что-то, но ни черта не знаем. Химия химией... Может, именно в момент смерти-то и раскроется величайшая тайна.
А всё ж таки боязно. Всякая ведь перемена невольно волноваться заставляет.
Когда я вышел на улицу, от недавнего снега и следа не осталось. Так кое-где у самых стен домов на земле грязнели остатки, да и то не давешнего, а зимнего ещё снега. Асфальт же везде был чист и местами даже сух. Долгая прежняя пасмурность сменилась прозрачною чистотою воздуха.
Я любил перед лекциями своими пораньше выходить и часть хотя бы дороги пешком одолеть. До метро у меня пять остановок, и потом от метро до курсов минут пятнадцать-двадцать — в хорошую погоду чего ж не пройтись.
После яркого тёплого весеннего дня небо ещё блестит, но прозелень в его голубизне уже переходит в тёмно-лиловые, а затем всё более синеющие тона, холоднеет в воздухе, холоднеет на душе. Становится грустно, как будто чего-то жаль, что-то не сбылось.
Именно в такие вечерние минуты по ранней весне мне всегда хотелось какого-то особенного счастья. Даже в самые суетные времена. А теперь? И теперь вдруг воспрянет порою что-то... да вздор, знаю, что вздор... Так вспыхивает вдруг уже погасший, кажется, уголёк в прогоревшей печи — но лишь на миг, и тут же гаснет — уже навсегда. Навсегда. Так и во мне — потухает всё.
IV
А всё-таки: это рваное неуютное пространство, по которому приходится мне брести,— оно как-то нехорошо действует. По нему ветрам удобно гулять, а они из души остатки последнего тепла выдувают.
Знаю я, как эта “свободная планировка” делается. У меня приятель есть, архитектор. Они там у себя в кубики играют, на макетах домики расставляют: то так, то этак. Сверху даже красиво порой получается. А в масштабе тех кубиков человечек малюсенькой малявочкой, вошкой-блошкой, не видной почти, будет. И не нужна она никому, козявка. И теперь вот я, та вошка, иду между их кубиками — и тоска берёт. Хоть бы и подсознательно, а не могу не почувствовать, что меня тут за бессмысленную блоху давно посчитали, да и забыли тут же.
Может, это тоже людям злобы добавляет? Злые какие-то многие стали. Я по контрасту между до и после того особенно ощутил.
Вот, например, уже к метро подхожу, а там у нас магазин большой, и стоит у витрины мальчик лет семи и что-то отцу своему, руками размахивая, показывает и громко-громко почти кричит от избытка эмоций — у детей так часто бывает. А отец мордатый повернулся к нему и с такой злобой, что, кажется, ею захлебнётся сейчас, из горла цедить начал: чтэ ты оррешь, ну чтэ ты оррешь!— и как будто дай ему сейчас волю — тут же бы и удавил мальчишку всласть. Детей что ли своих ненавидеть стали?
Но злее нашей диспетчерши на курсах я, пожалуй, и на зоне не встречал.
Помню, как взглянул я на неё в первый раз, сразу подумал: её непременно должны Людмилой звать. Я каждое имя как-то по-особому воспринимаю — иное чуть ли не зримо, иное как будто наощупь. Это трудно растолковать. Для каждого имени у меня свой образ есть, хотя в жизни они, признаться, вовсе и не совпадают почти. Имя же Людмила у меня почему-то ассоциируется с маленьким покатым веснущатым лбом, от которого волосы гладко назад утянуты — так вот у этой, у диспетчерши нашей, у неё именно такой лобик и есть. И что же? Точно: она Людмилой и оказалась. И вообще эти два эль, да ещё с мягким эм дают в сочетании нечто жирное, лоснящееся и скользкое. Людмила же наша — поперёк себя толще. И вся жиром сочится.
От неё постоянно расходились волнами вполне ощутимые эманации злобности. А с чего бы ей, здраво поразмыслить если, злиться? Всех делов-то у неё — следить, чтобы мы правильно в журнале прихода-ухода расписывались.
Опять-таки: злоба её была бескорыстна совершенно (а и у злобы своя злобная корысть должна же быть). То есть: Людмила не могла ни навредить нам ничем, ни даже настроение по-настоящему испортить — может, оттого ещё больше и злилась. Хотя нет: доносы по-маленькому на всех писала. Опоздает кто или уйдёт слишком рано когда.
К концу сезона, весною, даже самые тугодумные слушатели курсов начинали соображать, что польза от наших занятий весьма невелика,— и от всего большого набора оставались единицы, те инертные натуры, что не способны на волевое изменение прежде заданного им направления: как начали таскаться с осени, так и будут до конца, пока всё само собою не прекратится. Преподаватели наши, большинство из которых просто подхалтуривали помимо основной работы, и всегда-то не отличались особым рвением, а тут и подавно норовили закончить занятия поскорее и сбежать домой гораздо ранее положенного часа. Когда такое происходило в дежурство Людмилы, она почти всякий раз катала докладную заведующему курсов флегматичному Юрию Петровичу, но тот малое внимание обращал на всю эту писанину, лишь дружески советуя всем в людмилины дни вести себя осторожнее. Курсы наши платные, деньги вносились перед началом занятий в сентябре — и для Юрия Петровича, я догадываюсь, в том и состоял основной смысл существования нашей конторы. Я подозревал опять-таки, что он отнюдь бы не возражал, если бы, заплатив что следует, курсанты наши и вообще бы сразу перестали являться на занятия и тем освободили бы всех от никому не нужной суеты и бестолочи. Однако на этакий поступок ни у кого не хватало, очевидно, ни воображения, ни смелости, и юные недоросли ещё долго слонялись вечерами по длинным коридорам института, к коему были приписаны наши курсы.
Лишь один я — не мог слишком уж явно демонстрировать своё халатное отношение к работе: меня и устроили-то с большим трудом, и рисковать мне было не с руки. Время было тупое, самый загустевший “застой”, ещё Брежнев был жив, бюрократические строгости процветали. Стоило Людмиле направить свои реляции повыше Юрия Петровича — и в приказе по курсам меня тут же назначили бы козлом отпущения. Расписывался в журнале диспетчера я всегда только после звонка.
Но грех было бы утверждать, будто я перенапрягался на занятиях. Они вообще являлись для меня сторонним делом. Мне самому представлялось это так: вот я запускаю соответствующий текст по нужной теме, что-то говорю, пишу на доске, но всё это идёт помимо меня, потому что сам я бреду где-то в стороне, сопровождая фразу за фразой от начала до конца, иногда обгоняю их и жду затем в каком-то особо приметном месте, пока и они добредут до него, и не всегда сразу пускаюсь за ними, а остаюсь на месте, следя, как они удаляются от меня, а затем не спеша догоняю, и мы вместе благополучно добредаем до завершения. Хуже всего, если на середине пути меня перебивали вопросом. Тогда я терял ориентацию и не сразу мог угадать, до какого места добрался мой рассказ, и тогда приходилось продолжать путь оттуда, где я мысленно находился сам — вынужденный теперь или повторять уже сказанное, или перескочить через то, чего ещё не успел сказать,— чем вызывал недоумение у моих простодушных слушателей. Заканчивая занятия, как и прочие мои коллеги, всегда ранее положенного и отпуская курсантов задолго до звонка, сам я оставался в пустой аудитории и бессмысленно ходил — от стены к стене, от стены к стене: ни сидеть, ни тем более читать что-то в это время я почему-то был не в состоянии.
Я являлся пред грозные очи Людмилы всегда вовремя — и своим явлением вызывал в ней, кажется, тихое бешенство. Она вообще меня терпела с трудом: слухи о моём прошлом — куда от того денешься! — просочились и в наш здоровый коллектив, породив у всех несколько нездоровое ко мне любопытство (впрочем, я их понимал), у Людмилы же — клокочущую ярость. К тому же моя пунктуальность в конце рабочего дня и её вынуждала терять время, поджидая меня, тогда как все давно уже находились на пути к дому — а час и без того поздний.
Как порою всё бывает понятно без слов. Людмила и вообще-то со мной не разговаривала — ну, два-три слова по службе; но манеры, взгляд, жесты, поза, интонация — при полной внешней сдержанности и даже скупости выражения — всё в ней говорило мне о том неизъяснимом наслаждении, с каким она растерзала бы меня собственными руками, будь на то её воля. Думаю, в стародавние времена из неё вышла бы образцовая Салтычиха, а то и похлеще.
Что там ни говори, но это выводило меня из равновесия, и от одного вида Людмилы у меня снова заныло сердце, лишь только я вошёл в преподавательскую. Как будто снова что-то напомнило мне о том кошмаре, привидевшемся мне во сне.
V
Существовал ещё один преподаватель на курсах, из математиков, кого Людмила ненавидела столь же страстно. Звали его Саша Назаров, и был он человеком необоримого обаяния. Есть такие люди, на которых даже просто смотреть — и то приятно; общаясь же с такими людьми, начинаешь испытывать снисходящее на тебя душевное успокоение, переходящее скоро в тихое светлое чувство. Его открытое лицо нельзя было бы назвать особенно красивым — просто привлекательным, но столь поразительно ясный и одновременно строгий взгляд я встречал только на некоторых древних иконах. У него была очень мягкая манера держать себя, говорил он всегда негромко и порою с какими-то... я бы определил так: с сострадательными интонациями. И ещё в его речи я нередко замечал: то он вдруг замолкает как будто в ожидании совета или разъяснения, хотя ни того ни другого совершенно не требуется, то вроде бы принимается извиняться, хотя и вовсе нет причины просить у кого бы то ни было прощения.
Я сразу заметил его, когда только начал работать. Все прочие тщились выказать мне свою особую деликатность касательно моего прошлого, но проявлялось это как-то нарочито и оттого неестественно — уж лучше бы они оставили свои фальшивые потуги. А Назарову, кажется, ненарочитость была органически присуща. Вот странно: вроде бы у всех в поведении всё так же, как у него, а и не так. Трудно это объяснить. Просто у него была простота — проще не скажешь.
Привлёк он к себе моё внимание и в одном споре.
Перед занятиями у нас обычно преподаватели предавались пустопорожней болтовне, даже и после звонка все некоторое время сидели как ни в чём ни бывало, к слушателям своим не рвались, а языки чесали: некуда торопиться-то. Мне, по правде, скучна была вся та трепология, но в тот раз я заинтересовался. Спорили, как я понял, о модной книжке “Жизнь после жизни” — я о ней ещё в дотогошней жизни слышал. Вошёл я как раз в разгар дискуссии. Говорил Назаров, как всегда мягко, негромко:
— Но ведь здесь логическая ошибка.
— Почему это? почему это?— возмущался кто-то (уже не помню).
— Так факт смерти не доказан же, значит нельзя и утверждать, что именно это — после смерти.
— Как же не доказан?!
— Тут лишь возможное предположение. Правомерно и иное: было лишь состояние, похожее на смерть, но раз люди всё же возвращались к жизни, то скорее всего они и не умирали. Следовательно, нельзя судить по их рассказам о том, что ждёт человека после истинной смерти.
— Что значит: не умирали!
— Значит, не переступали той черты, которая отделяет мир трансцедентальный от трансцендентного (“эк запустил!”— подумал я), то есть той черты, которая и зовётся смертью. Может, они были у самой грани, сколь угодно близко, но всё же с этой стороны, а не с той.
— Так врачами же было установлено.
— Медицинские критерии смерти, кажется, ещё не вполне совершенны. Проделывают же йоги такой трюк: и сердце останавливается, и дыхание, на неделю даже в могилу зарывали, потом откопают, он встаёт и уходит. А по всем признакам мёртвый был.
— Но тут же не йоги.
— Дело не в них. Я говорю о том, что критерии сомнительны. Потому нельзя и утверждать, что описанные ощущения суть ощущения по ту сторону смертного мгновения.
— A почему же тогда ощущения так сходны у всех?
— Одна и та же болезнь имеет сходные симптомы у разных больных. Если простудиться, то горло красное, глотать больно и температура. Так и тут.
— Ты, значит, не веришь?
— Было бы это делом веры, я бы и не возражал. Но книга претендует на научность. Раз так, необходимы логически безупречные доказательства. Их нет. Есть лишь вероятностные допущения.
— Ты хочешь сказать, что того света нет?
— Я хочу сказать, что в данной книге бесспорных доказательств его существования не даётся.
— А если так рассуждать: пусть не совсем научно, но всё же доказывается то, что объективно (допустим) существует.
— Когда тебе на экзамене кто-то станет доказывать теорему Пифагора, но неправильно, ты же ему два поставишь, хотя в самой теореме не сомневаешься.
“Вот уж и впрямь математический ум,— подумал я.— А всё же не более чем логистика”.
Так хотелось бы верить во что-то, а он вот сухо и рационально разрушил все иллюзии. Пусть они и иллюзии, но хоть что-то...
Такая его сухость неприятно удивила меня тогда.
Но прозвенел звонок и мы с Назаровым первыми пошли в классы. Этим он тоже отличался от прочих: не волынил и никогда не заканчивал занятий раньше времени. Нередко поэтому мы сталкивались с ним в дверях преподавательской, приходя отмечать окончание своей трудовой деятельности.
Как позднее оказалось, мы и жили неподалёку, так что могли бы и возвращаться вместе. Но он не навязывал мне своего знакомства, а я сторонился людей, стараясь при любой возможности спрятаться в своё одиночество. Знакомства тяготили меня; так и прежде было, теперь же тем более. Я нарочно всегда медлил, канителился, чтобы дать ему уйти раньше меня.
И вот теперь, когда я сквозь изливающийся на меня поток диспетчерской неприязни подходил к столу, чтобы расписаться в журнале, как раз Назаров погасил моё возраставшее раздражение, питаемое этой неприязнью,— просто успокоил тем, что я ощутил его искреннее ко мне доброжелательство. Я потом весь вечер думал: почему он вдруг сумел утишить моё внутреннее беспокойство, и чем? Не знаю, не могу объяснить. Он просто подошёл ко мне и спросил: нужна ли мне ещё та программа курсовых занятий, о которой я спрашивал у нашего методиста. Однако вряд ли такой пустяк мог слишком подействовать на меня.
Я действительно искал эту программу, по которой мы должны были сверять наши лекции. Та, что дали мне, куда-то запропастилась, но оказалось, что и остальные давно потеряли её, не имея в ней, в сущности, никакой нужды и ведя занятия как заблагорассудится. Оказалось, что и методист наш тоже свою куда-то задевал,— экая всеобщая расхлябанность. Я же опасался (пуганый же) слишком откровенно халтурить, хотел хоть внешнюю видимость соблюсти.
— Я узнал, что вы ищете,— сказал Назаров, подойдя ко мне,— у меня есть дома, если нужно, я принесу. Вы завтра будете?
— Завтра как раз нет. В четверг у меня теперь.
— Хорошо, в четверг.
И мы разошлись.
Но признаюсь, что одновременно он и сам чем-то начал раздражать меня. “Экий педант,— подумалось мне,— такой, пожалуй, никогда ни в чём маху не даст, что за занудство!” Мне почему-то приятно было считать его сухим педантом, рационалистом, рассудочным занудою.
И надо же было странному случаю: на следующий день я столкнулся с Назаровым во время моего бесцельного блуждания по улицам. Впрочем, опять-таки: был у меня, в лагерной моей жизни, один приятель, который исповедовал убеждение, что в жизни нет ничего случайного, и даже чем неправдоподобнее выглядит какой-то выпавший случай, тем он закономернее по сути своей. Чем невероятнее сцепление обстоятельств, тем оно неслучайнее. Парадоксально, но...
Теперь я знаю: это Промысл. Он ведёт нас в слепоте нашей, а нам важно сознать такое водительство. Сознаем — и станем свободны. Но тогда я был ещё слеп и видел лишь пустую забаву в рассуждениях о подобных ‘‘парадоксах”.
День выдался яркий, слепящий, из тех весенних дней, когда солнце уже жарко греет, но от тени ещё тянет сырым холодом. Обычно я сплю днём долго, потому что ложусь всегда поздно, порою под самое утро — долго перед тем сижу и читаю. (Пристрастился я к литературе. Перечитал уже, наверно, больше, чем за всю дотогошнюю жизнь. Не знаю только: поумнел или поглупел от того. Но главное: так хочется порою простого общения, люди же нынешние в большинстве куда как скучны. Побеседовать же со Львом Николаевичем так иногда приятно. В ночной тиши.) А тут я рано встал: уж очень яркий день за окном. Днём же основным моим занятием стало хождение по улицам, при хорошей погоде когда. Мне всё казалось, будто во время таких хождений я медленно — оттаивал что ли?— от той жизни.
И вдруг вижу: идёт мне навстречу Саша Назаров и несёт маленький тортик, рублёвенький, ширпотребовский. Встретил я его где почти не гулял никогда — у меня ведь всё свои нахоженные тропы, и отклоняться от них я не люблю: я вообще болен своего рода стереотипностью привычек. Тут же как совпало: и вышел в неурочное время, и пошёл не туда. И встретил кого не ожидал.
— Вы тут живёте разве?— спросил он.
— Вон там,— махнул я рукой.
— А я вот,— он показал.— Может, зайдёте, я вам программу обещал.
— Слушай, — я был лет на десять старше и позволил себе некоторую бесцеремонную небрежность, да и вообще привык я за последние десять лет к некоторой вольности обращения,— ты и в самом деле об этой ерунде не забыл ещё?— вопрос, разумеется, глупый.
— Я же обещал.
Всё больше он становился мне любопытен, этот негромкий человек — я так определил его для себя: негромкий: может быть, потому, что говорил он по большей части тихо. Хотя заглушить его не смог даже проревевший мимо самосвал.
На открываемую дверь в тесную прихожую выбежали двое детей, мальчик лет восьми-девяти и девочка шестилетняя. Они бурно радовались нашему приходу — и моему ведь тоже, вот что меня удивило. И искренне радовались — у детей, по малолетству их, всё неподдельное. Я думал взять программу и уйти, но мальчик начал меня упрашивать, чтобы я остался.
— Оставайтесь,— сказал Назаров,— я сейчас чай поставлю. Если, конечно, не спешите никуда.
Я не спешил и, раздевшись, вошёл вслед за всеми в комнату (квартира была однокомнатной).
— Ну и что?— спросил Саша детей.— Как вы тут? Маша не капризничала?
— Капризничала,— охотно согласилась Маша.
— И зачем же это тебе понадобилось?— ласково, но не без иронии поинтересовался отец.
— Это не мне понадобилось. Просто во мне что-то случается, что мне хочется капризничать,— она помолчала немного, как будто к чему-то прислушиваясь, и добавила:— Вот и сейчас опять случилось.
“Тонкое психологическое самонаблюдение”,— подумал я.
— Хоть и случилось, а ты всё-таки не капризничай,— Саша погладил её по голове.— Ладно?
Маша согласно кивнула.
Я осмотрелся. В переднем углу комнаты висела средних размеров икона в окладе — и мне сразу стало ясно, что висит она здесь не так, как висят нынче иконы у блюдущих моду снобов.
— Ты что, верующий?— спросил я с обычной своей бесцеремонностью.
— Я хотел бы быть верующим,— серьёзно ответил он.
Мне стало неловко. Продолжать разговор в прежнем тоне, я чувствовал, было бы нехорошо, грубо. Но как говорить о подобных вещах серьёзно, я не понимал.
— Подождите, мы сейчас чай соберём,— может быть, также желая оборвать разговор, сказал хозяин и вышел на кухню.
Я огляделся более свободно. Видно было, что живущие тут не то чтобы особенно бедствуют, но и не роскошествуют слишком. Что-то жалкое показалось мне во всей обстановке, в одежде детей, в том даже, как не совсем умело, через край, были во многих местах зашиты колготки у девочки. И в тортике принесённом, которому так обрадовались ребятишки, и в нём увиделось мне нечто незавидное в сашином бытии: пожалуй, и такой, дешёвенький и простой, они не часто себе позволяют. Обычно дети у моих знакомых зажравшиеся: тортами-пирожными их не удивишь.
А когда чай пили, мальчик, звали его Севой, сам отрезал мне кусок побольше, и ясно было, что он верил: для меня этот торт такая же радость, как и для него,— и что ему очень приятно, что он может мне такую радость доставить. И оттого, как он делал всё от чистого сердца, я понял вдруг по истине — хоть и повод-то был слишком ничтожен — я понял, какое это сокровище, чистое детское сердце. И чуть не прослезился. Ужасно я сентиментален бываю порою, если признаться.
И всё же я настолько мало знал Сашу Назарова — точнее бы сказать: вовсе не знал, — что испытывал естественную внутреннюю скованность, так как чувствовал, что вроде бы и надо о чём-то говорить, но о чём именно, понятия не имел — ситуация заурядная. Не о вере же спорить. И даже не в том дело, что тема для меня совершенно чуждая, но к тому же она слишком интимна для общения со случайными людьми — и тут важнее было, что не он для меня, а я ему совершенно посторонним прихожусь.
Я вдруг вспомнил про Людмилу и даже обрадовался: всегда приятно, когда есть человек, в неприязни к которому можно найти сочувствие у собеседника.
— Ну что вы,— возразил неожиданно Саша на нелестные замечания о нашей диспетчерше,— её скорее пожалеть надо, она же несчастный человек.
— Её удавить мало, не то что жалеть. Чем же она несчастна?
— Да разве не несчастье — столько злобы в себе постоянно носить? Вдуматься: сущий же ад в душе.
— И чёрт с ней,— не согласился я.— Важнее, что она другим жизни не даёт. А как сама — её печаль. Ну вот хотя бы: тебе ведь тоже хочется, верно, пораньше сбежать, но признайся: боишься. Она же тебя на дух не переносит, невооружённым глазом видно. Тут же и настучит.
— Я не боюсь,— заметил он.— Я и у других дежурных так: до конца всегда.
— Добровольно?
— Надо же честно. Взялся — работай.
Опять та же логистика. Какая-то поразительная узость, неспособность что ли переступить через устоявшиеся условности.
— Была бы хоть польза,— сказал я раздражённо.
— Они пришли за помощью. И надо помогать, сколько в наших силах.
— А я сомневаюсь, что они вообще достойны какой-то помощи, эти лоботрясы. Кто действительно хочет учиться, тот и без меня до всего дойдёт. Мы в своё время без репетиторов и без курсов обходились.
— Если считаете дело бессмысленным, зачем было браться?
Все свои прописные истины он произносил каким-то наивно-извиняющимся тоном, так что и сердиться было трудно. Но и кроткий голос его чем-то раздражал меня.
— А я не для них, я для себя работаю,— пробурчал я.
— Мало ли других занятий, где больше смысла можно отыскать...
— Дело даже не в смысле,— не хотел я сдаваться.— Ты что, и впрямь веришь, будто можешь им помочь?
— Это же зависит от того, насколько добросовестно я стану работать.
Опять пятью пять...
— А по-моему, так от нас вообще ничего не зависит.
Я был уже просто зол. Слишком важна была для меня эта тема, чтобы чесать об неё язык свой с незнакомым человеком, и — как всегда со мною бывает — во мне росла неприязнь к тому, кто не понимал истин, для меня бесспорных и непреложных.
— Ничего от нас не зависит,— повторил я то, что я слишком хорошо усвоил за почти сорок лет своей жизни.
— От нас зависит очень много,— возразил Саша с явно ощутимой внутренней убеждённостью.— То есть от нас самое главное зависит: что мы соберём в своей душе и с чем придём к нашему смертному часу. А для этого важно быть всегда честным.
Вот и поди с такими! Ты им о деле, а они...
Не понимал я: мы на разных языках говорим…
— Не хватало ещё о смертном часе думать,— с затаённой злобою усмехнулся я.
— А вы надеетесь избежать его?
— Я, быть может, хочу, чтобы он скорее пришёл.
Он смотрел на меня кротко и с состраданием — и это особенно бесило меня.
Именно: бесило.
Я поспешил закончить своё дурацкое чаепитие и откланялся.
И вообще невыносима для меня оказалась вся та обстановка тихого уюта, непонятного и недосягаемого для меня счастья. Счастья — вот что я ясно почувствовал там.
По дороге домой зашёл я в кондитерскую и купил преогромный тортище. Принёс домой и начал жрать. Как будто мстил кому-то за что-то. Жру я его, и так он мне противен — потом вырвало даже,— а всё-таки жру, жру и злобствую на весь мир. И такое отчаяние во мне — ни сказать ни описать. Половину сожрал, половину выкинул. Прямо в окошко на улицу. Дворник, наверно, клял меня потом на чём свет стоит.
VI
Там — я по инерции жил. По привычке продолжал жить и теперь. Я всё больше превращался в угрюмого мизантропа — но разве десять лет несвободы по слепой воле посторонних людей могли дать иной результат? Но главное даже не это.
Я в который раз возвращался к мысли, что не зная истинной цели бытия, мы тем самым заставляем ощущать себя свою же неполноценность, но тщимся выказать при том и собственную значительность. А можно ли сделать сие иным способом, кроме хотя бы мысленного унижения ближних своих перед своим же эго ? Психологическое самоутверждение... Но что же это как не мизантропия, или по крайней мере — исходное условие для её возникновения?
А я и вообще во всей жизни не видел того стержня, который бы придал ей устойчивость — я про весь окружающий мир говорю. Может быть, я слеп? Может быть. Как-никак, а за десять лет взирания на этот мир через окна в железную клеточку и через колючку отвыкнешь видеть в нём многое.
Помню, в самом конце следствия снизошло на меня игривое настроение и решил я со следователем своим в прения вступить.
— Простите,— сказал я ему,— за мою назойливость, за моё любопытство, но мы с вами так долго общаемся, что я к вам отношусь даже отчасти дружески, хотя вы сделали всё, чтобы упечь меня надолго.
— Я выполняю лишь свой долг.
— Разумеется, разумеется. Только долг. Я не сомневаюсь в том.
— Ещё бы вам сомневаться.
“Нет, он всё ж таки туповат”,— подумал я, заколебавшись, стоит ли вести разговор дальше. Во мне разочарование возникло, мгновенная апатия и нежелание говорить, даже отвращение к моему оппоненту и к себе заодно. Но я себя пересилил. И любопытство верх брало, и — что скрывать?— какое-то желание расположить его в свою пользу, надежда — может, и глупая надежда, бессмысленная надежда, и я понимал это (но не глупа ли отчасти и всякая-то надежда? однако человек теряет разум, когда надеется), но всё же хотел верить, что из невольного расположения ко мне он всё-таки смягчит мою участь, ну, что-нибудь там в своих протоколах напишет, что мне ко благу обернётся — и хоть малость самую, но скостят со срока на суде. Вот подлая натура: я своей прямотой как бы втайне от себя — но какая же тайна: я же всё понимал это — втайне от себя пытался к нему подладиться, откровенностью подольститься. И в то же время понимал, что прямота, нежелание хотя бы чуть-чуть покривить — больше мне во вред пойдут. И вот этим, этим-то и думал его взять: ибо он не мог не понять, что я же сознаю вред для себя своей прямоты, а не отступаю от неё. Я его благородством своим взять хотел, и на его ответное рассчитывал. И в то же время мне и впрямь противно было бы кривить и подличать, и изображать раскаяние, когда у меня его ни на грош не было и нет.
— Пётр Сергеич,— начал я, превозмогая зародившееся раздражение против его тупости, которая, как мне виделось, так явственно проступала во всем его поведении, но я несмотря ни на что не мог уже остановиться,— Пётр Сергеич, скажите откровенно, какова ваша цель. Нет, не обязанности служебные, а ваш внутренний долг. Зачем вы хотите меня утопить?
— Всякий преступник должен быть наказан.
— Разумеется. Но цель-то какова? Раскаяние? Я не раскаиваюсь. Да и не зависит это ни от вас, ни от суда — раскаяние моё. Если я раскаиваюсь, то лишь в неосторожности.
— Подобные заявления вам повредят.
— Допустим,— меня уже понесло.— Но я же не могу оскорбить ложью своё внутреннее достоинство.
— Ишь, он ещё о достоинстве рассуждает.
— Хорошо, можете не верить. Но какова же иная причина моей правоты? Хотя оставим это. Но всё же: зачем меня судить, допустим? Нет, я так говорю не с какой-то целью, судить меня будут и срок дадут, а я с научной точки зрения. Каков смысл в сроке? Ну, покалечат сколько-то лет моей жизни, а зачем?
— Чтоб впредь неповадно было.
— Да я, честное слово, вот выпусти меня сейчас...
— Никто вас выпускать не собирается.
— Это понятно, я к примеру только. Выйди я отсюда — я бы уж за старое не взялся бы. Говорю так, повторяю, вовсе не для снисхождения, вы же это в протокол не внесёте, я так, по-человечески хочу понять.
— Мы стоим на страже закона. А закон справедлив.
— Да какая же справедливость, если Баранников отчасти мой сообщник, потому что долгое время всё знал, помогал однажды, и заложил меня только тогда, когда ему выгодно стало, а вы того не можете не знать? Я не для протокола говорю. У меня и прямых доказательств нетути.
— Так вот надо сперва доказать, а потом и говорить. А за клевету тоже ответить можно.
Нет, так он и не понял ничего. Досада во мне росла. И на себя досада — прежде всего. Видел же, с самого начала видел, кто передо мной. А вот... И зря сорвалось у меня про Роста. Думаю, до него дошло — и мне боком же и вышло.
Я у следователя своего замечал какое-то злорадство, когда он меня в чём-нибудь уличал. Именно злорадство по отношению ко мне, к моей безысходности. У правосудия — в теории хотя бы — цель: помочь преступнику встать на правильный путь. А тут — чем больше вины за мною обнаруживалось, тем у ближнего моего сильнее удовольствие душевное. И не потому, что ему лишняя улика по работе зачтётся, а просто так — по свойству натуры. Сообщая мне о показаниях чьих-нибудь против меня, он всегда приговаривал: “Что, хотелось бы, наверно, чтобы этого не было?”
VII
Четыре раза в неделю я ездил в больницу к маме. Все посещения были настолько однообразны, что слились в моём представлении в длинное тягучее целое. Я покупаю по дороге килограмма два яблок, или апельсины, если попадаются, добираюсь до больницы — не слишком далеко от дома — поднимаюсь в палату, около часа сижу у её постели. Она почти не поднимается. Видно, что болезнь надолго. Если не навсегда.
Сколько же горя ей от меня...
Глядя на высохшую семидесятилетнюю старушку, я вспоминаю, как давным-давно — десять лет тогда мне было — привиделось мне во сне, будто она умерла. И даже проснувшись, поняв, что злое наваждение обмануло меня, я не мог остановить горьких рыданий — тогда я в первый раз постиг по-настоящему: она ведь и вправду может когда-нибудь умереть — и сознавание неминуемости столь страшного события долго ещё мрачило мою жизнь, наполняло её тревогами перед непостижимой для моего сознания суровостью судьбы. Тогда я твёрдо знал: пережить своё горе я не смогу: я ведь почти умирал в том жестоком своём сне.
Когда мальчиком я жил летом в деревне, она приезжала ко мне на выходной — с вечера в субботу. Ехать было далеко, она с трудом отпрашивалась с работы пораньше, отрабатывая вечерами на неделе,— и помню, какой ликующей радостью переполнялся я, когда в закатном отсвете, а к концу лета и в смутных сумерках, издалека распознавал я на дороге родной мне силуэт. Я бежал навстречу, и истинно жалел, что не могу в этот миг полететь — туда, к ней. И какой тягучей тоской наливалось моё существо, когда наваливалось время расставания.
Мама, мама, прости меня.
Мы жили весьма бедно, на ничтожную зарплату конторской секретарши, и она тянула меня все десять лет школы, ни за что не соглашаясь, как настойчиво советовали ей сердобольные соседки и приятельницы, чтобы после седьмого класса я пошёл работать (обещали и устроить меня) и облегчил бы тем наше трудное существование. Я был глуп, жил беспечно, хотя и в материальной скудости, учение давалось мне без всякого напряжения, но моя лень непременно бы сгубила меня, когда бы не память о том, что даже мои четвёрки заставят печально склониться её седеющую голову. Она мечтала, чтобы я выбился в люди, стал бы учёным, “профессором” — в том она видела подлинный смысл не только моей, но и своей жизни.
Я же думал стать художником. Меня влекли краски. Меня преследовал свет. Я с раннего детства мог подолгу наблюдать цветовое многообразие мира, следить за неуловимыми изменениями оттенков цвета и света во всём, что окружало,— это всегда было самым захватывающим занятием для меня. Меня оглушал свет. Мои первые опыты с красками с самого начала обещали многое.
Но мама видела в художестве моём лишь пустую забаву, жизнь художника смутно представлялась ей чем-то беспутным, пугала её. Одна мысль: её сын, которому она посвятила себя всю без остатка, хочет встать на гибельный для него путь, заняться чем-то несерьёзным, что не может дать верных средств на жизнь и поэтому станет причиною всяческих невзгод,— одна мысль эта вызывала у неё слёзы, потом тяжёлые приступы гипертонии и жестокие боли в сердце. И я ясно сознавал, что переубедить её невозможно. Тем более, что все учителя согласно твердили, какой я способный к разным наукам и какое меня ожидает успешное будущее. Своими школьными успехами я сам загонял себя в тупик.
У меня прежде была счастливая натура: если я брался даже за совершенно безразличное мне дело, я быстро втягивался в него, увлекался и скоро уже начинал отдавать ему все силы. Для меня порою и посейчас так: чем занят — чуть ли не самое важное в жизни. Правда, по завершении всего моё равнодушие, а то и нелюбовь к тому делу почти неизбежно возвращались, но при постоянстве занятий ничто не тяготило меня слишком. Даже там я умудрялся проявить эту свою особенность, работал добросовестно, меня заметили, я стал даже начальником производства, и в конце срока меня без конвоя отпускали за зону, когда того требовала необходимость.
Так я свыкся когда-то и с химией, втянулся в неё — после того как решил вовсе не прикасаться ни к кисти, ни даже к карандашу: не травить душу. Мне — всё или ничего: таков уродился.
Я не мог переступить через свою мать.
Мама, я не виню тебя. Ты хотела как лучше.
Но что поделать, если всё высохло во мне, притупилось... Многое за ушедшие годы встало между нами. Я сижу у её постели — будто отбываю нудную повинность. Мы говорим о чём-то незначащем, постороннем, и я изредка украдкой поглядываю на часы: больничная обстановка меня тяготит.
Мама, прости меня.
VIII
Моя жизнь там представляется мне порою жизнью вне времени и пространства. Пространства не было — всего лишь точка, математическая несуразность и фикция. Время же, текущее в той точке, я воспринимал настолько розно со временем здесь, что оно совершенно особым образом отразилось в моём сознании: то было вневременное время, обособленное время, к которому не подходят обычные мерки, так что хотя объективно, для всех, протекло десять лет — субъективно, для меня, измерить его было просто невозможно: как невозможно же сознать время человеку, погружённому в мёртвый сон. В некотором смысле, я вернулся оттуда каким и ушёл, тридцатилетним, но в то же время я мог бы утверждать, что пробыл там многие десятилетия, и теперь взираю на окружающих меня людей подобно отрешённому от суеты умудрённому старцу, снисходящему порою до несмышлёной детской гомозни. Гомозня эта забавна мне своею бессмысленностью, но взираю-то я на неё отнюдь не с высоты собственного понимания истины. Понимания никакого и не было. Поэтому реальность порою легко совлекала меня с мнимой моей высоты и окунала в обыденные житейские стремления и заботы.
Так, я задумал вдруг завести роман с довольно миловидною особой, которая оказалась, как говорят в таких случаях, волею судеб соседкой мамы по больничной палате. По маминым рассказам, Вера (так звали соседку) очутилась в весьма трудном положении, хотя, на мой взгляд, ситуация была достаточно заурядна и вовсе не безысходна. Ну, а положение подобное на старомодном языке называлось интересным.
Лет ей было около тридцати, она работала преподавателем в институте средней руки. Помимо преподавательской своей деятельности, она успела сойтись со своим шефом (кажется, не без принуждения) — я, признаться, вполне понимаю этого мужика и одобряю его вкус,— и вот теперь роковые последствия греховной страсти грозили в скором времени слишком явно обнаружить себя. Шеф, который не имел то ли желания, то ли возможности узаконить “фактические отношения”, принялся принуждать сожительницу к ликвидации “последствий”. Он, как я понимаю, отчасти струхнул, но прикрывался пошлым морализаторством, вроде того, что “на нас смотрят, мы должны помнить о незапятнанной репутации, о своём нравственном облике" — и всё в том же духе. Она и впрямь испугалась, искренне поверила в то, что её “съедят на работе” — страхи, вероятно, не лишённые основания, хотя во многих местах на подобные происшествия смотрели уже весьма спокойно. Теперь она жила с ощущением, что жизнь её разбита, искалечена. Всё осложнилось врачебным приговором: после аборта иметь детей она больше не сможет.
Она не придумала ничего лучшего, чем спрятаться от всех невзгод в больницу — или впрямь слегла от переживаний. Нужно на что-то решаться, но она лишь плакала целыми днями и ночами.
Я подумал: если она всё-таки подчинится требованию своего любовника (а куда ей деваться?), то прежнее расположение её он тем не менее утратит, и тогда мне ничего не будет стоить завладеть ею — и душою и телом,— на что в прежние времена я был большой мастак. Отношения же с женщиной, которая не может иметь детей, безопасны и оттого весьма удобны.
Вот и знаю, что совершаю гадость, а делаю вид, будто вовсе и не ведаю ни о чём, не знаю и знать не хочу, и не желаю, и голову от самого себя по-страусиному прячу, и спешу выдумать оправдательные для себя резоны, и преуспеваю в том, и самого себя ухитряюсь убедить в собственной незапятнанности и правоте, и душевного успокоения достигаю — но вдруг в один миг опрокидывается всё разом, и вижу лишь одно: гадок и противен самому себе. Но опять начинаю собирать клочки и осколки прежних оправданий, и опять спокойствия ищу, и нахожу, и теряю... Что ж, не большинство ли из нас в подобные игры играет? Не в такие, так в другие в какие.
Только: что на других кивать, они мне не указ и не оправдание. Опять же: чужая душа потёмки. Мне же и своя не светлее. И откуда свету в ней взяться?
Но сколько бы ни гнушался я собственной внутренней нечистоплотностью, а всё же сделал первые шаги к знакомству с маминой симпатичной соседкой, в чём и преуспел — и что несколько взбодрило меня.
И вот совпадение: выходя после того из больницы, столкнулся я с бывшей сослуживицей, нашей лаборанткой в пору моего с Ростом сотрудничества в ныне подначальном ему Институте — с Тамарой Казаковой. Не будь я в несколько взбодрённом состоянии, я бы постарался избежать общения с нею, но тут решил не уклоняться от последних институтских сплетен: Тамара до сих пор работала на прежнем месте, хотя в должности Рост её повысил, и знала обо всех всё. К тому же была она особой без предрассудков и моему положению даже сочувствовала.
Среди прочего узнал я нечто такое, от чего откуда-то из живота к самому горлу подкатилась у меня волна ликования. Вот что: заступив на директорский пост после смерти Петельского, Рост сразу командировал себя в Штаты для встречи с американскими коллегами (а с ним поехали ещё двое наших, всё потом и рассказавших); при встрече же с тамошними химиками выяснилось, что о Росте они вовсе ничего не ведают, и чтобы утвердить среди них свой престиж, он назвал свой пост и принялся превозносить Институт — и тут некий простодушный американец встрепенулся: “А! Это там, где Маркофф!”
Он назвал мою фамилию! Они там знали мою последнюю статью, которую шеф незадолго до моего ареста отправил в один тамошний научный журнал. Потом всем здесь стало уже не до статьи, они же там у себя её преспокойно напечатали, ни о чём не зная, не ведая. Потом именно из той моей работы Рост в основном и состряпал свою докторскую, благополучно прохлопав американскую публикацию. И вдруг эхо давних событий глухим раскатом достигло его сиятельных ушей. Представляю: для Роста как серпом по яйцам. Как бы мне хотелось пронаблюдать выражение на его морде в тот самый момент. Дорогого стоят такие вот моменты. Майский день, именины сердца.
И ещё приватно выяснилось странное совпадение: Тамара оказалась родной сестрой Саши Назарова. То есть я знал и прежде, что у неё есть брат, но — что мне было до него десять лет назад? Разность же фамилий никак не могла навести на мысль о их родстве.
Выяснилось, что он прежде состоял в аспирантуре одного весьма престижного института, потом у него возник какой-то конфликт с начальством, повиниться он не пожелал и вынужден был уйти, теперь вот работает на наших курсах (при моём упоминании о них всё и обнаружилось), а ещё моет по утрам полы в каком-то учреждении и кроме того подрабатывает по случаю грузчиком, но чуть ли не половину всех денег отдаёт за квартиру, которую снимает, потому что со стервою-женою уже больше года не живёт, причём развод состоялся по её инициативе, она же спихнула на него и детей, которых, кстати, родила, весьма вероятно, не от него, и он про то знает. “Блажной он был всегда и с придурью, а многие и пользуются”.
То-то мне показалось странным явное отсутствие женской руки в их доме — но я решил тогда, что бабы всякие бывают. А что нет её дома — так день ведь: на работе она. На деле-то вышло иное.
Но зачем я выслушивал сии подробности, сам не знаю. После того моего визита к нему никакого сближения между нами не произошло, наоборот: я стал чувствовать какую-то между нами взаимную отчуждённость, хотя внешне она никак и не выражалась. Так, кивнём друг другу при встрече и молча разойдёмся. Где-то в глубине я чувствовал — вероятно, и он тоже, я в том уверен,— оба мы ощущали полное неприятие одного другим.
Признаться, вернувшись тогда от него, я даже и призадумался над его словами: нет ли в них чего?— но потом как-то вдруг сразу понял всю вздорность им сказанного. И в чём было сомневаться, когда всё несомненно? Он и нравился мне чем-то, но был ведь он просто недалёкий, неширокий умом человек, замкнувшийся на своих странных идеях. Из тех, кто и шагу в сторону от установленного предписаниями не сделает, как будто шоры на глазах и ноги спутаны. Мне ближе люди, способные с цепи сорваться, удариться в загул, покуролесить, выкинуть что-нибудь такое-этакое, чтоб потом вспомнить что было. Мне широкие натуры по нутру. Побольше бы беспечности, раскованности — в том, что ни говори, особый шарм. А без того что? Неудачник.
И тут же резануло меня что-то в груди: а я?! Где-то там, на другой стороне планеты, неведомый мне американец помнит мою работу, а я сам, Андрей Михайлович Марков,— я бреду одиноко по скучной улице в свою постылую конуру, и впереди — лишь тусклая бессмысленная череда безрадостных лет и зим.
…………………………………………………………………………..
Как будто сотни, тысячи острых иголочек вонзились в моё сердце, и я почувствовал, что не могу дышать, что если я сейчас сделаю хоть один вздох, то оно разорвётся. Я стоял и ловил воздух открытым ртом, как рыба, вынутая из воды, и задыхался.
Хоть бы кто, хоть бы кто-нибудь взял на себя часть моей боли! Люди, я умираю — думал я — будьте вы все прокляты...
IX
В рассуждении амбиций... Рассказывают многоумные знатоки всякой всячины, а паче — прелюбопытных историй и всевозможных событий из жизневращения великих мира сего, до каковых (событий то есть) мы все величайшие охотники, так что порой хлебом нас не корми, а дай лишний раз что-нибудь этакое о том или ином гении-разгении вызнать, частенько на предмет его с собою сравнения, дабы — не станем лукавством себя и других морочить,— того разгения до себя принизить и тем до высочайшей степени восторга упиться, хотя и сознавать при том, что сопоставление таковое не более чем мираж, пусть даже нас и возвышающий, но обман, что ты там ни говори и как себе и другим мозги ни пудри, выведывая историю за историей от многоумных знатоков, которые среди прочего рассказывают и о том, как однажды в стародавние времена несомненные гении человечества, сами имена коих вызывают невольное преклонение, истинное преклонение, в невыразимой степени преклонение, такое, что ещё чуть-чуть, так уж и разогнуться нельзя будет, до того согнёшься в благоговении, ибо речь идёт не о ком ином, как о мировом величайшем поэте и не менее мировом композиторе, в немецкой земле урождённых и оную прославивших на всевечные времена одним фактом своего рождения, причём поименованное обстоятельство, то есть общность некая у рождения места, способствовало и доброму знакомству меж ними, а может быть, и дружбе даже, хотя это уж навряд, поскольку каждый из них величайшей горе уподоблен быть достоин, а горы же, они — то всем известно — друг с другом (а именно: гора с горою) отнюдь не сходятся и сойтись не могут по причине собственной возвышенности и, в силу того, обособленности, что, впрочем, говорится несколько иносказательно в отношении даже и самых величайших гениев, потому что персонажи данной истории, поэт и композитор, в реальном смысле именно и сошлись, а сойдясь, разные умные беседы беседовали о высоких материях, об искусствах и прочих нам, убогим, отчасти и недоступных вещах, о чём мы, пожалуй, вовсе и не сожалеем, поскольку нам то вовсе без надобности и сверх того даже обременительно: кому мало дано, с того и спрос невелик, стало быть, и на свете существование, не в пример иным, гениям всяким разным, более лёгкое и спокойное, а что до материй высоких, так нам с тех материй проку и совершенно нет, так как шубу из них не сошьёшь, ни даже штанов не построишь, а без штанов, известно, ты уж отнюдь и не человек, тебя без штанов и в приличное общество не допустят, а тем более в компанию с теми самыми гениями, о ком и речь ведётся и которые сойдясь однажды для приятельской беседы о важных материях, нам полностью бесполезных, прогуливались то ли по парку какому, то ли по улицам (того не припомню, хотя многоумные знатоки и говорили, ибо они-то никогда ничего не забывают), но не в том суть дела, а в том она, эта суть, что на пути великих собеседников повстречалось вдруг некое сиятельное лицо, но точнее бы сказать: они ему на пути попались, так что ни пройти ни проехать сему государственному мужу не представлялось никакой совершенной возможности, что было со стороны тех гениев проявлением к нему некоторой непочтительности, ибо очень уж была высокородна та персона, имени каковой опять-таки припомнить не могу и опять-таки суть не в том, как ни убеждай меня иные педанты и зануды, что в любой истории никакой мелочью нельзя пренебречь, потому как в мелочах-де порою весь и смысл, чему я вовсе не верю: иначе в мелочах зароемся да за деревьями леса и не заметим, а лес и в нашей истории до чрезвычайности может оказаться важен, потому хотя бы, что вышепоименованная встреча весьма вероятно, что и в лесу произошла — не в диком, само собою, где страшные вепри водятся и разбойники, Робин Гуды всякие, обиталища себе устраивают, а в наикультурнейшем лесу, пожалуй что и в парке: ведь иной ухоженный лес есть тот же парк, в нём и приятное отдохновение можно обрести и в мыслительных эмпиреях пребывать, чего, увы, в скучных наших городских джунглях (так их иносказательно именуют) ни за какие коврижки не получишь, и за деньги не приобретёшь, хотя бы и миллионы посулить — а и за миллионы не найдёшь, сколько ни суетись, потому: и с миллионами и без миллионов одинаково дело дрянь и суетность одна, пресуществлённая в коловращение человеков, всяких, а не только сиятельных, навроде того, который встретился на пути великого поэта и великого музыканта во время их гуляния и беседы, тут же ими прерванной, причём поэт после того в почтительном поклоне согнулся, дорогу уступая, композитор же, напротив, гордо голову возвысив, остался на пути его сиятельства (или даже высочества — я про то забыл и прошу не презирать меня за дырявую память), так что тому сиятельству (или даже величеству) пришлось несколько от ранее намеченной траектории движения отклониться и великого гения сторонкой обойти, благодаря чему он, тот его сиятельство , не только в данную историю попал, но и вообще в историю влип, во всеобщую историю, являющуюся для многих предметом особых вожделений, страстных мечтаний, бессонных ночей, сладких грёз — о славе, об утверждении себя в умах и в памяти человеческой на все грядущие и вековечные времена, во всех частях света, которому до сих мечтателей, по правде сказать, совсем и дела-то нет, как бы они там ни грезили и ни мечтали и ни вожделели, вследствие чего сон и покой теряли, бледнели и сохли, того не ведая, что всего-то и надо: возле какого-нибудь гения мимо пройти, хоть бы и сторонкой его обогнув, но тем цели своей касательно вхождения в историю тут же и достичь, тут же её и превзойти, пусть даже и не осознав в тот момент, что таковым обхождением себя в памяти людской навек со стоящим на твоём пути гением соединишь, а это, что ни говори, уже и слава, уже и повод возгордиться: ведь этакого счастья не каждый в своей жизни удостоивается, отчего даже целая порода человеческая составилась из тех, кто особую страсть имеет разные всевозможные небылицы про свои знакомства со всяческими знаменитостями распространять, хотя бы даже и с вовсе захудалыми и завалящими, не то что с гениями, до которых возвыситься многие даже и в мыслях не дерзают, и дрожмя дрожат от бесстрашия иных удальцов, посмевших высочайшие имена всуе языками трепать, за что их, впрочем, навряд ли судить стоит строго: не всем же такое счастье наяву приваливает, как тому сиятельству-высочеству, удостоившемуся обойти сторонкою великого маэстра, в то время как его не менее великий собеседник пребывая в согбенном стоянии, немало, надо думать, потешался в душе над такою петушиной задористостью своего спутника, потому что был он не только гений, но и умён до чрезвычайности, до самых высших пределов, а кто того не уяснил, тот тем более не поймёт, что следование утвердившимся ритуалам и церемониям может проистекать из совершеннейшего равнодушия или даже к ним презрения, но и то ещё не самое главное, а главное именно то, что самая сласть и есть в тайном, в мысленном себя превознесении — при видимом унижении и смирении, когда иной надутый спесивец себя над тобою возносит и тем ещё ничтожнее себя выказывает,— почему и любят-то эти тонкие умы, проницательностью своею всё постигшие, любят они столь двусмысленные ситуации, ситуации с подтекстом своего рода, каковой только им самим и доступен, им ведом, а вовсе не тем гордецам, что только и умеют нос задирать, втайне же страдая от своей приниженности сущей, ибо не страдай они от того, то смысла бы не было, вовсе причины никакой бы не было отыгрываться посредством гордыни собственной выпячивания, хотя в гордыне не только грех, но и суетность, отражение тщеты недостойных поползновений, в чём любой индивидуй мог на собственном опыте легко и неоднократно убедиться, если бы обладал способностью то слышать, что в нём же самом скрытно от всех и совершается — движение мыслительности и страстей,— но в том-то и загвоздка: мало кто эдакую чуткость к собственной же натуре обнаруживает — даже тот маэстр великий, и тот спасовал, а уж на что, кажется, утончённый слух имел, не в физическом, но метафизическом смысле: ведь высшую гармонию являл в созданиях своих, нас в упоения и в восторги ввергая, так что мы через то в эмпиреи воспарить сподоблялись, да и не только мы, сирые, а и высочайшие особы, фортуною над прочими всеми вознесенные, подобно тому вельможу, какой обхождением своим вокруг оного гения в истории себя навеки запечатлел, чем, вероятно, другой из участвующих в сей казусной ситуации гениев немало в душе распотешился, право на то бесспорное имея, потому что, как ни крути ни верти, но возвышенность его гения всем просвещённейшим миром была давно признана и многократно удостоверена прочими незаурядными умами, а без того, если здраво поразмыслить, любое тайносознаваемое себя перед собою над всеми превознесение гроша ломаного не стоит, ибо в таковом случае все дураки на всём белом свете на оные претензии плевать хотели, вовсе и не признавая никакого чьего бы то ни было тайного превосходства, поскольку любой гордец тогда лишь над всеми прочими торжество внутреннее над теми дураками учинить право имел, когда и они, дураки то есть, за ним то право бы признали, получив санкцию на то от вышестоящих умов, вследствие чего именно бы и поняли, что он их перешиб и всё превозмог и превзошёл, иначе же, коли они не согласны с тем, то сей индивидуй, их дураками и ничтожествами полагая, уподобится лишь известной басенной лисице, охаявшей недостижимый для неё виноград и ничего более не заслуживающей, кроме как над собою же и насмешку, что, как хотите, но обидно всё ж таки, соромно, в чём мы порою даже и самим себе признаться не смеем, хорохористо самоутешаясь пошленькой мыслишкой, что все, дескать, помрём, так не всё ли равно: академиком или же говночистом в могиле лежать,— а ведь, признаться, пока ещё не в могиле, так то уж вовсе и не всё равно, чему я и на собственном опыте подтвержденье получил, оказавшись в незавидном положении отброса общественно-функциональных отправлений, так что на долгое время даже мыслительную способность как будто утратил, а если и являлись мне те или иные всё же мысли, то всё казалось, будто не во мне они, а в каком-то отдалённом от меня тумане, даже за туманом, из-за которого еле-еле просвечиваются они ко мне, едва различимые и болезненные, каковыми они и до сих пор, ежели по совести, остаются, как ни стараюсь я усилием рассудка гнать их, отчего остаюсь я пуст и полон нечувствия ко всему, рассуждая время от времени, что вот-де жизнь так и так бессмысленна, а из нас, как ни мудри, лопух вырастет — препошлейшая мыслишка, неоригинальная (вот: хлопочу-таки об оригинальности!), но и не может она быть оригинальной-то, не может: слишком долго она по миру мыкалась, прежде чем до меня, убогого, добралась, пока не посетила и меня многогрешного, а я и рад тому, как, вероятно, и все прочие были рады, даже не то что просто рады, а всё равно как духом воспаряли, ибо таковую мысль обретя, можно уж и окончательно право за собой признать и возможность — переплавлять собственную неполноценность во всеразъедающую иронию, от подсознательного ощущения бессилия своего над окружающим миром начать изгаляться, даже и над гениями всевозможными, вроде тех, какие по парку прохаживались и с вельможем повстречались, и над ними посмеяться, а заодно и себя той иронией отравить, живя как среди кривых зеркал, всё в искажённом виде отражающих,— а нам того и надо, а мы уж и напропалую сарказируем, даже о погоде с иронией спрашиваем, с иронией же и отвечая и в то же время с каким-то отчаянием от иронии нашей той (я — так просто устал от той кривизны), каковая есть не что иное, как безвкусное проявление и предвестник надвигающегося на нас полнейшего цинизма мыслительных отправлений, с благой помощью которого нам весьма несложно станет задавить в себе остатки того, что ещё осталось в нас доброго, прикончить всё это, чтобы не дать повода окружающим посмеяться над нами, а, наоборот, иметь полное внутреннее право высмеивать других прочих и тем себя над ними утверждать, что мы, впрочем, и ныне не без успеха творим, отчего уже и теперь понятия долга, ответственности, благородства — вызывают у иных скуку, у иных насмешку, у иных недоумение по причине их, понятий то есть, полной непригодности и ненужности для жизненных коловращений, поскольку основательности в сиих понятиях и не чувствуется, чтобы можно было их каким-то макаром в краеугольный камень для собственного хотя бы пьедестальчика превратить: кому же не охота на постаментике постоять и сверху всех презрением облевать, от преизбытка собственной пакостности ближних своих так-таки и облевать, как вот я теперь тем занимаюсь, пусть и не свысока, а это, должен признаться, и противно, но и облегчает: от давящей изнутри тёмной безотрадности, подкатывающей временами под самое горло, так что и вздохнуть нельзя, а без дыхания же — смерть, кондратий беспардонный, полный околеванец, тот самый, какой и меня чуть не одолел недавно, но сжалился, отпустил, чему, не знаю, то ли радоваться, то ли печалиться (кокетничаю вот этак сам с собою, а рад, рад, самому себе признаться стыдясь), ибо вижу и невозможность, и бессмысленность для себя каких бы то ни было пьедесталов и прав на них, как, к примеру, у великого маэстра того или поэта, что с высочеством повстречались и тем его в историю ввели, так что и позавидовать можно такой их способности вводить человеков разных в историю одним фактом встречи с собою, хотя я бы с ними встречаться не хотел, потому как к чужому пьедесталу присоседиться и гордыня бы не позволила никогда: я ведь сам себя хотел в Наполеоны определить, а не при каком другом Наполеоне состоять, о чём кто-то, пожалуй, даже и мечтает, пожалуй что и грезит даже и по таковой причине страсть как любит над собою всяческих Наполеонов сознавать, потому тут иллюзия, будто блеск высшего величия и на низших распространяется, сознанием чего уравновешивается всяческий любой комплекс: вот я-де пусть и ничтожен, зато властелин мой превыше всех прочих — тоже своего рода сладострастная мысль, повод перед всеми покичиться, почваниться, фанаберию развести, тем и упиваясь, хотя, поразмыслить ежели, изо всего можно извлечь повод, чтобы пофордыбачить, в связи с чем вспоминается мне некий мой давний знакомый, десятиюродный дядюшка которого из заграницы на “Шевролете” прикатил, а приятель мой тем тщеславился, как если бы от того “Шевролета” и на него отчасти некий отблеск величия падал, пусть даже дядюшка его на том лимузине ни разу и не прокатил — а всё ж таки от самой мысли о “Шевролете” приятственность некоторая в области желудка ощущалась, как ты там ни опровергай того от зависти, от сего двигателя амбициозных стремлений всевозможных индивидуев, о престижности (вот, вот самое-то ходовое нынче словечко!) всевозможной чего бы то ни было помышляющих, отчасти не без успеха, не то чтоб несомненного всегда, но при желании из чего угодно извлекаемого, как, например, с моим одним другим знакомым было, когда он престиж свой на виртуозной способности матерно сквернословить в приличном обществе составил, чем завоевал неподдельное уважение у многих солидных дам, боявшихся показаться несовременными, так что и сами принялись в том же искусстве не без успеха упражняться, а это, согласитесь, прогресс и высшая умственность, а без умственности нельзя, в умственности-то все смыслы и пределы, человеку положённые, вследствие чего умственность оную всеми силами преумножать необходимо, хоть бы и матерщиной или там встречами с какими гениями в лесу, а то и ещё каким иным способом, чему уж и машины соответствующие изобретены, погораздее человека к тому приспособленные, а там, глядишь — и человека можно будет в машину тоже переконструировать, и вместо сердца пламенный мотор, дабы прогрессу не чинить противодействия и суть соблюдать, выражающуюся в закономерности эволюционирования в направлении сотворения машинно-человеческого симбиоза в целях окончательного избавления от мешающих нашему продвижению ненужностей, выражающихся в семантически-абсурдных понятиях совести и духовности, абсурдности именно в силу невозможности их машинного моделирования и оттого являющихся лишь помехою и располагающих нас к ненужному и вредному самокопанию (здраво-то рассудить: в чём это кому копаться приспичило — в каких продуктах своей жизнедеятельности?), что я лично давно усвоил, видя собственную свою для самого себя пагубность, так что не желаю даже, чтобы кто-нибудь со мною в каменных джунглях встречался, чем отличаюсь от всяческих идущих напролом бодрячков, каковым и я сам же был в оные незапамятные времена, а потом перестал быть, хоть и не оставлял зависти к тем бодрячкам, мне отчасти ненавистным, ибо как известный чёрт у Достоевского, возжелавший воплотиться бесповоротно в семипудовую купчиху, так и я возмечтал жить без всяких там самокопаний, да кишка тонка, и обидно к тому же, жаль самого себя: ведь поразмыслить: что же для меня представляет больший интерес, чем именно я сам и есть, и не в эгоистическом даже вовсе смысле, а в самом именно познавательном, но не от других то знание о себе чтоб получить, а от самого же себя, хоть бы там прежде наимудрейшие мудрецы, всякие небылицы распространяющие про лесные встречи гениев с высочествами, хоть бы они все мировые загадки раз и навсегда разрешили, пусть бы и так, а я всё же своим умом хочу достичь и превзойти, чему, быть может, и нет оправдания, раз и сам ум-то мой не так искусен и искушён, как у тех наимудрейших, однако от права своего не отступлюсь, пока всех пределов не превзойду либо же головушку свою бесталанную не сложу, да уж чему быть, того не миновать — в том моя наивысшая амбициозность и состоит. Вот что.
X
Всё-таки весна раздражала меня (пусть не так, как когда-то, лет двадцать тому), будоражила что-то в душе — и это было тем более тягостно, что бессмысленно. И слишком грустно становилось, когда проходил я мимо по-весеннему шумных студентов, сбившихся в стайки у входа в институт, где меня ожидали четыре томительных часа в малочисленной компании охалпевших молодых людей.
В раздражении войдя в преподавательскую, я, хотя внешне всё было как обычно, тут же почувствовал по чинной напряжённости коллег какое-то неясное, но смутно тревожное их настроение. Как будто все были чем-то подавлены, но хотели подавленность свою с души стряхнуть.
— Вы разве ничего не знаете?— обратился ко мне не помню кто именно.— У Назарова дочка умерла. Мы по три рубля собираем.
...Всё произошло глупо и бездарно. Саша ведь жил один с детьми. Изредка по утрам, когда он уходил в свою контору мыть полы, к детям приходила его мать, подымала их, кормила, отправляла мальчика в школу и сидела с Машей до прихода отца, который, впрочем, возвращался очень скоро и хозяйствовал всегда сам, пока не приходило время отправляться на курсы. Отдавать дочку в детский сад он категорически отказался. Он говорил даже, что если бы можно, то с программой первых классов он, обучая сына самостоятельно, и без помощи школы вполне бы управился. Уходя на курсы, он чаще оставлял детей одних, давал им строгий наказ ложиться в определённое время, и возвращаясь с занятий, всегда находил их уже спящими. Так вышло, что в тот день, когда всё случилось, бабушка не пришла к внукам и, в этом не было ничего особенного, дети остались одни. Может быть, тогда ещё, когда отец был дома (да не заметил), или уже без него — у девочки начала подниматься температура, брат растерялся, не знал, что делать, и положился на приход отца, когда же тот вернулся, маленькая Маша лежала в жару и почти в беспамятстве. Пока вызвали врача (а телефона в квартире не было, пришлось бегать по автоматам, искать исправный), пока приехала скорая, отнюдь не поспешавшая, пока отправили в больницу... Дежурная врачиха то ли по лени, то ли по безразличию, то ли по общей расхлябанности нашей — сделала какой-то укол и сочла свой долг исполненным — оставила больную до утреннего обхода. Утром спохватились, да поздно. Я не понимаю в том ничего — говорили что-то об отёке лёгких — да кто их там разберёт.
Я потом долго не мог отвязаться от воспоминания: как она говорила, будто что-то с нею случается заставляющее её капризничать...
На следующее утро, поколебавшись немного, я решил пойти к Назарову. Открыла мне пожилая рыхлая женщина с покрасневшими глазами, его мать.
— Я работаю с Сашей,— представился я.— Может быть, что-то помочь...
Она впустила меня, потом как-то растерянно развела руками, сказала: “Вот так”,— и заплакала, видно, уже в который раз. Я принялся было утешать её, но тут же почувствовал всю тупость и бездарность подобных утешений и, чтобы подавить неловкость, ещё раз спросил, не нужна ли какая помощь.
— Да чего же помогать? Вроде бы и нечего,— сказала она, чуть успокоившись.— Вас как зовут?
Я представился.
— Вот как, Андрей Михайлович, кто бы и подумать мог... да вы входите,— мы до сих пор стояли в тесной прихожей у завешенного зеркала.— Входите, — сказала она ещё раз.— Только Саши нет пока, мы с Севочкой одни сидим.
Мы вошли в комнату, но она была пуста.
— Севочка там, на кухне забился, я его не трогаю.
— А где же...
— Сашенька в церковь поехал. Он ведь у нас странный. Хотел и гроб чтоб в церковь поставить, да те ни в какую. Заочно он теперь отпевать поехал. А похороны прямо из морга. Теперь всё так. В час автобус будет. Саша вернётся — успеем... Может, и вправду помочь надо. Гроб вот нести. У нас всё одни женщины, и у тех тоже. Да там и всего-то — Леночка, жена его бывшая, да мать её. И тётка ещё, я её и не знаю совсем... Хотя: чего там и нести-то...— она опять заплакала.
— Простите, а вас как величать?— я сказал, чтобы просто чем-то сбить её со слёз.
— Нина Васильевна,— ответила она и принялась сморкаться в маленький платочек.
Как и всегда бывает в подобных случаях, Нина Васильевна принялась рассказывать мне все подробности события — то, что, вероятно, она рассказывала уже кому-то и что ещё не раз предстоит ей повторить;— какое-то странное удовлетворение, чуть ли не удовольствие даже испытываем мы (и говорящий и слушающий) от подобных рассказов, вновь и вновь воссоздавая в сознании, воображении многие подробности, обдирающие до невыносимой подчас боли оболочку нашей души.
— Вот как без матери-то,— скорбно закончила женщина.— А ведь говорила я им...
Когда пришёл Саша, он никак не выразил своего удивления, увидев меня, как будто принял за должное мой приход, отчего я даже чуть ли не обиделся (нашёл время для обид!): как всё же хотелось хоть искру благодарности приметить в его взгляде. Но во взгляде его я не увидел даже особой скорби. Глаза его были сухи и спокойны.
Он ещё поспорил с матерью, нужно ли взять Севу на похороны — настоял, что нужно, — и стоит ли идти на поминки, которые устраивает, по взаимной договорённости, его бывшая тёща,— от поминок он категорически отрёкся.
Потом поехали в морг.
И пока мы ехали туда, и потом по дороге на кладбище — далёкое, загородное — и у самой могилы уже не мог я не испытать раздражающей неприязни к той сухой деловитости, с которой вёл себя Назаров. Он держался отчуждённо, ни с кем не разговаривал, только отдавал короткие распоряжения, когда надо было что-то сделать по ходу похорон. Народу было совсем немного, и вправду одни женщины — среди них я знал только Казакову, да выделил ещё бывшую сашину жену, с её редкой, надо признаться, красотой (“стервоза редкостная” — вспомнил я тут же отзыв Тамары).
Я тоже держался отъединённо от всех, столь посторонних для меня людей, и раз за разом всё вспоминал, как эта мёртвая теперь девочка когда-то рассказывала о своём капризном настроении. Я совсем не знал её и не мог больше ничего и вспомнить — но уже стоя на кладбище у открытого гробика, я ясно сознал, что именно ради неё пошёл я к Назарову, что с её смертью и у меня как будто вырвали с кровью дорогую для меня частицу моей души. Вот ведь странно.
Самое страстное моё желание в эти минуты было — вернуться туда, в ушедшее время, где эта маленькая девочка слизывала крем с куска столь памятного мне маленького торта. И в который раз со смертной тоскою ощутил я необратимость времени. Я думал о времени — мне представлялось, как оно продирается сквозь нашу реальность и оставляет кровоточащие клочья на колючках и шипах настоящего. Я плакал, слёзы текли по моим щекам, и мне неловко было перед посторонними для меня людьми.
Когда возвращаясь, мы уже въехали в Москву, Саша вдруг попросил шофёра остановиться и открыть дверь.
— Мама, возьми Севу к себе сегодня,— сказал он, приготовившись выйти.
Все посмотрели на него с неодобрением, всколыхнулся недовольный ропот.
— Что, уморил девчонку, теперь стыдно стало!— крикнула ему вдогонку то ли мать, то ли тётка бывшей жены.
Он не ответил и вышел. Вышел и я: оставаться было бы тягостно. Автобус тронулся, Саша посмотрел ему вслед и обернулся ко мне:
— Ну, зачем я туда пойду?
И вдруг он привалился к моему плечу и зарыдал громко, с каким-то почти звериным воем — прохожие кто с испугом, кто с любопытством стали оглядываться на нас, некоторые замедлили шаг. Но так же скоро он вновь овладел собою, и опять очень спокойно сказал:
— Простите. Я пойду.
Посмотрел на меня, усмехнулся сухо:
— Я не повешусь и с ума не сойду. Спасибо вам. Не сердитесь на меня.
И пошёл прочь.
Как тяжко мне было, оттого что не мог я вот так же громко завыть, стоя под пасмурным весенним небом на незнакомой улице.
XI
У меня где-то тоже дочь есть.
……………………………….
………………………………….
XII
Уже в студенчестве моём зелёном вдруг выскакивали откуда-то прямо мне в ум некоторые оригинальные идеи. На третьем ведь курсе уже замечен был и отличён. На кафедре у нас зам Петельского подхалтуривал — да не только он, но с ним меня судьба свела. Клавдий Петрович Батраков. (Право, странное для мужика имя: Клавдий.) Я у него курсовую писал, а он меня за то к Матвеичу отвёл. Как-то всё помимо меня решилось.
Помню, вошёл я впервые в лабораторию когда — как раз там Рост сидел: с Сашей Шерманом языки чесали. Рост ещё аспирантом был, Шерман уже защитился: только что. Меня одно это принуждало внутренне сжиматься поначалу. Шерман-то ничем, впрочем, особенным на поверку не оказался: он и через два десятка лет всё сидел в кандидатах.
Навсегда запомнился мне Шерман своей не сходящей с лица его улыбкой. Ироничной улыбкой превосходства над всем миром. Весьма ироничной. Много таких нынче развелось — хронических иронистов — и всё от бессилия своего.
В тот день моего первого с ними знакомства (именно так: потому что потом было и второе, и третье, когда раскрывались они передо мною неожиданно по-новому, как и каждый человек вообще... а состоялось ли последнее, не знаю) Шерман тянул из себя одну из глубокомысленных своих сентенций — как я убедился впоследствии, это было главным его занятием во время пребывания в лаборатории: он либо философствовал просто, либо совмещал ироническое любомудрие с шахматами, играя с кем придётся и обнаруживая в игре виртуозное мастерство. Лишь изредка он как будто вспоминал, что приходит в Институт вовсе не за тем, и принимался нехотя за дело. Теперь, по слухам, Рост его сильно прищучил, а в те-то времена сам же чаще других с ним и играл.
— Ты вот,— внушал Шерман Росту, тыкая в него пальцем,— всё думаешь только об одном. И я об одном тоже. И все мы.
— О бабах!— подсказал Рост.
— Плоско. Банально. Нет, мы думаем, ибо остолопы, как бы устроить поудобнее нашу жизнь. И в обыденном быту, и в глобальном вообще социальном смысле. Бабы сюда входят лишь как составная часть. Олухи мы. Мы думаем: только и будет у нас, что жизнь без конца. В глобальном смысле, может, и без конца. А каждому из нас вовсе не без конца. Вот и надо бы думать именно об этом конце.
— А на фига? — спросил Рост.
— Так ведь если там что-то есть, то зачем вообще думать о сем земном временном жительстве, если главное: как устроиться там. О том и думать.
— И что думать?— Рост тоже источал яд насмешливости.
— Это Христос уже сказал. Не собирайте сокровищ на земле, но в Царствии Небесном. Вот то и думать.
— Ты есть фактический мракобес. От тебя надо освобождать чистоту советской науки,— Рост сказал так сурово, что вполне можно было бы принять его слова и всерьёз. Он вообще любил порою свои шуточки говорить внешне строго и даже угрожающе.
— Дуся!— не смутился Шерман.— Хоть убей! Если сие жительство временное, то чем раньше мы с ним расстанемся, тем нам же и лучше.
— Ничего там нет!— свысока возразил Рост.
— А ты почём знаешь?
— Нет там ничего, и всё это ерунда, удел слабых,— презрительно и ещё более свысока сказал Рост.
— Дуся, и я так думаю, и это печально. Ничего нет. И не просто ничего, а даже и самого этого “ничего”, и то не существует. Небытие в квадрате. А лучше сказать: в энной степени,— Шерман неожиданно повернулся ко мне:— А вы как полагаете, наш юный друг?
— Не знаю,— заробел я.
— А надо бы знать!— строго и насмешливо заметил Рост.
— Диамат изучали?— грозно уставился на меня Шерман.
Я смешался окончательно.
— Нет, он больше по бабам — по-ба-бам-по-ба-бам-по-бабам...— запел вдруг Рост и забарабанил ладонями по столу.
Странное впечатление производил он порою на тех, кто не знал его.
— А ты как со своей? — перебил его барабанное пение Шерман.
— Всё путём.
— Уже оттоптал её небось.
— Всё путём. Надо же было проверить: вдруг у неё там ход кривой,— Рост подмигнул мне.
— И как?— иронически вопросил Шерман.
— Всё путём!— самодовольно ответил Рост и опять забарабанил:— По-ба-бам-по-ба-бам-по-ба-бам...
Было видно, что ему очень весело и беззаботно.
— Ох, люблю я её,— сказал он ещё веселее. — А когда голенькая, знаешь: вся загорелая, а вот тут,— он показал рукой,— такая белая полоска от плавочек. И жопка как орешек. Ух!— его передёрнуло от восторга и он опять запел своё: по-ба-бам...
Потом я узнал, что он рассказывал о своей невесте. На которой, кстати, он так и не женился. Тогда же, видно было, его распирало от эмоций при мысли о ней. Он всё не мог угомониться, ходил по комнате, барабанил по всем предметам, напевал и дёргался и мотал во все стороны головой.
При моей тогдашней робости и привычке признавать во всяком самодовольстве авторитет, я как бы помимо воли подчинился и этому разухабистому бесстыдству, и весёлости, и лёгкому пренебрежению ко всем надуманным условностям жизни — так я думал и чувствовал в тот момент. Долго ещё вертелось у меня в голове: по-ба-бам-по-ба-бам...
Шеф приставил ко мне Шермана наставником: тому чего лучше: сопливый лопух на него ишачил почти два года безропотно. Вдуматься: мне ведь тоже везло тогда, чересчур даже: столь укатанная и ровная дорога открывалась передо мною. Я себя даже такой мыслью тешил, освободившис ь: оказаться бы мне снова в том начале моего пути, молодым и безмятежным, но с моим нынешним опытом... О, теперь бы Рост мои ласки ловил, а я бы его по административной части приспособил.
Нет, не быть уж тому никогда.
Пустым холодом начинает тянуть откуда-то из глубины сознания, когда я прикасаюсь к этому “никогда”. Вот проклятье наше. Никогда. Оно пугает меня во всех своих неисчислимых проявлениях.
Меня, например, всегда угнетала мысль, если я гляжу на ночное небо, что я никогда не могу оказаться там, в глубине его. И не то чтобы слишком тянуло меня туда — нет, просто это “никогда” меня мучает, тяготит. Никогда — вон она луна, глупая, круглая, ясная — просто бы так ногой наступить, глянуть сверху оттуда — и всё. Но нет: никогда. В этом “никогда” что-то инфернальное, сатанинское. Насмешка дьявола. Мера нашего бессилия. Ужасно, ужасно. Ни-ког-да... Как же надо бы дорожить каждым моментом: он неотвратимо уходит в никогда, исчезает в небытии.
Нет, я не понимал тогда того. Я, пожалуй даже, как к само собой разумеющемуся относился к моему вступлению на гладкий путь жизненного успеха. Всё открывалось, все преграды рушились — всё как будто само собою совершалось. Я просто чувствовал тогда: я на месте, при своём деле, так и должно быть, так — хорошо. И так будет всегда, и будет ещё лучше. Не знал: никогда.
И люди меня приняли, да и лестно было многим покровительствовать мне — чему они и предавались с охотой и удовольствием: даже самому маленькому человечку льстит внутренне, когда вдруг находится кто-то ещё меньший, над кем можно ощутить своё хоть бы и мнимое, но — превосходство, в душе лелеемое.
Я, конечно, не мог не чувствовать, не мог не чувствовать и не понимать, что они смотрят на меня отчасти свысока, хотя и была их снисходительность ко мне беззлобна, даже ласкова; и когда они обращали на меня внимание, спрашивая “об успехах”, делали вид, будто внимательно выслушивают, я невольно подстраивался под них, говорил о своих делах нарочито небрежно, как если бы я над собой возвысился до их уровня и себя свысока, с их точки зрения, могу снисходительно же судить и незначительность свою по сравнению с их высотою сознавать.
— Ну как, Андрюша?— приставала ко мне какая-нибудь дама: дамы особенно бывают падки на какую-нибудь покровительственность (тут ещё и сексуальный момент инстинктивно примешивается, я чувствовал).— Вы, я слышала, сегодня сообщение на секторе делаете?
— А!— махал я рукой и пренебрежительно усмехался.
— Ну ничего, молодец.
Как раз тогда весь Институт был растревожен историей нового увлечения шефа. Не увлечения даже — любви. Я с самого начала верил, что тут любовь. Хотя Рост тогда изъязвился весь: седина, мол, в бороду, а бес ниже пояса — запрещённый удар. Матвеич же, помню, тогда шальной, право, ходил. Любовь, любовь, безрассудная и безоглядная. Новоявленный Маттиас Клаузен... правда, помоложе на десяток лет.
Я вот думаю: в своём угаре он отчасти и мою-то судьбу решил: в горячке — не до рассуждений: услыхал обо мне и в возбуждении энтузиазмом проникся к тому, кого, будь похладнокровнее, ещё и подумал бы: брать ли: юнца в академический Институт авансом, по поверхностной какой-то рекомендации. Не знаю. Ведь всё-таки и я не лыком шит был, в деле уже тогда смыслил — и уже тогда лучше Роста смыслил, в чём убеждался не раз, чем даже и ошарашен был: он для меня всё же на высоте некоторой находился. Поначалу я всё думал: придуривается он передо мной нарочно. Даже обижался на него. Он же делал вид, будто и вправду придуривается — но это чтобы прежде всего себя обмануть: вмоготу ли перед студиозом-несмышлёнышем пасовать! Ко мне он относился всегда с ироническим высокомерием и всё по плечу похлопывал.
Шеф же пребывал в эмпиреях. Потом-то я с его второй женой хорошо знаком был. А впервые когда — она мне слишком величавой представилась. И в мои-то неполные двадцать — чуть ли не старухой: сорок с лишним. Но Матвеич ведь на неё из своих шестидесяти смотрел.
История со многими подробностями почти на глазах у всех развивалась. И увлечение, и тайная любовь, и развод со старой супругой, и новая — весьма скромная — свадьба. Я появился в Институте на стадии развода. По правде, я вовсе не вникал во все подробности, а просто со стороны наблюдал за ритуалом пересудов, и теперь, если вспоминать, не смогу восстановить ход событий даже на допросе с пристрастием. Помню, были какие-то сложности: как же, руководитель Института, академик, ну и всё прочее — как можно: моральное разложение... И ведь всерьёз иные говорили. Но любовь одолела все препятствия.
Теперь, когда уже двадцать лет тому... Пожалуй, не получи шеф того запрещённого удара от беса — и у меня бы по-иному пошло. Как тут не задуматься над банальнейшей истиной: от какой ерунды судьбы человеческие зависят. Ну что бы разминуться Матвеичу с его Марьей Петровной во времени и пространстве. Говорили, что их знакомство совершенно случайно произошло — так вот и бывает всегда: там случайно какие-то тебе до поры вовсе незнакомые люди в коридоре Академии сталкиваются — а у тебя судьба кувырком. Ты же, как говорится, ни сном ни духом...
А может, и не случайно то? Встреча, пожалуй, и случайна, а конечная судьба моя — нет. Не от одного, так от другого — одинаково бы вышло. Может, не от внешнего, а от того, что внутри всё зависит?
Близко же я, однако, к сути тогда подошёл, но на пристальное обдумывание — мужества не хватило.
Я делал вид, будто вникаю в подробности, когда при мне трёпом занимались — любопытство отчасти тешил, — но мне не до того было. Я сам влюблённым дураком ходил.
Знать бы, что из всего из этого выйдет. Но я ни о чём не думал тогда. Я был весь переполнен любовью, молодым счастьем, хотя и почитал себя глубоко несчастным. Я страдал от любви. От любви неразделённой. Странно: за что меня так жизнь: после ведь было у меня много “романов”, весьма удачных, но я никого подлинно не любил, по совести если. Меня любили, иной раз докучали просто любовью своею, я же смотрел на ту любовь к себе как на досадную помеху, осложнявшую жизнь без всякого в том смысла: мне уже не нужна была ничья привязанность. По истине — не нужна. Сошлись — разошлись. Никаких проблем,
Но почему же, когда я любил исступлённо, страдал так, что терял аппетит и сон (пока сам того не испытал, думал, что это лишь красивая выдумка), когда до полного ко всему безразличия доходило, когда ничего не мог делать порою, кроме как слоняться бесцельно по той улице, где она жила, когда просто смотреть на её окно уже было счастьем и чуть ли не смыслом существования,— почему же тогда так всё и кончилось ничем? И девушка, единственно любимая мною в жизни, — однажды шарахнулась от меня, когда мы столкнулись неожиданно в университетском коридоре: так, вероятно, осточертело ей моё назойливое внимание...
Может быть, это было моё наказание за то, что я вытворил после? Просто наш плоскостный рассудок не способен ни на что, кроме сознавания лишь примитивной линейной последовательности событий — а всё гораздо сложнее, и наши страдания могут стать карой и за те грехи, в которые нам ещё предстоит впасть?
XIII
А я ещё раз скажу (и повторять буду!): для меня нет ничего интереснее, чем я сам же и есть. Как можно быть, не зная: что ты и зачем ты? Это уж и не жизнь вовсе, а совершеннейшая пошлость выйдет. Вот.
Да, милостивые государи вы мои, одна мерзостность в конечном результате объявится.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Смотрю на те свои метания — с высоты собственного нового времени — ничем помочь не могу, но вижу: за что-то же отметил меня Господь Своим наказанием, если такой путь передо мной открывался к гибели в пучине тщеславия, — а Он не пустил. В упоении успехом я бы в себе все росточки маленькие заглушил тех дум и сомнений, какие в испытаниях только и могут заметно ввысь тянуться. Правда, и вытоптаны быть могут теми же бедами, если не остеречься...
XIV
Помню, проснулся — и не пойму: почему так радостно и легко? Ах, да, это она мне приснилась. Как будто мы шли по опушке какого-то леса, а уже поздняя-поздняя осень, земля застылая, твёрдая, лес пустой и тихий. И мы просто идём куда-то. И всё.
Мне в тот день непременно нужно было в Институт идти, там Шерман с Ростом один эксперимент затевали, даже Матвеич заинтересовался. Я же взял и не пошёл.
...Однажды я провожал её — всего раз в жизни — от библиотеки до дома. И вот я зачем-то снова побрёл тем же путём, уже в одиночестве, дошёл до подъезда, поднялся по лестнице, остановился у двери... И испугался: выйдет сейчас кто-нибудь, увидит... а если она сама — и того хуже.
Я выбежал на улицу, перешёл на другую сторону и долго стоял, глядя на её окно. И почему-то весь день такой счастливый был...
Смешно теперь всё это.
К вечеру же я всё-таки заявился в Институт. Вхожу к нам — Матвеич сидит. Хорошее дело: мне тут протежируют, одного единственного со всего курса выделили, а я — манкировать. Сбрехнуть, разумеется, ничего не стоило. Но находит на меня порою (редко, правда) такой стих, что я физически не могу врать. Самую невыгодную, губительную даже для себя — но коли уж говорить, то только правду.
...Такие приступы со мною ещё с детства случались. Наваждения какие-то. Хотя всё по пустякам. Но вот один случай, помню, серьёзный был. Это уже в школе — перед самым окончанием, месяца за два до экзаменов.
К тому времени давно уже остались мы с мамой вдвоём; бабушка умерла, отца же своего я и вовсе не знал: в самом конце войны погиб. Жил я вольно. Конечно, мама тряслась надо мною, над своим сокровищем единственным, но в тот год она особенно часто болела, три раза в больнице лежала — я оставался один. Имелся у меня приятель, за одной партой сидели, я ему списывать давал, двоечнику, а он мне, отличнику, вино покупал и водку иногда: она тогда ещё дёшева была — нынче алкаши как вспомнят, так и плачут: два восемьдесят семь пол литра, сказка. Мы ту водку вдвоём с приятелем и приканчивали потихоньку. А раза два, помню, даже и коньячок выкушали. Впрочем, на мой вкус — не меньшая гадость, чем водка.
Тот же приятель познакомил меня с одной бабой, свободной, как говорится, от предрассудков. Лет двадцать пять ей было, или больше. Симпатичная, помню, хоть и несколько толстовата — правда, не очень чтоб, но. Я так понимаю: поднаскучили ей тогда мужики, искушённые в любовных делах,— и потянуло на свежачка, я же не обладал стойкостью Иосифа Прекрасного, да и смысла в той стойкости не видел. В семнадцать-то лет кто из нас особенно умён?
Когда я один оставался, я у той бабы даже ночевал. По утрам, признаться, так мне всё на свете противно становилось, с души воротило. Но: через несколько дней опять к тому же начинало тянуть.
Помнится, заездила она меня однажды совершенно: семь вёрст отмахать заставила (выражаясь изящным слогом Декамерона) — хотя для милого дружка семь вёрст не крюк, однако же после такой скачки по всему организму моему разлилось некоторое отчасти недоумение. В оном недоумении и явился я в класс, но малость припозднился. Самую, впрочем, малость.
В другой раз я бы благоразумно переждал и на второй бы урок как ни в чём ни бывало пошёл — никто бы и не заметил,— а тут нашло на меня безразличие ко всему, проистекающее, разумеется, как раз от того самого общего в организме недоумения. Я и ввалился: “Можно, говорю, войти?”
А историчка наша — баба, в общем-то, неплохая, но порою излишней принципиальностью маялась — ей вдруг строгость в поясницу вступила — она и спрашивает, этак слова выразительно отчеканивая:
— Марков — почему — вы — опаздываете — и — где — вы были —?
Смотрю я на неё и размышляю про себя: “И чего тебе от меня надо?” До того мне сие любопытно стало, что я возьми да и спроси:
— Надежда Александровна! Вам и впрямь нужно знать, где я был? Я должен правду сказать?
— Да,— отвечает она ещё более выразительно и твёрдо.— Я. Хочу. Знать.
— Хорошо, скажу. Я был у своей любовницы.
Никто не ожидал, разумеется, а Надежда наша Александровна, по-моему, не сразу и поняла.
— Что... Значит... Любовница... ?..
Я даже развеселился внутренне:
— Вам объяснять надо?
А у неё что-то заклинило, она уж и остановиться, как я теперь понимаю, не могла, ежели бы и хотела.
— Да. Я. Хочу. Это. Знать.
А меня тоже понесло:
— Любовница, это, как бы поделикатнее выразиться, такая особа женского рода, с которой мужчина состоит, если можно дать такую дефиницию (любил я по-молодости такими словечками баловаться), в незарегистрированных, так сказать, отношениях.
— Вы ещё не мужчина, Марков!— возмутилась наша строгая блюстительница нравов, бедная старая дева, ещё не до конца, вероятно, осознавшая смысл нашего диалога.
— Та особа, о которой в данном случае зашла речь, придерживается противоположного мнения,— возразил я, не без идиотского самодовольства вспомнив причину постигшего мой организм недоумения, каковое, проклятое, и стало причиною учинённых словопрений мною.
Гораздо разумнее было, конечно, просто сказать, что проспал-де, потому как допоздна засиделся, постигая хитроумные законы и тайны мирового исторического процесса. В другой раз так бы и сделал, теперь же сознание моё пребывало в некотором тоже недоумении, распространившемся на него со стороны общего состояния организма,— поэтому, глядя на весь прочий мир, вне меня обнаруживающий себя, я размышлял так: “И что это мы как в игры какие что ли играем, ритуальные словесные штампы без всякой мысли твердим, какие от нас как по принуждению выжимают, чтобы мы их из себя воспроизводили. А ведь тем временем все как будто только о правде и пекутся. Прямо-таки живот за правду положить готовы, со всеми его потрохами, кишками и аппендицитом впридачу. А что ежели и впрямь даже в мелочах только правду говорить? А правила игры псу под хвост? Каково-то будет?”
Я как бы от всего отстранился, и на себя и на других будто со стороны смотрел — да и забавлялся тем безмерно. И вижу: не могут они все переварить того, что с их убогими шаблонами не схоже — зло меня начало разбирать — я и того пуще наговорил.
Ох, как же меня потом “прорабатывали” — и на классном собрании песочили, и в комитете комсомола вразумляли, и на педсовете воспитывали. Замечал я неоднократно, что особи женского рода ролью выразительниц общественного негодования прямо со страстью увлечены бывают. Как всё равно свербит у них где-то что-то. Одноклассницы мои, к примеру, принялись обличать и наставлять меня касательно любви. Я гляжу на них: а ведь они всерьёз.
— Неужели ты думаешь, что у тебя с этой женщиной любовь может быть настоящая?— соплячка одна мне глаза раскрыть удумала.
“Ах ты, думаю, цыпочка! Куда тебя потащило!"
— Какая уж тут может быть любовь,— говорю,— просто надоели дамочке мужики, захотелось мальчика нецелованного. У женщин бывает.
Говорю и невинно всем в глаза заглядываю. Надо отдать им справедливость — покраснели.
Директриса же наша (она все проработки возглавляла) от такой моей бесхитростности просто задохнулась:
— Нет, вы только подумайте! Это же надо до такого невозможного цинизма дойти!
— Я не согласен с предложенным термином,— спокойно возразил я.— Цинизм это когда высшие начала, любовь, например, отрицаются и осмеянию злобному подвержены имеют быть. Я же не отрицаю ничего. Отнюдь. Но ведь рассудите: ежели чего в каких-то конкретных обстоятельствах нет, то ведь и нет его, и нечего напраслину на себя возводить. Тут не цинизм вовсе, а просто трезвый взгляд на вещи каковы они есть.
Я прекрасно сознавал, что вышибут они меня сейчас из комсомола (всё к тому шло), и всю судьбу мою перегородят. Но совершенное безразличие во мне к тому угнездилось. Только злость холодная к самому горлу подступала. Я в такие моменты никого и ничего не боюсь, а лишь презираю всех и вся. Может, и себя в придачу.
То меня спасло, что я был круглейший отличник и на медаль шёл, каковую, высшей пробы, и получил в своё время. Школе невыгодно было медалиста терять, показатели себе портить. Да и я понемногу присмирел. Объявили мне какой-то выговор, тем всё и обошлось. Унялись страсти, общественное негодование паром вышло. Даже маме — хоть поначалу вознамерились — ничего не сообщили. Решили разумно: волновать её, больную, опасно, да и проку от того мало — даже у твердолобой директрисы нашей, и у неё на то ума хватило. Тем более что я простосердечно обещал исправиться. Экий вздор: как это — исправиться?
Вот так иной раз как будто что-то свихивается во мне, накатывает такое равнодушие — почему-то его все (кретины!) за особую смелость принимают,— что я обретаю способность кому угодно в какой угодно обстановке и что угодно ляпнуть. Если бы, к примеру, я оставался в Институте до сих пор, и притом простым научным сотрудником, мне бы ничего не стоило встать и заявить, что директор наш (Рост то бишь) бездарность и демагог и заслуживает лишь одного: пинка под зад. Я ему ведь говаривал подобное, но мягче: тогда я никакого в том особого удовольствия не видел.
Интересно, под каким соусом он меня теперь бы сожрал...
Тогда же, после моего прогула, когда я вечером на Матвеича напоролся, Рост мне даже сочувствовал:
— Ты чего, отбрехаться не мог?
А я именно не мог. Матвеич на меня отчасти равнодушно взглянул:
— И почему вы так поздно являетесь, юный мой друг?
— Просто не захотелось приходить, и всё.
— В таком случае, мне просто не хотелось бы видеть вас в моём Институте вообще.
Спокойно сказал, отвернувшись чуть брезгливо — а ведь напоказ изобразил, чуть-чуть актёрствуя: слишком уж шаблонно всё вышло.
Я повернулся и ушёл.
Я снова пошёл туда, долго стоял в холодной пустоте, глядя на её светлое окно. Но теперь я уже не слышал в себе тихого счастья, зарождённого во мне лёгким сновидением — меня давило безмерное отчаяние: между светящимся в ночи окном и мною заполняло собою время и пространство — невидимое и неслышимое, но реальнее самой реальности ощущаемое — никогда ...
На следующий день я явился к шефу, вошёл к нему без спроса, с ходу, как будто к себе, и твёрдо без колебаний — он только на меня взглянул, а я ему — глаза в глаза:
— Неужели вы не понимаете, что бывает такое состояние, когда ничем не можешь заниматься, и причин вроде бы никаких видимых, а и к самому любимому делу безразличие. Человек не робот.
Он смотрит и молчит.
Не знаю, как объясняют многомудрые умы посещающее нас порою озарение, да и согласны ли они вообще признать сей феномен, хотя — необходимо согласиться — если имеется таковое слово в языке, то ведь и понятие в сознании откуда-то явилось — а откуда же ему взяться, как не из реальности.
Меня именно озарило, сразу, внезапно: что-то раскрылось во мне, и я так ясно увидел то, над чем они там бились накануне — и всё впустую, потому что (я вдруг понял) они прямёхонько в тупик сунулись, но, вероятно, сами того и не уразумели до сих пор.
И всё, чем там вчера занимались в лаборатории — это всё чушь собачья, псу под хвост только и годная.
Тут всё вышло как помимо моей воли. Я обошёл стол Матвеича, взял какой-то лист бумаги и изобразил схематично то, что так ясно теперь знал.
С того момента Матвеич уже всегда мне и всё прощал. Длился такой фавор до самого моего судного дня.
У меня же какая-то наглость явилась — я себе многое стал позволять: уже когда и в Институт окончательно после учёбы зачислен был — прогуливал по нескольку дней без зазрения, к Матвеичу ходил без всякого вызова, на всякую глупость любому говорил в лицо всё что думаю. Разумеется, сначала повозмущались, но отступились потом. Рост же с Шерманом меня даже прикрывали: они ведь моими идеями большей частью и пробавлялись, им даже перед собою как внутреннее оправдание были мои прогулы: они всё своими руками делают, а я так — болтаюсь туда-сюда. Вроде бы именно их работа.
Главное же — у Петельского широта была, он понимал, что я прав и смысл научной работы не состоит в непременном отбывании от звонка до звонка в определённой точке пространства.
Рост, передали мне, теперь дисциплину учинил. За опоздание на пять минут выговор лепит. Уже одно то обнаруживает ясно, что даже администратор — и то он бездарный. Но о том пусть у него голова болит.
Меня тяготит другое. Вскоре после освобождения я вновь пошёл на ту улицу, где замирая от любви и счастья и от тоски, смотрел когда-то на её окно. Я пытался вспомнить, вернуть себе то прежнее ощущение, хотя ненадолго, на миг — пережить светлое своё состояние, исчезнувшее во времени. Но оказалось: оно исчезнуло в проклятом никогда.
Я даже не знаю, чьё то теперь окно.
XV
Мои начальные разговоры с Назаровым представляются мне время спустя как один большой диалог-спор. Как будто мы только и делали, что обсуждали религиозные проблемы. Не так это вовсе. Просто всё как-то в моём сознании спаялось, будто неразрывное. Весь мусор отсеялся. А мусору-то было предостаточно. Моего мусору. Саша вообще немногословен. Может быть даже, что-то из ему здесь мною приписанного, самим же мною и додумано за него было?
Одна моя знакомая дама недавно его “ходячим катехизисом” наименовала. Да нет. Во-первых, он ничему никогда не поучал, а только отвечал, когда я спрашивал. А потом, ему приходилось часто отбиваться от моих наскоков, тогда он и прибегал к “катехизаторству”. Теперь я вижу, что и его знания в чем-то поверхностны и неточны даже. И банальны отчасти. Я вспоминаю, потому что для меня это всё тогда внове было, неожиданно, неприемлемо чаще. Что-то и мимо меня проскакивало, не способного воспринять. Это мой уровень, мой круг интересов. То, что он говорил, меня характеризует, а не его. Потому что именно так я запомнил его слова.
Оттого я и припоминаю наше общение теперь как непрерывный диспут. В реальности это всё растянуто и разорвано было.
— Я же не смеюсь над твоей верой, почему же ты иронизируешь над моей?— с сокрушённостью в голосе сказал мне Назаров.
— У меня нет веры,— недоумённо возразил я.
— Ты веришь, что Бога нет.
— А если я знаю?
— Как мы можем знать это?— в раздумье проговорил он тихо.
— А что Он мне дал, этот твой Бог, чтобы я верил в Него?— почти крикнул я раздражённо.
— Возможность не чувствовать себя куском навоза, неизвестно для чего появившимся на свет,— как о само собою разумеющемся сказал и мягко улыбнулся он.
Улыбка у него была как всегда ясная — мне всегда нравилось смотреть, как он улыбается. В такие минуты я жалел даже, что не художник: из такой улыбки можно было бы создать шедевр портретной живописи. У него вообще было кроткое и одухотворённое лицо, но в последнее время оно чаще было скорбно, и глубокая внутренняя сосредоточенность отражалась на нём — улыбался же он редко. И ни разу я не слышал его смеха. Хотя! какой тут может быть смех?
После похорон Маши я отчасти сблизился с ним; правда, общение наше происходило лишь по дороге, когда мы возвращались с занятий домой. Некоторое время я выжидал, но через две недели явился к нему сам, без приглашения — я умею быть бесцеремонным. Мне хотелось говорить слишком серьёзно, городской же транспорт к тому не располагал.
Я пришёл к нему утром — для меня так было даже рано, но он уже успел отбыть свою поломойную повинность. От каких домашних дел я его оторвал — не знаю: при мне он уже ничем не занимался. Мы были одни: сын в школе.
Я был жесток с ним, я понимал, что от моих слов ему больно. Но для меня речь шла об истине. А коли он претендует на обладание истиной, думал я,— хотя он никогда не утверждал того, между нами даже речи о том не заходило, однако я именно был убеждён и раздражён: его мнимою, как я воспринимал её, претензией на истину — и раз уж он имеет такое притязание, то я не стану его щадить: истина способна противостоять всему. Если же он сломается, то всем его поползновениям вещать от её имени грош цена.
— Но если существование твоего Бога, как ты утверждаешь, придаёт смысл нашему бытию, то смысл ведь не может существовать вне справедливости — иначе я отвергаю подобный смысл, иначе он бессмыслен.
— Бог — источник справедливости вообще,— ответил он.
“Вот что меня всегда будет отталкивать: какое-то расслабленное следование раз и навсегда установленным шаблонам, схематизм мышления, отсутствие именно свободы мысли”— так подумал я, не видя, что шаблонность несвободного мышления есть как раз мой порок.
— Справедливости! В смерти твоей дочери тоже высшая справедливость?— я бил наотмашь.
— Это старый аргумент,— спокойно сказал он, будто его и не затронули мои слова.
— Я и не претендую на оригинальность,— я сказал так, но самолюбие всё же кольнуло меня. — Я хочу знать ответ: вопрос-то слишком важен.
— Что мы можем знать о высшем Промысле?
— Э, нет!— с некоторым торжеством почти закричал я.— Такие банальные отговорки я не приму. К тому же, помнится, ты утверждал, что всё от человека зависит.
— Просто мы каждый день, каждый час, каждое мгновение как бы на распутье между добром и злом. От нас зависит, что предпочесть. Но лишь сделан выбор — остальное не в нашей воле. Наша свобода в том, чтобы встать на определённую дорогу, а куда она приведёт, установлено не нами же. От нас зависит одно: поступать по совести или нет. У совести же лишь одно дело: предупреждать, где мы от Промысла отступаем.
— Красиво, хотя и несколько отвлечённо. Но вот что не пойму: вот ты поступил добросовестно, не сбежал с занятий раньше времени. А если бы сбежал и пришёл домой раньше хотя бы на полчаса, то может быть...— я не договорил.
— Может быть,— сказал он по-прежнему спокойно.
— За свою же совесть ещё и наказан,— я откровенно добивал его.— Да ведь и не ты один. Дети-то вообще — за что страдают? Фёдор ещё Михалыч, помнится, вопрос ставил, хотя ответа вразумительного так и не дал. Тупик. За что они страдают?
— Я однажды попытался утешить себя такой мыслью: как можно утверждать, что они именно страдают?
— То есть как? — будто поперхнулся я.
— Помню, Маша начала рассуждать однажды, что она ещё не родилась, а всё ей только кажется...
— И что?..
— Так просто, вспомнил,— он замолчал, нахмурился.— Вспомнил... Конечно, обычная детская выдумка. Но я тогда и подумал: если с нею что-то случится, мне будет очень и очень больно, но если она даже станет мучиться у меня на глазах — не будет это лишь субъективным отражением в моём сознании моей собственной греховности — не более?
— То есть галлюцинация что ли?
— Нет, не галлюцинация. Это сложнее.
— Да ты фанатик-изувер!— с удивлением глядя на него медленно прошептал я.— Ты думаешь, что ты говоришь?
— Да это я просто себе в утешение навыдумывал, чтобы не так страшно самому было.
— Вспоминая своё детство,— живо отреагировал я,— могу удостоверить, что больно мне было много раз. Так что маловато всё ж таки милосердия и любви у твоего Бога.
— Когда я наказываю своих детей (он сказал “детей” и запнулся, и мне показалось, что в какое-то мгновение он мог зарыдать так же страшно, как тогда, на улице — “Всё-таки страдаешь! Только представляешься спокойным и невозмутимым”,— подумал я, но он уже совладал с собой)... ну, когда мы их наказываем, мы же делаем это потому, что любим и хотим им добра...
— Нынче наказывают детей, чтобы раздражение сорвать, а вовсе не от стремления к добру.
— Так наказывает дьявол. Но ведь мы же созданы по образу и подобию... Знаешь,— улыбнулся он вдруг виновато,— я всё думал прежде над этим, а потом решил: в нас что-то от Самого Бога, и значит если мы будем прислушиваться к движениям своего духа, мы и Бога услышим, то есть хоть немножко поймём, сумеем понять. Вот я наказываю...— он чуть помедлил.— Вчера Севку наказал, а самому было, наверно, хуже, чем ему. Но зачем? Чтобы это помогло ему стать лучше. Так и Бог наказывает меня и делает это из любви, чтобы я от греха освободился.
— Слушай,— грубо перебил я,— а ты хоть понимаешь сам, что несёшь сущую чушь, чтобы не сказать больше?
— Ты не веруешь, вот для тебя и чушь.
— Я вот и прошу объяснить: как можно верить, в наше-то время, во все эти сверхъестественные штучки, во всё вообще...— я сделал неопределённый жест рукой и вдруг почувствовал скуку и утрату всякого интереса к нашей теме. Я понял, что ничего нового он мне не откроет, а всё твердить будет свои бабушкины сказки. Я даже подивился себе: с чего бы это я вдруг поверил, будто он может сообщить мне нечто путное?
— Если бы так, как ты говоришь, то было бы слишком просто. В сверхъестественные чудеса верит и грубый язычник.
— Ну: а как же утончённые христиане верят?— подколол я его.
— Я истинно верю лишь тогда, когда верю, что всё совершаемое Творцом, даже то, что мне кажется недобрым и заставляет страдать, даже это совершается во благо мне, и должно совершиться, даже если я не постигаю воли Божией. Я должен её принять, уверовать в неё. Вот как уверовал в конце концов ветхозаветный Иов. Или как верил Авраам, когда готов был принести в жертву собственного сына.
— Но это же дикость!!! Это тупой фанатизм!— он просто взбесил меня.
— При отсутствии веры это и впрямь представляется дикостью,— как-то совершенно спокойно признал он.— Но ведь мы судим из ограниченности своего времени, оцениваем, исходя из его узких пределов. Бог же в вечности, и Его действия соизмеряются с её беспредельностью. В том вся и суть. Когда мы говорим о благе, то должны не забывать, что это благо в вечности, а во времени оно может казаться иным. Только в вечность-то ведь верить надо, иначе ничего не получится: так и будем тыкаться носом в жёсткие стены.
Но я не мог успокоиться. И вдруг я догадался, как я могу уловить его.
— Раз ты полагаешь, будто всё лишь ко благу, так ты радоваться должен...— я не договорил, но он понял.
Он понял, что я опять бил его без пощады. Он поднял на меня свои прекрасные глаза: в них я увидел сострадание. Но говорить он начал спокойно и твёрдо.
— Она умерла здесь, но в вечности жива. Однако всякое расставание несёт печаль.
— Печаль,— повторил я с иронией. Я не хотел щадить его, потому что страдал в это мгновение сам.
А он вдруг тихо выдавил из себя признание:
— Там где вера, там ведь и сомнение.
— Значит, сомневаешься!— я почти обрадовался.
— Даже святые боролись с сомнениями.
— Хороша же ваша вера!— мною опять овладело насмешливое настроение.
— Вера, не прошедшая испытание сомнением немногого стоит.
— Я вот тоже сомневаюсь: что твой Бог мне что-то дал. Зато не сомневаюсь в одном: Он у меня всё отнял.
XVI
— Мадемуазель, это же будет просто несправедливо, если мы с вами никогда больше не пересечёмся во времени и пространстве.
Я прежде не знал этой девушки, я столкнулся с нею — тогда, во время оно — случайно в полупустом троллейбусе, и она просто привлекла моё внимание. Мой напор проистекал из обретённой мною самоуверенности, основанной в немалой мере на моих институтских удачах: я состоял уже в аспирантах, за мною числилось несколько печатных работ (правда, большинство — в соавторстве: с Ростом, с Шерманом, даже с Петельским — честь, что ни говори), шеф ко мне благоволил, я давно утвердился в умах институтских сотрудников как блестящий многообещающий талант, я расстался с прежней своей робостью, я был в прекрасных отношениях со всеми, я имел немалый успех у прекрасного пола; я был доволен собою и счастлив.
— Ну согласитесь: несправедливо,— настаивал я.— Я должен вас увидеть ещё раз.
Она ответила мне с какой-то непонятной для меня покорностью в голосе:
— Вы не обманываете меня?
— К чему такое кокетство? Если вы хоть раз глядели на себя в зеркало, то не могли не понять, что всякий, увидевший вас, захочет этого ещё и ещё.
И всё-то на одни банальности мы способны. Вероятно, подобная фраза произносилась с небольшими вариациями миллиарды миллиардов раз — и не без успеха, впрочем. Как часто я мучился в душе: я пошл и бездарен и не могу выйти из общих мест.
И всё идёт по кругу: не только в моей жизни, но и у всех — из тех, кого я знаю хотя бы.
Вот Рост. Каких только достоинств не обнаруживал он в прежней своей невесте, чего только не наговорил нам про неё, похваляясь собственной удачливостью,— и что же? Препошлейшая история: встретил “более выгодную партию”, дочь какого-то крупного партийного деятеля (каламбур, однако!), долго и назойливо её обхаживал, втирался в доверие к будущему тестю, прошёл, несомненно, строгую проверку — и вот я уже в числе приглашённых на свадьбу.
— Сегодня у моего приятеля свадьба,— продолжал я настойчиво стремиться к цели.— Согласитесь: грустно одному сидеть и смотреть на чужое счастье, даже какую-то неполноценность начинаешь в себе ощущать. Не обрекайте меня на это, пойдёмте вместе.
Беспечность молодого шалопая позволяла мне без всяких хлопот заводить любые связи, меня вывозило не только отсутствие колебаний, но и полное безразличие к успеху моих домогательств, ставшее особенностью натуры убеждение: любая неудача в чём бы то ни было не стоит и малой доли сожаления, когда в главном всё хорошо. В главном же моём — я преуспевал. Во всех случайных встречах я мыслил однотипно: станет кобениться — и чёрт с ней. И почти всегда мне уступали.
Я поддерживал сразу несколько знакомств, дразнивших мою чувственность своими контрастами. Так, я любил тихие прогулки допоздна вдвоём, долгие проводы, робкие поцелуи в укромных сквериках, ожидания на условленном месте с непременным её лукавым опозданием и трогательной просьбой не сердиться; меня влекла лёгкая поэзия этих невинных отношений — но я никогда не позволял им переходить в нечто более серьёзное, и всегда искусно создавал какой-нибудь предлог для разрыва (что нетрудно), лишь только замечал нарушение необходимого равновесия. Но одновременно я имел любовницу, иногда двух, с которыми можно было обходиться без излишних сантиментов — это всегда были женщины старше меня, искушённее в плотских забавах, которым я охотно подчинялся, вполне доверяя их опытности. Признаться, с наивными девицами я чувствовал себя крайне неловко: пришлось бы брать излишнюю инициативу на себя, умасливать, преодолевая их робость и сопротивление, пусть и показные (“На то и девки, чтобы сначала мяться, а потом сдаваться” — любил повторять Рост),— что, в конце концов, стало бы меня просто раздражать. Нет: соприкосновение душ и соприкосновение тел...— смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, но я не склонен к тому. Одно плохо: через некоторое время я неизбежно обретал невыносимое отвращение к тем, с кем предавался любовным утехам — приходилось рвать знакомство, опять подыскивая к тому удобный повод (хлопот-то, хлопот!) и искать новых связей. “Соприкосновение душ” тоже оборачивалось обманом.
Необходимо смириться и признать печальной истиной, что во всех подобных похождениях не было главного — не было любви. Было всё, что угодно: влюблённость, увлечение, страсть, привязанность, симпатия, похоть, привычка... Сама по себе вся сия мишура вовсе и не плоха, быть может, и я бы не относился к ней с досадой, если бы мне не казалось порою: в наказание за увлечённость фальшивым блеском я лишаюсь того, что только и было необходимо моей душе, без чего она высыхала неотвратимо.
В кругу, где я коловращался, принято было видеть любовь в одном: в возможности спать вместе. Таковая жалкая мысль сама по себе столь неоригинальна, что не стоило бы и вспоминать о ней, но я сам наедине с собою порой прибегал к подобному незатейливому обману, чтобы оправдаться хотя бы перед собственным чувством истины и справедливости. Старо ведь как мир: легче принизить то, до чего не хочется возвышаться. Или сил нет?
В сущности-то — что есть любовь? Словами, вероятно, и не выразить точно. Но хотя бы так: это счастье, что живёт на свете другой человек, и благодарность ему за это. (Но если так — несчастной любви быть и не может вовсе. Несчастье — когда любви нет.) Коряво, но лучше сказать не умею.
Не знаю... говорят, для любви нужен особый талант... если так — то ведь талант можно и растранжирить по пустякам...
Стремясь к любви, я боялся её и бежал прочь. Я знал, что любовь и жестока: боль любимого человека становится и твоей болью, оскорбляя его — оскорбляют тебя, смеясь над ним — смеются над тобой. Ты начинаешь ненавидеть его врагов и любить его друзей, цель его жизни станет твоей целью, твоими будут его несчастья и беды. Осознав это, я не захотел обрекать себя на непосильные, как казалось мне, лишние тяготы. Я хотел сберечь душу от многих страданий — и потерял её. Любовь есть преданность души и покорность тела. Я ждал только покорности, но преданность мне докучала. Она как будто стесняла мою свободу в любви.
Так я рассуждал прежде... Теперь это стало моей болью.
Странно: мы произносим одни и те же слова, но каждый разумеет лишь своё. Одни говорят о свободной любви, другие понимают под этим дозволенность разврата. Но к каждому Дон Гуану приходит в конце его каменный мститель.
XVIII
Нет ничего скучнее современной свадьбы. Мне до крайности любопытно: со временем — эта церемония станет ещё более нелепой или дальше уж некуда?
Я признаю необходимость насыщенного трагическими отблесками и одновременно поэтически трогательного обряда старинной русской свадьбы — там до высочайшего накала страстей доходило, там разверзались бездны грядущего. Недавно три вечера подряд читал записи свадебные фольклорные, сердце защемило.
Нынешние же мероприятия — тут даже скуку скучно испытывать. Вначале казённое “венчание” под заученную речь казённого лица, потом бессмысленное обжорство и пьянство с пошловатой бесцеремонностью какого-нибудь неумного тамады.
Рост мне сказал однажды: “Когда “горько” кричат, так и хочется кулаком по морде заехать”. (Отчасти я эту неприязнь разделяю: ну что орать? Кляп бы в эти орущие глотки.) Теперь он всё это на себе испытывал: вокруг него ели, пили, выламывались и тряслись под судорожную музыку и пьяно кричали “горько”.
Происходило коловращение пирующих: переходили от беседы к принятию пищи, к тостам (с последующими воплями), к хождению по залу, по прилегающим пространствам, и наново к тостам, и к пению, совершенно обособленному от грохочущих лабухов, и вновь к еде, и вдругорядь к разговорам, и к новым хождениям, а потом к попыткам иных не слишком даже молодых и солидных персон станцевать нечто прогрессивное, и возвращение их, слишком запыхавшихся и багровых, опять к питию и закускам, и в который раз к возобновлению бессмысленных споров, говорению страстных речей, а потом к произнесению новых тостов, весьма однообразных, так что под конец их мало кто слушал и поддерживал.
— Вы не находите, Натали, что крики “горько” — несусветная глупость и бестактность? Как будто гости боятся, что жених не догадается поцеловать невесту. Не надо сомневаться: поцелует и...— я наклонился к её уху и шепнул:— и не только поцелует, но свидетелей им для того вовсе не требуется.
Она чуть покраснела.
— И вообще свадьба пренесносное мероприятие. Я так безмерно благодарен вам: что бы я делал тут один? Вот он мой приятель (я указал на Роста), сослуживец, в другой обстановке мы бы с ним весело поболтали, но теперь ведь ему не до меня. Прочие сослуживцы мне успели надоесть. Часть гостей я вообще не знаю, да и знать не желаю. А так вы со мною — такая красивая.
Она и вправду красива была, хотя я бы сказал свой комплимент в любом случае: женщинам требуется исключительность внимания и восхищения мужчины — я знаю, что в этом весь секрет мужского влияния на них. Впрочем, и оная мысль не оригинальна... ну и пусть не оригинальна, главное, побольше восхищения. Но если девушка и впрямь хороша — всё гораздо проще: не нужно притворяться.
Внешность моей спутницы нашёл время оценить сам жених.
— Старик, ты где такую отхватил? Гибкость стана непостижима. Подмахивать будет исключительно — я тебе говорю.
Рост говорил в своей обычной манере, но и из зависти несомненно: его жена была не так чтобы очень. “Ничего, подумал я, с другими утешится”.
— Вы понравились жениху, он даже признался, что жалеет, что не вы рядом с ним под фатой,— сообщил я Наташе.— А вот я ему, признаться, не завидую.
— Нельзя быть таким злым,— с укором взглянула она на меня.
— Я не злой, я справедливый. Зачем врать? Кто прекрасен (я поклонился ей слегка), тот прекрасен. А кто вроде вот той (я кивнул в сторону невесты), тот отнюдь не.
— Всё равно злой.
— Да, многие считают меня злым и циничным. Я же ещё раз скажу: я просто правдивый. И если я вижу неправду в других, то не скрываю.
— В чём же неправда невесты?
— В некрасивости. Или вон две тётки сидят. Сразу видно: чопорные ханжи. Хотите, я им это прямо в лицо скажу?
— Почему же они ханжи?
— Конкретно я не знаю, я их вижу в первый раз.
— Но как же тогда можно судить?
— Трудно объяснить. Всё дело вон в той линии, если в профиль, от носа через подбородок (я взял салфетку и прочертил то, о чём говорил). Вот если бы контур был такой (я нарисовал), то в этом бы отразилось добродушие. Видите, в чём разница? Особенно, обратите внимание, вот в этом месте линия важна. Неужели не понятно?
— Нет, я с этим совсем не согласна. Так нельзя судить.
Как всё было хорошо — и вот она, первая незаметная трещинка, знак будущего неизбежного отчуждения. Непонимание, непонимание — оно не может не тяготить меня в общении с людьми, особенно если я вдруг навоображаю себе их внутреннюю близость со мною. Почему-то такую ошибку заставляет совершать нас привлекательная внешность человека: как будто она непременно предполагает такое же совершенство души и ума. Тут наше неистребимое стремление обрести хоть в чём-то недостижимую гармонию, раз уж её нет в нас самих (что мы ощущаем и знаем прекрасно). Но всегда стремление наше оборачивается новой ошибкой, новым разочарованием.
Трещины отчуждения, которые я всегда безусловно ощущаю, способны разрушить моё душевное равновесие, лишают всякого желания продолжать общение с разочаровавшим меня человеком — он делается мне чужим и чуждым. Хотя кажется: что за ерунда — не понять смысла бессмысленных линий в контуре чьего-то профиля: да тут никто вообще, пожалуй, ничего понять не в состоянии. Никто не в состоянии — но я-то всё же понимаю, и непонимание остальных обрекает меня на одиночество.
Я помрачнел и замолчал. Но тут же и почувствовал, что и спутнице моей вдруг стало неуютно, плохо рядом со мной,— мне стало её жалко, и я переборол своё всколыхнувшееся раздражение против неё.
— Ладно, все распрекрасные люди. И всех распрекраснее вы,— сказал я, самим тоном давая понять, что в моём настроении нет и тени недовольства.— А сколько, доложу вам, достоинств в женихе, просто не счесть. Мы вместе в аспирантуре, я ещё не успел вам рассказать, мы оба химики, только он через полгода защищается, а меня лишь два месяца как зачислили. Его ждёт блестящее будущее.
В блестящее будущее Роста я тогда отнюдь не верил. Расхваливал же его, чтобы косвенно сообщить о своих собственных достоинствах, приподнять себя.
Тем временем вблизи нас устроился какой-то угрюмый дядька, в одиночестве наливавший себе из большой бутылки. Он взглянул на меня и, очевидно, решив, что во мне можно обрести единомышленника, счёл возможным сказать:
— Победила Америка Россию. Без пушек и ракет победила.
Я промолчал, но во взгляде своём послал ему недоуменный вопрос: его замечание показалось мне несколько неожиданным.
— Вот только это теперь и услышишь от Москвы до Владивостока,— он с ненавистью кивнул в сторону танцевального грохота,— даже если наши вдруг песни, и те на тот же лад корёжат.
Я кивнул головой, а в глазах моих он смог явно разглядеть сочувствие моим мыслям.
— Музыка, она же отражение души. И у неё власть, у неё же власть над душою. Она же может душу подчинить, дать настрой, под себя подладить. Вот и послушайте, послушайте, какая у них душа. Вслушайтесь в их души.
Над нами хлестал мутным потоком физиологически властный хаос скрежещущих и воющих звуков.
— Как вы думаете,— не унимался угрюмый,— чего можно ожидать от людей с подобной душой?
— Аллилуия любви!— завопил кто-то.
Самоуверенная напористая дама, слышавшая эти речи, прервала дядьку тоном иронического превосходства:
— Как же можно это отрицать, если молодёжи нравится?
— Им вон сейчас всякая гадость нравится. Дура она, эта ваша молодёжь.
— Молодёжь не виновата в том, что она такая. Время такое,— объясняла всем некая добродушная тётка, тут же оказавшаяся.
Сладко улыбчивый молодой человек подошёл к столу и на ходу обратил свою улыбку какой-то незнакомой бабе, и она тоже улыбнулась ему в ответ — и обе их улыбки выразили то, что они как будто чувствовали друг к другу и что они вдвоём одинаково понимали: как весело и хорошо им здесь, и нельзя поэтому не веселиться, не дергаться под ритмы и не улыбаться. Подцепив что-то вилкой с тарелки и забыв в тот же момент про свою даму, молодой человек вдруг набросился на угрюмого дядьку, который тем временем навалил на тарелку целую гору закуски и сосредоточенно постигал её:
— А я вам всё-таки скажу, что вы совершенно не правы.
— В чём же?— флегматично осведомился едок.
— Вот хотя бы Бертран Рассел позволил себе остроумно (и ведь вполне справедливо, согласитесь) заметить, что нравственность вовсе и отнюдь не имеет ровно никакого сколько-нибудь прямого и осмысленного отношения к главной цели бытия, то есть к счастью.
— И кто же это сказал, что счастье главная цель бытия?— поинтересовался едок и чвокнул зубом.
— Это и не нужно вовсе кому-то и зачем-то говорить,— отпарировал улыбчатый.— Это и без того всем ясно.
— Кроме меня.
— Так вы ретроград, выходит?
— Моя бабушка говаривала: хоть горшком назови, только в печь не станови,— ещё более флегматично ответил чревоугодник, не переставая жевать.
— Не имел чести знать вашу бабушку.
— И много потеряли. От неё можно было бы побольше ума набраться, чем от какого-то Бертрана Рассела, твердящего чужие зады.
— Это почему же чужие, почему чужие?— взвился улыбчатый.
— Потому что не свои,— добродушно пояснил флегматик, успевший тем временем совершенно очистить свою тарелку.
— Он выдвинул главным критерием в оценке бытия человеческое счастье.
— А вот моя бы бабушка на подобную глупость была бы неспособна,— и флегматик, поднявшись с места, медленно побрёл куда-то сквозь шум, суету и мелькание свадебного торжества.
Меня весьма позабавил такой диалог, но тут же я и признал для себя, что не так уж простоват, как напускает для себя, этот внук своей мудрой бабушки.
Как задумаешься — неминуемо и натолкнёшься на банальнейший вопрос: а что есть счастье? Тут всяк своё твердит. А коли так, то само понятие счастья — разъединяет людей. Каждый в свою сторону норовит: как лебедь, рак и щука. И тогда страшнее всего, если кто-то на установление всеобщего счастья замахнётся. Пусть хоть все орлы и соколы и в поднебесье их тянет, а я воробей и мне по земле прыгать и чирикать охота: общее-то счастье меня несчастным сделает.
Сидя на ростовой свадьбе, я тоже счастья не испытывал. Захотелось уйти. Делать было нечего совершенно. Танцевать я не умел, потому что не любил этого занятия (а не любил, потому что не умел,— порочный круг), да и стыдно было изображать то, что именуется ныне танцами — не перед другими стыдно: чего их стыдиться, коли они сами таковы, — но перед самим собою стыдно.
Я предложил Наташе выйти на улицу. Мне показалось, что она с сожалением пошла вслед за мною, но пошла всё же.
При выходе я столкнулся с улыбчатым ревнителем счастья как цели бытия — его волокли под руки двое мужиков, а он, не в силах сдержаться, со стоном блевал на ковровую дорожку ресторанного коридора.
Мы вышли, да так и не вернулись обратно (“Понимаю, старик, понимаю”— заверял меня потом Рост), бродили по бульварам, совершая тот извечный ритуал, который, вероятно, никогда не утратит своей новизны для каждого, кто ему следует во все времена.
“Стоял ноябрь уж у двора”, но было тепло и сухо. Можно ходить долго, не опасаясь, что промозглый холод заставит до срока прервать обряд напряжённого привыкания друг к другу.
— Я полагаю, наши молодожёны обойдутся далее и без нас в угаре свадебных восторгов. Расскажите-ка лучше о себе,— я взял её за руку (мило и невинно),— а то в том бесновании и поговорить-то нельзя спокойно. Мы же совершенно пока не знакомы.
Сообщено мне было весьма заурядное: студентка, исторический факультет пединститута, третий курс, общежитие, родители и брат в Новосибирске, в Москве двоюродная тётка.
Вот непонятно мне: после всякой встречи с кем бы то ни было, я, вспоминая, переживаю всё гораздо острее, чем то было в действительности. Даже долго спустя думая о Наташе, я ощущал странное тепло в груди, хотя в тот осенний вечер я был, право, холоднее и безразличнее. Она показалась мне внутренне какою-то бесцветной.
Нет: светилось в ней неуловимое обаяние — то в жесте, то в манере вопросительно поднимать глаза, то в улыбке, робкой и ласковой. Обычно недурная внешность определяет более свободную манеру поведения, но тут не было никакой самоуверенности.
— Не кажется ли вам странным такое обстоятельство,— принялся я разглагольствовать прилично совершаемому ритуалу,— я вот последнее время размышлял: не странно ли, что мысль, даже довольно заурядная и банальная, если она выражена в прозе, но совершенно преображается в поэтической речи, становится, напротив, значительной и важной, хотя сама форма стиха есть нечто искусственно измышленное людьми, пребывающими к тому же в эмоциональном напряжении, то есть опять-таки в неестественном состоянии? И ведь недаром же слова искусство и искусственный — родственные. Всё искусство есть нечто неестественное, выдуманное. Не значит ли, что оно есть фальшь нашей жизни, ложь от лукавого? Толстой недаром же заметил, что изъясняться стихами это всё равно, что идти за плугом и при том танцевать.
— Но без искусства же нельзя,— попыталась она возразить, и столь заурядный аргумент чуть было не рассердил меня и почти отбил охоту ораторствовать в том же духе, но я сумел восстановить внутреннее равновесие.
— Нельзя без хлеба, воды, воздуха. А без искусства не только можно — без него нужно. Заметьте, есть ещё одно родственное слово: искус. Искушение. Искусство и есть не что иное, как искушение. Человек создаёт нечто новое, не свойственное реальности. В этом, кстати, творчество в искусстве отличается от творчества научного: последнее опирается на законы природы, а не противоречит им. Искусство же противоречит естеству. Я уж не говорю о таких несообразностях, как балет и опера, но и всё прочее тоже сплошной обман. И чем искуснее творец, тем вреднее обман и искушение. Возьмёт и придумает вдруг, что во время реальнейшего Бородинского сражения на батарее Раевского находился никогда не существовавший на свете человек по имени Пьер Безухов, и так ловко всё опишет, что мы тут же и поверим. Каково! Человек как бы становится творцом реальности из небытия, из ничего, вот буквальнейшим образом из ничего. Как тут не возомнить себя божеством? Вот вам и искус. Недаром же Лев Николаевич восстал, в конце концов, против всякого художества.
Я разглагольствовал и сам себе дивился: куда же меня заносит? Ничего подобного я никогда не думал, не подозревал даже за собою подобных мыслей, я всё измышлял на ходу, меня понесло без руля и без ветрил — так что я мог разнести в пух и прах саму идею искусства, а мог и превознести её — болтал что в ум взбредёт.
Вероятно, что всё же нечто (или некто?) вело меня. Потому что, когда я говорил, я чувствовал всё же не безразличие, а боль. Ненадолго почувствовал. Отчего?
Заметивши же растерянность у своей спутницы, я рассмеялся:
— Не надо мне верить. Без искусства, разумеется, нельзя. И без поэзии тоже нельзя. Тоскливо станет.
Я принялся читать стихи. Больше Бёрнса — я тогда им увлечён был.
— А вы не поэт? — спросила Наташа.
— Нет. Чтобы сделать нечто равное — сил нет. А вроде нынешних — гордость не позволяет.
“Только пожалуйста, обратился я к ней мысленно, не вздумай защищать этих стихачей. Тут же повернусь и уйду”. Она промолчала.
Когда расставались, я легко привлёк её к себе, но она не сделала ответного движения. Торопить события я не любил. “Никуда ты теперь от меня не денешься”,— думал я, возвращаясь домой.
XVIII
Рассмешил меня, помню, Шерман. Он как всегда сидел в любимом закутке у окна между шкафом и большим столом, заставленном всяким хламом, иронически улыбался и сообщал:
— Дуся, я ведь еврей с тридцатипятилетним стажем, и поэтому знаю что говорю: я антисемит. И вообще, доложу я вам, нет худших тварей, чем евреи из местечковых. Своими бы руками как клопов давил. Ты только, Рост, не думай, будто я хочу потешить твою юдофобскую душеньку. Не спорь, я знаю, ты тайный черносотенец: у меня нюх. Так вот: русские тоже сволочи. Но главное не кровь, а идея. Идея же — в религии. Достоевский о том писал. Ты имеешь представление об иудействе?
— Ты нездоровое явление нашей действительности,— отозвался Рост.— Представитель передовой прогрессивной науки интересуется всяким религиозным дурманом. Я вот не знаю ничего такого, потому что всё это ерунда, и не стоит время на неё тратить.
— И я так тоже думаю, дуся, что ерунда!— воскликнул Шерман.— Но ведь вот, к примеру: что может быть ерундовее хоккея? а мы же с тобой время тратим на него. Мифология же, если вникнуть, то вовсе не ерунда. Миф — своего рода формула, по которой строятся жизненные ситуации на всех уровнях: и в глобально-историческом и в житейски-бытовом. Сатана, разумеется, не чёрт с рожками, а тоже идея. Идею же нужно понять. Вот является он, лукавый, только не в натуре, а в умах, и нашёптывает: ребята, на хрена вам тот рай, который ещё есть ли, нет ли, на воде вилами писано. Устроиться с комфортом можно и тут. Кто до этого допрёт, тот, значит, умнее всех. Передовой. Избранный. Усекли? Значит, вы и есть избранные, значит, вам всё можно. Нет, своих не трогайте, не то вам же хуже будет, а вот прочих — за милую душу. И пользуйтесь всякими благами. Что, пока плоховато? Ничего, в исторической перспективе всё устроится... Знаешь, дуся, тыщу раз правы те, кто кричит: бей жидов, спасай Россию. Это говорю вам я, чистокровный еврей Шерман.
— Вас тоже бить?— спросил я.
— Прямо сейчас и начнём,— поддакнул Рост.
— Нет, дуся. Плоско. Речь-то об идее, а не о человеческих особях. От трагического смешения понятий сиих все наши недоразумения. Есть жиды, а есть евреи. Имей в виду.
— А как узнать? Клеймо что ли особое есть? Или штаны спускать, проверять насчёт обрезания.
— Вульгарно. Тебе бы только штаны. Со своей жены спускай. А вообще бы и тебе неплохо спустить и выпороть. Чтоб знал.
— Чего знал?
— Что главное идея, а не штаны. А всё дело в том, дуся, что ты первый жид и есть,— вдруг вывел Шерман, обращаясь к Росту, а затем повернулся ко мне:— Как вы полагаете, Андрей Михалыч?
(Ко мне Шерман обращался только по имени-отчеству и только на вы:
— Вы, Андрей Михалыч, будущий великий человек, гений, можно сказать, отечественной науки-с. Так что когда чинов больших достигните, меня, сирого и убогого, не забудьте: я ведь с самого начала почтение вам выказывал, и надо меня за то уважить, насчёт денежного вспоможения посодействовать.
Вообще Шерман принял по отношению ко мне манеру иронического подобострастия, Роста же старался при всяком удобном случае поддеть .)
— Идеи, милостивые государи, правят миром! Вот ты, Рост, ты в коммунизм веришь?
— Какой ещё коммунизм, старики!— иронически укоризненно посмотрел на нас Рост.
— Как это какой!— Шерман изобразил ужас на лице.— Ты же партийный секретарь нашего Института! Партайгеноссе, так сказать.
— Одна у тебя извилина,— раздраженно отозвался Рост, который наконец вышел из себя,— и та прямая, и та на заднице.
— Ну вот уж и осерчал, слова нельзя сказать,— Шерман вскочил со стула, засуетился, переставляя на столе какие-то колбы и стаканы с места на место.— Слова сказать нельзя.
— А вы во что верите, Александр Иосифыч?— спросил я, чтобы отклонить опасное направление разговора в сторону.
— Я верю в то, что Рост завтра станет кандидатом. Меня лишь одно смущает: этот самый термин. Что значит “кандидат”? Куда кандидат? Вот я тоже кандидат, и тоже не знаю, куда именно.
— В покойники,— буркнул Рост.
— Это мы все кандидаты, о чём я не раз тебя предупреждал. Но обозначение для человека науки, согласитесь, нелепое. И сколько у нас вообще нелепостей в языке скопилось! Вот что может быть невообразимее: парк культуры и отдыха. И тут тоже: кандидат химических наук. Андрей Михалыч, допустим, кандидат в корифеи химической науки. Это я понимаю. Хотя он ещё и аспирант. Но мне никакого учёного совета не нужно, чтобы его кандидатом в гении признать. А мы — что?
— Язык у тебя острый, задницу мне побрей!— слишком раздражённо прервал его Рост.
—Уж и осерчал, слова нельзя сказать!— снова засуетился Шерман.— А тебе, Рост, волноваться вредно. У тебя завтра событие, можно сказать, в жизни: ты переходишь в новое качественное состояние, чего я тебе от души желаю. И я тебе скажу, куда ты станешь кандидатом, в отличие от меня: кандидатом в доктора наук. Будешь ты доктор, а я к тебе лечиться приду.
— Тебе давно лечиться надо.
— А почему вы не станете доктором, Александр Иосифыч?— спросил я.
— Потому что я неизлечим. Суета всё это потому что. Я, Андрей Михалыч, бессмысленный человек. Форменное недоразумение в этом мире. Как, впрочем, и большинство из нас. Если не все... Подайте бедному еврею на пятый телевизор...
Последняя фраза почему-то вызвала у меня неудержимый смех, дурацкий, но с которым невозможно совладать. Я всё пытался остановиться, да не мог, и едва переводил дыхание, как снова закатывался и задыхался.
— Вы, Андрей Михалыч, как истерическая барышня,— грустно сказал Шерман.
— У него родимчик!— Рост, как бы подводя чему-то итог, принялся швырять какие-то бумаги в портфель, потом поднялся и направился к выходу.— Всё, старики. Завтра в два на Ленгорах, а потом в “Черёмушки”.
— Банкеты начальством не поощряются нынче!— крикнул ему вдогонку Шерман.
Рост уже в дверях обернулся и насмешливо подмигнул.
XIX
Защищался Рост в университете: в Институте ему по каким-то правилам хорошего тона нельзя было. Сама по себе защита, как известно, пустая и глупая формальность. Все роли были заранее расписаны — отзывы оппонентов, ответы Роста, слово руководителя, благодарственная речь Роста же — всё отпечатано, сложено в одну папочку для передачи стенографистке. Статистам оставалось только отбыть повинность на совете.
И что-то сорвалось. Росту накидали лишних чёрных шаров.
XX
Всю ночь — такое у меня до сих пор ощущение, что именно всю ночь, от зыбкой начинающей сон полудремы до самого пробуждения — всю ночь накануне того дня, когда с треском раскололась прочнейшая возводимая Ростом основа его будущей жизненной незыблемости, всю ночь виделась мне в болезненном полукошмаре некая странная и жестокая сцена: я стараюсь убежать и спрятаться куда-то, но нигде не могу укрыться от вовсе не стремящейся как будто догнать или отыскать меня Наташи — но лишь только мы сталкиваемся с нею, всегда почему-то случайно, лишь только она замечает меня, она начинает просить о чём-то, и это меня бесит, и я начинаю её бить, и хотя страшный замах руки, как нередко бывает во сне, всё время теряет силу в чём-то утомительно вязком, но мне всё же удаётся сделать ей больно, она кричит, и этот крик лишь невыносимее раздражает моё отвращение к себе, и мне её вовсе не жалко, но хочется сделать ещё больнее, ударить сильнее, убить, чтобы прекратить и этот крик, и вязкие удары по ненавистной мне плоти... Я проснулся с чувством болезненной тяжести в груди, с чувством непростительной вины перед этой девушкой, которой я не сделал в жизни пока ничего дурного,— наоборот, наши отношения уже достигли состояния ласкового счастья взаимной влюблённости, какого я не испытывал до той поры ни с кем, да и после не знал никогда. Прошло более полугода со дня нашего знакомства, и осень и зима остались позади и весёлая весна уже морочила рассудок и душу глупыми иллюзиями. Нам уже казалось, что мы знаем друг друга давно, всю жизнь, что нам трудно быть врозь, что после расставания мы тоскуем о новой встрече. Даже мой весьма трезвый ум обманывался в ту весну. Да почему бы и не потешить себя сладкими надеждами?
Накануне защиты Роста мы уговорились с нею, что пойдём вместе на банкет, долженствующий увенчать торжество победителя жизни, однако торжества-то и не случилось, пировать теперь повода вовсе не было, но я в тот день даже не осознавал смысла происшедшего (признаться, злая злорадная радость кольнула всё же в груди), потому что с самого утра был угнетён ощущением вины перед нею, странным и нелогичным, но тревожным, но получившим надо мною непонятную власть, как если бы моя вина была и впрямь истинной реальностью. И мне всё хотелось как-то загладить свою несуществующую виноватость — я даже купил (впервые!) букет роз, идя на свидание; но уже целуя сияющие глаза, ловя губами трепетание длинных ресниц, всё никак не мог отделаться от назойливого тревожного чувства, и потом несколько раз беспричинно спросил, не сердится ли она. Она по своей всегдашней привычке молча вопросительно взглядывала на меня и с улыбкой пожимала плечами.
Поскольку банкет был сорван зловредными черняками, мы оказались неожиданно свободны и некоторое время размышляли, чем бы занять себя.
— Знаешь чего? Если мы сядем вон на тот троллейбус, то через пятнадцать-двадцать минут будем в лесу. Конечно, это почти уже парк, но город его пока не успел испакостить, это всё-таки ещё лес настоящий. А погода-то! Поехали,— сказал я, зная, что отказа мне ни в чём не будет.
Признаться, я предложил свой план не без задней мысли. Совсем недавно мы с мамой переехали из старого нашего дома, обречённого на слом, в новую блочную пятиэтажку на окраине — как раз рукой подать от того леса, куда мы теперь ехали.
Наташа всё нюхала розы и улыбалась. Конечная остановка была у самой опушки. Лёгкая и весёлая зелень молодых берёз, лёгкое ощущение в душе; забылось всё, оставалось лишь желание бездумно радоваться неизвестно чему, наслаждаться счастливыми мгновениями. Мы то медленно бродили по дорожкам, то затевали суетливую беготню вдогонку друг другу, со смехом, с непременными объятиями и поцелуями — банальная игра, которая, однако, никогда не перестанет быть привлекательной для предающихся ей.
К тому времени я расстался с двумя любовницами: они становились мне противны, стоило мне в их присутствии вспомнить о Наташе; рядом же с нею я и думать о них не мог. Однако моя чувственность требовала разрядки, и хотя я долго колебался, но всё же решил изменить характер наших отношений. Я ещё прежде рассчитал, что из ресторана поведу её к себе, благо рядом совсем было, а мама уже неделю как находилась в санатории,— теперь же как бы само собою вышло, что наши хождения по лесу завершились у подъезда моего дома.
Она покорно поднялась со мною, покорно вошла в распахнутую перед нею дверь.
XXI
Когда утром я вошёл в лабораторию, я увидел Тамару Казакову, которая зло орала на Шермана, приткнувшегося в своём уголку:
— Он что, не понимает, что это может отразиться на ребёнке?!
— Томочка,— оправдывался Шерман,— я, право, ни сном ни духом, у тебя же такой вид, как будто ты меня хочешь кислотой окатить.
— Все вы, мужики, одинаковые: только о себе думаете!
— Наверно, нет такой женщины, которая хоть бы раз в жизни не произнесла эту фразу.
— Потому что нет такого мужика, который смог бы подумать о чём-то другом, а не о своей выгоде.
— Вон он, в дверях стоит,— показал Шерман на меня.— Андрей Михалыч думает исключительно о науке.
— Одна у вашего брата наука — на бабах ездить.
— Томочка, я понимаю, что ты в фигуральном, так сказать, смысле, но вот Андрей Михалыч могут понять иначе, и выйдет некоторым образом неприличность.
— Ну вас всех к чёрту!
— Очевидно, именно так: к чёрту. Именно к чёрту,— грустно согласился Шерман.
Казакова вышла, хлопнув дверью. Я недоумевал.
— Дурной пример женской солидарности,— с меланхолической иронией заметил Шерман.
— Что тут происходит хоть?— не выдержал я.
— Вчерашнюю конфузию переиначить пытаемся в совершеннейшую викторию.
— Не понимаю.
— Молоды, оттого и не понимаете. Объясню. Как вы помните, Андрей Михалыч, сценарий вчерашнего мероприятия, расписанный по ролям, оказался не соблюдённым в некоторых деталях.
— Александр Иосифыч, вы лучше сразу с неизвестных мне фактов начните.
— Нельзя: будет утрачена логика развития мысли. Я же вам говорил: главное идея; а идеи нет без логики. Поймёшь логику, и сразу всё станет ясно.
— Ладно, давайте логику.
— Даю. А вы мне мешаете. Значит так: мы, как вы знаете, но я считаю необходимым повторить, мы ведь один из оппонентских отзывов составили, к чему и вы руку приложили, так что вы являетесь соучастником. Подельником, как выражаются в определённых кругах. Учтите. То есть и на вас лежит доля вины, что делает вас лицом заинтересованным.
Да, это было так. Одним из оппонентов для себя (из кандидатов) Рост наметил пединститутского Васенкина. Тот, помню, пришёл к нам, покрутил носом и откровенно заявил:
— Я к тебе, Рост, всей душой, но я ленив, это ты знаешь. Так что напиши всё сам, а я охотно доложу о всех достоинствах твоей работы, какие ты в ней сумеешь найти. Не забудь о недостатках для политесу, а то знаю я тебя, скромника. Причитающийся мне гонорар согласен пропить вместе. Не в деньгах счастье.
Признаться, мне нравились такие люди, как Васенкин. Кто-то счёл бы его циником, по мне же: к вещам, каковые не достойны серьёзного отношения, нельзя относиться серьёзно. Если уж выдумана нелепая церемония защиты диссертаций, то и понимать её нужно как нелепость, но необходимость, приберегая силы для чего-то более стоящего. Меня всегда раздражали те, кто по ограниченности своей воспринимают всерьёз подобные условности.
В конце концов, выступление оппонента-кандидата писал почти полностью Шерман, мы же с Ростом вставляли по ходу дела корректирующие замечания.
— Мне больше всего обидно что?— продолжал Шерман.— Какой я миленький отзыв оппоненту состряпал, а выходит, зазря.
— Александр Иосифыч!— опять не утерпел я.— Что происходит, объясните.
— Экий торопливый. Быстро только кошки сношаются. Никогда не приходилось наблюдать?
— Признаться, нет.
— Вам ещё многое предстоит увидеть в жизни. Завидую. Что молчите? Ага, поняли, что лучше не перебивать. Светлая у вас голова. Потому продолжаю. Если вы наблюдательны, то легко сможете ответить на вопрос: что нарушило плавный ход вчерашней церемонии? Появился некий внесценарный элемент.
— Ганыкин выступил. И Роста мордой об стол.
— А зачем?
— Откуда мне знать.
— Откуда. От верблюда. Не знаете, а берётесь судить. А между тем, тут вся суть. Если мы постигнем эту суть, мы сможем попытаться исключить сей внесюжетный нонсенс. Там ведь своя интрига против Петельского. Провал Роста — удар по Институту. Кстати, диссертация ведь на нашем учёном совете утверждена. Они, супостаты наши, одного не учли: тут дело политическое: Рост ведь у нас партбосс. А скажите мне, кстати, где это видано, чтобы аспирантом в партбоссах? Вот то-то и оно-то. В его защиту будут подключены крупные силы.
— Значит, тут чистая интрига?
— Всякое событие многослойно. Кто-то интригует, кто-то искренне отстаивает чистоту науки. Я дак уверен, что Ганыкин просто счёл, наивный человек, диссертацию Роста весьма слабоватой. Рост ведь как учёный, мы-то знаем, абсолютный ноль. Ганыкин и ринулся в бой за правду. Экий шутник! Конечно, если бы подобная диссертация произошла от вас, Андрей Михалыч, я бы вас стал тихо не уважать. Но так сойдёт. Работа, право, не хуже, чем многие, весьма успешно защищённые. Чистота же науки волнует лишь немногих, умудрившихся сохранить невинность среди этого всеобщего бардака.
— Нет, вы только подумайте,— ворвалась к нам Казакова, с грохотом распахнув дверь,— сидит в профкоме... как же — в партком неприлично!.. и рыдает. Пузо — во! Вот-вот лопнет.
— Чьё пузо?— обернулся я к ней.
— Да жена Роста это,— спокойно отозвался из своего закутка Шерман.
— При чём здесь жена Роста? Она что, за его защиту переживает?
— Она пришла жаловаться на Дегтярёву, что та осаждает её мужа нескромными предложениями.
Я был несколько огорошен. Беременная жена Роста (мы ещё все прохаживались насчёт сомнительного несоответствия даты свадьбы и сроков беременности) пришла с доносом на соперницу?
— Что-то я ничего подобного не замечал,— возразил я.— Дегтярёва Роста терпеть не может. Детектив какой-то.
— Истинное отношение её к Росту в данном случае к делу не относится. Вы весьма невнимательны, Андрей Михалыч,— возразил Шерман.— Впрочем, вам простительно, вы кроме науки ничего знать не желаете и полагаете ниже своего достоинства встревать в эти дрязги. Поэтому вы склонны скользить в житейских делах лишь по поверхности, не проникая пытливым умом в скрытые причины.
— Просветите.
— А я что делаю? Скажите мне прежде: кто такой Ганыкин? Вспомните: именно он и есть чужеродный элемент, не учтённый сценарием. Это важно.
— Доцент наш университетский, кто же ещё.
— Отвыкайте от студенческих привычек. Он уже не ваш доцент.
— Хорошо, не наш, не наш. Ихний.
— Вот именно: ихний. А чей ихний, позвольте вас спросить? Отвечу сам: дегтярёвский. Любовник. Или жених. Кто их там разберёт. В общем, гражданский муж, как в былые времена выражались. Они оба с Дегтярёвой из тех реликтов, кто блюдут честь науки. Ей самой неудобно было выступать, она же наша, институтская, так она его подзудила. А там ещё побочные силы, несомненно, вмешались, сделали на него ставку. В результате он встаёт, от Роста летят пух и перья.
— Я думал, это не повлияет. Подумаешь...
— Подумаешь, да ничего не скажешь, как говаривала моя бабушка. А вот повлияло. Хотя может, и без того черняшек вкатили бы.
— Это же на нервной системе ребёнка отразится!— перебила его Казакова.
— Росту нынче важнее другое: скомпрометировать Ганыкина. Чуете расклад? Дегтярёва пристаёт к Росту с нескромными предложениями, её возлюбленный мстит за то счастливому сопернику. Какая чепуха, скажете вы. А сработать может. Тут, конечно, не главный ход, а, так сказать, запасной вариант, но при случае тоже может быть использован.
— А на своего ребёнка наплевать!— не унималась Казакова.
— Дался тебе этот ребёнок! Кого он сейчас волнует? Его ещё нет, он на свете не существует. Хотя Рост, вероятно, перестарался, можно было бы и обойтись. Так ведь он же ошалел, тут уж не до трезвых взвешиваний. Вали до кучи, там разберёмся.
— А ребёнок?
— Типично бабская идея фикс. Мужчины, кстати, начинают осознавать своего ребёнка как реальное существо лишь некоторое время спустя после рождения. А тут даже и не ребёнок, а большой живот у жены Роста, который, как ты изволила заметить, вот-вот лопнет.
— Рост-то чего делает?— спросил я.— Где он?
— В отсутствии: он же ничего не знает. Жена, беспокоясь о сохранности семьи, явилась по собственной инициативе. Кстати: каков моральный облик супостатки Дегтярёвой! Воспользовалась интересным положением честной женщины. Теперь пусть отвертится.
— Сволочь он, ваш Рост!
— Если ты, Томочка, станешь так аттестовать Роста, я не гарантирую, что и на тебя не поступит в своё время аналогичное заявление. И тебе останется лишь слабое утешение, что мы с Андрей Михалычем не поверим в столь гнусные инсинуации. Так, Андрей Михалыч?
— Я на него сама напишу.
— С сильным не борись, с богатым не судись, гласит народная мудрость.
— Тоже силача нашли!
— Ещё какого силача. В этом вы убедитесь в скором времени, когда в ресторане “Черёмушки” мы всё же отпразднуем его производство. Попомните моё слово.
— А как же...— начал я.
— Так же!— остановил меня Шерман.— Рост с Петельским сейчас в университете, обрабатывают членов совета. Пара звонков, я думаю, уже раздалась в некоторых кабинетах. Сегодня же всё будет — о кей. Я полагаю, жену он и впрямь напрасно сюда направил с её пузом. Вот я вам лучше загадку загадаю: назовите три слова, кончающиеся на “-зо”. Подсказываю первое: пузо.
— Сумасшедший дом!— как бы сама с собою разговаривая, буркнула Казакова.— Чокнутые все какие-то.
И снова ушла, хлопнув дверью.
XXII
— Вы, Андрей Михалыч,— завёл свой обычный трёп Шерман,— конечно, будущее светило науки, но в жизни, как и все подобные вам, смыслите не много. Жизнь же пресволочнейшая штуковина, как сказал, кажется, какой-то поэт. Но не в том дело. Я вас научу жить. Хоть я сам жить тоже не умею.
— Как же меня-то учить хотите?
— Парадокс. А у парадоксов знаете кто друг? Гений. Может, и я гений. Только тайный гений. И в том тайное же наслаждение обретаю. Все вокруг мельтешатся, меня не замечают, а я помалкиваю, да зато себе на уме: про всех всё знаю. Всё знаю.
— Всё никто не знает.
— Как говаривал Остап Бендер, всё знает только Бог, а так как Бога нет, то этого не знает никто. А вдруг есть, Бог-то?
— Нету.
— Экий вы самоуверенный. Может, вы и в дьявола не верите? Смотрите, не промахнитесь... Я вот вчера по телевизору услыхал: священный дар жизни. Вон что сказанули! Однако хоть кто бы в соображение взял: коли есть дар, то ведь должен же быть и Дарующий. Кто? Бессмысленная природа, которую мы тут с вами на элементы разлагаем? Но ведь не природный же дар, говорят, а — священный!
— Простая метафора.
— Уж больно многозначная метафора, я бы так сказал.
— Вы что, Александр Иосифыч, религиозным дурманом меня собираетесь охмурить?— тут уж и я стал насмешничать.— Роста на вас нет, он бы вам тут же реакционность пришил.
— Рост примитивен, как реакция нейтрализации. Только он хитрый: мы с вами можем в осадок выпасть, а он всегда в растворе останется в виде свободного радикала... пожалуй что и каламбур вышел... и не разберёшь, что там: кислота, щёлочь, соль или вода. Всего понамешано и ничего в натуре. А почему? Потому что он примитивен, но не прост. Вот вы простачок: даром идеями разбрасываетесь. Так и пробросаться можно. Рост же говорит: даром даже прыщ на заднице не вскочит. И прав. Или нет? Как вы полагаете?
— Не задумывался.
— Святая вы простота, Андрей Михалыч. Хватитесь, да поздно будет.
— Как говорил какой-то известный учёный, уж не помню кто: для прогресса науки безразлично, кто и где именно скажет в ней очередное слово, важно лишь: когда. И то относительно.
— Дурак он, ваш известный учёный. Да и кого интересует прогресс науки? Нет никакой абстрактной науки, никакого прогресса. Наука — лишь одно из средств для человека объявить о себе. Смысл-то в чём жизни, если не мудрить? В том, что его, по сути, нет и быть не может. Тоже своего рода реакция нейтрализации. Что же в таком случае в осадок выпадает? Да то, что человеку себя и других уверить требуется, что он есть, существует. И ничего больше. Вот вы откроете пусть самый великий закон в науке, а Рост его украдёт и объявит. И все будут знать, что Рост есть , а вы со своей гениальностью — тьфу! Хуже, чем тьфу. Наука же не более чем сумма наших домыслов о мироустройстве, весьма приблизительных и недостоверных догадок.
— Почему же недостоверных?— сопротивлялся я.
— Молоды вы, Андрей Михалыч, и весьма ещё наивны. Они недостоверны хотя бы потому, что достоверность мало кого волнует. Даже в государственном масштабе — и то все безразличны к истине, а руководствуются совершенно иными критериями. Доказательство вы и сами назовёте — генетика. Вавилову на голый труп бирку с номером и в яму, а Лысенко? Что, истина всех волновала?
— Но разве она так никому и не нужна?
— Более того: порою даже опасна. Поверьте: когда человек подступится к генетическим тайнам, это будет означать скорую гибель всего рода людского. Сталин и Лысенко, быть может, величайшие благодетели человечества, жаль только, что их власти на весь мир не хватило. Поэтому дело вовсе не в истине. Человек, Андрей Михалыч, животное психологическое. Он к самоутверждению небезразличен, а на истину ему наплевать. Человек не корова. Вот кого я уважаю, к слову говоря: коров. Флегматичнейшее существо, ей бы травки пожевать да с быком раз в году для продолжения рода встретиться — вот и весь смысл. Не то что мы. Себя заявить вовне — вот что нам надобно. Вот хоть бы насрать больше всех — но чтоб все узнали и восхитились. А на истину плевать, ваш пример с генетикой это именно подтверждает.
— А за что же тогда боролись? Даже если истина опасна, то против неё, но она всё же не безразлична.
— Они в заблуждения свои зубами мёртвой хваткой вцепились. Потому что слишком много у них на том заблуждении утверждено было. А там пусть оно хоть сто раз ошибочно. Человеку важно что? Сказать всем прочим: думайте так, как я, и не сметь иначе. Человек, повторяю, тварь психологическая. И психологического удовлетворения взыскует. На сухом хлебе и на воде может жить, акридами питаться, мёрзнуть и мокнуть — лишь бы психологическое основание неколебимо было. Вот чего я знаю про людей. Основание же самое ерундовое может быть: хоть бы в обладании такою маркой, я первое что в ум взбрело говорю, такой маркой, какой у других нет ни у кого. Ради той марки и с голоду подохнуть не жалко. Хотя сама эта марка — бессмысленный обрывок бумаги, который даже к письму теперь не приклеишь, чтоб послать.
Признаться, многое из того, о чём говорили мы когда-то с Шерманом, я тут же и забывал — мало ли о чём трёп шёл между делом. Помню, с женщинами нашими мы всё больше фигурное катание обсуживали, сходясь на отрицательном отношении к Ирине Родниной. С Шерманом же — не о тройных прыжках судачить, вот и тянули квази-философскую тянучку. Но много лет спустя я припомнил именно этот наш с ним разговор. Уже когда я в зоне был.
Я уже там в люди выбился, производством заведовал. И имелся у меня помощник, угрюмый мужик, себе на уме,— однажды мы с ним после очередного аврала (там тоже не без того было) расслабились, отмякли душою, он тут передо мной единственный раз чуть-чуть размягчённую эту душу свою и приоткрыл.
— Главное в жизни политика,— буркнул он совершенно неожиданно, хватанув стаканище водки (это там хоть и нельзя, но однако же всегда можно).— А что такое политика? Иметь право сказать другому: делай как я скажу. Вот и весь закон жизни. Эти идиоты (он неопределённо ткнул в пространство) поносом дрищут, когда узнают, что какой-то там Наполеон одной шинелькой укрывался и на жёсткой койке всю жизнь спал. Это у кого дальше сладко пожрать и мягко поспать воображение не идёт. Твари! (Он сплюнул.) Вот говорят, главное экономика. А деньги зачем? Вон есть у кого миллиард — зачем? Конечно, можно в очко за раз поставить. Офигительное ощущение должно быть, но то не про нас. А зачем миллиард? Проесть-пропить всё равно не сумеешь, времени не хватит. А вот зачем: чтобы иметь право сказать: делайте, падлы, как я велю. И думайте, как я хочу. Экономика — ради политики.
— Ну не все же так,— попытался не согласиться я.
— Рисовать все могут? Все. Только один Репин, а другой я, могу только рожу кривую.
— А вот, кстати, Репин,— ухватился я.— Он же не политик.
— И он политик. Он говорит: я нарисую, а ты плати деньги и меня хвали. Делай то, что я скажу: хвали меня. Фигурально выражаясь: жри, что я даю. И каждый так. Свою блевотину стараются другим навязать. Вот только чтоб из их рук. В газете вчера не читал про дельфинов? У них там свой начальник есть, пахан дельфиний. И кормить начнут, он первый — это ясно. По закону. Только вот сам нажрётся, и вроде бы сваливать можно. А вот хрен! Он, падаль, хватает по рыбке и другим выдаёт, а чтоб сами — ни-ни! Вот сволота. А у людей не так?
Я тут вспомнил про одного своего знакомого — там, на воле. У него жена в доме порядок завела: что-нибудь взять или сделать — обо всём у неё спрашивать, иначе она закатывала дикий скандал с истерикой. И не то чтобы запрещать хотела — всегда всё разрешала. В общем-то, добрая была — а вот поди ж ты...
— Комплекс дельфина,— сказал я.
— Закон дельфина,— мрачно оспорил мой соузник.
И вот что странно: там, в зоне, я ведь, пожалуй, по-своему весьма самоутвердился: какой-никакой, а начальник был (кое для кого главный дельфин), уважали меня, больше воли у меня было. Но вот вышел теперь — никому не нужен, не интересен. И наука без меня обходится, и общество — доведись мне сгинуть — даже не заметит. Мало ли всюду разных букашек и козявок копошится — обо всех и печалиться?
Так зачем же тогда и мельтешиться? Однако не утверждать же, что в зоне больше смысла... Но почему нет? Потому что она лишь на время?.. На срок...
Так и все мы тут на срок.
XXIII
Устал я. Устал от безысходной пустоты своего бытия. От видимости суетливого делания неизвестно чего. От вязкой необходимости вступать в отношения с людьми, мне безразличными и скучными. От нудной повторяемости дней и ночей. От назойливых воспоминаний того времени, когда я мог кичливо сознавать себя удачливым триумфатором, сподобившимся ухватить за хвост собственную судьбу. Болезненные судороги памяти заставляли меня испытывать эту пустоту с ещё большей тоскою.
И я заставлял память проваливаться во времени ещё глубже — в детство; и иногда мне удавалось думать о том, что оно не исчезло в тупом и безжалостном никогда.
... Я всегда любил дождливое ненастье. Когда всюду серо и воет ветер. В дедовском деревенском доме я забирался тогда в пустую горницу с маленькими окошками и одиноким шкафом у стены, куда на полки складывали опавшие яблоки и зелёные помидоры, чтобы они дозревали в темноте. Я вставал у окна и смотрел на раскачивающиеся под ветром деревья, заставляя себя поверить, что они о чём-то спорят между собою, взволнованно взмахивая ветвями. Над деревней, над полем, над лесом — нависало низенькое серое небо; редко-редко сквозь облака пробьётся бледное, похожее на луну солнце, но тучи поспешат затянуть неверные просветы — и опять безрадостно всё. В горнице пахнет пустотою и яблоками, от стука дождя по крыше становится особенно зябко, одиноко и — уютно на душе. А в тёплой половине топится печка, сквозь щель у дверцы видны красные сполохи — прижмёшь ладони к печной теплоте, и по всему телу зябкой волной пробегают мурашки.
— Надо же как льёт. И конца ему не видать: вон как обложило,— сокрушается бабушка о не успевшем просохнуть сене. Накануне она собиралась мыть пол, но теперь рукой махнула:— Всё равно натаскают ножищами своими.
Я прошу выпустить меня на улицу — ну хоть на крылечке постоять,— меня долго не хотят понять, потом велят надеть что-нибудь тёплое и наказывают не сходить со ступенек под дождь. И вот я уже зябну на крыльце, сам не знаю зачем. Выставляю ладонь под падающие с неба и с крыши капли. Дождь то стихнет, слабо моросит, то ненадолго перестаёт совсем, но это почти незаметно, потому что ветер стряхивает порывами с деревьев столько воды, что кажется, будто начинается ливень. В воздухе становится всё мрачнее и мрачнее, и непонятно: то ли уже сумерки, то ли плотнее становятся набегающие из-за леса тучи. На горизонте над полем ненадолго появляется светлая полоска, но её тёплый тон заставляет сильнее почувствовать стылость сырого воздуха.
Нет ничего лучше, чем медленное засыпание под шум ветра и дождя, когда мысль о наружном холоде заставляет плотнее кутаться в одеяло. Угревшись, слушаешь и слушаешь стук капель по железной крыше, а дремота забирает над тобою всё большую власть. Вот где-то принялись лаять собаки. Откроешь глаза, взглянешь за неплотно занавешенное окно, но за ним — хоть бы что-нибудь увидеть — ничего. Лишь шумит и шумит непогода.
Я любил, когда ненастье становилось затяжным и заунывным, и не печалился о том, как разлаживает оно малопонятную мне жизнь взрослых,— и мне никогда не было скучно от малой возможности занять себя делом в такое неуютное время. Я, наоборот, любил забиваться в одиночестве куда-нибудь в укромный закуток, любил мечтать о чём-то совершенно несбыточном и грустить от сознавания неисполнимости тех мечтаний.
Изредка, если дождь затихал на время, я выходил гулять в палисаднике около дома. Скользкие дорожки здесь бабушка посыпала золою из печки и всегда предупреждала меня, чтобы я ходил осторожно, не упал бы и не загрязнился. Я, конечно, и падал, и пачкался липкой грязью, меня и наказывали за это. Но вот что хорошо помню: я опасался ступать по высыпанной на дорожках золе, вспоминая один поразивший меня в те самые ранние мои годы рассказ деда.
У каких-то знакомых, или у знакомых его знакомых — теперь, разумеется, не помню, и не знаю даже: так ли всё было, как рассказывалось, да и могло ли вообще такое случиться — кто-то умер в семье, и почему-то они не сразу захоронили его пепел, принесённый из крематория (тогда сама мысль о крематории меня тоже поразила), принесли и поставили урну где-то в уголке, и почему-то она не была закрыта крышкой; а служанка их (или не служанка, а ещё кто-то), не зная, что это пепел её хозяина, посыпала им дорожки в саду.
Вот тогда я впервые ощутил, что такое отчаяние и безысходность — я и понятия не имел ни о том, ни о другом, но переживал их бессознательно и остро,— я представил себе, как человека, превратившегося в золу, высыпают на дорожки в саду, чтобы люди не поскользнулись бы на этих дорожках, когда станут гулять уже без него в его саду, а человека того уже не будет никогда (никогда!— впервые подумал я с тоской), и даже похоронить его уже нельзя теперь, и ничего нельзя вернуть. Потом я представил себе, что нечто подобное случится с дедом или бабушкой (хотя я и не допускал, что они могут умереть, как бы даже уверовав в то, что они останутся жить всегда, но одновременно, противореча себе, признавал всё же возможность и для них того, что выпадает всем прочим людям), но от мысли такой мне стало слишком страшно, и я выгнал её из своего сознания.
Глядя на золу, высыпанную бабушкой в палисаднике, я не мог не вообразить хотя бы на миг, что это вовсе не обычная зола, а пепел какого-то человека, и наступить на него я боялся. Я ступал там, где золы не было — и падал поэтому, но никак не мог объяснить, почему не хожу как следует, как ни добивались от меня ответа прежде чем наказать.
Поражала меня и сама мысль, что от любого человека (лишь для себя и своих близких я исключал подобную участь) может остаться немного золы, которою кто-то по незнанию посыплет скользкие глиняные дорожки. Я несколько раз пытался осиливать эту мысль, но всегда страшился проследить её до неизбежного конца.
И теперь не хочу.
XXIV
— А мне твой Бог не дал ничего, чтобы я поверил в Него наверняка,— раздражённо сказал я Назарову.
— Выходит, нужно верить лишь в агентов по снабжению?— усмехнулся он.
— А и вправду,— я встрепенулся,— как хорошо бы поверить, что вот приду я сейчас домой, а там ждёт меня некий агент по снабжению и говорит этаким ласковым голосом: пожалуйте получить деньги. И выдаёт увесистую пачечку... — я чмокнул от воображённого удовольствия. И признайся: и тебе бы хотелось бы в такое-то чудо тоже поверить?
— Нет. Да я бы и не стал брать тех денег.
— С чего бы? Ведь сами дают, всё по закону,— говорил я, слегка кривляясь даже.
Саша улыбнулся своей ясной улыбкой:
— Но я же их не заработал,
— Ты действительно святой или дурак?— полюбопытствовал я.
— Мудрость мира сего есть безумие перед Господом,— процитировал он какой-то незнакомый мне текст.
— Мудрость мира сего,— подхватил я,— прежде всего лишает нас возможности верить в явление подобных гипотетических агентов. Являются порою агенты, но, к сожалению, другого рода,— с игривым вздохом подмигнул я ему.— И в сие мне верить не нужно: то мне открылось эмпирическим путём. Знаешь об этом?
— Мне Тамара рассказывала про тебя, и я даже вспомнил, что ещё тогда, ну когда всё случилось. Правда, я тебя не знал.
— К чему подобные иносказания? “Когда всё случилось”. Сказал бы просто: когда меня посадили (я всё не оставлял своего игривого тона), я же не деликатничаю с тобой (я опять подмигнул: вся моя история представилась мне неожиданно до смешного нелепой). И как же ты, такой праведник, не побрезговал со мною общаться? (я не унимался и ёрничал) Я же десять лет там оттрубил, по пустякам такое не дают. Да ты, впрочем, знаешь, за что. А это же грех, так по-твоему называется?
— Грех,— согласился он.
—И не хочешь бросить в меня камешек?
— Нет.
— Что ж так? Ведь тебе по вере твоей предписано бороться со злом.
— Но не камнями же бросаться. Ненавидеть надо грех, а не грешника.
— Сказал бы я тебе, да не хочу обижать богохульством.
— Меня ты не обидишь,— своим мягким и как будто извиняющимся тоном возразил он.— Лишь себя оскорбишь.
— Пусть даже так, не стану спорить. Но ведь тут по-моему просто софистика. Ты мне вот что всё-таки растолкуй, я ведь далёк от твоих премудростей. Нелепость же: не пристукнуть мерзавца. Да, я знаю: щёки подставляй, исподнее с себя снимай и так далее. Но нелепость же!
— Есть у Иоанна рассказ о том, как привели к Иисусу грешницу и спросили: что с нею делать? Помнишь?
— Смутно. Ты подробностей не бойся. Если что и скажешь, мне известное уже,— не велика беда.
— По подоплёке-то тот вопрос был беспроигрышной провокацией.
— Как так?
— Они хотели подстроить ловушку. Ответить, что грешницу надо отпустить, значило бы потворствовать греху, то есть злу, распространившемуся в мире. Они бы Его в том тут же и обвинили. Но согласиться на убийство — это опровергнуть утверждение о необходимости любви к ближнему. Учение же, претендующее на всю полноту Истины подобных противоречий содержать не должно. Они, фарисеи, ждали, что любой ответ неминуемо разрушит всё Его учение.
— Пожалуй. Тут тупик.
— Для жалкого человеческого ума, но не для Сына Божия,— в тоне Назарова я слышал явное торжество.
— Человеку Бога не перемудрить.
— Но не это даже главное,— продолжал он в волнении.— Ведь те люди, они от лица всего человечества задавали вопрос Учителю: как бороться со злом?
— Вопрос вопросов,— я и сам не заметил, как вовлёкся, хоть и в малой степени, в то экзальтированное состояние, в котором находился мой собеседник.
— Он же сказал им: вы, конечно, можете убить её, но разве зло оттого исчезнет? Загляните себе в душу, и вы увидите, что грех этой женщины — ничто перед тем, что вы несёте в себе. Только изжившие свою греховность могут бросить в неё камень. Начинать надо всегда с себя. Они же устыдились и разошлись.
— Постой,— обрадовался я, разглядев слабое место в его выводах,— но всё же, очистив совесть (допустим хотя бы как отвлечённое предположение), камень-то бросить можно?
— Ты не заметил, что там находился один человек, не имеющий греха.
— Кто?
— Сам Иисус. Он же и человек вполне. И без греха. Он-то имел право бросить камень, но не бросил!— Саша открыто торжествовал.— Он сказал грешнице: иди и не греши. Потому что совершенный человек камня уже не бросит.
— Красиво,— вздохнул я.— Мне бы вот так кто сказал: иди и не греши. Нет же: иди, говорят, и посиди.
Тут я почувствовал, что своим ёрничанием отчасти досадил ему, сбил с пафоса, и он несколько сник. Чтобы исправить неловкость, я спросил:
— Не совсем только понял, почему же безгрешный человек не бросит камень?
— Бросить камень заставляет недоброе чувство, а в совершенном человеке нет ничего подобного. Да он ведь и не смиряется перед злом, но противится ему силою духа. И других к тому зовёт.
— Н-да. Но это же старые сказки про самоусовершенствование.
— У-совершенствуется машина. Человек самосовершенствуется .
— Пусть так,— нетерпеливо перебил я: он опять начал раздражать меня своими поучениями,— но замыкание в себе, в своей скорлупе, хоть бы и для наивысшего совершенства, оно же и потворствует тому, что зло беспрерывно распространяется в мире.
— Оттого, что хоть один человек станет немного лучше, зла в мире не прибавится. Однако задуматься: разве смогут улучшить мир те, кто сами несовершенны? Это всё равно что создавать симфонию, не имея ни таланта, ни трудолюбия, ни знаний нужных.
— Да ты, братец, учёнейший богослов,— вновь поддался я игривому тону.
— Просто я ищу в Писании ответы на вопросы, от которых никуда же не уйдёшь, если начнёшь подвергать свою душу испытанию на прочность. Да и не сам я до всего до этого дошёл. Мне помогали кто лучше всё усвоил.
— Церковники что ли?
— Православные.
— А почему не буддисты какие-нибудь?
— Они не знают Истины.
— Только православные и знают?
— Только.
— Но кто поверит в сие? Смешно.
— Я же не смеюсь над твоей верой.
— У меня полное неверие.
— Ты веришь, что Бога нет.
— Я и в Бога бы поверил, если бы понял, какой мне от того прок.
— У тебя не в Боге, выходит, нужда, а в агенте по снабжению,— горько вздохнул он.
XXV
Я шёл на встречу с Наташей — и вдруг столкнулся на улице с тою, которую любил прежде (и теперь люблю?— не знаю). И что-то заныло внутри. Она же меня встретила как старого доброго знакомого: так — одного из многих. О чём-то затараторила по общему бабьему обыкновению. Сказала вдруг:
— Ты не спешишь? Я в магазин обувной иду, проводи.
Я и поплёлся. Помогал выбирать какие-то туфли. И в мужской отдел зашли, она у меня принялась совета спрашивать, что лучше для мужа купить (успела уже!). Я что-то советовал, даже примерял какие-то зимние чоботы, а она оценивала, “как они на ноге смотрятся”. Потом ещё в один магазин зашли, в “Ткани”,— опять долго что-то выбирали, и она всё советовалась со мною, да так ничего и не выбрала. Потом в разговоре выяснилось случайно, что у неё есть книга, мне позарез необходимая.
— Так поехали, я тебе её сейчас дам. И Федя дома, познакомитесь.
Такого знакомства я не желал, боялся даже: что за радость лицезреть удачливого соперника? Но всё же я безропотно за нею последовал. Ехали на автобусе, она всё тараторила своё.
Остановка как раз под тем окном, где я простаивал когда-то.
Когда вошли, мужа дома не оказалось, чему я обрадовался. Но вот что меня как подрезало: обыкновенные мужские брюки, по-хозяйски, спокойно и нагло, висевшие на спинке одного из стульев. Развесились, как будто самодовольно сознавая право висеть здесь, презирая всех и вся, торжествуя равнодушно своё это право. А во мне как онемело всё, ощущение появилось, будто я не живой, а весь ватой набит.
Она же стала мне ещё свадебные фотографии показывать, и при этом отчасти поиронизировала над внешностью супруга.
— Давай, оставайся,— сказала она,— пойдём чай пить, он придёт, наверно, скоро.
Нет, подобное было не для меня.
И хорошо, что я поспешил уйти: в подъезде столкнулся с ним. Он и не взглянул на меня: случайный встречный,— я же его сразу узнал по фотографии; и никак не мог уразуметь: чем же он так хорош, чем же меня-то лучше? Парень как парень. Таких в базарный день по рублю за ведро продают.
Её же я не видел с тех пор. И случайно даже не столкнулся нигде. И книгу не вернул — затерялась где-то.
XXVI
Роста еле удалось отговорить от банкетного безумия. В своей наивной наглости он не разглядел ничего противоестественного в устройстве торжественного пиршества — тем более что победа далась нелегко.
— Дуся! — вразумлял его Шерман.— Тебе теперь как подводной лодке нужно на дно залечь и круги по воде не пускать: вмиг засекут и потопят.
Рост хорохорился:
— А что! У меня всё нормально, всё путём, по закону.
— Дуся, закон что дышло: куда повернул, там и вышло. Зачем на рожон-то лезть? Вы там белыми нитками на скорую руку сметали, а ты хочешь себя вести, будто у тебя всё двойным швом и не оторвать.
— А чего такого! а чего такого! Прежнее голосование признано недействительным, учёный совет проголосовал по новой.
— Ты хоть перед нами целку из себя не строй. Тут же все свои, причём тебе сочувствуем.
Рост в ответ довольно и победительно смеялся.
— Вот есть в южных морях,— продолжал Шерман,— какая-то каракатица. Если на неё нападают с целью сожрать, она какую-то гадость тёмную выпускает, её и не видать, а пока они там глаза прочистят, она сматывается втихую. Вот и тебе надо: вокруг себя воду замутить. Так чтобы о тебе все и думать забыли, а только бы ждали, когда муть осядет.
— Тоже туманный совет,— засмеялся я.— Мутно, и сути не видать.
— Кто захочет, увидит.
— Всё-таки лучше пояснить.
— Вы, Андрей Михалыч, кроме своей науки знать ничего не желаете. А жизнь, она сложная и прелюбопытная штука. Ну, например, можно что-нибудь навроде охоты на космополитов устроить. Если что не так или от себя внимание отвлечь понадобится, удобнее всего кричать: бей жидов, спасай Россию! Все на жидов кинутся, а ты вроде бы и ни при чём. У нас любят, когда виноватый какой на стороне сыщется. Евреи же были всегда самым удобным объектом. Вали всё на них! Опять же и то приятственно, что не ты виноват, а жиды. Ату их! Я, не сочтите за национальное чванство, считаю еврейство избранным народом уже в том смысле, что мы всему миру для искушений дадены. Сказано: прощайте врагам своим до семижды семидесяти раз. Вот и попробуйте простить. Вонючему пархатому жиду, который вас купил и со всеми с вашими потрохами сожрать возжелал,— попробуйте простить. Великое искушение во испытание духа. Многие через тот искус незапятнанными прошли? Сами Фёдор Михалыч Достоевский небезгрешны-с!
— Да вы же сами, Александр Иосифыч, недавно евреев тут костили,— напомнил я.— Себе же противоречите.
— Закон диалектики, дуся,— не смутился Шерман.— Мысль, игра ума. Мы берём кирпичики мысли и создаём различные комбинации — ничего странного, если они противоречат друг другу. Из одного и того же строительного материала можно выстроить и дворец, и отхожее, пардон, место.
— Но важно же, всё ли так на самом деле.
— Вовсе и неважно. Что есть мысль? Имитация жизни, не более того. Фантастическое отражение реальности в некоторой ирреальной субстанции, именуемой сознанием. Собственно, что представляет из себя сознание, не знает никто, несмотря на весь наукообразный туман, какового напустили тут разного рода учёные мужи. И даже дамы. А что может быть ужаснее учёных дам? Я же полагаю, что сознание есть сфера осуществления мыслительной игры, иллюзорных построений. Но почему они должны соответствовать реальности?
— Потому что реальность истинна,— не сдавался я.
— А что есть истина? На сей вопрос, как вы помните (неужто нет?) ответа так и не последовало. Что знаменательно. Истина для меня то, что я выдумал только что.
—Но зачем выдумывать?
— Потому что я не способен к деянию. Вот вы, Андрей Михалыч, корифей, так сказать, науки будущий. Вы имеете данные для действия. А я — нет. Вот даже у Роста имеется способность к некоторым поступкам: недаром он сумел так ловко обтяпать, хотя и не без посторонней помощи, не без посторонней, своё дельце с защитой. Я бы не смог. Я — никто. Я настолько никто, что даже не испытываю уязвления самолюбия от таковой неудобной, согласитесь, мысли. Потому что мысль, я-то знаю, не более чем фикция. И я играю. Я играю. Я имитирую различные реалии в мыслительных отвлечённостях. И ничего, кстати, поэтому странного, если они иной раз и противоречат друг другу. Я играю. Сегодня я вам ставлю мат, завтра вы мне — что же тут ненормального? Это вам кажется, будто вы не играете. Но ведь признайтесь: вы же всё-таки не живёте. Потому что все ваши научные дела тоже иллюзия, я уж не говорю о разных ваших историях с бабами, о которых вы не любите распространяться. Всё — иллюзия, хоть вы не смеете в том сознаться, может быть, даже самому себе. Я уж не говорю о том, что и вообще сама по себе наука весьма сомнительное дельце.
— Почему же сомнительное?— я вознегодовал.
— Знаю, дуся, наперёд знаю ход ваших рассуждений. Дескать, наши научные данные истинны, потому что они осуществляются на практике. Я диамат тоже сдавал. Но весь диамат — сущий вздор. Рост, ты ничего не слышал! Но вот над чем поразмыслите: жрецы древнего Египта полагали, что Земля плоская и находится в центре мира. Но на основании подобного представления они всё же умели точнёхонько рассчитывать затмения солнца. Это ли не проверка на практике? Вы думаете, будто ваши законы соответствуют реальности, а это не более чем случайные совпадения. Вы играете, но не понимаете того. А я играю и знаю это. Стало быть, я в выигрыше. Весь мир — игра духа и воображения. Потому глупо, допустим, вопрошать: хороши ли евреи или плохи на самом деле. Самого-то дела и нет. Они таковы в каждый момент, каковыми мы сотворяем их в своём воображении. Во всяком случае, они хороши, чтобы попугать ими обывателя.
— Саша, тебя пора в дурдом отправлять, ты, кажется, уже готов,— прервал монолог Шермана Рост.
— Дуся, весь мир большой дурдом, как ты этого не заметил?— меланхолически ответствовал Шерман.— Мы живём в мире игры и фантасмагорий. И ты сам, Рост, одна из самых нелепых фантасмагорий.
— Сам дурак,— хмыкнул Рост, всё же как будто раздражённый словоблудием Шермана.
— Вот вы подумайте, любезнейший Андрей Михалыч,— отвернулся Шерман от Роста, будто его тут вовсе и не было,— разве не нонсенс: Роста забаллотировали, и, кажется, всё. Ан нет. Какие-то люди, которые согласно придуманным кем-то правилам игры получили власть вмешиваться в эту игру, вдруг заявляют: шабаш, ребята, переигровка, правила соблюдены не так, как нам бы хотелось. Старые протоколы рвут, пишут новые — экая, подумаешь, условность: протоколы! И впрямь: бумажка. На основании этой бумажки Росту выдадут векоре двойную картонку, а на основании той картонки в некоем условном месте, именуемом кассой, ему станут выдавать некоторое лишнее количество разноцветных бумажек же. И что: после всего этого вы осмелитесь меня убеждать, будто имеется какая-то истина, какие-то непреложные установления? Блеф. Игра... Впрочем, не стоит чересчур дразнить собак: Рост уже готов кинуться на меня с воплем “бей жидов”. Не надо, Рост, не ешь меня: я тебе пригожусь. Я дам тебе умный совет. Я же тебя искренне люблю. А ты за всё за моё за добро, когда станешь большим начальником, а ты им станешь непременно, я тебе предрекаю, так вот, когда станешь начальником, меня за то не очень уж гоняй на корде. Ты меня только в покое оставь, и мне больше ничего не надо. А я тебе за то сейчас ценный совет дам.
— Ну, ну, говори,— начальственно процедил Рост.
— Начни большое политическое дело. Разоблачи врагов народа каких-нибудь. Что ты, к примеру, задумал пришить Дегтярёвой аморалку? (Рост не дрогнул в лице.) Мелко. Пошло. Играй по-крупному. У тебя диссиденты кишат по всему Институту. Разговорчики, анекдоты. Хочешь, расскажу пару про Брежнева? Обхохочешься. Пошёл, значит, Брежнев, на базар...
— Сто раз уже слышал,— перебил его Рост.
— Вот видишь! Все всё знают, разрастаются нежелательные слухи, настроения. Гранильщиков Солженицына собирается пригласить — на что сие похоже! Да, пока Солженицын не репрессирован. Но надо же вперёд смотреть. Ты же, партбосс наш, мышей не ловишь. Дуся, тут политическая ошибка. Молодёжь наметила диспут: мы и двадцатый век. А ты представляешь, до чего они там могут додискутироваться? У физиков, помнишь, чем обернулось? Прямыми выпадами. Подрывом основ, так сказать,— Шерман поднял указующий перст.— И отвечать тебе придётся. Дуся, да по сравнению с твоими липовыми протоколами это сущий вздор, о них через неделю и не вспомнит никто, если умно вести себя будешь.
— Да при чём здесь протоколы!— Рост неожиданно оживился и принялся расхаживать по комнате.— Я был занят, верно. Но тому, что происходит, надо бы дать отпор. Я был просто отвлечён всеми этими хлопотами.
— Ростислав Аркадьевич!— засуетился Шерман.— Сей момент будет исполнено,— он схватился за телефон.— Алё! Гранилыцикова, пожалуйста. Вадим Васильевич? Добрый день. Вас просит зайти секретарь парторганизации Баранников. Да, он в своей лаборатории. Ждём.
— Что ты так официально? Уж слишком,— я засмеялся.
— Каждая игра, дуся, имеет свои правила. Что будет, если пешка станет делать ходы коня?
Гранильщиков — тучный, лысый, с властным выражением лица, украшенного какими-то старорежимными бакенбардами,— вскоре явился: вошёл, как владетельный сановник входил, вероятно, решая ошеломить врасплох подвластных ему человечков.
— Здорово!— и сел, развалившись на стуле, как в мягком кресле.
— Вадим Васильич!— встал и шаркнул ногой Шерман.— Нежданная встреча, майский день в прямом смысле слова.
— Подожди, Саша!— цыкнул Рост.— Вадим, что ты там за литературный семинар затеял?
— Никакой не семинар. Встреча читателей с известным советским писателем.
— Старик, это необдуманный шаг.
— Я слыхал, что он еврей и сионист,— подал голос из своего закутка Шерман.
— Са-ша!— раздельно отчеканил Рост.
— Молчу, молчу,— Шерман стушевался и затих.
— Сколько боли, гнева, недоумения испытывает каждый, кто неравнодушен к судьбам своей страны, нашей науки, когда он становится свидетелем того, что не может не заметить только полностью бесчувственный обыватель,— голос Гранилыцикова переполнял нашу небольшую комнатёнку, сила звука была соизмерима, пожалуй, лишь с огромной аудиторией.— Мы хотим выслушать того, кто привлекает взоры многих честных людей.
— По-моему, он просто слабый человек,— сказал Рост спокойно и доверительно.— Тот, кто не имеет силы равнодушно пройти мимо кучи дерьма, достоин лишь сожаления. А его поиски защитника-боженьки вообще смешны.
— Мы тоже отрицаем религиозный поиск,— прогремел Гранильщиков.
— К чему же вы стремитесь тогда?— спросил я, вовсе не потому, впрочем, что идеи Гранильщикова были мне интересны, а просто чтобы как-то и себя проявить в разговоре: мне показалось, что все перестали обращать на меня внимание.
— Наш идеал — демократия!— возгласил Гранильщиков с такой энергией, как если бы стоял на трибуне людного митинга.
— А что такое демократия?
— Это возможность для всех говорить то, что он хочет.
— И у вас есть что сказать?— снова подал голос Шерман.
— А почему вы думаете, что нет?
— Слово вещь слишком ответственная. Недаром сказано, что в начале было именно Слово. Что же вы-то в начало начал положите? Одно дело болтать за чашкой чая, так ведь того вроде и не запрещает никто, согласитесь, другое — вещать массам. На последнее можно решиться, если уверен, что обладаешь Истиной с большой буквы.
— Каждый вправе понимать истину как он хочет и говорить о своём понимании всем.
— Дуся, если у каждого своя истина, все же передерутся. Такова психология людей.
— Дешёвая демагогия.
— А вот Христос ещё говорил...
— Христос был недостаточно демократичен, поэтому мы не можем даже ставить вопрос о Его признании.
— Пусть не Христос, но надо же к чему-то одному прийти,— Шерман взял инициативу, но говорил, к моему удивлению, наперекор себе же самому.
— Вы хотите свести всё многообразие человеческого свободомыслия к единому знаменателю? Нет, слишком долго нас стригли под одну гребёнку.
— Я признаю ваше право на свободу слова только тогда, когда вы обещаете мне раскрыть глаза на высший смысл жизни,— выступил и я, не желая уходить в тень, да и заинтересовавшись предметом спора.— Иначе зачем мне ваша свобода словоблудия?
— Вот особенность русского национализма,— иронично прокомментировал Шерман.— Все пытаются решить глобальные проблемы, а как сделать, чтобы помидоры на базе не гнили, это никого не касается.
— Причём тут помидоры? — отмахнулся я.
— При том. При том, что я понимаю права человека как возможность есть помидоры когда я захочу, и первосортные.
— В условиях демократии, между прочим, эта проблема давно решена,— как решительный аргумент своей правоты выдал Гранильщиков.
— А как туда попасть?— с наивным видом поинтересовался Шерман.
— Подай документы в Израиль,— подмигнул Рост.
— Дуся, помилуй, там же вкалывать придётся, а я себе не враг.
— А это правда, Вадим, что вы составили какое-то послание и собираете подписи?— спросил вдруг Рост.
— Мы написали открытое письмо правительству.
— Вступили в дружескую переписку с Косыгиным?— захихикал Шерман.
— С Брежневым,— ляпнул я.
— Не много ли на себя берёте?— строго вопросил Рост.
— Это наше конституционное право. Мы просто осуществляем то, что гарантировано государственной властью.
— И зачем вам это понадобилось?— ехидно поинтересовался Шерман.
— Чтобы чувствовать себя гражданином и человеком!
— Тем самым, что звучит гордо?
— Не вижу в этом ничего смешного, Александр Иосифович.
— Бросьте вы это,— в каком-то меланхолическом раздумье выговорил Шерман.— Вы полагаете, я вас не вижу? Демократы! Демократия? Её вожделеют прежде всего те, кто вроде вас до политики лаком. Вам капиталец нужен, а не справедливость.
— Вам насчёт капитальца, вероятно, виднее,— ядовито ответил Гранильщиков.
— Бей жидов? — Шерман парировал ещё ядовитее.
— Почему вы полагаете, что у людей могут быть только шкурные интересы? По себе судите?— Гранильщиков картинно вознегодовал.
— Потому что если вы за справедливость, то как вы можете не замечать и отрицать ту социальную справедливость, которая у нас установлена? Я серьёзно говорю,— лишь в уголках глаз затаилась у Шермана обычная его ирония.— Разве мы с вами плохо живём? Помидоры, правда, я не всегда имею, но белый батон и тёплый сортир при мне.
— Вы именно продались за белый батон, и не хотите ничего замечать, затворившись в тёплом сортире!
— Вадим Васильевич!— твёрдо произнёс долгое время молчавший Рост.— Должен вас уведомить, что ваше общественное поведение мы вынуждены будем обсудить на открытом партийном собрании Института. Согласие райкома у меня уже есть.
— Хотите судилище устроить?!— Гранильщиков поднялся и принял весьма выразительную позу.— Не запугаете, Ростислав Аркадьевич!
Через некоторое время, когда Гранильщиков, а вслед за ним вскоре и Рост вышли, Шерман простодушно взглянул на меня:
— И вы, Андрей Михалыч, осмелитесь утверждать, что всё происшедшее здесь не бред? Да я вас после такого утверждения уважать перестану.
— А когда он успел разрешение райкома получить?— недоумённо спохватился я.
— Блефует. А если не блефует, то — ох как хитёр... Хитрее меня. Тогда бойтесь его пуще всего, мой вам совет.
……………………………………………………..
Я смотрел тогда на все подобные сцены и споры с некоторым даже недоумением: как на глупую возню, суетливую и суетную. Пожалуй, мой взгляд и позднее не изменился, вовсе не изменился.
Меня нередко, помню, обзывали обывателем — люди, внутренне сходные с Гранилыциковым: мне приходилось сталкиваться с ними даже там, на зоне. Я и спорил с ними, и порою даже начинал как будто склоняться к признанию их правоты, но потом всегда вновь утверждался на своём. Не то чтобы я вообще не видел справедливости иных их доводов, но может, я и впрямь трусливый обыватель?— я никогда не мог преодолеть до конца своего безразличия к социальной сфере бытия. То, что происходило во мне, представлялось моему сознанию более важным всегда, нежели всё, творящееся вне меня. И даже работа моя, опыты, осмысление, теоретические догадки, писание статей — всё было для меня (самому порою странно) поводом сосредоточиться внутри себя. Я решал научные проблемы, но они всё больше и больше начинали представляться мне символизацией моих внутренних каких-то тайных процессов, а вовсе не отражением реалий вещественного мира.
Смысл существования моего начал представляться мне как возможность выявить моё внутреннее во внешнем. Рост, Гранильщиков — я не видел между ними разницы — они являлись для меня существами, не способными к внутреннему творческому акту и оттого подменявшими его внешней суетой — какой именно, тут дело десятое.
Мне и теперь смешны их претензии и их комплексы — но и свои научные вожделения тогдашние я научился ни в грош не ставить. Я всё больше начинал понимать, что проморгал я что-то главное своё,— и не за то ответ держать мне придётся, что не открыл я закона какого-то глобального природного... Химеры всё это, химеры...
XXVII
В те дни, несмотря на все водовороты институтской жизни, я много работал, иные монологи Шермана просто развлекали меня при экспериментах — с каковых, кстати, он тоже свой гешефт имел. Дома я мало бывал, часто лишь ночевать приходил. Мама как раз вернулась из санатория; маленькая же квартирка наша была тесна, мне приходилось ставить себе раскладушку на кухне, еле втискиваясь в крохотные размеры, и там же, на кухонном столе между плитой и раковиной, раскладывал я поздними вечерами свои книги и записи — поэтому предпочитал засидеться в Институте, если не надо было встречаться с Наташей.
— Андрюша, ты бы хоть побыл со мною, поговорил, а то я всё одна и одна,— жаловалась мама, когда мы — редкие случаи — вместе садились пить чай.
— Маман,— я целовал её в щёку,— ты же видишь, горю, не успеваю, зашиваюсь.
— В старом-то у нас доме я всё на людях. Скучно станет — на кухню пойду, там всегда кто-нибудь да есть. То с Бертой поцапаемся, то Филипповна что расскажет. А тут все чужие. Вот и сижу в своих четырёх стенах. Бабы вон на лавочки, а мне с ними не интересно. Там все свои были, а тут чужие. Да и что сидеть как дура на улице? Даже если бы и знакомые — не станешь же всё время по квартирам ходить. Там вроде как и по делу на кухне. И не один так другой, всё кто-нибудь есть.
Мне её и жалко становилось, но и впрямь времени не хватало. Подумаешь: вот это сделаю, тогда и сходим с нею куда-нибудь, успеем ещё. Но после “этого” появляется “то”, а там “сё”... Наивный эгоизм молодости часто позволял не задумываться ни о чём всерьёз: успеется и всё тут.
Как-то раз, прямо накануне проработки Гранильщикова, я вернулся домой рано:
— Ну пойдём, маман, в лес гулять.
Как она обрадовалась, засуетилась даже, собираясь. С какой простенькой гордостью вышла из подъезда и прошествовала со мною под руку мимо сидящих на лавочке тёток-соседок. Я знал, что она не раз уже успела выхвалиться мною перед ними. Мне кажется теперь, что мои успехи, со школы начиная, приносили ей больше радости, чем даже мне самому. Она носила по соседям и на работу мои тетрадки и дневники с пятёрками, мои похвальные регулярно получаемые каждый год грамоты, мой медальный аттестат, и красный диплом, и первые публикации. И потом коричневый кандидатский мандат с золотыми тиснёными буквами.
Каждый мой успех как будто упрочивал её собственное положение в жизни. Я был смыслом её существования, она жила и дышала мною.
— Ты что так гордо мимо них вышагиваешь?— спросил я её, лишь только миновали мы соседок-тёток.
— Пусть знают! Думаешь, мне не приятно, что ты такой? А помнишь, как я тебе говорила: учись, Андрюша, учись. Ведь нам помочь некому. Не станешь учиться, так и будешь всю жизнь метлой махать.
Подобные разговоры велись у нас часто, слишком часто, давно раздражали меня.
— Почему обязательно метлой?
— Потому что ты ещё жизни не знаешь.
Бедная моя мама! Как же жила ты десять лет без меня? что согревало тебя в тягостном твоём одиночестве? Ведь не пойти же было к соседям, не похвалиться успехами сына, который и на зоне не последним человеком оказался. Или мысль о том всё же становилась в твоём безысходном отчаянии хоть малым, но утешением, когда, одна на всём свете, тосковала ты обо мне дни и ночи напролёт?
“Я только об одном думаю, как бы мне не умереть теперь,— писала она мне много раз.— Тогда и квартира наша пропадёт, и негде жить тебе будет. Я ходила к юристу, он говорит, что тебя могут прописать, если есть близкий родственник, за которым уход нужен. Если я умру, то прописка московская пропадёт”.
Не эта ли мысль не дала угаснуть ей, пока отбывал я долгий свой срок? Теперь же вот утрачен даже столь малый смысл.
Но ведь и я, помня о том, что жизнь её держится одним лишь ожиданием, поборол соблазн забыться в дурмане — там многие видят в том единственную отдушину, а возможности, как ни проявляй сверхбдительность начальство, для того имеются немалые. А я даже не чифирил никогда.
Нет, соврал тот, кто объявил, будто наказание зоной творится во исправление падших грешников. Ложь. Если бы спросили меня (кто спросит?), я бы так ответил: наказание это загоняет порчу глубоко внутрь посредством страха. Так ведь есть и такие, что уж и страх свой давно избыли: им что лагерь, что воля — “без разницы”. Может быть, способно подтолкнуть к исправлению одиночное пребывание с самим собою — и то сомнительно. Хотя, признаться, встречал я немало и таких, кто искренне уверяли меня, что исправились и на свободу с чистой совестью. Да не верю я им.
Я вернулся ещё больше очерствевшим душою. Я спокойно смотрю теперь, как медленно гаснет жизнь в единственно близком мне человеке — и думаю: а может, и к лучшему? Так чем же искуплю я такое своё падение? Есть ли грех страшнее?— пожелать смерти собственной матери... Впрочем, чего не бывает на свете...
...В лесу ясно и светло. Конец мая, а трава пока не густа между деревьями, и прошлогодняя палая листва ещё видна повсюду. Лишь на открытых лужайках изобильно травою. Луга по закрайкам леса — жёлто-зелёные от одуванчиков, а ещё больше — от сурепки. В лесу повсюду масленеют лютики и светятся какие-то белые цветочки-звёздочки. На фоне зелени всех оттенков слегка краснеет осина, а липа особенно трогательна: распускающиеся листочки её похожи на зелёные бутоны неведомых цветов. И всё вместе вокруг — радостное и кудрявое. В небе — постепенно густеющая голубизна, лишь одно бледное облачко редеет, да и то готово растаять, когда ветер подгонит его чуть ближе к солнцу.
Мы с мамой идём по утоптанной дорожке и не ведаем ещё: что ждёт нас впереди во времени. Мама говорит о том, что ей теперь не страшно умирать.
— Смотри, приходи ко мне на могилу.
Такие разговоры она тоже ведёт часто, и меня они тяготят.
— Ну зачем ты это говоришь!
— А то женишься, жена и скажет: нечего к ней ходить. Теперь все так.
Мама давно ревнует меня к моей ещё не существующей жене.
— Почему же обязательно скажет?
— Потому что окрутит тебя какая-нибудь, а ты ей и слова сказать не сможешь.
— Почему не смогу?
— Потому что ты обалдуй и жизни не знаешь.
— Давай лучше о чём-нибудь другом поговорим.
— Ты же мне не рассказываешь ничего. Ты вот о моей работе всё знал, а я ничего почти не знаю про твою.
Я рассказываю ей про Роста, поведение которого она одобряет и оправдывает:
— Его зато никто не обманет, а вот тебя легко вокруг пальца обвести.
Мама, хотя и гордится моими успехами, считает меня по жизни совершеннейшим дурачком, которого окружающие только и думают как обмануть. Я в который раз сознаю, что мы с нею давно плохо понимаем друг друга, что нам почти не о чем говорить, и все разговоры поэтому лишь усиливают ощущение взаимной отчуждённости. Может быть, и она тоже чувствует это?— не знаю.
С тех пор мы уже никогда и никуда не ходили с нею вдвоём. Она и просила, да у меня не было времени, ни потребности.
Когда я вернулся оттуда, она призналась мне, что всё мечтала, как мы снова пойдём гулять в нашем лесу. Но поначалу не до того было, потом непогода, осень, зима — а теперь вот больница.
— Выпишусь, пойдём в лес с тобой,— говорила она почти всякий раз, когда я приходил к ней.
Какой уж тут лес...
XXVIII
Теперь вот я касательно Цицерона... Все говорят: Цицерон, Цицерон... И думают: если он Цицерон, то это чёрт знает что и значит. А это всего-то навсего — Горохов.
XXIX
Я шёл как на забаву — на то собрание, где Рост задумал отвлекающим манёвром прикрыть собственный недавний конфуз.
Признаться, раздражали меня те, кто как будто профессию себе выбрал: с наслаждением ругать что ни попади. Поэтому готовящаяся для них экзекуция мною одобрялась отчасти.
— Нашу интеллигенцию,— сказал мне как-то неглупый один старик, повидавший жизнь,— нашу интеллигенцию голыми руками взять можно: только дай ей вволю пофрондировать.
Пожалуй что так. И не то чтобы ругать нечего было вокруг — ещё как было-то! Но уж с каким-то болезненным сладострастием злорадствовали. И ничего как будто доброго, по ихнему если, даже и быть не могло — один вздор. То особенно у меня недоумение вызывало, что иных (или лишь казалось мне?) особенно подмывало самих себя за то посечь, что они русские люди, — самые что ни на есть русские с особым рвением себя за свою русскость ошельмовать и изничтожить старались. Экая прыть! Странная мысль мне в ум забрела: они же самоутверждаются эдаким-то манером.
Оттого я ими забавляться шёл, что не верил ни на грош. Может, и не прав я? Но куда, помниться, ни придёшь — везде: шу-шу-шу, шу-шу-шу, и всё с понимающими улыбочками, с хохотком, с видом посвящённых в некие тайны запредельно-политические — и противно становилось. А справедливо, признаться, некоторые говаривали. Только тут такая боль иногда, что кричать хочется, а они с издёвкой, да с ухмыльным удовольствием, что вот-де как плохо всё, а и хуже того станет, так что попомните, мол, наши слова. И не сказать, чтобы не правы вовсе оказались, то-то и горько, что ох как правы...
А тогда мне всё просто суетой представлялось: зависеть — ни от кого же ничего не зависит, нечего и воду в ступе толочь. Потому и не видел я разницы между Ростом и тем же Гранильщиковым: каждый лишь о своей выгоде пёкся, а не о деле.
Ну а позабавиться — отчего же и нет?
Мы с Шерманом с краешку примостились в зале (Рост для своей затеи актовый зал приспособил), чтобы при случае сбежать легче было, если не слишком развлекательно всё пойдёт,— и изготовились внимать и взирать.
Рост в президиуме засел в одиночестве, такой важный, что и не сунешься к нему запросто: даже издали глянуть — и то оторопь берёт. Выглядеть — он всегда умел, не отнимешь.
Говорить он тоже насобачился. Веско, доказательно. Как будто и не от себя, а от имени некоей важнейшей истины, каковая и над ним, и над всеми нами вообще, даже и над всем родом людским пребывает, так что нет ни одного индивидуя, чтоб он хоть вровень с той истиной оказался, а посему нужно подчиниться ей раз и навсегда, так чтоб уж безусловно даже и от себя отчасти отречься — а в подчинении означенном высшая-то свобода всех индивидуев и состоит, что кстати подтверждается известным положением диалектики, берущем начало ещё у Спинозы, но не того Спинозы, какой кренделя ногами наловчился выписывать мастерски, а Спинозы-часовщика, измыслившего между делом весьма премудрые догадки, хоть и не поднялись они до нынешних высот, где именно и царит та истина, от имени и по поручению которой Рост предупреждал почтеннейшую публику о грозящей им, и истине и публике, опасности в лице некиих злоумышленников, мешающих утвердиться оной истине в умах оной же публики — так чтобы уж отныне и навеки.
Публика начинала потихоньку негодовать, сознавая указанную опасность. Но отщепились от массы и такие, кто негодовал скорее на речь Роста, а вовсе не из сочувствия к высшей истине, отнюдь за таковую её не принимая. Зал загудел, когда обвиняемый Гранильщиков начал свой громовый ответ на прокурорские претензии Роста, причём ораторствовал он резко и хлёстко, ни дать ни взять — Робеспьер в Конвенте, требующий отправить на гильотину тех, кто узурпировали право на обладание истиной, а сами втихую истину-то и подменили,— так что почтеннейшая публика (настаивал Гранильщиков со рьяностью неимоверной) обязана не того поопаситься, что некоторые якобы злонамеренные пыхатели, каким его тут выставляют, ей голову морочат, а того как раз, что именно и пудрят публичные мозги, но не те, то бишь он, Гранильщиков, а вовсе даже и другие, совсем другие, именно другие, давно вместо истины фальшивку подсунувшие, так что если бы не ошельмованные борцы за правду, то и быть бы публике в дурах, в совершеннейших дурах, в набитых дурах, а чем набитых, в том бы надо ещё разобраться, допрежь того разоблачивши всем миром подлинных врагов народа с их поддельными мишурными блёстками — и всех к ногтю! В доказательство собственной правоты Гранильщиков вдруг привёл, что мне показалось совсем уж нелогичным, количество нобелевских лауреатов “у нас” и “у них”,
— Гранильщиков! Вы бы лучше привели цифровые данные о количестве учёных у нас и на вашем хвалёном Западе.
— Учёных у нас много,— кивнул оратор.— Умных мало.
— Он нас всех просто оскорбляет!— завопил дамский голос откуда-то сзади.
Зал возбудился пуще прежнего. Во мне явилось неожиданно и непонятно откуда престранное желание: чтобы Рост проголосил свою любимую частушку, которой он изводил нас с Шерманом:
Самолёт Аэрофлота
Гордо реет в небесах.
Тёте Мане жарко стало
В новых байковых трусах.
Подобные желания, признаться, возникают у меня в самых неподходящих случаях, я уж порою и сам сомневаюсь преискренно: в своём ли я уме-то?
— Вы прекрасно знаете,— загремел Гранильщиков,— о нашем научном отставании, которое скоро станет катастрофическим!
— Весь мир знает о достижениях нашей науки,— твёрдо подал тем временем Рост свой голос с председательского места.— И только некоторые почему-то не хотят замечать очевидного,— он иронически покачал головой и сделал лёгкое движение, как будто хотел было развести руками, но удержался, потому что утверждение Гранилыцикова даже и удивления не достойно.
— А почему мы всё время оглядываемся на Запад? Что за лакейская позиция?— поднялся с места в первом ряду седовласый Лёва Кузьмин, “вечный кандидат в кандидаты”, как аттестовал его однажды Шерман.— У русского народа своя гордость и свой путь, и вам не удастся сбить нас с него, Гранильщиков!
— Черносотенец!— крикнули из центра зала.
— Своеобразие русского народа в том, чтобы вечно напяливать на себя поношенный западный кафтан, поспешая вдогонку Европе,— ядовито объявил, выходя на сцену, заросший кучерявыми рыжими волосами Олег Сегал.
В середине зала хохотнули и одобрительно захлопали.
— Позор!— раздалось в ответ из первых рядов.
— Эта система,— продолжал Сегал,— ещё долго будет душить нас. Её поддерживает консерватизм, присущий характеру нашего народа, и неповоротливость правящей верхушки, и чудовищный аппарат подавления!
— Как вам не стыдно!— снова донеслось из первых рядов.
— Во цирк! — шепнул мне Шерман.
А к трибуне уже подбиралась тихая и носящая на лице постоянное удивление Зинаида Петровна Новикова. Она остановилась чуть в стороне, ожидая, когда Сегал уступит ей место. Но он не унимался.
— Кровавые репрессии сталинских времён навсегда останутся несмываемым пятном на знамени коммунистических идей!
Выражение “знамя коммунистических идей” показалось мне неудачным.
— Да уберите же его!— кричали передние.
Рост подошёл к трибуне.
— Караул устал!— снова шепнул Шерман.
— Нам затыкают рот, но последнее слово останется за нами!— крикнул Сегал, трусовато сбегая со сцены, будто убоявшись, что Рост, чего доброго, и по шее накостылять может.
— Не сдавайся, Олег!— подбадривали из центра, но было уже поздно.
Зинаида Петровна, стоя на трибуне, глядела вслед свергнутому Сегалу и осторожно трогала пухлой ладошкой микрофон. Она дунула в него и спросила ласково:
— Слышно?
— Говорите!— подтвердили из зала.
Новикова чуть помолчала и осторожно промолвила:
— Я мысленно представила себе...— голос её упал.
— Громче!— крикнули ей.
— Я представляю себе,— повторила она,— глаза моих студентов, широко раскрытые, вопрошающие и удивлённые. И тревожные. Как?— будто спрашивают те глаза, неужели возможно в наше время, что ещё остались люди, готовые опорочить самое наше святое? Вот я узнала, что там составили какое-то письмо, собирают подписи. Да что же это такое!— в голосе Зинаиды Петровны появилось неподдельное отчаяние, но затем он внезапно окреп:— Как можно писать порочащие нас письма и отправлять их за границу, таким же негодяям, как и названные здесь писаки!
— Мы адресовали своё письмо правительству Советского Союза!— громко ответил Гранильщиков.
Зал захлестнуло всеобщее возмущение, водоворотом втягивающее в себя затихший островок в центре.
— Цирк!— с наслаждением сказал сам себе Шерман.
— Вы не смеете обращаться к правительству! Никто не давал вам этого права!— воскликнула Новикова.
— Ваш номер восемь, жди когда спросим,— замурлыкал Шерман.
— Мы используем своё конституционное право!— возгласил Гранильщиков.
Над залом опять взметнулся ропот возмущения.
— Тише, товарищи, тише!— принялся умиротворять всех Рост.— Каждый желающий получит возможность высказаться. Деятели наподобие Гранильщикова считают, что свобода слова тогда, когда говорят они. Нет, это и свобода говорить против них. Вы кончили, Зинаида Петровна?
— Я только хочу сказать: это стыдно. Так нельзя. Одумайтесь,— она вернулась к ласковому уговаривающему тону.— Нельзя оплёвывать то, что мы завоевали в тяжёлой борьбе!— она воздела пухлые ручки, потрясла ими и опустила.— Нельзя, нельзя!
На смену Новиковой вскарабкался Кузьмин.
— Вы тут про Сталина говорили, глянул он в сторону оппозиционного островка.— Дёшево, мальчики, дёшево! Когда вы ещё на горшках сидели, он страну вёл!
— На кривой осине его за такое ведение вздёрнуть!— не унимались оппозиционеры.
— Вздёрнем, но только вас!— возвысил голос Кузьмин.— Я удивляюсь, как мы ещё терпим здесь этих отщепенцев. В иные времена с ними бы не миндальничали. Я воевал. Знаете ли вы, сопляки, что это такое?— он поднял кулак и вдруг затрясся всем телом.
— Успокойтесь, Лев Петрович, успокойтесь,— Рост подошёл к Кузьмину и положил ему руку на плечо.
— Да я в атаку ходил и благим матом орал: за Родину! за Сталина!— Кузьмин побагровел, исходя гневом.
— Сейчас его кондратий хватит,— пробормотал Шерман и повернулся ко мне.— А между прочим, то что он кричал “за Сталина”, это ещё не аргумент. Чувствуете логику, Андрей Михалыч? То, что Кузьмин кричал, вовсе никак не характеризует самого Сталина. Крики Кузьмина не более чем личное дело самого Кузьмина.
XXX
Я помню, я плакал, когда узнал, что Сталин умер. Я не вполне и понять мог, как это: умер человек — необыкновенный и непостижимый... и не человек даже, а нечто высшее над всеми нами.
Помню, как вечером того дня, когда мы узнали, что он умер, я шёл с бабушкой по улице, было пасмурно, зябко, промозгло — и мне казалось, что тяжкое небо давит на землю, на дома, улицы, на людей, и опускается сверху на всех какой-то ровный гуд, рокот, и это — тревога, в которой напряжённо живёт теперь недоумевающий мир. Как же жить теперь? Нет, то не просто смерть человека, тут нечто большее, но что именно — я силился, но не мог ухватить детским своим сознанием.
Но ведь такое ощущение я воспринял от окружающих меня: сам я был слишком мал, чтобы истинно сознать смысл происходившего.
Я помню огромную площадь недалеко от нашего дома, заполненную людьми, — все слушали траурный митинг с Красной площади. И помню, как многие плакали. Потом несколько дней умилённо и с одобрением говорили, что у Молотова, выступавшего перед гробом Сталина, дрогнул голос от слёз.
— Прослезился даже, так переживал,— трогательно повторяли старушки-соседки, приходившие посудачить к моей бабушке.— Хорошо говорил.
И я умилялся со всеми.
Теперь помнящие те времена утверждают, что разные люди по-разному же и относились к событиям, к самому Сталину. Вероятно. Я вспоминаю только мною виденное.
Да, вот о чём чуть не забыл: дед мой Сталина люто ненавидел. Ни он сам, ни кто из семьи нашей в сталинские годы не пострадал, слишком уж незначительны были все для рассчитанных репрессий, а случайно под руку тоже не попали. Но дед мой и вообще все порядки терпеть не мог.
Мальчиком привезённый, подобно чеховскому Ваньке, в Москву из дальней деревни, он попал на фабрику. Самоучкой, как рассказывала мне мама, одолел какие-то фабричные премудрости, так что был отличён среди других — и смог затем содержать немалую семью. Но в годы революции уехал из города, навсегда проклявши в душе большевиков, купил в деревне и сам перестроил большой дом, в котором и поселился навсегда, отказавшись от городской жизни. В колхоз не вступал, специально пойдя работать в лесничество и получив законный повод оставаться единоличником. Семья же, оставаясь в Москве, лишь на лето выезжала к нему — так до самой его смерти, уже при мне случившейся. Правда, из пятерых детей осталась лишь моя мама: четверо её братьев с войны не вернулись — я и не видел никого из них, только по рассказам знаю. Но не о том речь. Свою ненависть против большевиков дед в конце концов перенёс на Сталина, до смерти сохраняя в себе.
И ведь сам я как-то умудрялся примирить в себе моё собственное детское преклонение перед вождём, вдалбливаемое мне в сознание и в душу каждый день все первые восемь лет моей жизни,— примирить это беспрекословное преклонение с ненавистью деда к тому же самому человеку. Я знал, что моё чувство истинно, но не сомневался и в правоте деда, когда он принимался ругательски ругать Сталина, лишь только по радио (а без того дня не обходилось) звучало великое имя. Почему это могло совмещаться во мне — не берусь постигнуть. Помню только вполне ясно, как смешило меня переиначивание дедом частого слова “вождь”:
— Вошь. Большая вошь, сороконожка,— говорил дед и, заражая меня, смеялся недобрым смехом.
Про деда я мыслил вот что: просто он чего-то недопонимает. В себе я не сомневался: я-то понимаю всё.
Одно воспоминание существует во мне особенно ясно: о посещении “музея подарков Сталину”. Не знаю, как именовалась та выставка официально, помню так, как мне сказали тогда. И помню хорошо, что ездили мы с мамой в музей на Волхонке (я вовсе не знал в то время его истинного названия, просто место запомнил), помню, как ходили долго по залам, поразившим меня изобилием разных разностей. Мне особенно понравилось великое множество мотоциклов — вероятно, их было и не так много, но малолетнее моё воображение не могло не гиперболизировать увиденного — и я отнюдь не дерзнул помыслить, что, скорее всего, товарищу Сталину и не нужно столько двухколёсных чудищ; я допускал даже, что он и ездить-то на них не станет, однако я и другое понимал: такому необыкновенному человеку весьма пристало иметь любые предметы в любых количествах — просто так, ради идеи самого обладания несметными, пусть и бессмысленными, богатствами.
— А вот что подарил товарищу Сталину Мао Цзэ-дун,— услышал я в каком-то зале громкий голос одного из многих слонявшихся здесь экскурсоводов. Имя Мао было мне хорошо знакомо, я знал и кто этот человек: самый главный в Китае, так же как Сталин у нас. Правда, Сталин всё же главнее, но Китай после нас самый главный в мире, и, следовательно, Мао второй по главности среди всех людей. Таковое соображение не могло не заставить меня с особым любопытством воззрить на дар китайца, однако его подношение совершенно разочаровало: экскурсовод важно направил длинную тонкую указку на какую-то невзрачную, на мой взгляд, вазу, стоявшую на высокой подставке в центре зала. Без сомнения, как понимаю я ныне, то была совершенно особая, прередчайших достоинств фарфоровая ваза, но тогда я решил, мысленно сравнив, что наш фаянсовый кувшин, в котором держали для меня кипячёную воду, и красивее, и удобнее китайского сосуда. Я даже обиделся на Цзэ-дуна за нашего вождя: хоть бы мотоцикл какой — и то лучше.
— А вот в этой бронзовой урне земля и кровь французских коммунаров,— говорил в другом зале другой экскурсовод, и это-то сообщение поразило меня в высшей степени. Про коммунаров я не знал ничего, но тут же сообразил: это какого-то высшего порядка существа, вероятно, великие революционеры (коммунар — коммунизм...— родство слов я тут же сознал) — раз их кровь принесена в дар самому товарищу Сталину. Возвышенный смысл такого подарка я ощутил вполне со всею детской своей серьёзностью.
Самое же сильное впечатление, не дававшее мне покоя долгое время, произвела на меня маленькая куколка какой-то неведомой американской девочки.
— Бедная девочка,— трогательно, с особой теплотою в голосе вещал экскурсовод,— прислала дорогому товарищу Сталину свою единственную куколку...
Все умилённо внимали рассказу, обретая в себе теплоту к такому бесценному (ведь единственная кукла у бедной девочки!) подношению. Я же был поражён. Меня не смущала праздная мысль о совершенной бессмысленности подарка: не играть же, в самом деле, товарищу Сталину с этой куклой — нет, я чувствовал опять-таки особый смысл содеянного: тут не кукла, тут великая любовь и бескорыстие — подносились в дар, и нет ничего значительнее такого подношения. Я тут же решил, что я должен непременно подарить дорогому товарищу Сталину свою любимую игрушечную машинку (к сожалению, не единственную): чтобы и обо мне вот так же рассказывали в зале восторженные экскурсоводы.
Но одна мысль ввергла меня в уныние: поздно! Я понял, что безнадёжно опоздал, что подарки уже собраны, что каждому определено его место, и никому уже не дано нарушить установленный порядок и обрести сверх того великую честь выразить свои великие чувства к великому вождю великого народа.
XXXI
— Сам факт преклонения какому угодно идолу вовсе не отражает достоинства самого идола, но лишь своеобразие душевного склада идолопоклонников,— призвал меня к согласию Шерман, и я признал его правоту.
А с трибуны язвил тем временем Володя Кравцов, ближайший человек Гранильщикова:
— Взгляните на полки книжных магазинов. Издательство Макулатуриздат заполнило всё бессмысленным суесловием. Духовное здоровье нации подорвано. Вот официальные цифры: в 1927 году 63% членов партии имели лишь начальное образование, 27% были вообще без образования. Могла ли такая партия руководить страной? Руководили несколько человек, главной деятельностью которых была борьба за власть.
— Позор!— кричали непонятно откуда, не то одобряя, не то порицая оратора.
— Недавно,— продолжал Кравцов,— я был на приёме у одного крупного руководителя. Он, пользуясь тем, что мы были одни, сказал: люди — вроде дерьма, но нас никто не слышит, и вы не сможете доказать, что я так говорил.
— Это ложь!— пронзительно завопила пухлявая Зинаида Петровна.
— Кравцов! Вы ответите за клевету!— поднялся Рост.
— Долой его!— зашумел зал.
Все орали, топали, хлопали, не давая никому слова сказать. “Странно, подумал я, ведь вот орут сейчас в одну глотку, а сколькие из них в кулуарном трёпе тэт-а-тэт твердили мне примерно то же самое”. Кравцов же, выждав, когда чуть стихнет, крикнул:
— Эта порочная практика существует! И она тянется в наше время со времён Сталина. Только он выражался деликатнее про людей: винтики! Вы — винтики!
— Да он просто провокатор!— не уставала вопить Новикова.
— Товарищи! Я не могу позволить подобные идеологические диверсии!— с негодованием гаркнул Рост.— Да, у Сталина были ошибки и просчёты. Партия имела мужество осудить их. Но никто не смеет отнимать у него выдающиеся заслуги перед страной!
На трибуне появилась тем временем субтильная Рэна Симеоновна Шейнина.
— Тише,— зашикали в зале.
— Недавно мы гуляли в Тимирязевском парке с Виолеттой Седых,— сообщила Шейнина мечтательно и с таким выражением, будто все очень хорошо знали названную Виолетту и безмерно радовались факту её в парке совместного гуляния с дохловатой Рэной, которая продолжала тем же тоном:— И она, глядя на колыхающуюся зелень листвы, тихо сказала мне: а ведь знаешь, наша профессия самая трудная на земле, мы открываем пути в неведомое. И я поняла, что это так.
— Рэна Семёновна, что вы хотите сказать по существу?— полюбопытствовал Рост.
— Именно я и говорю по существу,— ответствовала Рэна таким голосом и с таким выражением, будто она готова вот-вот разрыдаться.— Мы осуществляем прорыв в неизведанное, и мы должны помнить об этом.
— Редкостный экземпляр,— прокомментировал мне на ухо Шерман.— Без таковых жизнь была бы безнадёжно скучна.
На сцену же вышел ещё один человек Гранильщикова, Лёня Корсаков. Худой как жердь, он втянул голову в узкие плечи и поднял вверх руку с указующим перстом, а затем на протяжении всей речи тыкал этим перстом куда-то в потолок, так что многие невольно стали поднимать глаза вверх, следуя указанию перста, но рассмотреть на потолке что-либо примечательное так и не сумели. Я отвлёкся от говоримого, потому что вдруг заметил, что тень, отбрасываемая Корсаковым на стену, возле которой на краю сцены стояла трибуна,— тень эта оказалась весьма забавной своими контурами, являя собою готовый дружеский шарж на выступавшего.
О своём наблюдении я сообщил Шерману.
— В вас пропадает художественный талант, Андрей Михалыч,— заметил Шерман, — но вы не печальтесь: ещё ничего не потеряно. Химик Бородин был недурным композитором.
Корсаков же завершил речь так:
— Мы же не против системы, поймите нас, но ситуация тревожная,— он стал равномерно грозить нам всем своим указующим перстом.— Мы хотим помочь.
— Не много ли на себя берёте, помощнички?— под одобрительный смех парировал Рост.
— Хватит!— закричали отовсюду.— Время только тратим.
Рост согнал Корсакова со сцены.
— Можно слово?— подходил тем временем к сцене тишайший Алабин, постоянный в своей робости и деликатности манер. Почему-то всегда я чувствовал странное душевное удовольствие, встречаясь с ним, хотя особенно и знакомы-то мы не были, да и более десятка слов друг другу не сказали, но рядом с ним я неизменно ощущал — не знаю... эманацию что ли доброты и добропорядочности.
— Друзья!— начал Алабин.— Я не думал тут выступать, но всё же скажу. Почему вы все тут спорите. Потому что размыты критерии истины. И все ее забыли.
— А вы помните?
— Конечно,— сказал и смущённо улыбнулся.
— И что же есть истина?
— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное...— начал Алабин...
И такой из единых уст и единого сердца вырвавшийся смех грянул ему в ответ, что он лишь сокрушённо покачал головой и сошёл вниз.
— Вот этот тип,— кивнул на сходящего со сцены Алабина Шерман,— самый опасный и есть. Гранильщиков свой парень, с ним договориться при желании и умении всегда можно.
— Чем же этот опасен?— удивился я.
— Вы очень наивны в таком случае, Андрей Михалыч, если не понимаете таких простых вещей.
— Объясните.
— Тише!— зашипели вокруг.
Так моё недоумение и осталось без ответа. А потом и забылось.
Потом ещё много чего говорили. Не помню, чем тогда всё кончилось,— кажется, Рост, Гранильщиков и Шейнина под занавес очень душевно спели:
У мово милёнка в жопе
Поломалась клизьма.
Бродит, бродит по Европе
Призрак коммунизьма.
И зал дружно выдохнул в ответ:
Ух ты! Ах ты!
Все мы космонавты!
Потом все с жаром проголосовали, что отщепенцам не место. Проголосовал и я тоже. Публика расходилась размягчённая таким итогом и душевно умиротворённая.
И только один Кузьмин всё никак не мог примириться со всеобщей ублажённостью умов и уже выходя сказал, ни к кому не обращаясь, а я случайно оказался рядом, и вышло, что говорил он вроде бы именно мне:
— Войны вы не видали. Вам бы под артобстрел разок, да узнать бы почём фунт окопных вшей, вы бы по-другому запели.
XXXII
— Я и поверил бы в твоего Бога,— сказал я Назарову,— если бы понял, что Он может мне дать.
—Тогда тебе агент по снабжению надобен.
— Ладно, пусть ничего не даёт. Но как он может терпеть то зло, какого невпроворот? Если Он всесилен, то почему не ликвидирует зло?
— А как это сделать?
— Я не Господь Бог, не знаю.
— Тут и человеку нетрудно сообразить. Первый путь — ликвидировать всех носителей зла. Камнями забросать.
— Вот-вот!— поддакнул я,— мне тоже хочется швырнуть огромный камень во весь белый свет.
— Все мы такие: когда мыслим об уничтожении зла, то себя полагаем носителями исключительного добра. А ведь Он сказал: бросить камень может только безгрешный. Если уж уничтожать, то придётся всё человечество в распыл пустить. И тебя тоже. Ты согласен?
— Ладно. Но есть же разные степени греха. Вот самых злодеев — и того.
— Самые страшные злодеи не могут быть лишены возможности покаяния. Не дать им этого — значит нарушить высшую справедливость. Да ведь с плевелами можно удалить и добрый злак. Бог хочет сохранить каждого для вечности. Он ведь мыслит категориями вечности, но не времени. А мы Его всё в земные прокуроры норовим записать. Но Его пути — не наши пути.
— Хорошо, пусть уничтожают земные прокуроры. Но выходит, у Бога нет средств борьбы со злом.
— Другое средство — лишить человека свободы. Это путь Великого Инквизитора. Зло ведь совершается в силу данного человеку свободного выбора между добром и злом. Сделать человека несвободным — и зла не будет. Человека можно запрограммировать только на совершение добра.
— Вот и благо.
— Но ведь ты будешь уже не человек, а биоробот. Хочешь?
— И этот способ не годится
— Есть ещё один. Не перекладывать ответственность на Бога, а бороться с тем злом, которое внутри нас.
— Тогда Бог и вовсе не нужен.
— Необходим. Сам ты со своим грехом не сладишь. Необходим Помощник. Но Он только тогда станет помогать, когда ты попросишь Его и сам хоть что-то начнёшь делать.
— И с чего начинать?
— С веры. Без веры ведь ничего и делать не станешь. Вера — спасает.
— А коли нет веры, тогда что?
— Проси. Просите, и дано будет вам.
— То есть молиться? И к попам ещё идти!
— Иного пути нет.
В дверь кто-то позвонил. Саша пошёл открывать, послышался чей-то незнакомый голос — и появился парень, постарше меня, державшийся уверенно — видно: здесь свой. Почти постоянная ироническая всепобеждающая улыбка на его лице сразу напомнила мне Шермана. Он представился Владиславом.
Я внутренне подосадовал: он сбил нашу беседу: при постороннем продолжать её не хотелось. Я решил выждать для ради приличия некоторое время и уйти.
Владислав, потирая руки и как бы похваляясь, сообщил, что он только что из церкви со службы.
— Изумительно Владыка служит!— обратился он почему-то ко мне.— А хор матвеевский — высший класс!
— Вы на концерт или на богослужение ходили?— спросил я.
— Вы полагаете, что эстетическая сторона вовсе ничего не значит?
— По данному вопросу я не имею определённого мнения,— как бы сокрушаясь ответил я.
— Хозяин барин. А мне нравится хороший хор послушать, и не нахожу ничего в том плохого. Народу только много, вот досадно. Мешают. Одна бабка такая зловредная попалась: пришла уже после начала и всё вперёд меня хотела пролезть. Я ей: опоздала, стой где стоишь. А она всё лезет. Я ей опять: раньше надо было приходить, а теперь всё, поезд ушёл.
— Ты как будто на вокзале,— заметил Саша.
— Так мешают же!— возмутился гость.
— Сам ты себе мешаешь.
— Скажи ещё что-нибудь умное!— возмутился Владислав.
— Я по себе сужу. Как отвлечёшься, вот тут и станешь на всяких бабок внимание обращать. Молитва — сосредоточение в себе, а мы не умеем, и на всяких бабок норовим свалить. В сущности же просто: не можем внимать Истине в храме, ибо не умеем того в жизни. Тебе бы пропустить бабку да порадоваться ещё, что она на хорошем месте стоит и ей удобно.
“Боже!— подумал я.— Что за вздором они занимаются, о какой чепухе говорят!”
Я вспомнил, как в детстве я пытался именно вслушиваться в себя, чтобы поймать, откуда берутся мысли, то есть в каком именно месте головы они рождаются — что в голове, я не сомневался, но дальше мои ощущения подводили меня; то мне казалось, что мысль образуется прямо в середине лба, то — где-то в глубине, то — ближе к затылку. При этом мне представлялось, что я начинаю осязать свою мысль и вот-вот ухвачу и стану полным её хозяином, ибо до тех пор, пока не ухвачу, она не подчинится мне, а будет появляться сама собою и непонятно откуда. Потом мне стало мерещиться, что я начинаю ощущать нечто, находящееся во мне и одновременно надо мной, какое-то “над-я”, то самое, что нередко помимо моей воли управляет моими поступками, оценивает их: может и одобрить, а может даже высмеять. Но такое занятие скоро утомляло меня, вызывало какое-то внутреннее противление, раздражение — и я оставлял его. Теперь вот вспомнил — смешно стало.
Между тем, задумавшись, я совершенно упустил нить беседы. Саша же с Владиславом продолжали, как я догадался, какой-то свой давний и посторонний для меня спор.
— Зачем бояться за христианство,— говорил Саша,— если оно не погибло на аренах древнего Рима, то нашему ли времени справиться с ним? Бояться можно за себя, за своё положение, но тогда так и нужно сознаться: боюсь за свою внешнюю свободу, а не за духовную. Будет честнее. Но тогда значило бы признаться именно в своём неверии — а не хочется. И начинаем придумывать: мы-де заботимся о нашем праве быть верующим. Как будто государство может тебе даровать или отнять веру.
— И ладно, пусть, боюсь!— признался Владислав, но лишь по видимости, потому что тут же пошёл в атаку:— Боюсь! И ты боишься... Хотя пардон: ты у нас храбрец и доказал на деле. Однако страх вообще, может, имеет онтологический смысл.
— Вся религия из страха возникла,— встрянул я в его болтовню, о чём тут же и пожалел: слишком уж явную банальность с умным-то видом изрёк.
— Из страха возникло, вероятно, язычество,— вполне серьёзно ответил Саша.— Христианство родилось из жажды света.
— Какая разница: язычество, христианство, да хоть бы даже и буддизм,— упорствовал я на зло самому себе.— Что в лоб, что по лбу. Всё одно — опиум.
Владислав при моих словах снисходительно ухмыльнулся. Мне стало досадно да и скучно продолжать беспредметный трёп. Я поторопился уйти.
Провожая меня, Саша, чего я не ожидал, вдруг сказал:
— Если я в чём-то проявил слабость, то тут не Истина виновата, а именно я слаб.
Но это меня не убедило.
Это не убедило меня...
Это не убедило меня, потому что: что за истина вне реальной жизни? Истина, выходит, где-то в абстрактных представлениях человеков, а в реальности — одна лишь слабость наша? В таком случае, истина не более чем фикция.
Зачем же они верят? Не из чувства ли противоречия? Когда-то принципиально шли в атеисты “из-под ига официальной Церкви”, теперь пойдут в оппозиционеры-верующие?
Как сказал один мудрец: людьми руководит страсть возражать.
Или им хочется безсмертия?
Пожалуй, оно и привлекательно, но ведь только тогда привлекательно-то, пока живёшь — а с концом жизни и вера в безсмертие теряет всякий смысл, ибо просто исчезает вместе с человеком.
А пока живёшь, надо же утешать себя чем-то. Утешать? Если вдруг потребны станут утешения. А когда в них нужда? Да когда неудачи преследуют. Удачливо живёшь — некогда и подумать ни о чём. Стало быть, вера в безсмертие — религия неудачников. Вовсе нет у них никакого стремления к свету — всё ложь.
Мне некогда думать об этом вздоре. Некогда? Но чем же я жил и живу? Всё спешил куда-то, спешил. Как будто и жил мимоходом. А потом и не жил совсем. Десять лет не жил. По совести же: ещё и раньше тех десяти лет — тоже не жил.
Нет, безсмертие должно же быть! Разве какое-то высшее чувство не говорит нам, что наше “Я” не может исчезнуть.
Или тут самообман?
Когда-то я верил, что безсмертие реально существует лишь в искусстве, ибо “Я” художника на какие-то мгновения оживает в других. В науке такого нет. Наука безлика. Но не убил ли в таком случае я сам себя? Убил? Жил мимоходом, лелеял кичливую претензию открыть один из фундаментальных законов материи. Химеры, химеры. Химия — химера. Случайно ли такое созвучие? Хи-ме-ра...
Разлагая материю мы убиваем и свою идею безсмертия. Какое же к чертям собачьим безсмертие, если всё можно разложить до состояния простейших элементарных частиц! К счастью, химия хоть на это не дерзает.
Я всё более поражаюсь: с каким-то диким сладострастием даже — стремимся мы доказать самим себе, что являемся не более чем куском мыслящего, но безсмысленного дерьма. Для чего же живёт и страдает это дерьмо? И вот странно: я со многими о том пытался говорить, но к таковой мысли они выказывали полное безразличие. Меня же она оскорбляет, эта гнусная мысль. Я как в порочном заколдованном круге — всё возвращаюсь и бьюсь головой о тот же вопрос, о тот же вопрос — и нет мне ответа. Что же ждёт нас, сладострастников идеи конечного саморазложения и исчезновения человека, как не безпощадное отчаяние?
Опять порочный круг.
Где же выход?
Бога надо иметь в себе самом — кто сказал? Обращение вглубь себя есть молитва. Но нет для меня ничего страшнее, чем заглянуть в глубину своего “Я”. Что может быть мерзостнее собственной внутренней мерзости? Вот о чём просить надо было бы, коли существовал бы Бог: о способности лицезреть свою собственную греховную душу. Вот где страдание!
С другой стороны: страдание — лишь одна из разновидностей сложнейших биохимических реакций. Не я страдаю. Просто в моём теле вырабатывается какое-то новое вещество, допустим, аминокислота или ещё что — по сути-то и неважно. Так какая же разница: в моём теле то превращение осуществляется или в пробирке на моём лабораторном столе? Однако тело всё же что-то сознаёт, а что сознаёт пробирка?
Там химическая пробирка, а я химическая реторта для тех же самых реакций. С ума я схожу что ли?
А любопытно было бы распознать, какому виду химической реакции соответствует весь этот мой бред? Ведь в этот момент во мне именно реакция какая-то идёт — и ничто иное.
Вот, вот где нужно основное усилие поиска: в абстрактных материальных процессах постараться прозреть символизацию духовного бытия.
Нет, мой ум изнемогает перед такой задачей.
Однако, если уж здраво поразмыслить, к чему мы стремимся тогда? К примитивному прагматическому результату.
Научно-техническая цивилизация, которой мы служим, лишь закрепощает нас. Она направлена лишь на одно: потакать нашей лени и безволию. Это ухудшает человеческую природу — а виноваты все мы? Но попробуй только призвать к отказу от тёплого сортира — прибьют. В идеале бы нам отказаться от механизированного прогресса, так ведь невозможно. Человечество как та обезьяна, что захватила горсть орехов и не может вытащить сжатый кулак из узкого кувшинного горлышка — а разжать кулак жадная глупость не даёт.
“Жадность фраера погубит”. Блатная истина становится пророчеством для всего мира?
Но поразмыслить здраво: веком раньше, веком позже — не всё ли равно, когда вырождаться. И: пусть даже тысячелетия впереди — так то у человечества. Мне-то что за печаль: у меня в запасе и века нету.
Остаётся одно — инерция существования.
...Ба! Вот ведь цель: коли уж разрушать, так до дьявольского конца: вывести химическую формулу человеческого страдания и так тому посмеяться — чтоб всем миром вместе животики надорвать. И околеть от надрыва. Всем же миром и околеть.
XXXIII
У меня характер дурной. Если мне померещится, будто я кому-то что-то должен — непременно подмывает поступить совсем даже наоборот, вовсе наоборот. И сам понимаю, что весьма же глупо, да ничего поделать и не могу.
Вот к примеру: один приятель к себе на дочки своей день рождения позвал. Собственно, тут не более чем предлог собраться чтобы: посидеть, неформально (как ныне выражаются по-модному) пообщаться. Но всё же день рождения, десять лет, круглая в своём роде дата — подарок нужен. И не то чтобы даже необходим он им, а так, приличие некоторое требует, да и дитю приятно. Родители, разумеется, ради того детского удовольствия и хотят подарок-то увидеть: десятирублёвая дрянь какая — невелика и корысть. “Ах, думаю, подарка ждёте, так вот шиш вам, не принесу: вы мне должны без задней мысли радоваться, коли зовёте, а на подарки нечего заглядываться; я, может, в другой раз так приду и презент, какого никто не ждёт, приволоку. А теперь — шиш!” Так и явился ни с чем. Виду не подали, но жена приятеля (она особенно, он-то ничего ещё) с тех пор меня страстно невзлюбила. Здраво опять-таки поразмыслить: что может быть глупее всего этого? Препакостная натура у меня — так я мыслю.
...Как будто я с некоторых пор чем-то обязан стал — Наташе. Внешне вроде бы ничего: она молчит, и я молчу — касательно наших с нею отношений. Всё вроде бы обыкновенно. Всё нормально.
И — ненормально.
Преподлая всё-таки субстанция, химически непостижимая и оттого страшная — совесть... И презанятное, признаться, сомнение меня иной раз посещает: а вдруг и совесть можно выразить какой-нибудь биохимической формулой?
Впрочем, что это меня всё кривляться тянуло? Неспокойно мне было — оттого и кривляния мои.
Наташа ни о чём меня не спрашивала, как будто наши отношения её весьма устраивали, а большего она и не ждёт ничего. Не ждёт и не хочет. По мне бы лучше было, если бы она спросила, что же дальше будет. Или бы прямо потребовала, чтобы я на ней женился. “Ну, это нельзя, жить негде, да и не на что особенно”,— сказал бы я и был бы прав. И получил бы повод прервать нашу связь. А так вроде и нет никакой причины к расставанию, без причины же — нелепо как-то.
Да, жить было бы негде. Втроём в маленькой однокомнатной квартирке? А хоть и в десятикомнатной — с мамой ужиться было бы трудно: она сама мне твердила не раз, чтобы я искал жену “с квартирой”. Мама заранее, заглазно невзлюбила будущую мою жену — и сознавала это.
— Мне будет казаться, что она плохо к тебе относится, и мы будем всё время ссориться. Я вам житья не дам,— много раз говорила она мне.
— Но ты должна понимать, что мне от того плохо будет.
— Всё равно ничего не смогу с собой сделать. Поэтому ты должен думать.
Отдельно жить? А где отдельно? Снимать комнату? Не на аспирантскую же стипендию. Подрабатывать? Мне и без того времени не хватало. Я раздражался порою даже тогда, когда вынужден был отрываться от своего дела ради встречи с Наташей. Для меня тогда наука моя была выше и важнее всего. Ни для кого и ни для чего я не желал жертвовать ею.
Состояние неопределенности в наших отношениях рождало во мне какое-то почти постоянное тягостно-тревожное ощущение, как будто я живу в ожидании некой беды, и хотя всё спокойно, хотя и впереди ничего бедственного не предвиделось, но душевная тревога начинала постепенно переходить в хронически дискомфортное состояние души и сознания — постоянное чувство вины и досады на себя и на всех. Не то чтобы я боялся “печальных последствий незаконной любви” (так это вроде бы иносказательно именуется) — тут я, мне казалось, себя обезопасил. Я и сам не знаю, из-за чего я тревожился.
И ещё я был зол на себя оттого, что все прочие мои увлечения вовсе не тревожили меня никогда прежде, я бездумно сходился и расходился, даже “сцены”, которыми мне время от времени докучали, меня лишь забавляли, а если и раздражали, то и забывались тотчас. А вот теперь как будто кому-то что-то должен оказался — и смутное ощущение долга переходило во мне в состояние тихого бешенства. Прежде я всегда себя свободным ощущал, теперь же — нет. И ещё: скучно мне становилось с нею. Неблизкие мы оказались люди. Прежде, когда надобно было хвост распускать, какой-то интерес существовал; потом же нечего добиваться стало, и говорить не желалось... Я позднее, когда пытался вспомнить то время, никак ничего примечательного припомнить не мог. Все события наших с нею отношений представлялись мне блёклыми, пресными. И сама она какая-то бесцветная. Тихая. Даже когда плакала — без звука совсем: молчит и слёзы капля за каплей крупные.
Ненавижу, если женщина из-за меня плачет. Мне тогда впору или самому удавиться, или её прибить, чтобы душу из меня не тянула.
Была бы любовь... Не любил я никого никогда. Даже тот единственный случай... какая там любовь? Одно над самим собой издевательство. Некий мой знакомый имел обыкновение повторять: чтобы полюбить женщину, в ней должна быть тайна. Но какая нынче тайна в ком бы то ни было? Всё пошло и обыденно.
Ладно, наступит время, думал я, когда покоя захочется, семейного уюта. Но тогда казалось: рано. Рост, помниться, проповедовал: жениться нужно для сексуального спокойствия. “Но непременно,— приговаривал он,— нужно при случае разнообразить семейные постельные обязанности бодрящими встрясками”. Так пока можно и встрясками одними обойтись. От семейной же жизни меня, как Подколесина, так бы и тянуло из окошка выпрыгнуть.
А женщина? она же одним своим существованием тебе собственные деспотические требования предъявляет. Даже если ты как будто и сам по себе — а всё чем-то ей обязан. А чего ради? Ради того, что придумали остроумцы завзятые именовать — близостью? Какая к шутам близость!
А ведь вот чего хотим мы друг от друга — близости именно. Кажется иногда: любовь и есть та близость. Оттого идеализируем её как можем, тянемся к ней. Поэзию изобрели.
Куда как проще стало бы, если бы раз и навсегда сознали бы мы: иллюзия — та любовь. Так нет: нам неймётся. Нам вот надо: чтобы никаких тайн, чтобы души, как и тела, раскрылись. Открывается же лишь тело. Нам нужна радость взаимная от близости и радость от сознавания этой взаимной радости. Мы всё ищем более высокой близости через близость телесную. Увы нам, грешным!
Нет близости. Потому что свободы нет.
Женщины по природе своей деспотичны. Они и сами свободы не знают, и дать её не могут. Они из себя одну идею излучают: мы даём вам любовь, поэтому вы должны нам служить.
Поэтому ты ублажай меня, говори постоянно о своей любви, дари цветы, отдавай своё внимание только мне, не смей ставить выше меня не только другую женщину, но даже и дело любое, пусть даже оно представляется тебе делом твоей жизни, потому что не должно быть для тебя ничего выше, чем я и любовь ко мне.
У одного моего знакомого жена, помню, так и сказала прямо: я его люблю, поэтому он должен быть около меня. Женщина себя любит. Для удобства своего.
А мы и рады, олухи, шею под хомут подставлять. Но “восторги любви” когда-нибудь да пройдут. А что в осадок выпадет? Несвобода.
Но в том и подлость ситуации, что женщина порою вовсе кротка и нетребовательна. Но вот она тут, рядом — и попробуй от неё отвлечься — накажет, непременно отомстит, хотя бы тем, что возьмёт и разлюбит. И себя же жертвой сочтёт. Канальство!
Не верил я ни в какую женскую любовь. Я даже до такого (кощунства?) додумался, что и в так называемой святой материнской любви разуверился. Не та ли же там деспотия? Не любовь то, а нечто совершенно иное. Мне представляется: женщина до конца не может принять за истину, что тот кусок плоти, который долгое время являлся частью её самой, вдруг может обрести полную от неё самостоятельность. Ну, вот как не могу же я признать, что моя собственная рука или нога вдруг сами по себе жить начнут, а на меня им наплевать станет. Так только у Николая Васильевича — нос в чины вышел — глубочайшая, колоссальной значимости мысль, не осознанная нами вполне до сей поры. Так вот — люблю ли я свою руку? Так и мать ребёнка своего. Тут другое, тут несознанное желание полного подчинения. А если рука моя меня слушаться перестанет — то просто болезнь. Тут уж и не жизнь. Каково же матери видеть кусок собственной плоти, ведущей самостоятельное существование? Добро бы ещё вера была, что душа в той плоти уже не от неё дана,— нет, нынче и душу отвергли.
Впрочем, может и вздор говорю.
Но не то ли у всякой женщины по отношению ко всякому “любимому” существу? Мне всё кажется, что они на мужчину отчасти как на продолжение своё телесное смотрят — они телом, а не разумом такую идею в себе несут— недаром же и физически нас в себя вбирают.
Я даже то готов допустить, что в своём деспотизме женщина и вовсе права: она жизни продолжению служит. Так вот пусть она и миллион раз в своём праве права, а и я тоже прав. Я тоже в своём отвержении деспотизма прав. Как хотите — диалектика-таки.
Даже кроткая и несомненно любившая меня Наташа могла в наивности своей потребовать от меня отменить все дела, чтобы идти с нею — уж не знаю и куда, всё равно куда, но непременно с нею.
— Но у меня же эксперимент! — умолял я.
— Ну подумаешь, в другой раз проведёшь.
О святая простота!
А мне тогда наука смысл жизни подменила. Я в ней напролом к цели двигался, чувствуя себя чуть ли не всесильным (химеры, химеры!). Даже безразличный ко всему Шерман, и тот увлёкся, хоть и ненадолго. Я всё иное забывал порою, даже во сне, как в кошмаре, формулами себя изводил; иной раз приснится нечто невообразимо гениальное, а проснёшься — либо забыл всё, либо вздором обернётся.
И пренебрежение к тому, что я полагал главным для себя,— никому я простить не согласился бы.
— Я думал, ты единственная, а ты как все. Только одного понять не смогла: я-то не как все. Если же тебе “как все” требуется, так вот и шла бы к этим ко всем…— я говорил твёрдо и презрительно.
Она и пошла. Повернулась и пошла.
Я смотрел вслед и всё ждал, что не уйдёт вот так просто, вернётся. Но не вернулась.
Тяжко мне стало.
А потом я узнал, что она уехала из Москвы: перевелась учиться в свой Новосибирск. История не блещет оригинальностью.
Но не мчаться же было за ней — тут бы уж и верная неволя.
Больше я не видел её никогда.
Никогда?..
Проклятое, вечное никогда. Опять.
Я колотился в жестоких рамках времени: я бился в греховности бытия — мира и собственной.
Часть вторая
I
He знаю, когда это стряслось со мною. Или исподволь накапливалось? Мне временами жизнь моя начала представляться чем-то вроде долгой и бессмысленной бессонницы. Нет, не всегда так, а: накатит вдруг — потом отступит. Я испытывал чувство, будто мой рассудок кошачьей мочой провонял.
Я сомневаться стал в том, что считал главным для себя. Подавленность какая-то общая — а нужно скрывать: не поймёт никто, одни за сумасшедшего примут, другие отвернутся, в равнодушии пребывая, третьи и порадуются чего доброго.
Прехитроумный любомудр Монтень, какового мысли я как-то внимательнейшим образом проследил, прелюбопытное он сделал в своё время наблюдение и всей, можно сказать, науке, перо вставил. “Когда людей знакомишь с чем-либо,— писал тот виртуозный умом любомудр,— они задумываются не над тем, насколько это само по себе верно, а забавляются отысканием его основы. Обычно они начинают так: “Как это происходит?” А надлежало бы выяснить: “Да происходит ли это на самом деле?” Ум наш способен вообразить сотни других миров, изыскать их начала и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение действует: на зыбком основании оно строит так же искусно, как на твёрдой почве, из ничего — так же ловко, как из подлинного сущего... ”
Я ведь то же самое давно своим убогоньким умишком превзошёл и тем самого же себя в своём же самолюбии уязвил. На зыбком-то основании и я ли не строил?
Эксперимент я один ставил. Думал: прав и правее меня нет. Ан конфуз вышел. Случился и произошёл. И этакая гадостность на душе сотворилась. А с чего? Отрицательный — он вроде бы тоже результат. Тоже истина. Так оказалось: вовсе и не истины мы взыскуем. Меня не истина волновала, а чтоб по-моему вышло.
В систему какую-то вписаться, вжиться — всем потребно. Слаще же всего, коли собственным умом та система измышлена будет. Хоть бы маленькая какая своя системишка.
Повторю и повторю, ибо сам видел не раз: иные люди науки которые — в науке своей вовсе и не истины ищут — да и что есть истина?— а некое соответствие некоей логической системе, каковую сами же, глядишь, и выдумали и себе для потребления изобрели, и как бы в основание всего положили. И забота тогда: чтобы факты под ту логику подвести. А кто его знает: так оно или нет на самом-то деле?— никто.
Однако же, как хотите, а фантазии вместо реальности — не абы что. Собственный мир соорудить и другим его преподнести — дорогого стоит. Я так понимаю: на том все Лысенки и Лепешинские, и прочие там Опарины, свой перекор всем учинили и себя на том превознесли. Тут, может, даже и слаще власти та сласть — свой фикциус сотворить, логическую систему для него выдумать и всё под ту систему так подвести, что и не оспоришь.
Да и систем иной раз не требуется никаких, есть и попроще трюк: вместо объяснения подставить обозначение. Таково уж всеобщее наше штукарство, но те индивидуи, суть коих наихитрейшим термином обозначена: учёные — вот уж кто настрополился тот трюк проделывать. Стоит появиться непонятному чему, и в сей момент создаётся соответственная сему непонятному система знаков. И как столкнётся кто с тем непонятным — а это, говорят ему, вот что. И термин свой тут же на бочку. А он, термин тот, может, и вовсе не только чёрт знает что означает, а и совсем ничего не значит, а только пшик один. Вместо смысла слово пустопорожнее. Чем звучнее, тем лучше. И чтоб понепонятнее. Всем нравится. Все в восторге. Создан штамп для заполнения пустоты.
И не в одной науке, во всём так. Вся жизнь начинает опутываться пустыми бессмысленными словами. Даже и те слова, что прежде чего-то значили, и те уж совершенно не значат ничего. Из слов, из фикций создаются ореолы, пьедесталы, самоутверждение на фу-фу.
Коли светило какой научный теорию свою изобретёт (а пусть и не сам даже её выдумает, а просто и чужое примет за истину) — он за то горло перегрызёт, только замахнись. Потому если теорию ту презреть, так и сам тот светило нулём наисовершеннейшим окажется. Всякому ведь крикнуть неймётся: я здесь набольший — и всяк норовит под себя камень системы какой-нибудь покрупнее подкатить, и с камня того крикнуть всему миру: и я среди вас тоже что-то значу!
Вот за что горло перегрызть можно. Ладно, просто в науке абстрактной — тут борьба честолюбий, не более порою. Но вот даже в практическом деле, в медицине даже — в газете я вычитал — то же. Иные индивидуи — годы на то убивают, чтобы не дать другим свои методы лечения утвердить, пусть даже от этого противодействия миллионы людей страданиями исходят и жизней лишаются. Ха-ха! Им исцеление, а мне итог, быть может, всей жизни — псу под хвост? Нет, пусть уж хоть и дохнут люди в муках мученических, а зато мой камень незыблем останется.
Но то всего страшнее было, что спрашивая я себя: а я-то сам, доведись мне выбирать вот так же, я-то отказался бы от самого себя? Спрашивал — и ответить не мог. А коли так, то вот ведь же она, подлость всеобщая, вот где она пребывает — во мне и сидит. О проклятая порода человечья! Или и впрямь столь отвратна натура наша?
Или — из другой оперы, но всё к тому же. Если вдруг все скажут, что спорт, допустим (именно: допустим только, на миг украдкой, потому как ни за что и никогда не осуществимо то в реальности, вот и я лишь как фантазию легкомыслия допускаю), так вот скажут, что спорт, допустим, совершеннейший есть вздор, игривых умов измышление и промашка, так что ты хоть на три метра подпрыгни и три центнера подыми — а нам плевать, и на твои три метра плевать, и на три центнера плевать, а стало быть, выходит, что и на тебя плевать тоже — кто же с тем согласится? И такого тут дыму сей же час напустят разные всякие: мы, мол, не за себя, а за всеобщую славу стоим и не выдадим той славы никому. Потому: не только тот, кто те центнеры подымает, но и тот, кто смотрит только,— и он с тех центнеров свой гешефт имеет, поскольку сам о себе возвышеннее мыслить начинает, лишь только увидит, что кто-то их, центнеры те, осилить соизволил. А уж команда твоя выиграет — восторг неизъяснимейший. И дурак же ты, скажу: тебе не команда дорога, тебе система потребна, чтобы тебе в том своё утверждение обрести. Отмени систему в умах человеков — и хоть там кто тонну зараз одолеет, так ни у кого и не дрогнет ничто, и не взыграет. И внутрях пусто. Любые правила игры только тогда важны, как их сколь возможно большее число человеков признает. Хитроумнейшее ловкачество: сперва над собою что ни на есть поставить и при посредстве оного себя же наверх подтянуть, как акробат на перекладине.
Вахтёрша наша в Институте тоже вон инструкцию блюдёт, чтобы проверку всем учинять, ибо без инструкции (то есть опять же без некоей фикции, кем-то игриво измышленной) любая стражница и вовсе не нужна станет: пусть кому надо все идут, а кому не надо и сам не захочет,— тут ведь вахтёрскому смыслу карачун (и тому, кто измыслил всю фикцию сию), а сама она из матери-командирши в пустое место обратится, в мебель ненужную при входе. Хоть бы и за те же деньги. Не в деньгах счастье.
Так и фарисеи все за свой Закон стояли — в том и смысл всей жизни усматривали, а кто против Закона — чтоб камнями закидать.
А вот Рост недавно диссертацию Вовки Пронина зарубил (мне рассказали), так ведь не себя ради, а исключительно для науки. Спросить только: а у Пронина не наука разве? Ещё вопрос, у кого научнее наука-то. У Пронина, как ни крути, ловчее вышло, Росту такого бы и вовсе не удумать. А как на то Рост согласится? Ему нужна такая наука, такая система, чтобы по её правилам и законам он в первачах был всегда. Если же у супротивника наука, то уж у него самого, у Роста то есть, выходит совсем и не наука, а его самого под чистую что ли списывать? Так нет же!
Сам себя вахтёром в науке назначил и инструкцию сочинил: кого пропускать, а кого нет. И внушает всем: без науки никуда, а поелику я за науку горой, немею, можно сказать, перед наукой, то и всем нам без меня полнейший афронт выйдет. И всё норовит, чтобы шуму побольше и чтобы у всех на устах. И награды чтобы, само собой. И чтобы самому чувствовать: без меня всем конец. И не просто чтоб то чувствовать, но чтобы искренне-преискренне уверовать в то. И не сомневаться. А засомневаешься сам — тут тебе и каюк. Вечный, можно сказать, покой. Который нам только снится. Лучше не видать тех снов. Лучше в президиуме сидеть. Там и поспать можно. А кто против — тому смазь. “Теорию мою вздумал опровергнуть — а я тебе чёрного шара, чёрного шара! И других подучу. Или застращаю”.
И порою смешно даже. Законы мироздания навроде насмерть защищают — а на деле сущая дрянь. Вот и я — и мне чтоб по-моему вышло. Я такую теорию тогда удумал, по молодой наивности, и всё так ладно подгонялось одно к одному... И вот на тебе! Заложил эксперимент — а он мне хуже чёрного шара. Оно можно было бы и утаить от всех, не скоро бы открылось: до подобного опыта докумекать у них кишка тонка. Но самому себе как нос натянуть? Потом сиди и понимай: не камень под тобой, а песочек рыхлый. Совочком тот песочек копать хорошо, а я уж не дитя. Впрочем, многие так-то сидят. Да что мне до них: я-то не могу — вот что.
И пустился я рассуждать: открывает ли вообще наука тайны природы? Как же не открывает, скажут, ежели на деле многое по ней выходит и по указке её получается? А у тех египетских мракобесов-жрецов не получалось что ли — на ложной ведь основе верные исчисления выходили. А вдруг и у нас результаты правильные, а основа — вздор один? Или прав коварный любомудр Монтень: на пустом месте измышлять отнюдь не труднее?
А пусть и не на пустом даже. Пусть реальнейшая реальность. Человек может, к примеру, установить, что тела взаимно притягиваются, но зачем и почему? Чтоб яблоком гуглю на лбу набить сподручнее? А что такое есть тяготение и откуда — бес его разберёт. Тут ведь только потяни за кончик — такое вытянешь, что и сам рад не будешь. Цепь для галерных работ вытянешь, чтоб самому же себя приковать. Кой чёрт несёт меня на ту галеру!
На какое-то время стал я скептиком-обскурантом. Зачем стремиться к познанию мира, коль оно недостижимо? Познай самого себя — полезнее будет. И даже такая мыслительная умственность одолела меня: пока я не понял, зачем живу, то какая мне надобность в знании, что вода есть “аш два о”? Потом одумался: для чего-нибудь и сгодится. Но всё же — как перегорело что-то во мне.
Прежде бывало — всё мне представлялось, будто проясняются мне некие тайны. Я ощущал и вдохновение и озарение одновременно. Каждый раз, берясь за работу, всё ждал: что откроется мне на сей раз?
Потом не то стало. Может быть, и сам виноват?
Сам виноват. Потому что деспотию примитивной логики в идола превратил.
Этим мы и себя, и почтеннейшую публику загипнотизировали. Опять же и словами зачаровали, даже и не многими словами, а всего-то одним: наука — вот то слово, какое чуть скажи, все так и онемеют, и сказать ничего вперекор не посмеют, чтоб ретроградами их не объявили, чего иные пуще смерти боятся, ибо всегда в передовых и прогрессивных лестно себя мнить, а в отсталости — даже и помыслить себя страшно пребывающим: что вот-де кто возьмёт, да в том тебя и обвинит, и хана тебе, хоть бы в собственном твоём мнении о себе самом, потому как ведь и самого себя каждому уважать потребно, да и в глазах других чтоб выглядеть , чтоб всё, что есть, со всех сторон престижно было бы, а есть ли что престижнее передовых-от взглядов, в чём бы то ни было передовых: хоть то наука, хоть манера одеваться, хоть еще какой вздор,— главное, чтоб в глазах и в собственных и в прочих чьих привлекательнее быть, а соблюдена ли там какая истина, так та истина всем до фени, истину никто и не знает, и знать не желает, ибо с неё, с истины, порою не то чтобы навар какой, а вовсе даже наоборот, конфуз один, как от рухнувшей гипотезы научной, к примеру, в чём, что ни говори, а торжество истины заключено-таки: в опровержении ложной гипотезы то есть, но нужна ли таковая истина автору сей гипотезы — вот ведь вопрос.
Да что опровержение гипотезы! Пусть она тыщу раз верна, гипотеза та,— а всякий ли предпочтёт её хотя бы благополучию житейскому, не говоря уж и самой жизни. Вот ежели с ножом к горлу: жизнь или истина? То-то! Даром что ли Галилея оправдывают все кому не лень? В меру своей прагматической испорченности и слабости оправдывают — и всегда будут.
Это только те, кто навроде Саши Назарова, могут сказать: если я слаб, то ещё не означает сие, что истина отсутствует. Меня на такой мякине гнилой не проведёшь. Уловки, увёртки — грош им цена.
Нет никакой истины. Научной, по крайней мере. То есть не частной истины — таковых навалом,— а всеобъемлющей. Мы по частям что-то узнать и можем, а в целом — дудки-с! Я ведь на то когда-то, признаться, претензию имел, чтобы всё умом превзойти, да не по Сеньке шапка. Что-то хотел в веках после себя оставить.
Меня, признаться, майский жук смутил. Экое несуразие, как подумать,— а вот на тебе. Где-то я вызнал, что по всем теориям жук тот сволочной взлететь не может: подъёмная сила крыльев не годна для его гнуснопакостного веса. А он, падла, летит и плевать хотел на все наши теории, насмехается преехидно. Вот, думаю, нам нарочно указание: не зарываться с верою в теории свои. Есть-де что-то и свыше теорий.
Не помню, где читал я: всё учёные разобрали, всё по косточкам раздёргали и по полочкам разложили, разъяли всё и изучили, а целое-то и прохлопали.
Знают всё моё строение, до атома последнего. А вот что я есть, так и не распознали. Мне, может, и обидно сие, что знают они во мне всё до атома, может, стыдно даже, что во всех книжках я пропечатан, что скоро доберутся даже до дерзости объявить во всеуслышание: узнали, дескать, всё же: что есть человек. Пусть и так. А вот — кто я есть, не знают-таки. И знать не могут. Я и сам не знаю. Нет на то ни у кого соображения. Глупа она, наука эта.
Я бы ещё согласился признать её, когда бы без затей сказали: она есть свод эмпирических наблюдений, систематизированных для выведения некоторых закономерностей (весьма сомнительных), помогающих нам в телесной нашей немощи и лености — не более того. В таковском виде — почему бы и не принять? Вот до какого ретроградства я докатился. Но поначалу-то я таковое даже и помыслить отвергал. Из страха, отчасти от гордыни. Так-то.
Абсолютизация науки — вот вред. Как скажет кто: в науке альфа и омега всего — тут и смерть. Себя в угол загоняем. В тупик.
Не то такое понаоткрываем, что лучше бы и не знать. Кьеркегор, тоже любомудр не из последних, преядовитейший порою, так вот он говорил: наука, мол, не только бесполезное, а и вредное любопытство. Оно, конечно, тоже реакционность, но неплохо бы и задуматься на досуге. Досуга нет — вот худо.
Умные люди давно докумекали, что все мы когда-нибудь горько пожалеем, что так упорно и тупо добивались власти над природою. Да достигнем ли той власти-то? Химеры, химеры. Знания наши — не видимость ли одна?
Человек должен бы знать прежде: что хорошо и что плохо, что справедливо и что нет. Как и для чего жить? А как там электрон в атоме крутится — не все ли равно? Может, и нет никакого электрона, а так блажь кому-то в голову вошла, он и подкинул лукавую идейку.
Вот до какого иной раз обскурантизму добредёшь — самому смешно станет!
Один учёный говорил, что занимается наукой, потому что ему это любопытно. Голову ему оторвать — любопытно, что получилось бы. Я полагаю, что благо. Но шут с ним, с его головушкой бесталанной, то его личное дело, о чём она у него там болит. У меня своя боль, своя печаль.
У меня та печаль появилась, что будто я сам себя в тупик загнал, а как выйти — не ведаю. Может быть, и ошибался, но болела же! Медики утверждают, что иной раз у человека и нет ничего, а ему лишь кажется, будто болит. Так что из того? Он-то от боли, может, на стенку лезть готов, ему-то не легче, что врачи там вывели, будто у него нет ничего. Больно же ведь! Пусть я понапридумал всё по дурости своей — но ведь больно же было. Больно! Больно мне.
Заснуть, заснуть навсегда — вот чего мне хотелось порою сильнее всего. Но уж чтоб в полнейшее небытие уйти.
А вдруг там — есть что-то? Кто наверняка утверждать сможет? Кто наглости наберётся, чтобы доказательства мне представить, но уж чтобы неоспоримые доказательства, что всё бессмыслица то полнейшая?
Значит, снова мучиться — и там мучиться?
Кому не лень — пусть посмеётся надо мною. А у меня душа болела. Больно мне...
II
Поболит, поболит — да когда же нибудь перестанет. Я свою боль в кулак сжал и задавил: дело делать надо.
Моя диссертация почти уже готова оказалась. Можно было из неё даже и докторскую сделать — Матвеич мне что-то говорил в этом роде: встречаются-де ситуации, когда даже дипломные работы при небольшой доделке на степень сразу тянут. А кандидатские на докторскую.
— Андрюша, мы вам на учёном совете это легко проведём,— он так говорил, что как будто уже и сомнений никаких быть не могло.— Подадите как кандидатскую, а мы вынесем решение, что соискатель достоин большего.
Рост же, ставший недавно учёным секретарём Института, уговаривал не торопиться. Потом-то, когда уже поздно было, я понял его тактику.
— Старик, ты часть материалов попридержи, не пропадёт ведь. А то сейчас выложишь, Петельский, конечно, всё сделает, как сказал, а ВАК не утвердит. Там у них свои контры, свои интриги. Я кое-что знаю. Говорят: паны дерутся, а у холопов чубы летят. У шефа свои враги, да они чтоб только ему насолить, тебя зарежут. Чтоб только ему соли на хвост насыпать. Кандидатом, конечно, станешь, а материал — тю-тю. Новый надо нарабатывать. А так основная доля для докторской уже готова будет. У меня да и у вас в запасе вечность, что нам потерять годок-другой?
Резоны Роста представлялись мне убедительными. Хоть и велик был соблазн сразу в дамки выскочить. Для самолюбия щекотна та мысль была.
— Ты шефу про мои соображения не сообщай,— уговаривал меня Рост.— Ему кажется, что он уже выше всей этой политики. Попадёт шлея под хвост: как это мне кто-то посмеет перечить! Но ему-то что? Мелкий укольчик в случае чего. А тебе лучше поберечься.
И Шерман Роста поддерживал. Я теперь так понимаю: мои успехи ему “на психологию давили” (как он сам любил выражаться): всё-таки невмоготу было наблюдать, пусть на словах он давно и признал моё превосходство, как вчерашний сопляк единым махом через ту ступеньку перескакивает, на которую он сам кряхтя вскарабкался еле. Он, разумеется, не сомневался, что я, в конце концов, над ним вознесусь, но лучше бы постепенно сие совершалось, а не так стремительно.
— Андрей Михалыч, — дружески-доверительно втолковывал он мне,— вы же должны знать: наука одно, а эти чины-звания совсем иное, тут свои законы. Академику легко рассуждать. Вы, разумеется, тоже в своё время на тот Олимп взойдёте, но пока-то вы для них никто. Выскочек у нас терпеть не могут. Скушают. За милую душу схрямают с перчиком и горчичкой. Это мы тут с Ростом про вашу гениальность знаем, но кого наше знание волнует? Толпа не любит ничего из ряда вон выходящего. Хочешь, не хочешь, а учитывать надо.
Надо... Надо бы мне плюнуть на их пошлые уговаривания — я же побоялся. Побоялся, непростительно струсил. Была, конечно, у них и своя правота, но если уж чувствуешь себя выше остальных, то и во всём надо быть выше. Выше их мелочной премудрости. Презреть бы обывательские резоны.
И не в том поражение моё, терзался я после, что доктором я тогда не стал (экая билиберда!), а что именно до недостойных рассчитываний опустился — тут-то и карачун мне.
И не сознавал я тогда, и после не понимал долго, что промыслительно мне те уговоры посылались. Они остановили меня в моей гордынной суетности, они меня во времени смирили, для вечности сохраняя. Впрочем, того никто не разумел. Но вышло всё, как только и должно выйти: ко благу моему.
Колебался я, колебался, а в самый широкий размах колебаний — вдруг Матвеич меня к себе зазвал. Домой. Да не как прежде — приходилось мне у него не раз бывать, но по делу,— а теперь как будто и просто так , вечерком на чашку чаю. Роковое чаепитие стряслось. Но то я уж гораздо после узнал, что роковое.
Я-то предполагал, что именно о диссертации хочет он в свободной от официальности обстановке окончательно потолковать, дружески как бы, без затей. Вот, думал я, теперь и решится всё. Оно и решилось, однако не то отнюдь, что мнилось мне.
Поскольку это был мой первый приватный визит к шефу, я напялил свой единственный приличный костюм (признаться, всегда был равнодушен к подобного рода обмундированию) и купил букет недурных роз для Марии Петровны. Я с нею почти незнаком был: сталкивался как бы случайно, заходя к Матвеичу по делам (здрасьте!— здрасте!), отчасти даже робел перед нею. Однако, к удивлению моему вящему, она оказалась вовсе не важно-сухою величавою дамой, как мне со стороны виделось. Особое обаяние придавала ей нервическая печаль, которая передавалась не только в её взгляде и выражении лица, но в самом изгибе стройной фигуры, в плавном жесте руки, в особой линии силуэта — если бы мне просто на чистом листе бумаги одну эту линию обозначили, я бы ни на миг не усомнился: вот оно, графически точнейшее и совершеннейшее выражение безысходной печали. Она смотрела на меня, как будто жалела за что-то, одной ей ведомое, как жалеют человека, обиженного судьбою, когда прощаются ему все его грехи, все ошибки, даже мельчайшие неловкости и промахи: как нечто слишком незначащее перед выпавшими на его долю тяготами. Я думаю теперь: знала ли она, предчувствовала ли, что ждёт меня?... да ведь и её тоже... Не слишком долго прожила она после суда надо мною, кончила самоубийством — отчасти ведь моя судьба и такое неожиданное следствие имела, пусть даже самым внешним образом всё связанным оказалось. Так-то вот: дубина, меня шарахнувшая, другим концом и Петельского осчастливила: и он недолго, сердешный, жизнь после того отягощал собою. Как раз ровно столько, чтобы Рост успел свою карьеру обтяпать — ловкач.
Так мы и уселись втроём за стол, связывая свои судьбы одною верёвочкой. Но как тогда о том догадаться было?
Я поначалу лишь о том заботился, как бы выглядеть поприличнее: манерами-то я не вышел, ловкостью не отличался, развязностью унижать себя не желал, и вообще понятия не имел, о чём и говорить мне с этими людьми, мне, по сути, и чужими вовсе,— в непривычной для меня обстановке. О научных проблемах — глупо; о погоде — пошло; о поэзии — передо мною не девицы, коим голову дурить надобно; о современной литературе — я в ней невежда совершеннейший; о политике — скучна она мне... Ладно, думаю себе, огляжусь пока.
Я ещё и тем смущён был, что в другом обществе свою мешкотность мог компенсировать внутренне лелеемым самоутверждением: знаю, мол, кто я есть таков. Но не шефу же академику кукиш в кармане казать.
И ещё одно: меня, плебея несчастного, несколько тяготила тяжёлая роскошь академического обиталища — не с моею кухонькой нищенской сравнивать. Ничего, сам я себя утешал, это-то от меня не уйдёт никуда: в академиках успеем побывать. Я, к слову сказать, так был непререкаемо уверен в своём академическом будущем, что додумался до остроумной весьма мысли: нечего торопиться к неизбежному этому венцу моей карьеры, никуда он не денется — нужно, предвкушая будущее, настоящее меж пальцами не упустить. Часто ведь так: всё ждёт чего-то человек, а на миг нынешний и внимания не обращает: мимо, мимо — главное-то там, впереди. Впереди, может, и впрямь главное, но зачем же сиюминутным пренебрегать? Хотя: подобные рассуждения — вовсе суетность несусветная.
Суетность — но куда от неё деться?
Пошлейшее ощущение внутренней несвободы у шефа в доме попервости мне тягостно было. Но именно Мария Петровна, из-за которой я и смущался поначалу, меня из такого состояния вывела; я думаю даже, что истинная воспитанность в том и состоит, чтобы уметь своею простотою свободными делать окружающих. Хоть в малом.
Одно плохо: дымила она слишком уж много, иной раз сигарету от сигареты прикуривала. Я даже спросил, зачем она столь безжалостно себя травит.
— Моя жизнь не представляет слишком большой ценности, чтобы о ней беспокоиться,— усмехнулась она в ответ.
И странный, признаться, разговор она завела. О политической ситуации в нашей стране. Взгляды же у неё выказались совершенно антиофициальные. Я обычно сторонился подобных разговоров — и из опасения отчасти, и по малому к ним интересу. Тут же особенно я смешался: как с caмим шефом о том толковать? Слишком верноподданнические чувства обнаруживать — противно, а оппозиционные — у меня таковых особенных и не имелось. Фрондировать не в моём обычае было, хотя, признаться, из желания попротиворечить я порою в прежестокие споры вступал, однако по-разному: если в собеседнике диссидент выявлялся, то я перед ним одиозно-официозным столпом представал, с добропорядочным же гражданином, вроде меня самого, таким вдруг критиканом себя обнаруживал, что хоть святых выноси.
Шеф, как я вывел для себя, всяческой политики вообще сторонился. Он тут всё всегда другим передоверял, если дело каких официально-необходимых мероприятий касалось — на том собрании, к примеру, где Рост новоявленных врагов народа костерил, Матвеич даже и не показался: больным себя аттестовал. Видно, ему такие не вполне было ловко споры вести. Правда, беспрекословно всех уволил, коих Рост своим списком через него провёл.
Мария Петровна так разговор повела, что я будто её союзником являюсь в нападках на Матвеича, и хоть молчу, но и молчанием своим как бы одобряю к новым и новым атакам на слабые позиции оппонента. Скоро она и вообще горячиться начала, почти на грани истерики вдруг оказалась, и всё на меня оглядывалась за одобрением, как если бы мы давними и безусловными единомышленниками были: пошлёт взглядом приглашение поддержать её, пусть и молча, и снова заходится в споре.
В своих Филиппинах противу всеобщих порядков она не пустилась, по пошлому обыкновению того времени, Брежнева ругать или того же Сталина — она вообще принялась полнейший скептицизм относительно всеобщей направленности умов высказывать, так что Матвеич даже не выдержал:
— Вы что же, не верите в возможность прогрессивных социальных преобразований вообще?
— В том виде, как большинство их понимает, нет. Социальные теории основаны на полном пренебрежении к личности. Не от общества, а от личности должно идти спасение.
— Эдак мы и до Иисуса Христа договоримся, чего доброго,— засмеялся Матвеич добродушно.
— Не знаю. Одна умная старая женщина мне сказала недавно: как же я могу утверждать, что Бога нет, если я этого не знаю? Вот и я тоже не знаю. Да, я не верующая, но права ли я — кто ответит?
— Мария Петровна!— снисходительно и вместе барственно-вальяжно почти пропел академик.— Мы же естественники.
Мне довод шефа представился тогда столь неопровержимым, что я даже и понять не мог: о чём тут спорить можно?
— Довод логически неубедительный,— нервно заметила Мария Петровна, закуривая.— С точки зрения обычной логики, наука не опровергает религиозную точку зрения.
— Вот-те на!— только и вырвалось у шефа.
— Наука,— раздражённо продолжала женщина,— может исследовать и те правила, согласно которым некий Абсолют организовал прежний безсистемный хаос. Почему изучение системы, чёрт побери, должно опровергать наличие её организатора?
— Так вы утверждаете, что такой организатор имеется?
— Я лишь утверждаю, что ваш аргумент некорректен. Точно так же было бы некорректно утверждать существование Абсолюта без достаточных к тому оснований.
— Но может быть, довод против Абсолюта в том и заключается, что отсутствуют доводы за — решил и я заявить о своём существовании.
Она с некоторым сожалением взглянула на меня как на отступника, которого она сама априорно принимала чуть ли не за верного адепта религиозного миросозерцания.
— Это меня больше убеждает, вот то, что вы сказали,— кивнула она мне невесело.— Но не выплёскиваем ли мы с водою и ребёнка?
— Какого ещё ребёнка?— откликнулся шеф.
— Главное противоречие наше вот: для социального прогресса необходимо и оттого оправдано насилие, для духовного же развития оно в принципе неприемлемо, потому что отбрасывает нас назад. Но те, кто отрицают религию, автоматически отрицают и область духа вообще. Что же остаётся? Механическое социально-поступательное движение к неизвестно какой цели?
— Как это неизвестно к какой!— комически изумился шеф.— Мы строим коммунизм.
— Мы не коммунизм строим, а землю уродуем и не слишком успешно заботимся, как бы брюхо набить.
— Ну, накормить людей тоже важно, в конце концов.
— А душу чем напитать?!— почти закричала Мария Петровна.
— Успокойтесь, Машенька, тут ведь не так всё просто,— всполошился Матвеич.
— Конечно, очень сложно!— зло отвечала она.— Столько всяческих идеологий, философий, оппортунизмов, выгод, догм, гипотез — чего только ни намешали, так что сам чёрт ногу сломит.
— Разберёмся, успокойтесь, как-нибудь разберёмся,— беспомощно и одновременно бодрячески забормотал шеф, обернувшись при этом ко мне за поддержкой.
— Вот именно,— поддакнул я.— Всем миром навалившись.
— Всем миром,— согласился шеф умиротворённо.
— А и не выйдет ни черта всем миром!— тут она обратилась прямо ко мне:— Вот вы не замечали, что собравшись вместе, люди почему-то глупеют? Казалось бы: коллективный разум должен быть сильнее единичного: сложившись, все умы должны бы составить некий высокий ум, гениальней всякого гениального. Часть ведь всегда меньше целого, как бы велика она ни была. А выходит-то, что складывается лишь глупость, и разум толпы всегда глуп и пошл.
Красные пятна пошли по её лицу, и я ещё подумал, помню: вот шаблонное проявление нервного волнения — пятна по лицу. Вся странность ситуации ещё и в том состояла, что я вовсе не был единомышленником супруги моего шефа, как она то воображала. Её высказывания представлялись мне плодом некоторого отчасти недомыслия. Я не понимал, зачем нужно чего-то опровергать и выдумывать, когда всё уже давным-давно решено — то есть не вообще всё и всюду, но в сфере так называемой общественной мысли как бы и несомненно: выдумывать и открывать уже и нечего. Опровергать же очевидное бессмысленно и небезопасно. Небезопасно даже не в смысле некиих санкций известного рода, но для собственного внутреннего равновесия рискованно: выбьешь из-под себя же какую-нибудь подпорку и полетишь вверх тормашками невесть куда. Гораздо спокойнее, думал я тогда, не трогать того, что как бы устоялось,— других проблем хватает за глаза.
Над общественным смыслом я старался голову не ломать: мой-то смысл в научных успехах — пусть, даже они всё более и более сомнительными представлялись. Но я вовсе не противился идее, что все вообще, хоть у каждого лично своё на уме, вполне могут и даже обязаны стремиться ко всеобщему идеальному устройству существования человеков. И зачем мыслью беспокойной биться, бередить таковую бесспорность?
Мария же Петровна неистовствовала в странном своём для меня словобиении:
— Мы видим, что всё ужасно, что всё идёт к гибели, но стремимся не думать об этом — даже те, кто всё понял давно,— мы всё тешим себя надеждой: авось обойдётся. Что-нибудь кто-нибудь там этакое придумает, и всё станет хорошо. Ведь не может же быть, чёрт побери, чтобы этот прекрасный и такой удобный мир вдруг исчез, погиб, а главное, и я вместе со всеми — это-то уж совсем не укладывается. Бог — тут все, даже и атеисты втайне на Бога надеются — Бог не допустит!
— Мария Петровна!— Матвеич начал заметно беспокоиться.— Что нынче с вами?
— Прорвалось!— засмеялась она судорожно.— Ложь наша всеобщая доняла вконец. Мы фикциями живём и себе же противимся в том признаться.
Мне неловко стало, что я оказался свидетелем чуть ли не семейной сцены.
— У пролетариата же нет родины!— Мария Петровна совершила вдруг непостижимый зигзаг в рассуждениях.— Вот в том-то и дело. Это ужасно! И родины нет, и истории нет, и культуры нет. Ничего нет. Терять нечего!
Я думал только об одном: как бы выпутаться из столь деликатной ситуации. Мне тягостно было ощущать состояние Петельского: то, как неожиданная выходка женщины причиняет ему некое физическое неудобство, усугублённое именно моим присутствием.
— При чём тут пролетариат?— отчасти невольно, но и выказывая искреннее недоумение, спросил я, чувствуя, что надо что-то сделать, сказать, возразить; и недоумевал: что же надо совершить?
— Так вы не поняли, умненький мальчик,— как бы осознавая нечто для себя прежде неясное, сказала тихо Мария Петровна.— Мне тут про ваш ум и талант все уши прожужжали...
Меня это задело.
— Нет, понял. Но думаю иначе.
— Конечно,— не без язвительности произнесла она,— мы же так самостоятельны в своих воззрениях.
Тут Матвеич снова вмешался, принялся почему-то меня защищать, потом увещевать разошедшуюся жену, потом высказывать какие-то весьма смутные философские идеи, не без оттенка либерализма, но и вполне выдержанные в нужном тоне и духе.
— О, как мне тошно от всего этого!— с ненавистью воскликнула женщина.— Тошно и гадко. И куда от всего этого деться, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю...— она принялась повторять это беспрерывно, раскачиваясь взад-вперёд.
Всё оборачивалось вовсе неприличным скандалом. Я застыл, не решаясь ни двигаться с места, ни тем более подать голос. Матвеич же вскочил, засуетился, капал в рюмку какие-то капли, наливал воду, а она всё качалась и уже без всякого выражения, но повторяла и повторяла: не знаю, не знаю, не знаю...
— Андрюша, голубчик,— жалобно обратился ко мне шеф,— пройдите в мой кабинет... я сейчас... мне нужно с вами поговорить.
Я рад был удалиться. В кабинете шефа, плотно затворившись в полутьме, я забился в массивное кожаное кресло с огромными старомодными валиками, сжался, стараясь не думать, закрыл глаза и даже начал подрёмывать. Я тщился успокоить себя, утишить свою досаду на то, что выпало мне стать свидетелем тяжкой сцены, которая теперь может вызвать долгую отчуждённость между мною и Петельским, а это разрушит, хотя бы на время, все мои честолюбивые замыслы. Как мелочны мы часто бываем...
Матвеич каким-то образом успокоил жену, изрядно провозившись с её истерикой,— но не могу сказать точно, сколько времени прошло, когда наконец его приход вывел меня из дремотного оцепенения.
— Вы уж не обижайтесь, Андрюша,— сказал он, доверчиво взглянув мне в глаза, виновато улыбаясь и не умея скрыть смущение.
И так сразу установилось, что мы стали — не учитель и ученик, не начальник и подчинённый, а просто два растерявшихся и ищущих друг в друге опоры человека, которых вдруг постигли недоумение и растерянность на их пути. Хотя: мне-то что было недоумевать?
— У меня к вам просьба есть, Андрюша. Только к вам. Я... мне кажется, я уже хорошо знаю вас... и вы сможете понять. Мне просто не к кому больше обратиться.
Он неожиданно стал говорить мне о своём одиночестве, устанавливая особую близость между мною и собой — такую степень откровенности, которая — сколько раз я убеждался в том — впоследствии нередко оборачивается досадою, взаимной отчуждённостью, неприязнью даже — у тех, кто поддался соблазну таковой близости. Он открывал передо мною своё горе и отчаяние, и я немножко испугался такой откровенности. Я, помню, поразился: какой исступлённой любовью может любить этот внешне благополучный и величавый человек... и как страдает он теперь.
— Поймите, Андрюша, вам может показаться смешным: я же не могу... это хорошо, что вы молчите, не возражаете, я бы не простил вам пошлых увещеваний... но я не могу без неё жить. И я её теряю. Нет, нет, все эти разговоры её, это не существенно, это внешнее. Причина в ином.
Причина оказалась неожиданной и страшной: Мария Петровна долго болела какой-то редкой и не вполне ясной врачам болезнью, её лечили препаратами, содержащими наркотические вещества, от болезни своей она как будто избавилась, но к наркотикам привыкла; наркоманию же у нас одно время не признавали и лечить по-настоящему не умели, да и не осмеливался Петельский о том кому бы то ни было объявить. Мне первому признался. По крайней уж необходимости.
— Я могу, конечно, доставать на стороне, так я и делал, но... мне сложно... подозрительно это... а ведь мы... ведь у нас...
А ведь у нас — при нашей-то оснащённости — что угодно производить можно. Но не самому же шефу тем заниматься, он уж давно своими руками ничего не делал. А человеку менее заметному доступно всё бесконтрольно: кто станет проверять, что в какой реторте кипит.
Долго мы тогда сидели. Душу друг перед другом выворачивали. И я расчувствовался, многое понарассказал тоже.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Впоследствии мы так всё устроили — комар носа не подточит. В конце концов, мне даже интересно стало, я принялся изобретать разного рода снадобья, открыл один любопытный препарат, потом принялся стряпать бинарные наркотики: два вещества, каждое безобидно само по себе, а соединяются — гремучая смесь. Экспериментировал я и с аптечными лекарствами: иной порошочек обработаешь примитивным реактивом — и мощный удар по всей нервной системе обеспечен. Самое смешное: кое-что чуть ли не в простой кастрюльке дома можно сварить. Так-то вот я и резвился на досуге.
Сам я ни крупицы из тех снадобий не попробовал. Мария Петровна всё на себе испытывала. И видно было: нет ей уже спасения. Но я своей вины в том не признавал.
Одно только: владея такой-то тайной, я уже не мог с шефом о своём докторстве разговора заводить. Как будто какое препятствие на пути выросло. Хотя: теперь-то он вроде бы в зависимость от меня попал. Но так и не состоялась моя карьера. Матвеич тоже (по той же, вероятно, причине) молчал.
Впрочем, думал я самонадеянно, моё от меня не уйдёт.
III
Рост, который, учёным секретарём ставши, в отдельный кабинет перебрался, к нам всё же часто захаживал: и по старой привычке, и от дел порою спрятаться, и за мною, как я теперь не сомневаюсь, присмотреть,— а я беспечен был. Умел он создавать видимость простецких отношений: вот-де мы люди свои, а оттого и таиться друг от друга нечего, поскольку мы не только всё понять сможем, но и поддержим, коли нужда подопрёт,— но своих, своих?— пусть и в ущерб прочим каким, до коих нам и дела нет, так что о нуждах собственных пускай сами и печалятся. Он мне тогда со всяческими формальностями (своя рука владыка) помог немало, а для меня формалистика всегда нож острый. Надобно признать: если бы не Рост, я бы на верных полгода подоле с защитой проволынился. Конечно, всё и так обошлось бы, но ведь лишняя канитель на нервы же действует. Рост меня где-то в обход очереди пустил, в ВАКе потом подтолкнул — это и к зарплате прибавка пораньше. Пустячок, как говорится, а приятно.
И ещё как раз в то самое время повадился он к нам ходить — душу изливать. Очередная любовная интрига у него стряслась. Оно бы и ничего, да возлюбленной его приспичило ко всему всерьёз отнестись. Бывает. Рост к нам за сочувствием и приходил.
— Вот терпеть не могу, когда баба из-за меня начинает реветь. Просто раздражают меня их истерики,— рассуждая так, Рост одновременно обдумывал шахматный ход против Шермана, как всегда иронически улыбавшегося его речам. — Ну что мне душу травить? Если говоришь, что меня любишь, то и делай, чтобы мне хорошо было.
— Ты, дуся, нелогичен,— отвечал Шерман, неуверенно протягивая руку к своему коню.
— Ну вот, ты ещё будешь против меня!
— Платон мне друг, но шажок я тебе всё же поставлю.
— Закрылся.
— Ты же сам говорил, что слова “я вас люблю” означают: я хочу с вами переспать. Эрго, они вовсе не обозначают обещания не устраивать истерик. Ещё шах.
— Не страшно, отступил. Но из этих слов, Саша, не вытекает и необходимость уходить от мужа. Зачем ей это понадобилось? Так что ли не могла?
— Чего ко мне пристал? Её спрашивай... Про пешку мою забыл?
— Я ей говорю: зачем ты это сделала?
— А она?
— Она говорит: он приставал ко мне по ночам.
— Ах, какие страсти!
— Я ей: на то он и муж, тут его право. А она: неужели тебе не всё равно, что он меня берёт?
— А тебе не всё равно?
— Как будто он этого прежде никогда не делал. Разом больше, разом меньше, какая разница. А теперь вот тебе шах.
— Испугал ежа голой жопой.
— По-моему, она просто порядочная женщина,— сказал я.
— Стерва она порядочная. И теперь я ей как будто чем-то обязан.
— Дуся, не агонизируй, обойдётся.
В дверь заглянула Тамара Казакова, позвала меня:
— Андрей, ты мне нужен.
Не отрываясь от шахмат, Рост раздумчиво произнёс:
— Тамара, не трогай его, ему сегодня ничего нельзя, у него менструация.
— А! Ростислав Аркадьич!— увидев Роста, Тамара вошла к нам.— А что наша заявка, которую я подала вам ещё неделю назад?
— Какая? Беру коня.
— Остроумно, — Шерман скорчил гримасу.
— На реактивы заявка!— гаркнула Казакова.
— Ой, оглушила. Заявки я коплю, чтобы сдать в макулатуру на “Королеву Марго”.
— “Королева” давно прошла,— заметил Шерман.
— Значит, на “Графа Монте-Кристо”. Тебе нравится Дюма, товарищ Тамара?
— Да пошёл ты знаешь куда?
— Куда? Я с интересом выслушаю рекомендацию относительно маршрута намеченного похода.
— И вообще тебя все ищут.
— Я занят.
— Заявку мне оформляй!
— Зачем ты мне напоминаешь о каких-то делах? Их всё равно не переделаешь.
— Рост, ну пожалуйста, не тяни, сделай для меня.
— Только для тебя и ради нашей прежней любви,— Рост не глядя обхватил её левой рукой и притянул к себе.
— Уйди, дурак,— вырвалась она.
В это время от двери раздалось:
— А я сегодня пьяненький!
Мы обернулись: перед нами стоял улыбаясь Пётр Филиппыч Волчишин. Хороший мужик, добрый. Доктор наук. Рост его уволил потом.
— Опять!— Тамара сердито отвернулась.
Пётр Филиппыч, не снимая с лица радостной улыбки, подошёл к ней:
— А раз я пьяненький, это значит: для начальства свой. Во-первых, от меня казне доход, а во-вторых, лишних мыслей никаких нету, кроме чтоб ещё выпить. Благонамеренный гражданин.
— Вот хороший вы человек, Пётр Филиппыч, а всё себе портите. Зачем пьёте?— принялась увещевать его Казакова.
— А это я космонавт. Как выпью, это я значит в космос взлетел, в невесомость,— Волчишин с каждым словом улыбался всё радостнее, а я смотрел на него, ожидая с любопытством, до какого градуса радостности он дойдёт, чтобы дальше уж некуда было, но он всё никак не мог остановиться, преодолевая все пределы возможного и невозможного.— Вот тут начальство сидит, оно меня понимает.
— Да! Зарплату прибавит.
— И это правильно! — при словах о зарплате наш космонавт засиял ещё довольнее.
Рост, успевший схлопотать мат от Шермана, повернулся, раздосадованный, к радостному покорителю вселенной и с бесцеремонной грубостью скривился:
— Ну что тебе надо?
— А я пьяненький!— Волчишин чуть покачивался, стоя посреди комнаты.
— Вот и иди, иди!— Рост встал, с силой развернул его на месте и чуть не пинком толкнул к двери.
Радостное сияние Волчишина потухло и сменилось недоумённым выражением, он оглянулся на Роста и заковылял прочь.
— Зачем ты так?— сердито огрызнулась на Роста Тамара.
— Только кто без греха, тот имеет право бросить камень в ближнего своего,— укорил Роста и я.
Странно: я понял, по-настоящему понял эту истину уже после разговора моего с Назаровым, но именно более позднее моё понимание заставило меня тогда, более десяти лет назад (гораздо более), сказать Росту: зачем бросил камень в человека? Объяснить такой анахронизм я не в состоянии.
Рост на моё замечание ответил неожиданно просто:
— А я самый высоконравственный человек, чтоб ты знал.
Я заглянул в его прямо уставленные на меня глаза и увидел, понял, что он отнюдь не лукавит, что вот он именно так, как утверждает, так и думает, в том уверен, и иначе думать не умеет.
Шерман и Казакова слов Роста будто и не заметили.
— До чего вы, мужики, до этой водки горазды,— зло, ни к кому не обращаясь, сказала Тамара.
— Волчишин, допустим, пьёт казённый спирт,— заметил Шерман.
— Всё готовы отдать, последние штаны с себя снять,— не слушая его всё больше раздражалась Казакова.
— Мужчина, конечно, всегда готов снять штаны, но в несколько иной ситуации,— насмешливо сказал Рост.
— А что, у тебя, Томочка, муж слаб по этой части?— Шерман щёлкнул себя пальцем по горлу.
— У неё муж образцовый!— Рост опять сделал попытку обнять её.
— Образцовый!— она сбросила руку Роста.— Когда спит. Жаль, всё больше бессонницей страдает.
— Что,— Рост ухмыльнулся,— часто по ночам пристаёт?
— Да пошёл ты!— ещё раз огрызнулась Тамара.— Ты мне лучше зубы не заговаривай. Заявка моя где? Развёл бюрократию, так хоть бы дело делал.
— Бу сделано.
— Опять обманешь, — с неожиданным безразличием сказала она и пошла от нас, забывши даже, что я ей был для чего-то надобен.
— А станок у неё ничего,— заметил Рост, когда она вышла,— такой от души вклепать можно.
— Дуся,— Шерман укоризненно покачал головой,— не подрывай свой моральный авторитет.
— Да я так, чисто платонически. Скажи лучше, что с той делать?
— Зачем связывался?
— Ты бы видел, какая у неё попа. За одно за это влюбиться можно.
— Только попа и всего-то?
— Ну и вообще...
— Вот так-то, Андрей Михалыч!— Шерман повернулся ко мне.— Люди живут исключительно ради ощущений. Ощущения же наши суть символы окружающего мира. Мир, быть может, и вообще не существует. Поэтому всё наше поведение зависит не от объективных качеств сомнительной реальности и уж вовсе не от вымышленных досужими умами моральных норм, а сугубо от того, какие ощущения мы предпочитаем. Тут — всё. Остальное: наши поступки, наши дела, наше мировоззрение даже — лишь производное, вторичное.
— Саша, не развращай младенцев.
— Должен же кто-то этим заниматься. Ты вот мне лучше скажи: зачем придумал какие-то заявки, забрал всё в свои руки. На то Смеховский есть. Это же вне компетенции учёного секретаря. Ты не снабженец.
— Смеховский мне только благодарен.
— Тебе-то это зачем?
— Просто я всё поставил на контроль. Всё должно проходить через меня.
— Ну-ну!— Шерман задумался и некоторое время серьёзно смотрел на Роста.— Одно хотел бы знать: откуда в тебя проецируются подобные идеи?
— Не понял.
— Андрей Михалыч! Оторвитесь вы от своего варева,— Шерман опять сделал вид, будто беседует только со мной, как бы не замечая Роста.— Неужели и вы тоже думаете, что мысль проецируется мозгом?
— Чем же ещё? Желудком? — пошутил я весьма неудачно.
— Я вам серьёзно, а вы... — разочарованно шмыгнул носом Шерман.
— Не задумывался над этим вопросом, Александр Иосифыч.
— Напрасно.
— Без мозга нет мысли.
— А без фортепьяно есть фортепьянная музыка?
— К чему вы это?
— Скажите: разве рояль сам может производить музыку? Проследите сложную связь. Музыка вначале зарождается у композитора в виде неосязаемой идеи, идея овладевает пианистом, и только потом мы получаем возможность слушать звуки рояля. Лишь безумец может утверждать, что рояль сам создаёт музыку. Кстати, вы не помните, какой философ сравнил человека с сумасшедшим пианино?
— Саша, скоро наши мозги действительно не смогут произвести ни одной мысли, так ты их запудрил,— не выдержал шермановской болтовни Рост.— Произведи лучше идею, что мне делать.
— Заголя жопу бегать.
— Я тебя уволю.
— Не ты меня уволишь, а злая сила, которая действует через тебя. Неужто тебе не зазорно подчиняться её коварному влиянию?
— Через меня действуют исключительно добрые силы.
Слушая все эти речи, я постепенно начал ощущать какой-то вязкий туман, окутывающий моё сознание, отчего всё вокруг стало представляться мне не то бредом, не то даже кошмаром, хотя и не мучительным, но всё-таки тягостным. Мысли и разговоры теряли чёткие очертания, расплывались, растекались — и не только во внутреннем пространстве моего сознания, но и во времени. Пространство и время тоже становились зыбкими, почти неопределёнными. И я сам начинал как будто распадаться, дробиться — в моём собственном самоощущении. Я как будто начинал утрачивать границу между собственным внутренним и между обволакивающим меня внешним миром, растворяясь в вязкой изменчивости неверных эманаций своего сознания, которое дразнило и раздражало меня своей ненадёжностью, порою исчезая совершенно.
— Ну что, старик, договорились?— хлопнул меня Рост по плечу.
— О чём?— я с трудом освобождался от дремотного наваждения.
— Ты что, спишь что ли с открытыми глазами?— Рост тряхнул меня.— По бабам меньше ходить надо.
— Андрей Михалыч! Ау!
— Чего?— не понимал я.
— Договорились или нет ?
— О чём?— я почти простонал свой вопрос.
— Саша! Повтори ему. Я уже спешу.
— Куда тебя несёт?
— Мы сегодня к Илюше Глазунову идём.
— Он для тебя уже Илюша?— зачем-то с нарочитым еврейским акцентом воскликнул Шерман.
— Пока, старики, пока! Саша, объясни ему: если он захочет её отдрючить, я возражать не буду. Пока!
Рост с суетливой поспешностью выскочил за дверь.
— Ну что?— спросил я с обречённым видом, отчасти удивившим меня самого.
Когда Шерман прояснил суть дела, мне оставалось лишь вздохнуть сокрушённо:
— Без меня — меня женили.
— Надо, Федя, надо!
Придумали они вот что: я должен встретиться с любовницей Роста (которая бросила ради него мужа и якобы закатывает теперь по таковому поводу истерики, грозя нарушить и ростово семейное благополучие) и каким-то образом уладить дело. Попытаться уговорить, разубедить, отвлечь удар на себя, жениться на ней самому... что угодно.
Ну не бред ли сущий?
IV
Если на душе моей нераскаянный грех лежит, то и мир вокруг меня греховностью обильнее. Нет, не то что он мне таковым покажется из-за помрачённости моей, а объективно он таким будет, как бы и независимо от моего восприятия. Мой внутренний мир какими-то сложными и непостижимыми связями со всею вселенною соединён, и может быть, стоит мне со злобою о чём-то помыслить лишь, а на другом конце земли эта злоба у незнакомого мне совершенно человека тягу к преступлению рождает, а то и прямо преступление. Наоборот — праведник не только свой грех в душе страданиями избывает, сжигает на огне внутреннем, но и мира греховность умаляет. А что, в злобе пребывая, я весь мир чёрным вижу — вторично, ибо от злобы моей весь мир именно чернее становится.
Эта мысль долго раздражала меня ещё и в прежнее время.
Хоть и вздорная мысль, а всё же: должно же быть какое-то непознаваемое нами пока равновесие между внешним и внутренним?
Иначе непонятно мне, к примеру, нередкое несоответствие моей памяти и реальности. И вообще об одном событии разные люди противоположно по-разному рассказывают нередко. Память у кого-то подводит? Слишком просто было бы. У каждого свой мир, я думаю. Что же за диво, коли не совпадают те миры? Бывало так со мною: узнаю я о смерти какого-то человека, даже некролог как будто в газете прочитаю — а потом, гораздо после, вдруг он живым оказывается. А я голову на отсечение готов дать, что читал тот некролог. Что за мистика? А может: я изменился — и мир изменился, даже в деталях? Или вот: начинает меня уверять кто-то, что в такой-то день и час со мною там-то встречался, о том-то говорил — и прочее. Я же не только помню, но и документально могу подтвердить, что в то же время в другом месте был, а с тем человеком вовсе и не говорил ни о чём подобном вообще и никогда. Но человек-то тот не врёт и разыгрывать меня не вздумал — утверждает, в чём уверен. Кто из нас прав? Оба правы.
Просто, думается мне, мы с ним на разных уровнях внутреннего состояния пребывая, разминулись и по-разному мир увидели в какой-то момент. Реальность же неустойчива, переменчива. Что из того, что каждому из нас она незыблемой представляется? Изменились мы если, и всё меняется — мы же не замечаем, как не заметим движения относительно себя любого предмета, когда он с той же скоростью в одном с нами направлении устремлён.
Детски-наивная, разумеется, мысль, но забавная, забавная.
Однако: отчего нет чёткости в моих воспоминаниях об одном из периодов давней моей жизни? Память что ли рушится? Но тогда же бы и всё во мне позабылось.
Не то чтобы я запамятовал тот период вообще, я помню прекрасно, и даже более: именно парадоксально, что помню больше, чем можно и нужно. Я помню два события, которые: либо одно, либо другое было, но никак не оба вместе. И последовательность некоторых мелких происшествий ускользает от меня. Что прежде было, что потом — не берусь утверждать.
Ладно, пусть то лишь простое расстройство памяти.
Я не могу собрать в целостности по достоверным элементам время, когда проходила моя защита. Рост и Шерман уверяли меня, что и до и особенно после неё я улаживал любовные неурядицы учёного секретаря. Я же знаю: сразу после защиты я уехал из Москвы более чем на месяц. Кто же тогда его кралю умасливал? Именно я — в чём тоже не сомневаюсь, ибо тоже помню. Иной раз сдаётся мне, что эти любовные страсти случились несколько позднее, иной раз — что чуть ли не одновременно с защитой самого Роста. Но ведь я и в том твёрдо уверен — опять-таки помню, — что мы обсуждали развитие всех событий как раз в момент писания Шерманом и мною оппонентского отзыва Роста на мою диссертацию.
С защитой, кстати, всё обошлось у меня вполне благополучно — без сучка без задоринки проскочила. Я, признаться, почти и не заметил ничего. Рост сам вызвался быть одним из моих оппонентов, а Шерману пришлось, как всегда, стряпать его речь.
— Ну, а огрехи-то ваши каковы?— спросил он меня под конец своего сочинительства.
— Нет таковых!— бодро откликнулся я.
— Не заставляйте меня изрекать банальную фразу о пятнах на солнце.
— Так что же делать, коли нету, Александр Иосифыч?
— Срочно изыскать.
— А без них никак?
— Дуся, у тех игр, в которые мы ввязались, имеются свои правила. Нельзя нарушать.
— Тогда напишите, что мне не удалось пока открыть ни одного фундаментального химического закона.
— За закон не степень дают, а нобелевскую премию.
— Вам изменяет ваше неизменное чувства юмора, Александр Иосифыч. Коли тут игра, то нечего и оглядываться на необходимость заурядного правдоподобия.
Шерман принялся смотреть на меня грустно и недоумевающе:
— Оказывается, вы обидели меня недоверием, Андрей Михалыч.
— Помилуйте!
— Всё-то вы простачком прикидываетесь. А выходит на деле: не так-то вы и простоваты, каким хотите казаться.
— С дураков спрос меньше.
— Смотрите, не переиграйте,— с оттенком угрозы произнёс Шерман.— Но недостатки вы мне должны всё же отыскать.
Изредка заглядывал к нам Рост.
— Как успехи, старики?
— Дуся, это будет лучшее из написанного тобою.
Как раз в те дни Рост, помимо всего прочего, выживал из Института на пенсию Ксению Васильевну Татарову — зловредную, надо признать, старуху: высокомерную, горбатую и педантичную. От неё многие стонали. Зачем-то ей понадобилось бороться за справедливость и против Роста, вследствие чего она заявила на учёном совете, что Рост присваивает себе функции, не соответствующие его должности. В той борьбе многие (и я) от души сочувствовали Росту — и вовсе не из любви к нему, а по неприязни к Татаровой,— злорадно ожидая, когда же он вытурит свою врагиню.
— Мужики! Самое страшное на свете старые девы,— говорил Рост, намекая на Татарову.— Всеми силами старайтесь, чтобы их было как можно меньше. Себе же жизнь облегчите.
— Чего она на тебя взъелась хоть?— спросил я.
— У старых дев психология проста: не вы меня, так я вас,— тут Рост сделал неприличный жест.— А у этой ещё в горбу свербит.
— Да, она, пожалуй, к одной Яковлевой и добра, потому что та тоже такая,— поддакнул Шерман.— Заметили?
— Как сойдутся вместе, так наверно горб друг другу измеряют, у кого больше,— с довольной насмешкой проблеял Рост.
Шерман покачал головой:
— Нехорошо, дуся.
— Ладно, ладно, старики, трудитесь, не буду мешать. Но существования старых дев не допускайте, лишайте их невинности, пока молоды.
Ещё помню, что в самый канун защиты я готовил для шефа запретное зелье. Рост вошёл и, как будто он всё знает и понимает давно, взглянул на мою аппаратуру, кивнул с улыбочкой и молча вышел. Я не уверен хотя, знал ли он тогда уже, чем именно я занят: ведь со стороны сколько ни гляди, ни о чём не догадаешься.
V
А Октавиан, который знаменитый император Август, так он и вообще был просто Восьмёркин.
И ещё был у нас император тоже. Не Восьмёркин, а Пётр третий. Он третий, а жена у него вторая. Екатерина то есть. Так вот надо, чтобы и она была тоже третья. А то историческая несправедливость.
VI
Всегда угнетали меня в ранние школьные годы пресловутые задачки про поезда, без устали снующие между пунктами А и Б,— тоску они на меня наводили. Начну решать — и всё думаю, воображаю себе, что это за города такие, и как они выглядят, и что на дороге между ними встречается тем поездам. И как прекрасно: сесть в поезд и ехать бездумно, от окна не отрываясь. Долго, долго — бесконечно долго ехать. Именно: ехать — а не: приехать куда-то. Не существовало тогда ничего, что могло бы показаться мне большим счастьем: потому что недостижимо это было для меня.
Мои дальние поездки самые в те годы — в деревню к деду. И как я всегда предвкушал их заранее! Особенно в раннем детстве: уже загодя готовился и на всех прочих смотрел как на обделённых судьбою: они никуда не поедут, они обречены на оставание дома.
Не так уж долга была моя та езда, часа два, и всего-то на электричке — но и это становилось для меня событием. И с какой грустью смотрел я с платформы на уходящий в даль поезд, в котором совсем недавно ехал, счастливый. Но ждала другая даль: от станции к деревне — это и утешало.
Вот что меня притягивало: даль. Именно стремление в даль делало для меня волнующей всякую дорогу. Вот почему я готов был всегда неустанно пребывать в пути: даль недостижима; за всякой далью открывается другая даль, и оттого никогда нельзя насытить своё стремление к манящему впереди пространству. Я готов ехать, идти — всегда вперёд и вперёд. Неудовлетворённое чувство дороги — может быть, и оно подсознательно угнетало меня все мои годы? Мне бы странником стать — я же оставался лишь убогим путником во времени, но время чаще лишь пугает нас, чем манит.
— Будущее неизвестно, в прошлом же нам нечего бояться. В будущем нас могут поджидать неприятности, радостные же надежды чаще не оправдываются, а всё хорошее, что даже и случится с нами, тут же становится прошлым. В прошлом мы родились, в будущем умрём. Так стоит ли даже мечтать об этом неведомом будущем, не то что стремиться к нему? Лучшее, что есть в нашей жизни, — обращение мыслью к счастливым мгновениям прошлого — воспоминания.
Так философствовал, стоя рядом со мною в коридоре вагона у окна, один из случайных моих попутчиков, седовласый, с благородными складками на матовых щеках обликом интеллигент в семьдесят седьмом поколении. Рассуждения хоть и банальные отчасти, а порою и призадумаешься: или и впрямь так?
Мне не хотелось отвечать. Послушать неглупые речи я бы ещё и непрочь, но выдавливать что-то из себя, непременно глубокомысленное — сил нет и желания. Я молча созерцал вершащееся за окном круговращение пространства: вблизи оно стремительно несётся назад, но потом начинает совершать плавный поворот и у горизонта уже медленно движется в одном направлении с поездом, а впереди снова закруглённо приближается к дороге и вновь летит нам навстречу.
Разделавшись со всеми формальностями, коими обременила меня защита диссертации, я как из неволи вырвался — в вольное кружение обволакивающих меня далей. Куда и зачем я ехал (и ездил ли вообще?— вот каверза) — того я и знать не хотел. Не цель, но процесс — процесс пребывания в пути, переживания дороги — только это и было причиною моего странствия, ничто иное. Ничто иное. Обыденнее можно было бы выразиться так: хотелось — “отдохнуть и развеяться”.
И ещё одно прекрасно в пути — полная беззаботность, когда важнейшими становятся проблемы: не пора ли отправиться пообедать, стоит ли соблазниться предлагаемым безвкусным чаем, выйти ли размяться на остановке, или же смысла нет из-за совершеннейшей её короткости — и всё в том же роде. Тут-то порою и забрезжит вдруг в сознании обманчивый призрак безсуетного бытия. С любопытством выйдешь из вагона на большой стоянке, побродишь, поглазеешь на вокзальный люд — ни с чем ты здесь не связан, никто тебя не знает, никому ты ничего не должен,— тронется поезд, и расстанешься со всеми навсегда. Вперёд!
Любопытно и побеседовать с попутчиками, растянувшись на полке, послушать в полудрёме досужие разговоры под усыпляющий перестук колёс.
— И старших молодёжь не слушается. Нет. Вот мне мать рассказывала: мой прадедушка, это значит моего дедушки отец, так вот у него семь сыновей было. Ну как-то жёны у них (знаете, женщины ведь разные бывают), так значит, жёны повздорили между собой. А жили все вместе, тогда так было. Так он, прадедушка мой, вызывает к себе по одиночке сыновей. Вызвал первого: ложись на лавку. Тот лёг. Он его и начал верёвкой стегать. Бил, пока не устал. Сын встаёт: батюшка, прости. Тогда ещё батюшкой отца называли. Так вот он: батюшка прости. А знаешь, за что тебе попало? Нет. Так знай, что за жену твою. Потом так второго, третьего. А как всех выпорол, сел на лавку, пот вот так вытирает, они ему воды подносят: батюшка, попей, ты устал. Вот что значит стариков уважали. А ведь у них уж у самих дети у всех. И вы думаете, жёны после этого ругались когда-нибудь? Попробуй, поругайся у меня жена, так я ей такого задам, что не обрадуешься. Потому что мне за неё всыпят. Вот что значит стариков уважали и слушали. А теперь попробуй-ка папаша тронуть какого-нибудь стервеца. Теперь сын получает за двести, а мать идёт к прокурору: скажите, чтоб сын кормил. Так по исполнительному листу и кормится, а у сына совести не хватает мать-то самому кормить.
— Молодёжь не виновата, что она такая. Время такое,— ответила разместившаяся внизу простоватая на вид тётка.— Она, молодёжь нынешняя, вся изнутри измученная.
— Измученная!— возмутился недоброжелатель молодёжи, по виду мелкий конторский служащий.— В наше время бывало парню брюки купят бумажные, так он не знает, куда сесть, всё боится запачкать и помять. А нынче? Что и говорить! Тогда не были измученные. А эти пальцем шевельнут, и уже измученные. Вон этот,— он неожиданно ткнул в меня пальцем,— ещё ничего, место уступил нижнее, а другой задницу побоится оторвать, а ты карабкайся наверх.
Ах, какой я положительный!— умилился я про себя. Вот прелесть вагонных бесед: ненароком и похвалить могут при случае. И где бы я ещё согласился слушать такие-то разговоры?
Простоватая тётка вышла очень скоро, я даже подивился: зачем не в общем поехала? Ладно, её дело. На смену ей пришёл хитрецкого вида дядька, повесил на крюк кепку, улыбаясь на всех посмотрел и ошарашил вопросом:
— А вот кто скажет: сколько орденов у Брежнева?— помолчал лукаво, всех оглядел ещё раз и резюмировал:— Вот то-то, что никто не знает.
После этого он достал из затрапезного портфеля какую-то колбасу, хлеб, разложил на столике и принялся закусывать. Я в конце концов не выдержал:
— Так сколько же орденов-то?
— А вот я тебе скажу,— охотно откликнулся он.— У нас в колонне портрет висит с планками наградными. И вот кто ни считал, у всех по-разному выходило. И я тоже не знаю.
Потомственный интеллигент, который подобно мне разместился на верхней полке (залезая на неё не менее ловко, чем я), приподнялся на локте — до того он лежал молча, следя вполслуха за доносившимися снизу речами — и сказал мне с грустной усмешкой:
— Помню, после революции я всё перед отцом своим гордился: ну дуралей был, разумеется, и всё мне казалось: вот как мы теперь: отменили ордена и звания, и что это демократично, а он мне всегда говорил: успокойся, всё вернётся, и ордена будут, и чины, и ещё больше придумают, люди любят разноцветные бляшки, любят ярлыки на себя нацеплять.
Признаться, наивным сопляком будучи, я все когда-то разноречия и разномыслия между людьми считал, желторотый, праздною забавою игривых умов — к чему приучил меня тот же Шерман: люди болтают, а всё вообще пребывает в некотором равновесии, так что и горевать нечего. Потом, после всех мытарств, я того равновесия надолго лишился. Вышибать же меня из него начал тот самый мой сосед, сочтённый мною исконным интеллигентом — а отец его, как выяснилось, вовсе и рабочим был; да это малосущественно. Но то существенно, что он, не играя идеями, серьёзным вполне оставаясь, опрокидывал одно за другим стереотипные мои убеждения, как бы уже и над моим сознанием пребывающие. Даже не в том дело, прав ли он был-то в своих речах, пусть даже и неправ, да меня хоть на время, а логикою своею сумел переубедить кое в чём. Я-то нетвёрд оказался — как со мною не совладать?
— Так вы что: о наградах так непочтительно?— опешил, помню, порицатель молодёжи.
— За что же их почитать, позвольте узнать. Не более чем бирки на товаре, указывающие на сортность.
Приверженец старых нравов начал закипать:
— Я за эти, как вы осмелились назвать, бляхи и бирки кровь проливал!
— Заладила сорока про Якова. И я воевал. Только кровь я проливал не за бляхи, а за Родину. Военные-то, кстати, награды и вообще не достойны того пиетета, которым окружены. Индейцы Северной Америки в знак победы над врагом скальпы его к поясу прикрепляли — чем не ордена!
— Не слишком ли вы?— растерялся я, хотя, признаюсь, он расщекотал дремавшую во мне склонность к противоречиям.
— Если вам кажется, что слишком, то лишь от робости мысли. На вас шаблоны общественного заблуждения давят.
— Наша война справедливая!— не сдавался и нижний обличитель.
— Справедливых войн и вообще быть не может. Вынужденные — другое дело. Убийство, тем более в массовых масштабах, справедливым быть не может.
— Мы гордились и гордимся...
— Мало ли что люди по нужде делают, но зачем же тем гордиться?
Нижний не смог противопоставить подобному доводу ничего на уровне логическом, он много ещё выплеснул эмоций, возмущался, но я перенастроил своё внимание так, что уже совершенно его не замечал, мне любопытнее были аргументы седовласого соседа (имени его я так и не узнал никогда, а назвал для себя Седым): хотелось вникнуть в них, чтобы опровергнуть.
Выходило, что я существовал одними шаблонами, в мире пребывая. Бытие всеобщее людское мне было мало ведомо. Пусть я и прожил к тому времени уже более четверти века, но, будучи, по сути, оранжерейным растением, плохо знал то, что называют простодушно жизнью, и прав был упрекавший меня в том Шерман, хоть и сам он в оном знании не слишком преуспел. Разумеется, я не совсем уж к наивным несмышлёнышам причислен быть мог — скорее я мало задумывался над тем, что и знал даже: над обыденной реальностью всеобщего повседневного существования, составляющего основу жизни каждого из нас, и жизни вообще, пусть даже такое существование обычно и презирается свысока отчасти, лишь только речь заходит о жизни в некоем высшем философском смысле. Я вот тоже, размышляя о жизни, совершенно упускал из виду обыденную её сторону, всё больше в возвышенные эмпиреи устремляясь.
Именно в том моём бесцельном странствии, в реальности которого я иногда осмеливаюсь сомневаться, отчего и вспоминаю его столь пристально, именно тогда, как ни стыдно признаться, я впервые задумался над окружающей меня стихией житейской — так как, пожалуй, впервые удостоил её, великовозрастный болван, своего внимания, не отягчённого (на недолгое время) никакими заботами, причём заботами настолько для меня важными, что я готов был всем ради них пожертвовать, а всё, что вне их сферы, презирал свысока.
За такое-то пренебрежение жизнь и отомстила мне жестоко: стоило мне столкнуться с миром, в свою очередь плевать хотевшим на мои исключительные стремления и претензии. Отягчённый деспотическим опытом, я и сам себя тогдашнего презирать бы мог, когда бы к тому достаточно твёрдости имел: а то ведь жалко всё-таки.
Однако: с какого порою пустяка незначащего всё начинается. Я впервые задумался всерьёз над тем, что меня прежде не интересовало вовсе, имея к раздумью повод слишком незначительный; поезд наш, как выяснили мы на следующий день поутру, начал безнадёжно опаздывать. Пусть мне и некуда было спешить, а и я принялся недовольство высказывать. Бескорыстное недовольство: просто я был уверен, что поезда должны ходить точно по расписанию, хотя бы и не ездить мне вовсе на тех поездах.
— А кому это нужно, чтобы они по расписанию ходили?— поинтересовался как бы между прочим Седой.
— Мне!— с некоторым вызовом ответствовал я.
— Вот подите и распорядитесь, чтоб не опаздывали,— с явной насмешкой, но опять как бы между прочим заметил он.
— Есть же такие, которые могут распорядиться.
— А им-то как раз и не нужно.
— Как это не нужно?
— Так. Лично никому не нужно, чтобы всё шло нормально. В конце концов, прибудет же когда-нибудь на место наш поезд. Чего зря беспокоиться? Начальник, от которого хоть что-то действительно зависит, сидит в своём кабинете, никуда не торопится, и зарплата у него больше не окажется, если поезд не опоздает, и блага его при нём останутся, если даже опоздает.
— Наказывают же как-то?
— Выговор вкатить могут. Эти игры на дурачков рассчитаны.
— А из кабинета попрут?
— Могут, если совсем всё развалит. Из одного попрут, в другой пересадят. Правила в тех играх железные.
Подобное рассуждение поразило меня. Я и не поверил вполне.
— Ладно, пусть мы опоздаем, от этого пострадает только частный наш интерес. Но за нами другие, товарняки тоже. Ущерб промышленности, допустим.
Каким — именно наивным дурачком я выглядел. Седой должен был немало в душе распотешиться.
— Да, на железную дорогу наложат экономические санкции, штраф.
— Хотя бы.
— Знаете, что это такое? В конечном результате безымянный бухгалтер перепишет некую цифру из графы одной бумаги в такую же графу другой бумаги.
— Но государство же должно быть заинтересовано...
— Что же такое государство, позвольте вас спросить. Нет, молчите. Знаю, что скажете: государство это мы все. Или что-то подобное. Когда, если помните, Людовик-Солнце изрёк: государство это я,— в том больше смысла было. Мы! Это ведь нечто абстрактное. Коснётся до дела, и выяснится, что в общем — все, а конкретно никого. Так что и понятие государства не более чем абстрактная бессмыслица.
— Вы уж слишком!
— Проанализируйте хотя бы ещё раз нашу ситуацию. Мы, сидящие здесь, заинтересованы, чтобы наш поезд пришёл вовремя. Но от нас ничего не зависит. Те же, от кого зависит, по сути, ни в чем не заинтересованы. Вернее заинтересованы в одном: чтобы меньше хлопот было. Более или менее идёт — и ладно. Причём они там так ответственность на всех разложили, что и реальных возможностей у каждого не слишком и много. И так почти повсюду. Кто конкретно объединяет в себе заинтересованность и возможность? Никто. Когда эти понятия объединятся в чём-то конкретном, тогда и дело пойдёт, и государство может обратиться из абстракции в нечто осязаемое. В абсолютном смысле сие, быть может, и не достижимо, но в малой доле... Впрочем, в малой доле интересы всегда будут шкурные. Заинтересованность и возможность объединяются чаще всего в воровстве.
— Но ведь что-то же делается и кроме воровства.
— Так люди же не могут сидеть сложа руки. Тем всё и движется. А управители, думая, будто они всем руководят, в лучшем случае могут поговорить о добросовестном труде на благо родины — но кто же их всерьёз слушать станет?
— Врали у нас много,— откликнулся неожиданно мужичок-хитрован, не сумевший сосчитать брежневские ордена.— Врали, вот и не верит никто никому. У нас как? Соберут собрание, напишут в партбюро на бумажке, раздадут, и выступают по тем бумажкам. Чему же я теперь буду верить?
Выговорив это с лукавым видом, счётчик орденов снова принялся чего-то жевать, чем он, собственно, и занимался всю дорогу, хитро помалкивая на все наши рассуждения. Однажды вот только и не выдержал.
— Слушайте, что гегемон вам вещает. Всегда бы так. А то ведь в своё время ох как поверили... Батька вот у меня тоже, я его, помню, спросил: зачем ты бунтовал в семнадцатом году? А он: нам сказали, что мы хозяевами станем,— я думал, дивиденты будем получать и ничего не делать. Я говорю: ну а работать кто же тогда стал бы? Ниоткуда ведь ничего не возьмётся. А мы, говорит, об том не подумали как-то.
— Слишком уж у вас мрачно выходит.
— Не слишком, а в самый раз.
— Но всё же какое-то руководство ведётся? Не просто же всё само собою идёт.
— В действиях всех паразитов заключено диалектическое противоречие. С одной стороны, они не могут не губить организм, на котором паразитируют, с другой не могут не понимать, что если он погибнет, то и им не сдобровать. Поэтому они обязаны хоть как-то поддерживать его жизнедеятельность. Вот когда они додумаются до того, чтобы обеспечить себе существование вне этого организма, вот тогда всему крах: так хапнут, что лучше бы до той поры не дожить.
— И ни у кого на них управы не найти?
— Хрущёва они, например, вмиг придавили.
— Хрущёв ваш всё развалил,— не утерпел долго, видать, крепившийся порицатель молодёжи.— При Сталине порядок был.
— Сейчас я вам напомню, какой был порядок. А молодому человеку, вероятно, любопытно будет узнать. Такого в книжке не прочитаешь. В деревне было в тридцатых годах, сам свидетелем был. Стукнуло одному какому-то шибко умному начальнику, а скорее всего и не одному, выхвалиться перед верхами, и задумал он рапортовать о раннем севе. Земля же мёрзлая. Какой же самый глупый мужик на то пойдёт? И вот вызвали солдат, и под ружьями ходили те мужички и сеяли. Зато по всем рапортам полный ажур выходил, начальнику какое-то отличие вышло. Я уж о прочем молчу.
— Вражеская агитация. Я вот вас сдам сейчас куда следует.
Я смотрел на грозного дядьку и недоумевал: неужто ещё возможно такое!
— Да некуда тут сдавать,— спокойно возразил Седой.— Вы лучше донос напишите, тоже действует. А мне дадите ошибки проверить: неловко же — куда следует, и с ошибками.
Я хмыкнул, Седой же продолжал как ни в чём не бывало:
— До чего же дошло! Чужую голову под топор, чтобы себе пожирнее ухватить. Я не про нашу ситуацию, тут как раз всё бескорыстно, от души. А вот во времена Николая Павловича, у Достоевского имеется упоминание, Дубельт Леонтий Васильевич, жандарм-злодей, одного офицера за ложный донос на каторгу упёк. А товарищ Сталин, соблюдая порядок, доносчику освободившуюся комнату давал.
— Там разберутся, кого на каторгу,— с угрозой отвечал сосед-ненавистник.
Возможно ли такое?— ошеломлённо думал я.
— О Русь, Русь! Чего только не возможно в тебе!— вздохнул Седой.
— Bы считаете, что Русь виновата?— спросил я.
— А знаете, русский народ поразительный-таки. Мне вот один знакомый рассказывал. Он путешествовать любит по Северу. И в глухом одном месте набрели они на деревянную церковь, шатровую и очень высокую. И там на высоте под шатром, где его основание, две балки перекрещиваются, очевидно, детали конструкции, я плохо разбираюсь. А на самом месте перекрещивания куча говна человеческого лежит. Вы представьте только: туда забраться, пройти по балке до середины, для этого же смелость нужна какая. И в какой же он там позе сотворил сие на головокружительной высоте? И зачем, главное? Вот вам весь характер русского человека. У кого такое ещё найдёшь? Он же герой, кто там насрал, удалец-молодец. И дурак, каких свет не производил до него. Недаром Иванушка-дурачок наш символ. Русский характер, как хотите, а совершенно непостижимая вещь. Он во всём до крайних пределов дойти хочет. Уж если нагадить, то в самых невероятных условиях, и в святом, обратите внимание, месте, в храме. А уж если предавать, так и отца родного не пожалеть. Умом Россию не измерить.
— Накрутили всякой всячины, философии премудрой,— проронил ещё одно золотое слово счетовод-лукавец.— А в мире только рождение и смерть. И всё.
— Между ними ещё и жизнь,— не без юмора заметил Седой.
Но хитрован лишь молча собирал вещи, готовясь к выходу.
VII
Я тоже вышел: так, по перрону размяться — стоянка большая, хоть несколько раз по вокзальному радио и грозились её сократить (да так и не сдержали слова). Я пошёл смотреть, как паровоз меняют,— всё, что вагоны тянет, я паровозом зову.
Настоящих же паровозов я пуще войны когда-то боялся. То был едва ли не мистический ужас — чувство, мною завладевавшее, если вдруг случалось где-либо, что мимо меня паровоз мчался: рыча, грохоча, испуская пар и дым, лапищами загребая,— а у меня дыхание в сжимающемся горле камнем останавливалось. Даже и теперь остатки того детского страха во мне чуть шевельнутся порою при грохоте несущегося мимо поезда, даром что нынешние тягловые приспособления на настоящий паровоз мало похожи.
Прогулявшись вдоль состава из конца в конец, я к себе вернулся. В дверях нашего купе стоял милиционер, перелистывая паспорт присевшего перед ним Седого. Тут же был и сталинист-доносчик, а из-за него выглядывала расфуфыренная дамочка, вероятно, новая наша попутчица.
— Товарищ лейтенант!— я не дал никому опомниться.— Хочу заявить, что этот пассажир (я ткнул в сторону доносчика) допускает поведение, не совместимое с высоким званием гражданина СССР. Во-первых, постоянно выражается нецензурно. Когда были одни мужчины, мы терпели, но теперь у нас, я вижу дама, так что сами понимаете. Кроме того, он позволяет себе высказывания, порочащие наш общественный и политический строй, ведёт разговоры, явно попахивающие инсинуациями вражеских голосов. Я свидетель, могу дать показания.
Сталинист только и способен оказался — глаза выпучить и дар речи потерять. Лейтенанту же, видно, совершенно безразлична оказалась вся наша внутренняя пря, встревать в неё он явно не желал. Он вернул паспорт, сказал строго: “Ведите себя соответствующе, граждане, иначе примем меры”. Козырнул и пошёл прочь.
Сталинский сокол то ли со страху, то ли впав в преизрядное изумление, утратил способность не только речи, но и движения. Дамочка принялась, наконец, устраиваться, раскладывать вещи, выяснять отношения с проводником. Седой, чтобы не мешаться, ловко подтянулся и махнул на свою полку (а я в который раз тому подивился: по моим прикидкам ему уже за семьдесят должно было перевалить). Я, не заходя в купе, стоял в коридоре перед открытой дверью. Дамочка, разместившись, вынула зеркальце и, совершая перед ним губами всевозможные выгибания, выпячивания и втягивания, принялась подправлять их яркой помадой.
— Молодой человек!— взглянула она на меня.— Можно смотреть, как женщина раздевается, но следует отвернуться, если она красит губы.
— Миль пардон, мадам! Не забудьте предупредить, когда соберётесь раздеться.
Я тоже забросил себя наверх.
— Позвольте полюбопытствовать,— обратился ко мне Седой, как только я оказался на одном с ним уровне.— Кто вы по профессии?
— Химик,— сообщил я, и не удержался добавить:— Кандидат химических наук.
— Такой молодой!— проговорил он, щекотнув моё самодовольство. Однако следующей реплики я не ожидал:— Могу лишь посочувствовать по сему поводу.
— Это ещё почему?
— Научный тип мышления в столь раннем возрасте явно засоряет мозги.
— Туманно.
— Я ничего не стану объяснять, но приведу небольшой пример. Знаете ли вы что-нибудь про Болдинскую осень Пушкина?
— Может быть, я и впрямь произвожу впечатление невежды, но ведь не до такой же степени?
— Не обижайтесь. Нынешние молодые люди многие почитают подобные знания ниже своего достоинства.
— И вы тоже к молодёжи сурово настроены?
— Отчего же сурово? Но что есть, то есть. Однако я о другом. Если подходить строго научно, то придётся признать, что никакой Болдинской осени вовсе не было.
— А что же было?
— Подтасовка. Сплошной обман.
— Почему это?
— Ну, если вы имеете представление о той осени, то не станете отрицать, что это своего рода чудо. Может быть, у меня с эрудицией неважно, но я подобного случая другого такого не припомню в истории мировой литературы. Но каков должен быть подход к сему феномену у человека, отягощённого научным типом мышления? Во-первых, он обязан усомниться: а было ли это на самом деле? Ну, можно ли за три месяца написать такую прорву шедевров? Сомнение же может быть рассеяно единственным способом: проверкой на повторяемость. Причём повторяемость должна быть повсеместная и абсолютная. Ведь если вы устанавливаете, что водород сгорая в кислороде даёт воду, то это и для Москвы справедливо, и для Владивостока, и для американского кислорода, и для китайского, и для прошлого века, и для двадцать пятого. Так?
— Кто же спорит.
— Значит, если мы отправим человека на три месяца в какое-либо уединённое место и выдадим ему кипу бумаги и чернил склянку, то в конце данного временного отрезка он нам выдаст гору великих литературных шедевров. Нет? Значит, и Пушкин нас надул.
— Остроумно. А свидетельства современников?
— Прямых свидетелей не было, кстати. Мы все полагаемся на утверждения самого поэта. Но вот вы — поверите ли просто так на слово химику-французу, если он заявит об открытии какого-то там закона химического? Нет. Так и с Пушкиным. Создан ещё один миф, каких немало.
— Ну-у...— я не нашёлся сразу, чтобы возразить что-то.
— Хорошо. Смягчим ситуацию, хотя это совершенно уж не научно. Отправим не куда-нибудь, а именно в Болдино, и не когда-нибудь вообще, а именно осенью. Что выйдет?
— Необходимо воспроизведение всех условий.
— В абсолютном смысле это невозможно. Условия всегда единственны в своём роде и в принципе невоспроизводимы. Иначе придётся утверждать, что какая-то особая химическая реакция может быть повторена только в конкретной пробирке из вашей лаборатории, и больше нигде. Но природа и к тому попытку совершила: сам Пушкин приезжал в Болдино ещё два раза, и всё осенью. Но — увы! Кое-что писал, разумеется, но повторить себя не смог. И строго придерживаясь критериев научного мышления, мы должны признать, что никакого чуда в Болдине не было и быть не могло. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Своё бессилие наука навязывает как единственно возможный тип познания, как принцип познания. Вот почему я вас и пожалел. Если вы человек строго научного типа мышления, для вас должно быть закрыто очень и очень многое в жизни.
Сыпь, сыпь соль на мои раны!— подумал я, и внутреннее состояние моё испортилось совершенно. Я решил перебить свой настрой.
— Не пора ли сходить пообедать?— спросил я вслух, прежде всего у самого себя, чтобы прервать нежелательное развитие мысли.
— Пожалуй,— ответил сосед.
Вот для меня мгновения абсолютной беззаботности (не в ней ли и счастье?) — сидеть у окна, терпеливо дожидаясь медлительного официанта, ведя столь же ленивую и необязательную беседу, наслаждаясь полным отсутствием даже самых примитивных проблем в том времени и пространстве, в которых выпало пребывать недолго.
— Почему вы сказали, что Хрущёва чиновники свергли?
— Он допустил непростительную ошибку: ограничил уставом срок пребывания в начальственных креслах.
— Любой срок ограничен. Да как будто и без устава нельзя снять. Чего ради из-за устава специально волноваться?
— Вы не учитываете психологию людей, а она иррациональна. Даже солдат, поднимающийся в атаку под кинжальным огнём вражеских пулемётов, имеет шанс и надежду уцелеть. И не совсем уж безсмысленна та надежда. Другое дело, когда к стенке ставят. Подойдите-ка к тому, у стенки, скажите: зачем отчаиваться? всё равно когда-никогда умирать. А в нём наперекор всему сплошной крик: жить хочу! знаю, что смертен, но не через мгновение! Хрущёв, фигурально выражаясь, парт-аппарат к стенке поставил. Такое не прощают. На ближайшем же съезде Брежнев под бурные овации отменил все ограничения.
— Но это же партийные ограничения, не более.
— Не более! Да более и быть ничего не может. У нас же всё на партию замыкается. Система. Тронешь в одном месте, всюду отзовётся.
— Зачем же Хрущёву понадобилось устав подправлять?
— Решил сделать покороче повод, чтобы держать крепче. Да сил не рассчитал.
Подобные рассуждения оказались новы для меня и странны.
— Разве мало было у него власти?
— Власть реальна, когда я говорю, а ты тут же исполняешь. Вы, вероятно, не следите, сколько даже по-настоящему благих и полезных распоряжений и указаний сверху вязнет и искажается, проходя через так называемые средние эшелоны управления? Власть порою становится фикцией.
— А Брежнева, вы думаете, это не волнует?
— Он компенсирует всё обилием внешних почестей и наград.
— Опасные мы ведём разговоры,— хмыкнул я.— Недаром наш сосед милицию притащил.
— Зря вы его так. Он хоть бы не ложный донос сделал, и от чистого сердца. А вы недобрую клевету допустили, и от недоброго к нему расположения.
— Вам хотелось, чтобы тот лейтенант вас в клоповку?
— Ничего бы он мне не сделал. Вы вот над чем подумайте на досуге: недостойные методы борьбы делают любого ничуть не лучше наших противников. Вот вы не заметили, а что-то в душе у вас повреждено.
— Главное, он заткнулся.
— Цель оправдывает средства? Знакомая погудка. Не оскверняйте себя подобными соблазнами лукавого.
— Что же делать?
— Не врать.
— А они?
— Это дело их совести.
— И пусть клевещут, доносят, убивают.
— Взявший меч от меча погибнет.
— Многие доживают до благополучного конца.
— Почему вы уверены, что до благополучного? Откуда ваши претензии на всеведение? Что происходит с ними в тот момент, когда они предстают перед вечностью?
— Скорее всего, ничего. Проверить-то нельзя.
— Вот-вот. Вот и вылезло на свет ваше научное мышление.
— Что же вы скажете не по-научному?
— Скажу: я не знаю.
— И всё?
— И всё.
— По сути — индульгенция: пусть творят что хотят.
— Они сотворят не более, чем будет попущено им.
— Кем?
— Кто выше нас.
— Богом что ли?
— Всевышним.
— А если нет ничего выше нас?
— Кто думает так, непременно и придёт к мысли о вседозволенности. И начнёт творить что захочет. Вот отсюда и все беды.
— Оригинальная мысль.
— Чего ж оригинального? Прочтите хотя бы Достоевского.
— Так это он всё придумал?
— Он лишь передал то, что получил от других из прошлого.
— Всего лишь передал?
— Вероятно, есть люди, для которых в том смысл их жизни: передавать во времени то, что открывается им при соприкосновении их мысли с прошлым. Они должны передать это в будущее.
— Вы же сами говорили, что в будущее стремиться бессмысленно.
— Я говорил об ограниченной человеческой жизни, но не о движении идей. Бессмысленны, по-моему, частные стремления.
— Наш официант исповедует ваш образ мыслей: никуда не стремится. Мы уже полчаса сидим, наверно.
— Он мудр. Хоть и молод.
— А всё-таки вы относитесь к молодёжи с недоверием, как и наш сосед.
— Вовсе нет. Сосед, как и многие, считает, будто в наше время появилась особая проблема с молодёжью. А проблемы-то никакой новой нет, она вечна. И состоит вовсе не в том, в чём её многие хотят увидеть.
— В чём же она?
— Молодой человек всегда открывает мир как бы заново. Для него и впрямь всё ново под солнцем. Не так ли?
— И что же?
— У людей вообще странная психология: то, что нам внове, то, начинает нам казаться, никому и вообще до сих пор неведомо было. Во все времена, например, влюблённые утверждают: я люблю тебя так, как никто никогда никого не любил. Говорит и сам верит. Откуда ему известно, кто и как кого любил? Вот основа мировосприятия молодых: я всё открываю впервые, никто до меня ничего подобного не мыслил и не чувствовал. Откроет, что дважды два четыре, и спешит объявить последним словом человеческой премудрости. Узурпация права на прогресс в области мысли. Из этого неизбежны все ошибки: и отрицание опыта старших, и фанаберия, и нетерпимость к тому, что, по их мнению, устарело. И всё прочее. Так было во все времена. Когда-то менее заметно, когда-то обостряется. По моим наблюдениям, у нынешних молодых больше наглости на этой почве появилось. Но в сущности: всё весьма тривиально.
VIII
Я вернулся после обеда в раздражённом состоянии. Вероятный энтузиаст тридцать седьмого года сидел как сыч, только глазами ворочал. Перед дамочкой стоял маленький магнитофон и хрипло-гнусавым голосом извергал явно блатную песню.
— Мадам,— с ходу нарушил я балдёжный уют соседки,— нельзя ли без звукового оформления? Мне и без того пришлось выводить из строя здешнюю радиосистему.
— Так это вы всё сломали! Вы музыку не любите?
— Это не музыка.
— Это песня. По-моему, не любить песню, значит себя не уважать.
— Дискуссия не состоится. Пожалейте свой звукоаппарат, я сейчас злой.
Дамочка передёрнула плечами, но послушалась. Я поспешил забраться наверх.
— И всё-таки,— обратилась она к вошедшему вслед за мной Седому,— в блатных песнях есть своё обаяние.
— Чтобы вы должным образом оценили блатное обаяние, вам бы с урками часок наедине остаться. Правда, я бы вам в такой ситуации не позавидовал.
Она снова презрительно пожала плечами.
...Только долго спустя я понял слова случайного своего попутчика. Не часок — десяток лет я с ними бок о бок. Я их ненавижу.
Не в состоянии двух слов связать без матерной связки, они меня сперва за мужика держать вздумали. Меня... А впрочем, что — я! Несостоявшийся великий учёный? Они бы и состоявшегося не задумались насадить на перо, чтобы только себя тем утвердить.
Что есть блатное начало? Комплекс самоутверждения примитивнейших и гнуснейших особей рода человеческого. Я в виду имею блатарей кондовых, профессионалов своего рода. Там ведь много и случайных встречается, слегка лишь попорченных. Я о тех, для кого это призвание: от пустоты их, от скуки, от пресыщенности души и тела. Твердят: преступления совершаются от нужды. Болтовня не знающих жизни. Сам так думал когда-то.
Порою там я подавлял в себе страстное желание удавить хотя бы одного из них своими руками. Я ведь временами в неудержимую ярость впадал — тем, может, и себя спас. Когда невмоготу мне стало однажды, подошёл я к их “неформальному лидеру” (нынче социологи подобными терминами балуются), а сам яростью исхожу, и в харю ему: “Если мне на тот свет выпадет, тебя с собой прихвачу”. Он как взглянул мне в глаза — понял: серьёзно. Отступились.
Потом сам не верил: неужто испугались? Но в тот момент такую я в себе ощущал силу (эманации её он что ли почувствовал, от меня исходящие?), что вот только протянут, кажется, руку к его поганому горлу, и тут же из него дух вон.
И всё же порою сквозь ненависть мою к ним пробивалось во мне странная жалость — к заблудшим жизням их что ли?— или понимал я, семьдесят седьмым чувством воспринимал, что не имею права ненавидеть их, ибо сам тем же пороком уязвлен: лишь в более форме благородной, а тот же комплекс во мне, то же отсутствие цели, то же презрение к людям. Но это ненадолго на меня накатывало, как приступ какой, потом отпускало.
Мне Саша Назаров так сказал:
— Ну что мы всё ненавидим да осуждаем всех? Люди более, чем жалости, не заслужили.
— И самого гнусного преступника жалеть?
— Его-то в первую голову: он сильнее других свою душу сам же и искромсал. Я себе всегда так говорю: что тебе до вины того человека, судей ему и без тебя достаточно-предостаточно, а ты возьми его грех себе в душу, переживи в себе, и страданием тем выжги то, что и в тебе самом не слишком белее его черноты.
Ах, как мы все говорить красно горазды порою! Мне понятнее иногда такие, как та дамочка-соседка, любительница блатного начала — издалека, издалека, впрочем, любительница…
— А что дурного вы видите в блатных?— с намеренным вызовом спрашивала она, убирая свой магнитофон.
— Вам рассказать об убийствах, способах издевательства над людьми, об изнасилованиях зверских?— спокойно ответил Седой.
— Избавьте! Я не хочу знать ни о какой житейской грязи. Зачем осквернять всем этим свою жизнь? Я ничем подобным не интересуюсь.
Ну вот, всё понятно. Чистоплюйство, снобистское отвращение от “житейской грязи” — не более чем заурядный эгоизм.
— Чем же вы интересуетесь?— скорее по инерции, чем искренне, спросил Седой своим ровным спокойным тоном.
— Искусством, например!— она сказанула, как о высшем своём достоинстве поведала.
— Разумеется,— зло вмешался я.— Своим интересом к искусству вы для прочих ведь тем интереснее становитесь. Оттого и интересуетесь, чтобы поинтересничать,— изрёк и сам подивился: экие каламбуры загнул.
— Почему вы позволяете себе подобный тон!— возмутилась она.
— Потому что вы дура,— ответил я, разжигаемый ребяческим желанием говорить дерзости.
— Вам нужно извиниться, молодой человек!— голос Седого звучал строго, а я подумал в тот момент: странно, ведь он даже имени моего не знает — от безразличия не поинтересовался, пожалуй.
— Извините,— ответил я, глядя ему в глаза,— что позволил себе в вашем присутствии столь дерзостную выходку.
Сказал и отвернулся к стенке.
Остальную часть пути мы все провели в натянутом молчании. Правда, стукач-сталинист нашёл-таки себе единомышленника в одном из пассажиров. Они сходились в коридоре и стоя у окна возбуждённо что-то обсуждали. Один раз, проходя, я услышал обрывок:
— ...когда колхозы создавали, это тоже до сих пор многие не понимают...
Другой раз мой сосед злобно радуясь рассказывал, что на могиле Хрущёва нет даже самого плохонького памятника.
— Врёте,— бросил я мимоходом.— Стоит памятник, очень хороший.
Он лишь ненавистно глазами зыркнул.
А уже под конец моего пути я, готовясь к выходу, спросил у Седого:
— Мне сейчас выходить, я хотел бы знать вашу версию относительно смысла жизни.
— Для вас ближайшая цель — отказаться от гордыни.
— Спасибо. Счастливо добраться.
Я вышел из вагона. Объёмистый и невразумительный, громоздился передо мною — новосибирский вокзал.
IX
В небольшом скверике, на задворках Красного проспекта, я сидел и размышлял не спеша, как странен и непредсказуем человек: такое порой выкинет, что тут же первый и в изумление впадёт. Ибо вызвавший во мне самом недоумение приезд мой в Новосибирск случился случайно и вдруг.
Рядом со мною присел некий растерянного вида человек; он был в тёмном костюме, несмотря на жару, вытирал пот с лица не совсем чистым платком, потом догадался, наконец, снять пиджак и ослабить галстук.
— Как объяснить поведение людей?— он спросил меня, как будто продолжал давно идущую беседу (со мною часто вот так заговаривают незнакомые люди: лицо у меня что ли к тому располагающее?), а я засомневался: не слишком ли нарочитое тут совпадение с моими собственными думами?
— Зачем нужно чего-то объяснять?— скорее себе, чем ему, ответил я.
— Я с похорон сейчас. Сослуживец один. Он был у нас профорг. С собой покончил. У него деньги были профсоюзные. Он их по конвертам специально разложил, всё подписал. Какие деньги, ну к чему относятся. Взносы ещё там какие. Кому должен. А потом повесился. Зачем ему это нужно было?
— Вешаться зачем?— глупо спросил я.
— Да вешаться ладно! (я подумал: ничего себе...) Но деньги зачем так подписывать, зачем ему это? Ведь вот представить только: сейчас всё. Разве до денег?
— Отчего же он повесился?
— Кто его знает. Один он жил. Даже трояк был одному из наших должен, и про тот не забыл. Конверты купил специально. Только что похоронили. Ничего не могу понять. Судить его что ли за растрату стали бы, если бы он так не разложил? Вот сегодня хоронили. Ты не обижайся, что я к тебе так.
— Да ничего.
— Нет, я правда не пойму. Ты понимаешь?
— Не знаю. Честный человек был, наверно.
— При чём тут честный! Он же в петлю...
— Не знаю.
— Вот с кладбища еду. Родных у него никого. Завод хоронил. Ладно. Ты только не обижайся. Пойду.
В том скверике, где я сидел, находился несколько странный монумент: из земли торчал громадный серо-бетонный кулак, грозящий не то небу (а зачем?), не то таящимся в неведомых далях врагам. Я обошёл, обозрел его со всех сторон, подумал: лучше бы это не просто кулак был, а кукиш бы всему свету.
Я побрёл по проспекту, по теневой стороне от жары, и продолжал размышлять, что нет ничего удивительнее на свете, чем совершаемые вопреки обстоятельствам поступки людей (да вот та же забота повесившегося о деньгах), что наша жизнь алогична, иррациональна, безумна (как кукиш, из земли торчащий, как мой приезд сюда), абсолютно не подчинена закону детерминизма (хоть на первый взгляд и зависит от него полностью) — и никому ничего не дано уразуметь до конца. Начнёшь думать — и вроде бы даже понятен становится и тот отчаявшийся одинокий самоубийца, но стоит попытаться в слове выразить — непременная глупость выйдет.
Мысль изреченная есть ложь... Пожалуй. Но в таком случае и сама эта мысль, что изреченная мысль ложна (или лжива?),— она тоже ложь. Следовательно, изреченная мысль всё же истинна? Следовательно, в свою очередь, и данная мысль верна, что всякое изречение лживо, а раз так, то и она лжива... И так далее по кругу. Логические кульбиты порою весьма презабавны.
Толпа на проспекте, особенно на теневой стороне его, была многолюдна, но я, задумавшись, шёл ни на кого внимания не обращая — и неожиданно ощутил лёгкое прикосновение: кто-то как будто опереться доверчиво о моё плечо захотел. Я взглянул: девушка незнакомая — и она тоже в тот самый момент взглянула на меня, сразу испуганно руку отдёрнув. В толпе её ненадолго оттеснили от спутника, она же по рассеянности минутной меня, случайно вблизи оказавшегося, за своего приняла — смутилась: ой, простите!— и торопливо движение сделала к тому, кто как раз по другую сторону от меня находился.
Вот тут-то и почувствовал я — глубокое и безысходное своё одиночество. Здесь, в чужом городе, сама незнакомость которого делала мне и людей, его наполнявших, особенно для меня далёкими, отчуждёнными,— мучительно остро ощутил я, что не мне предназначено было то лёгкое доверчивое прикосновение.
Знал я, конечно, куда ехал и зачем. Знал.
С вокзала я прямёхонько в местный пединститут направился. Лето, всем не до меня, да и на месте никого не найдёшь. Кто уже в отпуске, кто просто так непонятно где. Но я умею быть настойчивым — разыскал кого-то, упросил помочь.
— Понимаете, я здесь случайно, а меня просил один человек этой девушке кое-что передать. Я записал адрес на бумажке, да куда-то задевалась.
И глупо, и перед собою же стыдно, до сих пор стыдно, когда вспоминаю, но казалось мне, будто насквозь проницаем я для всех, и если не прикрыть всё какой-то ложью, то кроме насмешки ничего не добьюсь ни от кого.
На дневном отделении Наташи не оказалось.
— А вы точно знаете, что она у нас?
— Так мне сказали,— я ответил, но сам засомневался.
— Нет такой.
— Должна быть.
— Может, на вечернем?
— Точно не знаю.
— Это у Клавы надо.
— Давайте спросим.
— Да её нет.
— Может быть, можно в документах посмотреть?
— Попробую. Но как в чужих делax-то рыться?
— Осторожненько.
— Осторожненько! Пропадёт что, кто отвечать будет?
— Кому тут что надо?
— Потом доказывай. Вам легко говорить, вы пришли и ушли.
— Но я же знаю, что вы добрая и отзывчивая. Если бы моё личное дело было бы, я даже постеснялся бы вас затруднять. Но меня очень просили.
— Ох, на грех меня наводите.
— Помилуйте. Посмотрим и всё.
Наташа отыскалась на вечернем отделении.
— Да, вот к нам перевелась из Москвы. И сразу в декрет ушла. А вот вернулась или нет, не могу понять. Это Клаву бы надо. Она бы должна знать.
До меня не сразу дошло упоминание про “декрет”.
— Скажите, а адреса тут никакого?
— Понимаете, там ещё у неё где-то документы лежат. У неё вечно всё в разных местах. Такая неорганизованная эта Клава. Вот — работает она, ваша знакомая.
— Да не моя вовсе,— тут же отрёкся я.
— Ваша, не ваша, какая разница. Работает, вот запись. В школе.
— А где именно?
— Понятия не имею. Это у Клавы.
— Как же быть?
— Знаете, что я вам посоветую. Идите-ка в отдел народного образования, там вам всё скажут. Она же у них оформлена, они свои кадры должны знать. А тут если бы Клава была.
Вовсе не о самоубийцах и не о странностях человеческих размышлял я, сидя в скверике возле бетонного кулака и бредя в толпе по проспекту. Нет. Я думал о том, что же должно означать это всё более разрастающееся тяжкой тяжестью в груди слово...— декрет. И как раз тогда, когда я всё яснее сознавал его обвиняющий меня смысл, доверчивое прикосновение незнакомки заставило меня ощутить жестокое моё одиночество.
Я не спеша двигался туда, где мне могли, думал я, разъяснить мои недоумения. И поскорее хотелось освободиться от всего, и как будто страшно то было, отчего я и медлил.
X
Подходя уже к нужному дому, нежданно-негаданно столкнулся я вдруг — с давним своим знакомым, с бывшим университетским однокашником — с Колей Спиридоновым. И почти обрадовался.
— Николай Василич!
Я воскликнул и как бы в восторженном изумлении поднял руки. Коля в ответ бодро засмеялся, хоть и заметна в нём была настороженная скованность.
— Сколько лет, сколько зим, Николай Васильич! Вот уж поистине нечаянная встреча.
Замедленная колина мимика никогда не позволяла мне прежде быть твёрдо уверенным относительно его внутреннего состояния. Порою и так бывало, что он давно сменил одну эмоцию на другую, а выражение лица ещё немалое время сохраняло остатки уже исчезнувшего настроения. Такая особенность находилась в парадоксальном противоречии с его холерическим темпераментом. Сама внешность моего бывшего полуприятеля представлялась мне всегда железобетонной, так что я почти в полной уверенности пребывал: ежели стукнуть по его физиономии кулаком, то только руку отшибёшь, а ему нипочём.
Поэтому я не стал гадать, рад ли и впрямь он нашей встрече, пока он энергически тряс мою руку, продолжая смеяться с таким уверенным выражением, будто заранее всё предвидел и даже специально шёл, чтобы встретиться со мной.
— Ты чего тут? — спросил я.
— Вот,— солидно ответствовал он,— иду оформляться директором школы. А ты?
— Случайно. Одну просьбу надо выполнить. А в городе проездом.
— Ну а как вообще?
Я решил доставить ему (и себе тайное) удовольствие и сообщил, что у меня всё неважно, с аспирантурой неудача, пришлось бросить, теперь вот в школе простым учителем. О том, что я в учителях, я решил сказать именно после его слов о предстоящем ему директорстве. Коля остался информацией моей удовлетворён, и разговаривал уже совсем свободно и несколько свысока.
В штаб народного просвещения мы вошли вместе, причём Коля старался всячески выпячивать своё уверенное в нём положение и всеведение в сфере порядков, отношений и скрытых пружин общественной и деловой жизни. Он провёл меня в какую-то комнату, весьма вместительную, заставленную множеством столов. В общении с людьми, сидящими за столами, он, к вящему моему изумлению, продемонстрировал диковинную смесь приниженной солидности и самоуверенного подобострастия.
Поддержка Коли помогла мне: благожелательно выслушав мою ложь о пребывании проездом и якобы-поручении приятеля, мне без задержки сообщили нужные сведения: после декретного отпуска работает в Кайловской школе, ведёт историю и географию.
— Да я её хорошо помню,— сказала одна из начальственных дам (вслед за Спиридоновым я их всех начальством признал).— Хорошенькая такая, молоденькая. Софья Ивановна! Вы ведь тоже тогда были.
— Да, как же! Мне её ещё тогда так жалко стало. Её ведь мать выгнала.
— Как выгнала?— обожгло меня.
— Родила-то без мужа. Сколько таких дур теперь! Мать условие поставила: первое время живи, у них квартира в городе, потом сама себя содержи как хочешь.
— Мы её ещё пожалели. Беременную-то кто возьмёт? Ладно, думаем, с голоду не помирать же. Только оформили, и сразу в декрет. Тоже намаялась. Сельская местность это вам не город.
— Так она где-то за городом сейчас?— не обрадовался я.
— За городом!— засмеялись мне.— На электричке сто километров с лишним, а потом попуткой сорок в сторону.
— Как попуткой?
— Автобусов у нас там нет. Дороги-то — просёлки одни.
— Кайловская школа?— подал голос Спиридонов.— Это же наша центральная усадьба.
— Ну вот, Николай Васильевич знает.
— Мне говорили: здесь в городе,— замялся я.— Думал просто зайти, передать...
— А может, и в городе. Лето, отпуска. Неужто мать на неё до сих пор сердце держит?
— А одну в чужие люди выгнать с ребёнком на руках, было у неё сердце?
— Каких только людей не встретишь!
Пока дамы вели свои пересуды, я заглянул в личное дело Наташи, благо от меня его и не таили. Сроки декретного отпуска я сопоставил с временем нашего с нею разрыва... Но ведь я же уверен был: никаких последствий быть не должно...
И как ведь, однако, совпало: встреча с Колей, его директорство в семи километрах от того самого места, куда, оказалось, было устремлено моё странствие. Сколько всяческих нарочитых случайностей в моей судьбе. Поневоле в фаталисты подашься.
Не будь Спиридонова, я бы из Новосибирска не поехал никуда. Мать бы разыскал, может быть, и её тут же встретил. Но с матерью мне общаться смерть как не хотелось. Съезжу-ка, подумал я, в кайловскую эту школу, а если то напрасным окажется, тогда и здесь не поздно будет.
Коля даже обрадовался, о моём намерении узнав (я объяснил, что прежде всего из дружеских чувств к нему хочу подивиться на новые обстоятельства его карьеры, позавидовать и помочь чего нужно): как-то веселее вдвоём на первых порах. И помощь какая-никакая в обустройстве.
Оказалось: он прежде недалеко, под Новосибирском самым, учительствовал, а тут место директорское освободилось в глубинке — предложили ему. Он уже съездил туда раз ненадолго: посмотреть. Теперь вот вернулся, привёз согласие.
— Семейство твоё где?
— К матери под Уфу отправил,— ответил он.— Пусть там переждут, устроюсь — приедут.
Одно нехорошо: три дня пришлось ждать его, пока он дела улаживал. Делать нечего — ждал. Но так с духом и не собрался, чтобы к её матери зайти. Адрес, правда, раздобыл — поехал туда, походил вокруг дома.
— Ну что теряешь? Давай,— сказал сам себе.
— Успею. Вот съезжу с Колей, тогда...— сам же себе и ответил.
Того я ещё боялся, что она здесь. Мне бы лучше с нею без посторонних встретиться. Тем более не при матери.
От скуки стал я Спиридонова повсюду сопровождать. Заодно подивился: сколько бестолковости у нас начальственной и организационной. Сколько бедному директору мотаться приходится. Не особенно я вникал в суть его хождений и хлопот, помню лишь, что мест мы с ним много обошли.
Позабавило меня посещение некоего то ли совещания, то ли семинара, то ли сам чёрт не поймёт чего. Солидная и, по всему видно, знающая себе цену мадама с неподвижным лицом и высоченной причёской — наставляла сидевших перед нею человеков, к чему-то их призывала (к чему именно, я не понял, но Коля всё изреченное почтительно законспектировал), к месту и не к месту всовывая в свои разглагольствования словечко “дидактический”, вероятно, не в силах будучи избавиться от того ошарашивающего впечатления, какое произвело на неё когда-то, ещё в пору посещения ликбеза, оное высокомудрое слово. “Дидактические материалы… дидактические уроки... дидактическое воспитание... дидактические наставления... дидактические эмоции...”— я слушал, слушал, да и решил, что надо бы мне утереть сопли рукавом,— и спросил:
— А что такое — дидактические?
Все оглянулись на меня, некоторые с порицанием во взоре.
— Ну... это значит: наглядные,— снизошла до пояснения мадама.
— А! — обрадовался я и тут же как бы извинился:— А то ведь непонятно.
Несколько человек понимающе переглянулись со снисходительными улыбками. Я порадовался за них: хорошо, когда люди испытывают положительные эмоции.
Коля, когда уже всё кончилось, выразил мне своё неодобрение:
— Ты мог меня скомпрометировать.
Забавный он был малый, признаться. Никогда не забыть мне того потрясения, которое постигло меня при первом нашем знакомстве. Ещё до начала лекций и занятий на первом курсе отправили меня из учебной части с некоторым поручением (под руку я подвернулся) в студенческое общежитие. Заодно захотелось мне встретить хоть кого-нибудь из той группы, в которую я сам вписан оказался. Экое нетерпение: два дня и подождать оставалось — а всё любопытство разбирало. И вот вхожу я в одну из комнат — сидит за столом крепко сколоченный парень со сверкающими взорами и конспектирует Марксов “Капитал”, причём уже чуть ли не на середине претолстенного, если кто помнит, тома. Так я впервые Спиридонова и узнал. Он тут же восторженно и поведал, что зачисление в университет вызвало у него великий прилив энтузиазма, так что он решил теперь превзойти всю человеческую премудрость и не успокоится, пока того не достигнет. Напомнил и завет Ленина, что коммунисту нужно обогатить память всяческой умственностью.
— А начинать нужно, конечно, с Маркса: основа основ,— твёрдо вразумил он меня.
Признаться, я ту книгу так до конца и не одолел в своё время, Коля же — чего он только за годы студенчества не законспектировал. Ленина, по-моему, все 55 томов, включая телеграммы. Конспектированного у него скопилось чемодана три, всё аккуратно уложенное, пронумерованное, заинвентаризированное. Оно бы и ничего, но экзамены и зачёты по общественным дисциплинам ему редко удавалось с первого захода сдать — эдакая закавыка.
— Не сердись на меня, Николай Василич!— уговаривал я его после лекции дидактической мадамы.— Скажи лучше, на кой ляд тебе всё это сдалось?
— Надо быть в курсе последних материалов,— вполне серьёзно пояснил он.
А я ведь не над мадамой потешался. Я тревогу свою глушил.
XI
Мне представлялось прежде: Сибирь почти сплошь тайга и тайга (в дебрях которой укрыты каторжные норы); когда я узнал, что и у нас, в России на севере, есть тайга же,— она, тайга эта наша, хоть и не видал я её вовсе, она не воспринималась мною всерьёз, она была для меня просто лес, хвойный лес, никак не обладавший всей полнотой тех необходимых особенных качеств, которые только и дают право именоваться глухим и таинственным словом — тайга. Тайга могла существовать лишь в Сибири, сплошь в Сибири.
Разумеется, я с годами избавился от многих превратных представлений, но слишком разочаровался-таки, когда за окном поезда — и при подъезде к Новосибирску, и когда со Спиридоновым ехали в его глушь — когда за окном тянулись пейзажи, какие и в Подмосковье не редкость. Я даже легко бы мог вообразить, что мы едем именно в подмосковной электричке, по рижской дороге, к примеру, а Коля просто пригласил меня к себе на дачу. ...Нет, вот чего не смог бы я даже в воображении допустить: Коля Спиридонов и собственная дача.
Готовясь к отъезду на место директорствования своего, Коля купил солидную шляпу и теперь парился в сем головном уборе, время от времени его снимая и обмахиваясь от жары. Причину покупки он разъяснил мне весьма просто: в посёлке, куда мы едем, он будет отныне главным представителем интеллигенции, и без шляпы поэтому может выйти некоторая неприличность, несоответствие положению. Резонно — подумал я. И ещё меня всё подмывало сказать ему: “Эх ты, а ещё шляпу надел!”
С собою он пёр два огроменных чемодана, при мне была лишь среднего размера спортивная сумка через плечо (вся моя поклажа в поездке), так что пришлось заботу об одном из чемоданов взять на себя, и вышло, что Коля, по сравнению со мною, даже в выигрыше оказался. От станции, где мы выгрузились из электрички, пришлось около километра тащиться до какой-то развилки, откуда можно было абонировать попутку — до центральной усадьбы, а если уж сугубо повезёт, то и до самого места. Везение же это, однако, не было гарантировано вовсе, так что имелся шанс волочить себя и тяжеленные чемоданы семь вёрст пешим способом.
Мы расположились, у дороги на совершенно открытом месте (хоть бы тенёчек какой!), а мимо, подымая пыль, трюхали видавшие виды грузовички. Тут же с нами голосовали — кому куда — ещё несколько человек: выбегали чуть ли не на колею, лишь только покажется машина, махали руками, потом торопились к остановившемуся транспорту, перебрасывались короткими репликами с шофёром, затем: или довольные лезли в кабину либо в кузов, или разочарованно отходили в сторону. Вместе со всеми бегал и махал своей шляпой новоиспечённый директор, я же, как не знавший маршрута следования, сидел в сторонке на чемодане, послушно ожидая, чего судьба пошлёт. Несколько машин Коля пропустил, наконец торопливо заторопил меня, в суматохе коротко бросив: до места,— и стал суетясь забрасывать чемоданы в кузов. В кабину села некая бабка, мы забрались наверх.
Позади нас оставалась долго не оседавшая пылевая завеса, но я почти не оглядывался назад; я стоял, держась за передний высокий борт, и не хотел отрываться от раскрывающихся впереди далей. Разочарование от “несибирского характера” пейзажей уже притупилось во мне, хотя надежда увидеть всё же тайгу время от времени накатывала на меня— но: напрасно. Один лишь раз увидел я при дороге невеликий сосновый лесок, островком; да и вообще небольшие сравнительно перелески, чаще сплошь берёзовые, занимали здесь место гораздо меньшее, чем начинавшие уже желтеть поля. “Вот тебе, бабушка, и тайга сибирская”,— чуть-чуть посокрушался я.
Но дорога вскоре вовлекла меня в своё движение, и я вновь начал испытывать то счастливое ощущение беззаботности, которое навсегда соединилось у меня с чувством дороги: где-то впереди и позади ждали и оставались радости, горести, тревоги — но совсем ненадолго выпадала возможность не думать о них вовсе, отдаваясь восторгу бесконечного и безграничного пространства.
Долго мы ехали, временами останавливались, опять трогались, какие-то люди подсаживались к нам по пути, иные слезали, к моему удивлению, иногда прямо в поле, где не видно было поблизости никакого жилья,— и принимались вышагивать куда-то по одним им ведомому направлению. Безвестные мне деревни встречались нам время от времени, всегда на открытом месте, в стороне от леса. Каждая деревня имела обязательный просторный пруд, белеющий густо плавающими по нему гусями.
Вдруг Коля указал мне обширное поселение, которое мы объезжали стороной, и крикнул: “Центральная усадьба! ”
А я снова понял: тревожная тяжесть во мне — тут она, никуда от неё не деться. И она от меня — никуда. Как ни старайся её забыть.
На оставшуюся часть дороги я уже смотрел иначе, чем прежде: скоро — завтра ведь!— придётся одолевать мне, а может быть, и не единожды, этот путь, преодолевать с усилием, чем ближе к цели, тем сильнее тяготясь невесёлыми предчувствиями.
Прибыли на место мы чуть заполдень. Жара донимала невмоготу. Посёлок, в котором стояла колина школа, оказался не посёлком вовсе (в моём понимании), а просто длинной деревней — на открытом, как все прочие, месте и с огромным, как у всех прочих, прудом. Многочисленные стаи гусей покрывали берега пруда, и почти всю поверхность воды, стоило разглядеть её вблизи, оказалась сплошь зелёной от гусиного помёта.
Именно этот пруд вспомнил я в первый свой день в колонии, когда один из зэков, мордатый урка, презрительно кривясь, процедил мне: “Зелен ты, парень, как гусиное говоно, и даже ещё зеленее”. Это самое зелёное говно, зеленее которого я и впрямь оказался, густо покрывало и берега пруда — так что я усмехнулся лишь своему прежнему наивному намерению нырнуть с бережка в воду. Хотя: к удивлению моему, какая-то баба полоскала в оной воде бельё, разместившись на мостках с противоположной стороны сего единственного в округе, насколько я сумел обозреть её, водоёма.
— Пошли на мою квартиру!— сказал Коля и направился к длинному бревенчатому дому посреди деревни.
Я, признаться, по всё той же своей наивности полагал прежде, что квартира может быть только в городском доме, здесь же выяснилось: так именовалась просто половина недлинного барака, к которому мы подошли. Он не был огорожен никаким палисадником, от всего его вида шибало разором и бесхозностью. На двери в “квартиру” висел большой замок. Коля поставил чемодан, покрутился, покрутился, буркнул: “Подожди, сейчас узнаю”,— и куда-то ушёл. Я с пустым безмыслием осмотрелся. Неприютным оказалось это место. Широкая длинная улица, вдоль которой тянулись два порядка скучных домов, была сплошь избита и изрыта: искорёженную землю уродовали колеи, рытвины, колдобины, бугры — от жары они высохли и оплывали пылью. Редкие чахлые травинки проглядывали кое-где вдоль натоптанных через уличное бездорожье тропок. С одного конца деревни виднелся длинный скотный двор, стоявший перпендикулярно улице; с другого конца, несколько в стороне от прочих домов, распласталось широкое одноэтажное здание из силикатного кирпича — вероятно, та самая школа, которая отдана теперь под начало моего бывшего сокурсника. Деревню и гусиный пруд окружали поля, лишь в одном месте, со стороны школы, приближался к ней клинышком лес, отступавший повсюду на значительное расстояние. Улица деревни, пока я поджидал Колю, оставалась совершенно безлюдной, и это усиливало ощущение пустоты и безсмыслицы, охватившие меня сразу по приезде.
Наконец появился Коля в сопровождении тётки, обряженной в цветастое, но выцветшее платье.
— Нет, никто даже не подходил. Никого не было,— повторила она несколько раз, потом подошла к двери, разглядывая её как бы с некоторым любопытством даже. На меня она внимания не обратила ровно никакого.
— Мне же Савелий Семёнович обещал,— с оттенком уважительности в голосе к упоминаемому Савелию вразумлял тётку Коля.
— Он наобещает,— отозвалась тётка и отправилась восвояси, даже не оглянувшись на нас.
— Сторожиха школьная,— пояснил Коля.
Он помолчал — и неожиданно испустил яростную и совершенно непечатную речь, каковая, будь она всё же напечатана каким-нибудь отпетым типографом, которому на мир ровным счётом наплевать, заняла бы полстраницы убористого текста.
Выяснилось вот что: после выезда колиного предшественника, перебравшегося куда-то “в район”, директорская квартира нуждалась в некотором ремонте; в прошлый свой приезд Коля договорился о необходимых работах с председателем колхоза (или совхоза?— кто их разберёт), являвшегося хозяином школы, председатель дал слово: за ту неделю, пока новый директор будет утрясать свои дела в городе, квартиру приведут в надлежащий порядок.
— Чего делать-то станем?— спросил я, когда Спиридонов немного успокоился.
— А если бы я с семьёй приехал!— опять взорвался Коля.
— Твой Савелий, вероятно, предположил, что ты не настолько глуп. Делать-то чего будем?
— Чего, чего! Мать-перемать! В школе попробуем.
Он снова отправился за сторожихой, та пришла, мы вместе потащились к школе, вошли, сторожиха сделала неопределённый жест, указующий в пространство: “Там плитка у них есть”,— и ушла. Коля распахнул передо мной широким движением руки дверь своего кабинета.
— Спать можно на физкультурных матах. Вот сюда принесём на пол.
Я понял, что ни о каких простынях и подушках даже заикаться не стоит, а в одеялах, по причине жарких погод, и вовсе надобности нет.
По всё той же неисправимой столичной своей невинности я предполагал, отправляясь из Новосибирска, что “в посёлке” имеется же какая всё равно нибудь столовая, а оттого не позаботился о продовольственных припасах заранее. О чём думал Коля, не знаю. Выяснилось также, что он не привёз ничего необходимого для устройства на первых порах — даже посуды.
— Чего же у тебя в чемоданах?
— Вот.
Он распахнул один чемодан: там лежали проклятые конспекты.
— Зачем ты их припёр!
— Это тебе, мать твою, ничего здесь не нужно, а мне жить!
— Живи, кто же возражает!— я впал в недоумение: смеяться или плакать.— А жрать чего будем? Я скоро с голоду помру.
— Погоди.
Из другого чемодана он извлёк лежащие поверх конспектов огромный батон и армейскую фляжку, которая оказалась до самого горлышка наполненной тягучим мёдом. Мы принялись ломать батон, по очереди запивая его мёдом прямо из фляжки.
— Ну ладно,— сказал я.— Дальше что?
Коля угрюмо промолчал. Огляделся, как будто впервые по-настоящему осознал, где находится.
— Там магазин есть.
Он напялил на себя шляпу, и мы двинулись к магазину, находившемуся на другом конце “посёлка”, возле скотного.
Я подумал было, что вряд ли в этом безлюдье есть смысл держать магазин открытым, и скорее всего придётся рыскать по домам в поисках продавщицы, однако за прилавком сидел, нашему приходу ничуть не удивившись, хоть и видел нас впервые, невнятный мужик, не совершивший даже лёгкого шевеления нам навстречу. Философское бесстрастие его меня умилило.
Магазин представлял собою тесную конуру, забитую всякой всячиной. Тут висели, например, какие-то неопределённого цвета пальто, костюмы, лежали на полке совершенно невразумительные детские игрушки, тут же, рядом с ящиком гвоздей, размещались мешки с крупами, банки консервов, непременные бутылки — и много ещё чего; но я заприметил прежде всего среди прочего хлама жестяные чайники времён империалистической войны.
— Коля, слушай, после этого мёда так пить хочется. Давай чайник возьмём, всё равно тебе нужно.
Сиделец молча приподнялся, подцепил один из чайников и выставил перед нами.
— Хлеб у вас есть?
— К нам не возят. В центральную усадьбу надо.
— А что есть?
— Лапша.
— А как мы будем её варить?— проворчал я.
— Вон те банки дайте,— указал Коля на какие-то консервы.
Сиделец молча выставил рядом с чайником пару заросших грязью банок.
— Соль есть?
— Есть.
— Давайте.
— Её ещё колоть надо,— пояснил сиделец.
— Зачем?— спросил я.
— Каменная!— подивился сиделец моей бестолковости.
— Так колите.
Сиделец повёл головой, как бы выражая своё крайнее изумление от нашей настойчивости и безпонятности.
— Слушайте, давайте мы сами расколем,— предложил я.
— Как же вы её колоть станете, если рогожи сначала стелить надо?— рассудительно заметил сиделец.
— Ну и стелите.
— Их ещё доставать надо,— терпеливо стал объяснять он, как будто знал особую тайну, а теперь решил и нас в неё посвятить.
— Сами достанем, покажите только.
— А чего их доставать, если они всё равно сырые? Сушить надо,— сиделец выложил свой самый решительный аргумент, ласково посмотрел на нас, редкостных бестолочей, и успокоился.
Мы купили ещё каких-то твердокаменных пряников, несколько кусков колотого сахара, пачку чая и пошли обратно.
— Завтра на центральной усадьбе всё купим,— утешал самого себя директор школы.
— Слушай, а воду, надеюсь, не из этого лебединого озера брать?
— Колонка есть возле школы.
— А ведро? куда набирать?
— В чайник прямо.
Я пошёл на колонку (метрах в ста от школы), вымыл чайник, налил доверху, поставил на плитку, которую удалось разыскать тут же, в кабинете. Пока я нёс чайник от колонки, из него понемногу капало, но я думал, что это вода от мытья снаружи, когда же зашипела плитка, стало ясно, что посудина худая.
— Николай Василии! Течёт чайник-то. Сменяет он, продавец тот? Давай ты сам: у тебя авторитету больше,— хитрю я.
Коля произносит длинное и отвратительное ругательство, надевает шляпу и, держа чайник, как держат свой солидный портфель важные министерские чиновники, шествующие к своему кабинету,— так же величественно выступает по улице к магазину. Потом я вновь мою чайник на колонке, наполняю водой.
— Товарищ директор, я прошу меня извинить, но этот чайник тоже дырявый.
Директор изрыгает ещё более длинное и ещё более отвратительное ругательство, опять возлагает на себя шляпу, опять шествует к магазину...
— Коля! Ты, конечно, можешь меня убить, но всё же чайники не я паял.
Коля берётся за шляпу...
Раз пять продефелировал он по улице, при шляпе и с чайником-портфелем.
— Я уже отчаялся: сидеть нам без чая,— скаламбурил я, когда последний, кажется, из наличествующих в магазине чайников оказался в исправности.
Попили мы чаю с медком, снизошло на нас некоторое успокоение. Сели у окошка раскрытого, как раз в сторону леса, стали судить да рядить, как дальше жить.
— Что, Коля, хозяйство у тебя не очень.
Он и сам пригорюнился.
— Ничего, Коля, не ты один. Поработаешь, глядишь, и образуется всё.
— С чего начать, не знаю.
— С инвентаризации. Надо узнать, чего у тебя и сколько есть. Давай с нашей родной химии начнём. Какое оборудование, какие наглядные пособия? Реактивы...
Пошли смотреть, прикидывать. Вообще, я того мнения придерживаюсь, что вовсе не обязательно те или иные опыты-эксперименты на уроках проделывать. Баловство всё это. При известном воображении всё и так представить можно, главное: рассказать толково. Демонстрация же опытов — лишь бесплатное развлечение, время отнимает зазря. Достаточно объявить, что если слить в одной посудине кислоту и щёлочь, то выйдет соль и вода. Будет ли осадок? Зри в таблицу растворимости. И верь. Тебя же не обманывать тут собрались. Обязательно ли видеть, как тот осадок выглядит? Захочешь стать химиком, тогда и насмотришься. А нехимикам — не всё ли равно?
Химическое оснащение в колиной школе как раз соответствовало моей теории: даже то, что было, оказалось малопригодным для дела.
— Мне говорили,— кивнул Коля, как бы соглашаясь с кем-то, и тут же успокоил себя:— В правлении денег выпишу, кое-что купим.
— А дадут денег-то?
— У них специальные суммы для этого.
— А покупать где?
— Где, где!— зло ответил директор.— В Новосибирске!
И впрямь: больше и негде…
Пока мы учитывали невеликое хозяйство, к нам робко заглянула некая пигалица — оказалось: учительница первого-третьего класса. Почему-то так получилось, что отпуск у неё частично кончился, а частично ещё не начинался. Узнав о прибытии начальства, она и явилась.
— Сегодня ладно. А завтра к десяти часам,— распорядилось начальство.
Та согласно и робко кивнула и ушла.
— Зачем она тебе? пусть гуляет.
— Дисциплина чтоб. Раз не в отпуске, нечего болтаться.
Мне сдаётся: в Коле просто зудело нетерпение поскорее заиметь при себе хоть какую особь, чтобы ощутить себя директором в полной мере, ибо без подчинённых — что за начальство? Остальные учителя в отпуске все, из сторожихи же не очень получался подначальный кадр: она как будто в автономное состояние сама себя определила и на директора взирала с безразличием — вот он и разлакомился хоть пигалицей поруководить. У меня в течение тех нескольких дней, в какие я наблюдал колину деятельность, сложилось впечатление, что директор Спиридонов со своею подчинённой изъяснялся исключительно посредством “книги приказов”: он такую толстую тетрадь завёл, куда вписывал “приказы по школе”. Я полюбопытствовал:
“Приказ № 1. Учительнице такой-то составить список контингента учащихся первого класса. (Их всего-то трое было).
Приказ № 2. Учительнице такой-то выявить дополнительные сведения относительно производственной деятельности родителей учащихся школы.
Приказ № 3. Учительнице такой-то ...”
И когда, помню, ни придёшь в школу, застаёшь одну и ту же картину. В кабинете, во главе стола, с величественным видом восседает директор и что-то сосредоточенно пишет. Возле него на столе возлежит шляпа. С краешку, в сторонке, съёжилась учительница такая-то, копошится в бумажонках, стараясь быть как можно неприметнее. Спиридонов на вид столь неприступен, что я и сам, пожалуй, как взгляну на него, тут же и заробею. Подчинённая же особь, догадываюсь, и вовсе ни жива ни мертва.
XII
— Надо на центральную усадьбу идти, а не знаю, там ли председатель. Его ещё и не застанешь,— сказал Коля поутру, после чаепития с жалкими остатками пряников и мёда.
— Знаешь, Коля. У тебя ведь дел много,— я лукавил, ибо считал, что никакого настоящего дела у него и вовсе нет пока,— а я вольный. Схожу один, узнаю, как и что. В магазин заодно зайду, всё равно надо. Скажут же мне, когда он там бывает, председатель твой.
Коля согласился. Мне же просто одному хотелось пойти: слишком чужой мне был человек Спиридонов, чтобы его свидетелем в свои заботы вовлекать. И особенно бы мне тяжело, неприятно было, если она там. Во мне даже всё сильнее желание становилось, чтобы и не встретить её, чтобы и она в отпускном отъезде оказалась. Так легче и удобнее даже: разузнаю всё, а там уж видно будет.
Центральная усадьба — поселение в срединной части столь же неухоженное, как и колин “посёлок”, со столь же покорёженной землёю — обрадовала меня обилием зелени всех оттенков на расходящихся от центра проулках, нарядностью уютных палисадников, невытоптанной травою лужаек возле школьного здания. Спиридоновская школа стояла на совершенно голом месте, ни деревца не росло рядом, жухлая трава возле грязнобелых стен нагнетала лишь безотрадную скуку — и мне стало бы ещё тоскливее, если бы узнал, что и Наташа живёт в столь же унылом месте. Или я искал для себя хоть малого, но утешения?
Колхозная контора, впрочем, казённостью своего облика должна была испортить исподволь настроение всякому, у кого появлялась надобность в общении с хозяином округи.
В приёмной, перед обитой чёрным дерматином дверью кабинета “самого”, сидела за конторским столиком средних лет женщина с усталым, недовольным на весь мир лицом — по всему: секретарша; на стуле же посреди комнаты развалился с залихватским видом перезрелый парень. Когда я вошёл, он радостно подмигнул мне:
— Здорово!
— Здравствуйте.
— Те чо надо?
— Скажите, пожалуйста,— я прошёл мимо парня к женщине,— председателя колхоза когда видеть можно?
— Ну! Он счас редко бывает. Да и кто его знает, когда он придёт. Раз на раз не приходится. А вам что нужно?
— Да не мне.
Я объяснил, кому и зачем нужен председатель.
— Караулить его надо, вот что.
— Весь день?
— А то и весь день. Да ещё и не дождёшься, бывает.
— Ты откуда сам-то?— спросил парень, которого я определил для себя “непутёвым”, сам не знаю почему.
— Вообще или в частности?
— Приехал такой умный откуда?
— Из Москвы.
— Ага. Как в анекдоте: ты откуда? из Москвы! а жена? тоже иркутская.
— Можете и меня в таком случае иркутским считать.
— Ты брось. Будь попроще. Правда, из Москвы?
— Зачем мне врать?
— Для понту.
— Так что же мне передать Николаю Васильевичу?— обратился я снова к секретарше, изображая официального посланника и именуя оттого Колю в почтительных тонах.
— Так и передать.
— Петровна! — вмешался снова непутёвый.— Послезавтра-то!
— Вот если послезавтра с утра,— недовольно подтвердила та.— У него тут дело обязательное будет. У Савелия Семёновича.
— Но ведь бывают же какие-то часы приёма?
Я сам раздражаюсь ныне из-за своей наивной бестолковости, когда вспоминаю себя тогдашнего.
— Часы бывают, председателя не бывает,— ответил за женщину парень.
— Значит, лучше послезавтра?— по-дурацки переспросил я.
— Значит, лучше.
— А почему квартиру директорскую не отремонтировали?— вмешался я не в своё дело, хотя Коля и не просил меня о том.
— Кому работать-то? Руки где взять свободные?
— Не знаю.
— Не знаете, а чего говорите?— в тоне секретарши я явно слышал досадливую неприязнь.
— Ты ему передай,— вновь встрял непутёвый.— Передай, что нечего ему к Савелию таскаться. Пару бутылок в день — сами придут.
— Ты тут ещё чего!— прикрикнула секретарша.
— Петровна! Не моги возражать!
— Но должны же за казённый счёт,— гнул я свою линию.
— Должны, да не обязаны,— резонно возразил парень.
Тут я догадался: пусть Коля сам устраивает свои дела. У меня — своё. Немного помолчав, я спросил про Наташу.
— Понимаете, меня в Новосибирске один человек просил передать кое-что, когда узнал, что я сюда еду,— так я подкорректировал свою версию, сообразуясь с обстоятельствами.
— Да она уехала от нас,— огорошила меня женщина.
— Как?— только и хватило меня спросить.
— Очень просто. Замуж вышла и уехала.
— Мне сказали, что она тут живёт,— промямлил я.
— Не успела, значит, сообщить.
— Замуж...— я явно растерялся, не находя что сказать.
— А чего!— подхватил парень.— Она баба ничего. Все частя развиты что надо.
— Будет болтать-то!— одёрнула его Петровна.
— Болтать! Чего, неправда что ли? Будто я не скажу, так никто и знать не будет. Вон у них,— он кивнул в мою сторону,— кто-то не растерялся: пузо ей успел накачать.
— Этого вы не упустите!
— А чо! наше дело не рожать: сунул-вынул да бежать!— непутёвый приятельски подмигнул мне.
— Куда же она уехала?— я спросил так по инерции, вовсе не полагая отправляться на поиски куда-то ещё.
— Таскался тут один со станции,— с явным неодобрением ответила Петровна.
— Вот-вот!— возразил парень.— Заладили все одно: не пара, не пара...
— А то пара!
— Не пара, когда у неё амбразура большая, а у него пулемёт маленький, или наоборот,— парень в который раз подмигнул мне, поднялся со стула и стал ходить по комнате.— Если всё соответствует, то чо говорить?
— Болтай тут!
— А мне чего! Я считаю, без нас разберутся,— он повернулся ко мне:— Заладили тут: не пара, да такой он, да сякой. Маленький! Маленькие, Петровна, наоборот, в сук растут!
Говоря так, непутёвый обогнул стол секретарши и, подкравшись к ней сзади, схватил за бока.
— Уйди ты!— Петровна не глядя ударила его по рукам.
— Петровна! Не моги!
— Всё равно она от него уйдёт,— заверила меня женщина.
— Ванька-встанька работать не будет, так и уйдёт. Баба как лошадь, не умеешь ездить, сбросит.
— А где найти её можно? — спросил я ещё раз.
— У хозяйки её лучше спросить,— посоветовала Петровна.— Там, рядом со школой. Анну Михайловну спросите. Она должна знать. На станции где-то...
— И не на станции,— не согласился непутёвый.— Он там временно был. Сам из Омска.
— Откуда я знаю, из Омска, из Томска. Хоть с того света, мне дела нет.
— Ты всё знаешь, Петровна, только дурочку валяешь.
Я вышел вон. Пустопорожняя перебранка секретарши с непутёвым меня раздражала. Тягостны были и сами разговоры в столь разухабистой манере. Но парень нагнал меня вскоре.
— Слушай, скажи там своему директору: плёнка ему не нужна?
— Какая плёнка?
— Ну плёнка! Обыкновенная. Два рулона привезли.
— Куда привезли? В магазин?— я никак не мог сообразить, чего ему надо, и не было даже желания понимать это.
— Ты даёшь! В магазин!— непутёвый захохотал.— Мне привезли. Трубы заворачивать. Для работы.
— А как же работа?
— Работа каждый день, а плёнка раз в год. Ты скажи. Дефицит.
— Но трубы как же?
— Сгниют, другие положим.
— Хорошо, скажу.
Я поспешил прочь.
Анна Михайловна оказалась сморщенной старухой. Она с любопытством разглядывала меня и именовала дитёнком.
— Ой, дитёнок, ты ей кто будешь-то?
— Никто. Просто передать просили.
— Уехала. А сам омский.
— Так они в Омск уехали?
— В Омску.
— Скажите, а у неё ребёнок был?
— Инночка. Хорошая. Ой, дитёнок, намаялась она с ней. Тут заболела, а у нас один фершал. В район возили. А директор-то ругатся. Ты, говорит, работать должна, мы тебя работать брали, а не в больницы. Еле, говорила, выходили. Инночка. Намаялась незнамо сколько. Директор тоже болдун. Я его тут разгуляла, будет помнить. А ты ей кто?
— Навестить её просили.
— Уехала. У меня жила. Ой, дитёнок! Хорошо, человек нашёлся. А ты ей не мужик будешь?
— Как мужик?
— Мужик. Какой мужик бывает?
— А! — дошло до меня.— Она же замуж вышла.
— Хороший человек. В Омску уехали, вон откуда.
Всё обесцветилось и обеззвучилось вокруг меня.
Я сел на скамейку под сосною, росшей возле самой школы, вяло смотрел вокруг. Вот тут она ходила ещё недавно. Кто знает, кто скажет, что пережила она, в одиночестве и отчаянии тоскуя над больным ребёнком. Бессмысленная старуха рядом, недовольный директор, непременное осуждение хоть чьё-нибудь, пересуды, косые взгляды. Без сомнения, и грязные приставания. ...Амбразура ...пулемёт... О гнусность наша...
Вот и со мною судьба разобралась. Больше уже не о чем беспокоиться. Не ехать же в Омск. Даже и адреса никто не знает — ищи... Всё, ушло в чужие руки. И ведь совсем недавно ходила тут. Вот тут. На эту скамеечку присаживалась, где я сижу. Скамеечка — вот она, сосна тоже. Сосна стоит и будет стоять. А её уже нет. Для меня, пожалуй, всё равно что её нет на свете вовсе. Потому что не для меня она есть.
Инночка... Странно: я отец. Не понимаю, не могу понять. Но эта девочка — так ведь и не узнает, вероятно, никогда про меня. Я — вне их жизни навсегда.
Опять придавило меня одиночество, тоска мутила душу. Безотрадное чувство постепенно стало перерождаться во мне в жалость, к себе жалость, сладостную жалость — она разрасталась, ширилась, жила уже не только во мне, но и вне меня — и хотелось расти вместе с нею, растворяясь в ней навсегда.
С тех пор смутно брезжит порою в моём сознании: у меня где-то дочь есть...
XIII
— Правильно мы, Коля, сделали, что ты не пошёл,— сказал я, выкладывая на стол закупленное в кайловском магазине продовольствие.— Послезавтра с утра надо.
Коля, отпустивший ради моего возвращения чуть (впрочем, самую малость) пораньше поднадзорную учительницу, сидел молчаливый, ещё не успевший отойти от налагаемого им на себя сознания собственной значимости.
— Что, опять чай?— вздохнул я, помышляя об обеде.— Сготовить бы чего. Кастрюли даже нет. Может, у местных кого попросить на время?
Но Коля счёл, что сие поколеблет его авторитет.
— Ладно,— смирился я.— Вот баранок каких-то купил. Хлеб будем с консервами.
— Не всё же сразу,— он как будто даже оправдываться стал.— Со временем...
— Слушай,— перебил я, совершенно безразличный к тому, что здесь будет “со временем”,— а давай в чайнике кашу сварим!— сказал, и самому смешно стало.— Ладно, ладно. Будем считать, что мы в окружении. Всё равно и соли нет. Вот как вылетело — забыл спросить даже. Послезавтра пойдём, тогда уж.
Я развернул на полу своё ложе, жёсткий мат, который Коля утром задвинул за шкаф, и растянулся на нём. Ничего не хотелось. И есть не хотелось, а если и собирался я чай заваривать, баранки грызть, то как бы потому, что вроде положено так: что-то кусать и жевать, совершая ритуал поддерживания жизненного процесса, который хоть и не ясен мне, ибо смысл его тёмен (опять каламбур — и преизящный), но лень его нарушать и от него отрекаться... Нет, даже вытягивание из себя мысли — не удаётся. Скучно всё.
— Коля, а чего ты пишешь тут сидишь?
— Так, планы. Заметки педагогические. Мысли.
— Какие ещё мысли могут быть в наше время! У меня мысль такая: всё надо перетряхнуть как следует и не учить детишек всякому вздору. Это безнравственно: давать лишние знания.
— Лишних знаний не может быть в принципе. Просвещение всегда соответствует повышению морали.
— В школе на выпускном экзамене по химии у меня был вопрос о производстве серной кислоты. Даже для меня, химика, знание сие оказалось слишком бесполезным. Я не собираюсь производить серную кислоту. По правде говоря, я забыл почти всё, что тогда по этому вопросу отвечал. Тем более, например, историку зачем про кислоту знать?
— Это расширяет кругозор.
— Помилуй, что за вздор!
— Знание становится движущей силой прогресса.
— Ну пусть так,— я отчаялся продолжать.
Вялый наш спор, неизвестно с какой целью затеянный мною, стал раздражать меня. Некуда деться мне было — вот что. Подобное состояние завладевает моим сознанием и волей время от времени, и тогда я мечусь внутри самого себя, но внешне бываю не в состоянии двинуться с места, и это особенно мучительно. Странная невозможность разрядить напряжённое раздражение в душе ввергает в отчаяние. Я задыхаться начинаю.
Моё пребывание у Спиридонова лишилось всякого смысла. Мне нужно было уезжать как можно скорее. Мне, право, стало бы легче — встать и идти прочь, покинуть навсегда эти постылые места — но энергию моего отчаяния как бы удерживала в себе вязкая оболочка тупого безволия, и уничтожить его, казалось, можно было только вместе со мною.
— Так тебя перетак!— вдруг взорвался злобной яростью поборник просвещения и прогресса.— Ты будешь жрать готовить или нет!
Если бы я не знал хорошо Спиридонова, я бы даже обиделся. Но мне лишь смешно сделалось: подобные вспышки я наблюдал несчётное число раз: они гаснут у него, если специально не поддерживать, так же быстро, как возникают.
— Коля! Николай Василич!— я говорю с жалобным стоном.— Чего ты ко мне пристал?
— Я вот только утром что чай пил и всё.
— А я обожрался в твоём административном центре. Хоть бы какую пище-точку наладили! Я больше тебя, кстати, затратил сил и энергии. Я преодолевал пространство и простор. Ты же истязал тут бедную девочку своими бессмысленными приказами. Лучше бы отпустил её. И вообще эту твою школу надо поджечь или взорвать. Хочешь, я изготовлю для тебя порох. Хоть я и не отвечал про порох на экзамене, но могу. Хочешь дымный, хочешь бездымный. Чего предпочтёшь?
— Мать-перемать!
— Пардон, забыл, что здесь нет необходимого сырья.
Коля матерится ещё отчаяннее, хватает чайник и уходит на колонку, позабывши в сердцах нахлобучить свою шляпу.
— Коля,— говорю я, когда он возвращается,— давай твою учительку изнасилуем.
Я смутно чувствую, что захожу слишком далеко: в бешенстве он может и чайником запустить.
— Николай Василич, успокойся. Я же не настаиваю. Наше дело предложить, ваше дело отказаться.
— Т-твою мать!— он неожиданно сошвыривает принесённые мною продукты со стола.— Ты можешь всё на место класть! Тут я работаю!
— Знаешь, Коля, а может быть, её и не придётся насиловать, а она по доброй воле согласится? Всё-таки городские кавалеры престижнее, чем местные хамы.
— Я тебе счас мозги на форточку вывешу!— ревёт Коля, и это знак, что надо остановиться.
С неимоверным усилием поднимаюсь я с одра лени и расслабленности, начинаю медленно собирать с пола сброшенные колиным неистовством баранки.
— Всё-таки, Коля, из тебя плохой педагог,— говорю я меланхолически, отчасти опасаясь, что он набросится на меня с кулаками.— Учитель должен уметь сдерживаться.
Колино остервенение, однако, иссякло, он угрюмо присоединяется к сбору баранок, обдувая каждую, а иные вытирая об рукав. Я же, видя это, с элегическим благодушием продолжаю:
— Зря ты, Коля, не принимаешь моё предложение. Это бы скрасило несколько наше существование в твоей дыре.
Коля вновь с силой швыряет баранки на пол.
— Ты, Коля, конечно, герой, но зачем же баранки портить?
Но Коля опять обмяк, сник, затравленно смотрит на меня. Зря это я — про дыру. Долгое время мы молчим, чувствуя взаимную неприязнь и отчуждение. Я засыпаю в закипевшую воду полпачки чая, дроблю найденными и шкафу плоскогубцами каменный сахар, Коля раздирает на листы старые ученические тетради, застилает стол, режет хлеб и открывает банку консервов.
— Ужин аристократов,— первым нарушаю я молчание, как бы признавая свою вину и прося о снисхождении.
Медленно, со скрипом, с преодолением внутреннего сопротивления — в нас вершится между нами замирение. Отдельные короткие слова сменяются обрывками фраз, те становятся полнее и осмысленнее — тут нужно быть особенно осторожным, чтобы не задеть свежие ссадины и царапины на нашем настроении.
Помогает нам явление незваного гостя.
— Откуда ты, прекрасное дитя?— восклицаю я, когда молодой мужик в синем пиджаке (несомненный, по-моему, признак претензии на некоторую выделенность) как-то странно протискивается в еле приоткрытую им же самим дверь, хотя её можно было бы и настежь распахнуть.
— Серафим!— гость протянул руку сначала Коле (который встал и, подозреваю, еле удержался от возложения на себя шляпы), потом мне.
— Ангел небесный!— догадался я.
— Зоотехник,— опроверг он мою версию. Вот зашёл познакомиться. Вместе будем.
Серафим вытянул из внутреннего кармана бутылку водки, из бокового огромный кус сала в газете. Коля нахмурился.
— Товарищ директор у нас непьющие,— соврал я, оберегая авторитет Спиридонова.
— Я тоже не пью. Но иногда выпиваю. Понял, нет?
Коля всё-таки не очень хотел себя компрометировать согласием на пьянку с незнакомым человеком, принадлежащим, однако, к элите местного общества. Директору желалось поддержать своё реноме (он полагал, что уже имеет оное) человека хоть и демократичного, но не настолько, чтобы можно было обращаться к нему запанибрата — кому бы то ни было.
— Николай Василич!— предложил я.— Мы тут с товарищем херувимом тяпнем по маленькой, а ты чайком.
— Да ладно вам, мужики!— возразил Серафим.— По маленькой всем можно.
Он выплеснул за окно остатки чая из наших стаканов и налил по половинке.
— Третий-то найдётся?
— Тут их много в шкафу, грязные только.
— Ничего, любой микроб от водки дохнет. Сполоснём от пыли и всё.
— Вы уж нас не осудите, товарищ коровий начальник,— я нарочито рассыпался в извинениях.— Вот принимаем вас не по высшему классу. Этот подлец председатель... надеюсь, мои слова останутся между нами... совершеннейшим образом надул. Как последний прохвост надул. Квартиру не отремонтировал. Живём как на бивуаке. Хуже, что не ведаем, когда туда вообще переселиться можно будет. Вы уж простите нас, серафим шестокрылый. Мы не виноваты, право, не виноваты. Мы бы всей душой. Сволочь он, ваш председатель.
Я ёрничал, кривлялся: муторно было на душе. Серафим, надо отдать ему должное, воспринял моё выламывание снисходительно, но с оттенком презрения — я это почувствовал и постепенно стих. И вообще я вскоре как будто посторонним стал для моих собутыльников, оба отдалились от меня, я оказался не нужен им и нелюбопытен — и не оттого даже, что я и вовсе малоинтересен (такого я не хотел допускать), но потому, что — оба они чувствовали — я пребывал вне их жизни, вне их забот и стремлений, потому что и они мало занимали моё воображение, казались скучны даже, служили поводом насмешек и кривляний моих. Им выпало жить на пересечении единых для того и другого времени и пространства — я существовал как в ином измерении, лишь ненароком явившись среди них со своим безразличием, чуждостью, а может быть, и враждебностью к их жизни.
Внешнее их небрежение ко мне, впрочем, никак особенно не проявлялось, оно было лишь внутренне чуемым мною: вне меня, помимо меня и вопреки мне совершалось между ними приноравливание одного к другому, взаимное, ещё очень неверное друг к другу привыкание.
Серафим между прочим подтвердил версию непутёвого парня с центральной усадьбы: ремонт директорской квартиры хозяину придётся брать на себя.
— Но должны же за казённый счёт,— сказал я то же самое, что и в конторе.
— Должны, но не обязаны,— получил я тот же самый ответ.
И ещё Серафим любопытную новость сообщил: прежний директор дрова увёз, казённое имущество собою представляющие и для отопления директорской квартиры предназначение имеющие.
— Надо у председателя выписывать заново.
— Чего же он их увёз!— возмутился я.
— Да он знаешь, скупой какой был? И ртом и жопой хватал. Понял, нет?
— Но дрова же ведь не ему, а школе выписаны?— не давали мне покоя остатки наивности.
— Ему что! Погрузил и увёз.
— Да, надо у Савелия Семёновича выписать,— согласился Коля.
— Что он, не поймёт? Знает, какие у нас морозы.
Тут я задал самый глупый из своих вопросов:
— А их что, уже прямо готовые привозят?
— Чего готовые?
— Дрова.
— Как это готовые?
— Ну в печку чтобы уже класть.
— Ага! Привезут и ещё в поленницу сложат, — Серафим иронически на меня воззрился: неужто остались ещё на земле такие недоумки?
— Нет, правда?— я начал догадываться, что чего-то не так спросил.
— Трактором приволокут несколько хлыстов и отцепят вон на улице, а там как знаешь,— смилостивился и разъяснил он, понимающе переглянувшись с Колей.
— А пилить кто?
— У Бориса вон бензопила, у Семенеева,— повернулся Серафим к Коле.— За бутылку он тебе всё распилит. Колоть — сам мужик здоровый.
Серафим все необходимые объяснения с самого начала давал отвернувшись от меня, со мною же говорил больше для забавы.
— Вообще он потому и увёз ещё, Пётр Трифоныч, ну директор прошлый, что сам пилил и колол.
— Послушайте,— меня стало любопытство разбирать, и хотелось на себя внимание перетянуть, чтоб не совсем уж тут быть посторонним.— А чего вы тут делаете, ну, зимой, например.
— Как это чего?
— Ну не знаю. Скучно же наверно. Ни пойти никуда…
— Почему, у нас клуб есть. Не видели у магазина? Кино привозят. А то на центральную.
— Часто?
— Как когда. Дорогу занесёт, так и сиди лапу соси. Тракторами расчищают.
— Чего же вы тут тогда делаете?
— Палки валяем и к стенке приставляем. Понял, нет?
— Со скуки же помрёшь.
— Иной раз и зачудят,— Серафим засмеялся, вспомнив что-то. — Вот я расскажу. В Ирбе прошлый год. Два мужика вот так сидели тоже, выпивали. Значит, Алексей Другин и Сашка Салов. Сидят, значит, Сашка и говорит: давай нашему кобелю пойдём хвост отрубим.
— А зачем?
— Иди спроси. Пьяный — народ чудной. А тот, главное, тоже: пошли.
— И отрубили?
— Ты слушай. Пошли, значит, рубить. Топор взяли. А кобель у них, вот не совру, вот такой здоровый. Как телок. И умный, умнее их оказался. Животные, они понимают. Я же с ними работаю, знаю. Правда. Вот говорят: корова, корова! А корова поумнее твоей бабы будет. А уж собаки вообще. Значит, почуял кобель, что что-то тут не то. Как вот он понял?
— И чего же?
— Чего! Покусал их и дёру со двора. Алексея здорово погрыз, чуть палец вот тут не оттяпал. Ему потом как производственную травму записали.
Я продолжал как будто неведомый мир для себя открывать, не похожий, например, на то, что знал о крестьянской жизни в дедовой деревне. Да и мал тогда был, чтобы во всё как следует вникать. После же смерти деда и продажи его дома я с деревней не соприкасался в своей жизни. Даже так мне выпало, что и на картошку студентом ни разу не ездил: почему-то наш курс не посылали — удивительно.
— А вы на этом скотном дворе работаете?— я обращался к Серафиму на вы: хотя с Колей они оба свободно уже тыкали друг другу, у меня же как решимости какой не хватало.
— Нет, у меня и кайловское стадо, и в Ирбе.
— И что, много молока даёте?— вне газетных шаблонов я ни о чём ином как будто и спросить не сумел бы тогда.
— Приехал, значит, Брежнев в колхоз,— Серафим разлил по стаканам остатки огненной воды. — Значит, водят его, то, сё. Сколько, говорит, от коровы надаиваете? Две с половиной тыщи, говорят. А три, спрашивает, можете? Можем. А три с половиной? Тоже можем. А четыре? И четыре, говорят, можем, только уж очень много воды придётся добавлять. Понял, нет? Давай выпьем лучше. Чтоб тебе, Николай, хорошо устроиться на новом месте.
— Вы тоже воду льёте?— пытал я.
— Кто много знает, знаешь, что с ним бывает?
— Ну а есть у вас, например, передовые доярки?— и что меня всё тянуло на подобные вопросы, сам теперь дивлюсь.
— А как же. Тётя Нюра Кулешова. Двадцать коров за ней числится, а на самом деле двадцать пять.
— Зачем?
— Двадцать пять доятся, а на двадцать пишут. Понял, нет?— Серафим меня, пожалуй, уже и окончательно презирать стал за бестолковость.
— Ну а можно чтобы на самом деле удои повысить?
— Всё можно,— Серафим погрустнел.— Я бабам своим как говорю? Если муж к тебе со всей душой, и деньги отдаёт, ты тоже ему так же, и как он захочет — ноги задерёшь. Понял, нет? Так и корова. А им что говори, что нет. Работать некому, так хоть бы какие, чтоб только работали.
— Как же вы по всем фермам ездите?
— Очень просто. Мотоцикл у меня. Кобыла на дворе стоит.
— Так что: мало народу в колхозе?
— С чего ему много быть? Сам говорил: со скуки помереть. Как ушёл парень в армию, так считай, с концами. Ты в армии-то был?
— Нет,— удивился я неожиданному повороту беседы.
— На племя оставили?
— Как это — на племя?
— Как быка оставляют? Баб покрывать. Вот... не у нас, правда, в Мезенихе, вот такой, как наш, посёлок, один мужик всего остался. Бабы ему проходу не дают. На этом органе мозоль, наверно, натёр уже. Тоже скоро сбежит.
Пока мы разговаривали так, Коля мрачнел всё больше, молча уставившись в одну точку и силясь произвести из себя какую-то мысль.
— Бога у людей нет!— изрёк он наконец.— Нет, не того, который там старик (он ткнул пальцем в потолок), нет, не тот, а вот здесь, в душе (он показал на область желудка). Там (палец вверх) никого нет, никакого старика, а тут (палец в себя) должно быть.
— Да,— Серафим подпёр голову рукой и задумался.
— Ну а если бы без колхозов, лучше бы стало?— спросил я, сам же недоумевая, откуда взялся во мне столь непривычный вопрос.
— А!— махнул рукой Серафим.— Землю что ли раздать? А её и не возьмёт никто.
— Мы что же, напрасно воевали, чтобы землю отдавать?— зло прищурился на меня Коля.
— Особенно ты, Коля, много воевал,— я тоже озлился.
— Я-то в армии служил! А ты? Из говна легче пулю слепить, чем из тебя солдата...— Коля начал распаляться.
— Успокойся, Николай, успокойся!— Серафим положил ему руку на плечо.
— А чего он...
И это мне было знакомо. От бутылки на троих Спиридонов, без сомненья, опьянеть не мог (правда, на полуголодный желудок сильнее действует), но он любил себя разжигать в таком состоянии, отчасти актёрствуя, отчасти искренне увлекаясь своим притворством.
— Николай, всё нормально!— Серафим не подозревал, что попытки урезонить обычно распаляют моего приятеля ещё сильнее.
— Послушайте, Серафим,— попытался я отвлечь его внимание,— а у вас можно молоко покупать на ферме?
— Так дам, ты только приходи.
— А для семьи Николая Василича?
— Воровать?!— заорал Коля.— Я заплачу!
— Ты только ко мне приходи. Понял, нет? Бабы тебе такого молока нальют, только манду полоскать. Я тебе сам надою.
— У вас руками доят?
— Электродойка. Только электроэнергию часто отключают.
— Электрификация всей страны!— снова заорал Коля.
— Ты что, Ленин, чтоб выступать?— остановил его Серафим.
— Я не Ленин!— Коля бухнул кулаком по столу.— Ленин был… Ленин бы посмотрел...
— Слушай, Коля!— надоели мне его выкрутасы.— Может, спать пора?
— Вот у нас как электроэнергию отключают, так и дёргай за сиськи двадцать коров,— принялся рассказывать Серафим.— Это тебе не бабу, да и дать тебе двадцать баб, тоже сбежишь. Понял, нет?
— Бога в душе нет!— голос у Коли, отдать ему должное, был зычный!— Ленин не тому учил.
— Слушайте, Серафим, давайте я вас провожу. Завтра ещё посидим. Николаю Василичу отдохнуть надо. Много работал сегодня.
— Тут у нас комиссия приезжала. Ходили, м—ми трясли. И что? Так всё и осталось, как было.
— При Сталине порядок был! А Брежнева за что уважать?!— орал Коля.
— Один тоже, умник, спрашивает: почему у вас дырка в аппарате? Я ему хотел сказать: дырка у твоей бабы, а это отверстие... А у тебя баба есть?
— Есть,— сказал я, чтобы избежать лишних разговоров на эту тему.
— Без бабы нельзя,— одобрил Серафим.— Хотя от баб весь вред. Понял, нет?
— Ленин сгорел! Себя сжёг за всех! А вы что!— Коля нетвёрдо поднялся, схватил стул и грохнул им об пол.
— К корове, как к бабе, с лаской нужно. А они, курвы... А ну их!
XIV
Все оставшиеся дни, пока я сосуществовал со Спиридоновым, я, стараясь с утра набить поплотнее желудок, уходил на весь день прочь — бродил по лесам, подолгу лежал, раскинувшись где-нибудь на упругих зарослях мхов или просто на земле под деревом в тени, старался, но не мог изгнать из себя внутреннюю боль. Уехать не было воли. Лишь когда Коля отправился по делам в Новосибирск, я последовал за ним.
Вечерами к нам непременно являлся Серафим. Мы пили водку, которую покупали по очереди у ленивого сидельца, вели бесконечные и безнадёжные разговоры, под конец добрались до немыслимых философских проблем. Серафим признал в этой сфере человеческой умственности непререкаемый авторитет школьного директора, почтительно выслушивал весь его полупьяный вздор. Должно признать, что благодаря обильному студенческому конспектированию классиков марксизма, Коля мог говорить долго и с частым упоминанием к месту и не к месту высоких авторитетов. Впечатляло.
Ещё раз побывал я на центральной усадьбе: когда Коля туда отправился, я увязался за ним. В дверях конторы столкнулись мы с самим Савелием, с товарищем то есть председателем. Повезло.
Товарищ председатель с ходу высказал недовольство колиным недовольством по поводу неотремонтированной квартиры, хотя Коля не говорил о том самому товарищу председателю ни слова, а теперь даже, сняв шляпу, принялся уверять, что он ничего, что он подождёт, что пока не к спеху, потому что семья прибудет ещё не скоро, поэтому можно и подождать, раз семьи нет и не ожидается в ближайшее время, а стало быть, оно, время, терпит, так как семья и вообще приедет лишь тогда, когда ей будет дано знать, значит, беспокоиться не надо и всё в порядке, но поскольку всё-таки не всё в порядке, то есть квартира не отремонтирована, то и вызов семье послан не будет, пока не состоится ремонт, и следовательно, можно подождать и не торопиться с этим ремонтом, который был бы крайне необходим лишь в случае скорого приезда семьи, однако приезд можно и отложить до того времени, пока не будет сделан ремонт, с которым можно и не спешить, если имеются какие-то к тому препятствия, задерживающие ремонт, что, конечно, создавало бы некоторые неудобства в случае приезда семьи, но такового не ожидается, и теперь можно не торопиться, ибо семья устроена пока хорошо и может ждать некоторое время, которое терпит, терпит, терпит и вообще настолько терпеливо, что товарищу председателю можно и вовсе не беспокоиться относительно ремонта: ведь семья директора школы прибудет только по вызову и до того будет ждать терпеливо, соревнуясь в терпении со временем, а так как время вообще никогда и никуда не торопится, то и семье торопиться некуда, а следует лишь дожидаться вызова с приличествующей моменту выдержкой, каковую ей, семье то есть, не занимать стать и не впервые обнаруживать, так что и в данном случае она может подождать, равно как может подождать и ремонт квартиры (а квартира ремонта), в которой пока сугубой необходимости нет, а разместиться пока на время можно и в школе: ведь одному не много и нужно, отчего ожидание не столь уж и обременительным будет, потому что семья специально была отправлена в надлежащее место с целью ожидания окончательного обустройства на новом месте, а это связано с окончанием ремонта квартиры, а с ним-то как раз можно и не торопиться по причине отсутствия семьи, размещённой в должных условиях, в сытости и тепле, так что хотя с ремонтом торопиться и не следует, однако если товарищ председатель соблаговолит, то неплохо было бы, чтобы он помог в заботах о столь же надёжном тепле и на новом месте, где когда-нибудь да будет же совершён необходимый ремонт, и поскольку он когда-нибудь будет-таки совершён, то постольку и семья всё же приедет, ожидая найти те же сытость и тепло, каковыми она обеспечена теперь, но если что касается сытости, это внутренняя семейная забота, то с теплом дело обстоит сложнее: для тепла имеется потребность (нет, не в данное время—к данному времени особых претензий нет, речь идёт лишь о некотором будущем) — именно в дровах потребность, и несмотря на то, что и с ними особой спешки не требуется, но надо бы, неплохо бы, совсем бы не помешало бы, чтобы данная проблема всё же была бы решена бы, и тогда бы совсем бы всё бы стало бы замечательно, как, впрочем, замечательно и сейчас, однако не в совершенной-таки степени замечательно, а лишь слегка, поскольку нет ни квартиры, ни дров, но это ничего, это может и подождать, раз семья ещё не приехала и не приедет, пока не получит вызова,— ибо должен же существовать хоть какой-нибудь порядок необходимый, чтобы его с необходимостью и соблюдать.
Удовлетворённый смирением директора школы, товарищ председатель обещал в виде исключения (именно: исключения, поскольку лимит на школьные дрова исчерпан) и входя в положение (хоть тут его ни товарищеской, ни председательской вины отнюдь нет — разумеется, разумеется: никак нет!) выписать просителю потребные для семейного тепла дрова, но лишь за свой счёт с оплатой через бухгалтерию колхоза, для чего нужно получить согласие бухгалтера, на которое товарищ председатель влияния не имеет и иметь не должен, а следовательно, о том необходимо позаботиться особо.
Весь разговор происходил на конторском крыльце. Давши обещание выписать дрова, хозяин счёл аудиенцию оконченной, повернулся к нам обширной задницей и вошёл в контору. Но имелся ещё один вопрос, требовавший согласования, поэтому директор школы дерзнул последовать за товарищем председателем. Вошёл в контору и я, праздный свидетель. Новый раунд переговоров состоялся в приёмной, перед столом Петровны. Товарищ председатель вновь выразил неудовольствие, узнав, что претензии представителя народного образования не исчерпаны. Речь зашла о некоторых суммах на приобретение школьного оборудования. Тут выяснилось: для получения необходимых денежных средств необходимо представить список необходимых учебных пособий и прочего необходимого имущества, список же можно составить лишь после получения необходимого подтверждения от соответствующей торговой организации (попросту: чего ради включать в список то, чего нет в магазине?), кроме того, оный список необходимо заверить у руководства народным образованием, ибо правлению колхоза необходимо убедиться, что всё включённое в список необходимого оборудования именно необходимо в школе, а не является домыслом директора, которому необходимые финансовые средства могут оказаться необходимы вовсе для других целей, чему необходимо воспрепятствовать, для чего и необходима соответствующая виза соответствующего школьного начальства, которое, несомненно, лучше всех и способно оценить, что необходимо (а что не необходимо) данной школе, поэтому если оно необходимую визу поставит, то у правления колхоза никаких необходимых возражений не предвидится, и после необходимого обсуждения вопроса с соответствующими необходимыми людьми необходимые суммы могут быть выделены в необходимых размерах, а необходимое оборудование в необходимых количествах закуплено в том-то и состоит именно необходимый порядок, каковой необходим, чтобы его с необходимостью соблюдать.
— То есть несколько раз туда-сюда мотаться что ли?— спросил я простодушно.
Савелий лишь презрительно зыркнул на меня и молча скрылся за чёрной дверью. Коля, тоже зыркнув зло, рискнул войти следом. Я — счёл то за лишнее для себя.
Я сошёл с конторского крыльца и подумал: а если не несколько дней, как мне выпало, но год хотя бы тут просуществовать... Не хотелось ни думать, ни даже помнить обо всём, что довелось узнать за эти дни, не хотелось и знать ничего, что тут есть и чего нет. Какое мне дело до всего этого необходимого порядка вещей?
По совести — мне безразличны оказались колины заботы и беды. Я отчасти посочувствовал ему, но не вполне искренне. У него своя печаль.
У меня — своя.
А ведь она прожила здесь два с лишним года. Не оттого ли бросилась в омут постылого замужества?
Хотя: почему постылого? Кто дал мне право судить? За мною осталось лишь право признать свою вину.
Я побрёл к её школе. Я вновь сел на скамеечку под сосной. Сколько раз она проходила здесь — кто сосчитал...
Здесь я прощался с нею — навсегда.
XV
До отъезда оставалось немногим более двух часов. Я стоял возле торчащего из земли бетонного кукиша. В скверике тарахтела машинка, подстригавшая газон. От срезанной травы пахнуло запахом свежести. Странно: этот запах совершенно не похож на аромат свежескошенного сена.
Тоска перехватила дыхание. Захотелось скорее исчезнуть отсюда. Или вообще не быть.
Я заставил себя думать так: если вы, Андрей Михалыч, не признаете, что всё, вам здесь померещившееся, есть лишь сущий бред, порождённый вашей вольной фантазией, то я вас за то уважать перестану,— так сказал я себе, вспоминая пережитое мною в моём, скорее всего, неосуществившемся странствии. А и впрямь ведь: экую каверзу подстроило мне моё извращённое воображение.
Домысел всё сие. Ничего не было.
Лучше всего этого и не знать.
XVI
А ещё я утверждаю, что все так называемые законы природы, якобы открытые наукой, есть не более чем перманентная случайность, и не обязательны к исполнению.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
XVII
Сон был странен и страшен.
Я стоял среди огромной толпы, переполнившей необозримую площадь,— и в центре этой площади, мне как будто знакомой, как будто похожей на ту большую площадь, что находилась неподалёку от прежнего нашего дома, где я жил в детстве, и в центре именно той самой площади со всех сторон всеми видимый высился громадный эшафот, и на эшафоте, все знали, должен быть казнён какой-то ужасный преступник, страх перед которым и ненависть к которому вросли в мою душу и в моё сознание, хотя я и не знал его вовсе, не знал даже и преступления его — но прочная уверенность в отвратительности и мерзости его деяний почему-то жила во мне как будто с самого моего появления на свет — и я с отвращением и страхом, но и с любопытством ждал назначенной казни, как ждала и вся толпа, переполнявшая необозримую площадь, мне как будто знакомую, как будто похожую на ту большую площадь, что находилась неподалёку от прежнего нашего дома, где я жил в детстве...
Я никогда не видел казни (где бы мог?), даже не мог представить её себе истинно, я лишь ужасался всегда мысли, что можно вот так просто, из благих побуждений и сознательно прервать непостижимое познающему сознанию таинство — жизнь. Мне заранее было жутко, что я увижу скоро смерть хоть и отвратительного, но человека же — увижу, как отрубается голова его... нет, даже создавать это в воображении было невыносимо. Я видел, что и все, вся толпа, в ужасном предчувствии уже так же содрогаются, хотя, как и я, полны болезненного любопытства к ожидаемому.
И вот уже ведут среди волнуемой его появлением толпы — того страшного человека, которому оставались жить последние мгновения. Я стараюсь увидеть его, но видно плохо, его заслоняет от меня толпа. И странно опять-таки: все, я вижу, орут, как бы даже приветствуя его,— а я не слышу ничего, всё в тишайшем безмолвии будто совершается. Там, где идёт он, толпа плотнее, подвижнее, темнее — всё вообще мрачно и черно, даже неба над головой нет, одна чёрная пустота.
И тут-то я начинаю с ужасом ощущать, что преступник тот — я. Что ведут через толпу — меня, что по мне беснуется толпа, что мне остаются последние мгновения жизни. Я даже знаю, за какое преступление меня сейчас казнят, я сознаю, что оно мерзко, что не может быть прощения за него, но всё же надеюсь на чью-то милость и понимание, жду дарования мне жизни и свободы, даже толпа не отвлекает меня от моей надежды, я тупо равнодушен к этой окружающей меня тесной толпе, как будто и нет никого вокруг, лишь я один — и палач надо мною.
А потом наступает утро, но меня уже — нет.
Я ушёл, чтобы вернуться вновь и снова пройти свой путь — но: от ненависти к любви. И мир, в который я возвращался, стал иным — потому ещё, что теперь мне предстояло заново искать в нем все ответы на неразрешённые прежде сомнения.
Проснувшись, я уже не мог никак вспомнить, каково же было то моё преступление — тогда, во сне. Только досадливое чувство на жестокость совершённой надо мною казни ещё некоторое время тлело во мне.
В тот день я собирался к Назарову зайти. Так просто, проведать. Про то проведать, чем утешается он ныне в своём отчаянии: быть может, и мне удастся понять то же. Хотя, признаться, мне часто нелепым то представлялось, что для него — верх премудрости.
Пришёл я к нему в состоянии помутнённом. И смутные следы недавнего сновидения меня тревожили, и одно незначащее событие в моей душе, досадившее мне, лишь только вышел я из дому.
Лишь только вышел — стоит у подъезда самого милиционер. И как будто на меня подозрительно глянул. А я знаю, что нет у него резона взирать на меня с подозрением, да и видит он меня впервые, как и я его,— а всё же не могу заглушить в себе примерещившуюся мыслишку, что хочется ему в чём-то меня заподозрить, даже более того: и сама-то причина к подозрению у него наличествует, хотя и нет никакой причины, лишь одна мнительность моя мне покоя не даёт. Но от той мнительности захотелось мне перед ним, незнакомым вовсе, какую-то благонамеренность особую выказать, чуть ли не прямо подойти и сказать: я нынче благонамерен, я ни в чём предосудительном не замечен и даже заподозрен быть не могу, и вовсе безгрешен касательно не то что уголовного кодексу, а даже и правил уличного движения — чист, ничему не подсуден, более того: одобрения за свою благонадёжность заслуживаю, и прежде всего — в ваших глазах, товарищ, как вы есть представитель власти, так что не сомневайтесь, мы с вами в полном единомыслии пребываем относительно неукоснительного соблюдения всяческих правил и предписаний, высшим начальством обозначенных. И какое-то гаденькое умиление собственной благонамеренностью испытывать я начал, когда мимо того милиционера шествие вершил, а из живота к горлу так и подкатывались волны ликования и восторга перед чистотою своею и неподсудностью — вот главное: неподсудностью. И преданность, рассудком непостижимая,— милиционеру, и правилам, и кодексу — переполняла меня. Я всем свои обликом одно — преданность выражал.
Тьфу, мерзость! Что за охота иной раз так-то поподличать, пусть бы и в душе только, что за поползновения препакостные в нас порою откуда-то являются? И от всего этого невыносимая гадостность на душе сотворилась, к самому себе омерзение, как будто дерьма протухлого нажрался.
С тем омерзением и к Назарову заявился.
На столе у него лежал претолстенный волюм, вероятно, читанный перед самым моим приходом. Уже вернувшись следом за мною в комнату, Саша захлопнул эту прежде раскрытую насредине книгу, и я увидел на крышке её тиснёный крест.
— А ты всё своё?— Хмыкнул я, взглянув на крест.
— Ты читал когда-нибудь Книгу Иова?
— Слыхал. Даже смутно припоминаю где-то читанное по поводу её влияния на мировую литературу.
— Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла,— раздумчиво проговорил Саша.
— И что же?
— Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок,— проговорил он, как бы не покидая глубокого своего раздумья, в котором пребывал до моего прихода.
— Ага, ложь!— вроде бы и обрадовался я, найдя повод его поддеть: так хотелось своё злобное чувство выплеснуть из себя на кого-нибудь.
Саша будто очнулся, взглянул на меня почему-то весело и добродушно:
— Вот и не ложь! Я тоже вдруг засомневался, а теперь вижу: правда! И насколько её примешь, настолько и легче станет.
— Ну давай правду!— я уселся у окна, даже отвернулся от хозяина, принявшись разглядывать будто впервые открывшийся мне сверху вид. Премерзкий вид, должен признаться: всё то же унылое и рваное пространство.
— Праведник Иов,— начал Саша в тоне повествовательном,— блаженствовал на земле, обладая всеми возможными богатствами и душевным достоянием. Бог лишил его всех благ.
— За что?— оторвался я от окна.
— Первый вопрос у всех: за что? А вот не за что.
— Так-то и в жизни: вечная эта несправедливость. Добрым молодцам урок.
— Вот и я всё думал: неужто можно признать правоту такой жестокости по отношению к благочестивому рабу?
— Какая же правота?
— Именно правота!
— Правота в чинимых несчастьях?
— Правота в высшем благе. Даже то, что прежде Иов был именно рабом, вернее, наемником: он как бы обязан был восхвалять Творца, пусть и делал то искренне, за все предоставленные ему блага. Теперь же он мог делать это свободно, не принуждаемый внешним долгом. Ему давалась возможность перестать быть рабом или наемником, но сыном.
— Вздор!
— Не торопись.
— Свобода подарена! Вкупе со всеми возможными бедами?— пустился я иронизировать.
— Если земные материальные блага почитать выше духовных,— ответил он, и хотя отчасти ответ его был невнятен, но я понял его.
— Да-да. Я что-то подобное не раз слыхал. Выходит: Иову был дарован именно высший смысл. Но что смущает: всё это может быть воспринято как наказание, а наказание без вины — несправедливость же. Значит, нарушение правды. То есть покушение на духовные ценности,— я нашёл, казалось, неопровержимый довод, но чуть поразмыслив, возразил себе же: — Хотя кто из нас без греха? Наказать всегда есть за что.
— Так говорили и друзья праведного Иова. И Сам Бог отверг такое понимание.
— А как же тогда?
— Просто принять то, что дано Богом. Он знает лучше нашего, что есть благо и польза наша, только не по меркам времени благо, а в соизмерении с вечностью. Поэтому Он ничего дурного не сделает нам. Оттого нечего и печалиться и скорбеть, а быть покойным всегда. И нельзя говорить: пусть будет как я хочу, — а по-иному: пусть будет, как Бог даёт. Нам недоступно постижение путей Господних.
— Не понимаю.
— Есть такая басня у Крылова. Лошадь смотрит, как мужик бросает зёрна овса в землю и возмущается: зачем он делает столь явную глупость, лучше бы меня накормил, на худой конец, приберёг бы в амбаре. Так и мы: даже то, что кажется нам явно злом, просто не может быть истинно оценено на уровне внешней очевидности.
— Слишком уж всё литературные примеры.
— Иногда выпадают и не литературные,— спокойно возразил он.
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
А может быть, я сам как тот Иов многострадальный: многое имел, всё утратил? Куда направить мне стопы мои?
Я мучился, всё блуждая вблизи истины, но не хотел догадаться: нужны усилия не рассудка, но чего-то высшего...
XVIII
А то есть ещё люди, которые всю жизнь употребляют, чтобы фигурки деревянные по клеточкам двигать. И в том смысл жизни находят. Шахматисты — называются.
Может, их правда?
XIX
Какие странствия — не до поездок было. Рост меня обременил своими заботами. От формальностей по защите освободил от многих, зато амурные дела собственные на меня переложил. Я ещё до защиты по его милости маяться начал. И после тоже.
Рост, куражась, убеждал меня, что я должен за двумя зайцами гоняться и обоих поймать: помочь ему, избавив от докучливых претензий бывшей (именно, именно — бывшей!) любовницы, и при случае самому “сорвать цветы удовольствия” (а красиво сказано, старик, скажи!). А можно и более того: восстановить нарушенный семейный мир, вернув оскорблённому мужу блудную (тонкая игра слов?) жену.
— Нет, старик, если серьёзно. Тут всё в такой узел завязалось, и прямо на горле. Как начнёшь рубить по методу Александра Филиппыча Македонского, так можно и вместе с башкой — хряп!
Я не могу постичь: как всё это в ту пору не казалось мне бредом, нелепицей, безсмыслием? Я смотрел, отчасти поддавшись эйфории своих институтских успехов, смотрел на предстоящие мне хлопоты как на курьёзную забаву, отдохновение от трудов праведных. Правда, вначале никаких хлопот и не предвиделось, Рост лишь просил меня попытаться уговорить женщину “не затевать историй”.
— Старик, я просто сам не могу, потому что, знаешь, начнутся слёзы, все эти бабские штучки. У меня всё это вот где. Ты посторонний, перед тобой ей не будет смысла комедию ломать. Скажи твёрдо и ясно: он (я то есть), мол, и хотел бы, да не может. Был бы я просто беспартийный рядовой сотрудник, другой бы разговор. Ты ей скажи: она что, хочет мне неприятностей? Но если у меня будут из-за неё неприятности, это автоматически скажется на моём отношении к ней. Ей этого хочется? Чего она вообще добивается? То, что у нас было, — её же на аркане не тащили. Она тоже своё удовольствие соблюла. Нечего прикидываться оскорблённой невинностью. Нет, ты так, конечно, не говори, не стоит собак дразнить, но объясни всё достаточно определённо.
— Если сумею.
— Чего тут уметь! Объясни: если кто нравится друг другу, можно жить так, а жениться не обязательно. Ну что делать, если нет возможностей? У меня жена. Она меня, скажем так: не вдохновляет. Ирка же баба умная, она поймёт, только объясни доходчиво.
— А что, она и впрямь умная?
— Бабы вообще все дуры.
— Следовательно, моя миссия обречена на провал.
— Постарайся, старик, постарайся.
А я ещё и забавлялся, суматоху Роста во всех стадиях наблюдая. Потом выяснилось ещё: пассия нашего юного учёного секретаря доводилась племянницей Марии Петровне, то есть некоторым образом и самому Петельскому. Обстоятельство, разумеется, осложнявшее ситуацию.
— Зачем же ты, Рост, довёл до того, что она всерьёз всё стала воспринимать?
— Увлёкся, старик, увлёкся. Ты что не понимаешь: если хочешь, чтобы женщина выполняла твои желания в постели, ты должен исполнять её желания вообще. А она и привыкла, теперь отказаться не может, а я ещё и виноват.
И вот в то самое время, когда мне ехать в Сибирь, я должен был идти к женщине, которую Рост совратил излишней своей услужливостью; что делать?— пошёл.
Ирина (так именовалась та особа) жила одна: они с мужем благоразумно не захотели в своё время “съезжаться”, вступая в семейное сожительство (просто она переехала к нему, а своя комната пустовала),— теперь оказалось: не зря.
Я отчасти недоумевал: зачем я иду? что скажу? То, что на расстоянии представлялось забавой, теперь превращалось в тягостное недоразумение.
— Здравствуйте, Ирина. Так вас зовут?
— Так.
Она явно не ждала никого, казалась раздосадованной больше, чем удивлённой, но меня впустила.
— Не боитесь так впускать незнакомого человека?— начал я с пошлой шутки.
— Надеюсь справиться в случае чего.
— “В случае чего” не будет, не беспокойтесь.
— Что вам, собственно, надо?
Ирина привлекала той несколько старомодной красотою, которая в моём представлении (скорее, неверном) связывалась с обликом великосветских красавиц прошлого века,— ныне предпочтительнее нечто более прозрачное, изломанное и легковесное. Хотя: одета она была как раз современно : мятые брюки и мужская ковбойка, завязанная узлом на голом животе. “В одну попу влюбиться можно” — вспомнил я Роста.
— Я говорю так много лишнего, потому что мне немножко неловко и я не знаю, как приступить к тому, что мне, собственно, нужно.
— Излагайте сразу суть.
— Я пришёл по просьбе приятеля и...
— Он сам не мог?— сразу догадалась она.— Я ни с какими посторонними ни о чём говорить не собираюсь. И вообще, простите: я занята.
— Вот так. И я говорю какие-то шаблонные банальности, и ты тоже.
Я перешёл на ты, что мне всегда легко удавалось, и это устанавливало отношения некоей доверительной близости, пусть и нелогичной в некоторых ситуациях, но необходимой же.
— Я предпочла бы вообще не говорить, как я уже сказала.
— Скучно. Напоминает сцену из плохого фильма. Мы как будто разыгрываем шахматную партию, ходы в которой, то есть в данном случае реплики, известны наперёд. Впрочем, даже крупнейшие гроссмейстеры предпочитают разработанные дебюты, чтобы не тратить вначале драгоценное время.
— Я не хочу ни о чём говорить, разве не ясно?
— Ещё один шаблонный ход. Но ведь надо же всё расставить на свои места. Я тоже предпочёл бы говорить о чём-нибудь ином. Но давай всё же проясним ситуацию. Чего мы теряем?
— Время.
— Прояснив создавшееся положение, мы как раз сэкономим время. Надо, Ира, надо.
Она устало сдалась.
Я сел на диван, осмотрелся. Ирина занимала небольшую комнатку в стандартной трёхкомнатной квартире, которая должна бы быть отдельной, но почему-то превратилась в коммуналку.
— Не надоедает жить рядом с посторонними людьми?
— Для меня теперь все посторонние.
— Ответ можно было предугадать, значит, трафаретно.
— Что вам надо?— взорвалась она, сразу очутившись на грани истерики.
— Нужна твоя ясная голова и минимум поверхностных эмоций.
— Я вас выставлю.
— Ещё мне нужно, чтобы ко мне обращались на ты. Я пребываю в единственном числе, и весьма не стар.
— Наши отношения не таковы, чтобы я говорила вам ты.
— Жаль,— вздохнул я.
— Чего жаль?— уже мягче сказала она.— Что не говорю ты или что не такие отношения?
— И то и другое.
— А ты нахал.
— Нахалам жить легче.
— Тоже не оригинально. Это из арсенала Славы.
— Какого Славы?— я не сразу сообразил, что Роста можно называть и Славой.— Не знаю никакого Славы. Это твой муж?
Задав этот вопрос, я неожиданно подумал, что Рост при всём нашем близком знакомстве почти и незнаком мне. В том, что он может иметь и иные имена,— раскрылось мне: он и иные личины для прочих иметь может, он ко мне лишь некоей (одной из многих, пожалуй) масок обращён. А кто он на самом деле? Я почти ведь не задумывался даже: почему (а Шерман намекал, подмигивал), почему он ещё в аспирантах стал парт-секретарём Института, почему теперь учёным секретарём и членом райкома (успел, успел), где те силы, тайные или явные, направляющие его карьеру? Вопросы мелькнули во мне, но вникать в них я не захотел, да и обстоятельства не позволили. Лишь подумал ещё раз: вот так живёшь, якшаешься с человеком, и для тебя он — Рост, а сверх того ты и знать ничего не знаешь и знать не желаешь, но потом вдруг нежданно-негаданно обнаруживается, что он вовсе ещё и Слава. Ты же и не подозревал о том.
— Так кто тебя прислал?— недоумённо уставилась на меня Ирина.
— Всё в порядке. Тот, кто нужно. Просто я сам попался в ловушку шаблона. Он же Ростислав. Слава Баранников. Ведь это ж надо! Парадоксальное словосочетание. Отчасти и каламбур.
— Давай к делу, а? Я правда занята,— взмолилась она.
— Что есть дело?— глубокомысленно вопросил я.— Ты кто по занятиям своим, кстати?
— Искусствовед. Удовлетворён?
Я было ответил, что женщина удовлетворяет иначе, да самого себя одёрнул — спросил скромно:
— В какой области?
— В живописи.
— Уже интересно.
— Интересуешься живописью? Или красками балуешься?
— Где уж нам. Просто любопытствую.
— Передвижниками,— с сарказмом предположила Ирина.
— И ими тоже.
— Любитель цветных фотографий.
На несколько мгновений мною овладел конфуз за свою “отсталость”, но я сразу справился с ним и выгнал из себя.
— А ты предпочитаешь штукарство не имеющих что сказать?
— Искусство не ставит перед собой задачу непременно что-то сказать.
— В крайнем случае, оно говорит хотя бы: мне сказать нечего. Когда же недостаток в “что”, прибегают к ширме из “как”. Какают, какают, столько дерьма уже наложили. А это публику развращает, приучает к забаве. Когда же приходит человек с истинно новым словом, его просто могут не заметить, особенно если он не выпендривается.
— О!— подняла бровь Ирина.— Мы, кажется, всерьёз.
— Таков уродился. Времени мало у нас, а слишком много неясного, чтобы забавляться ещё и несерьёзными вещами.
— И что же неясно?
— А вот хотя бы: зачем я пришёл сюда и что мне от тебя надо?
— Я и объяснять должна?
— Неплохо бы.
— Слушай, иди ты знаешь куда?
— Куда?
— Домой.
— Пойду. Но сначала выясним отношения. Рост, пардон, Слава, он свою жену терпеть не может. Но если он разведётся, он тут же может пойти под откос. Как ты думаешь: это увеличит его симпатию к тебе?
— Это всё, что он велел сказать?
— Это я сам так думаю.
— Карьера важнее всего, конечно.
— Все женщины таковы: не могут простить мужчине, если он дело ставит выше, чем ублажение её прихотей.
— Нашли, кого обвинять. А что же мне делать?
— Не знаю. Может быть, вернуться к мужу.
— И продолжать всё со Славой, как будто ничего не случилось?
— Тебе решать.
— И я буду на роли второй жены.
— Первая жена, как он говорит, его не вдохновляет.
Ирина грубо рассмеялась:
— Проклятьем заклеймённый не встаёт?
— Столь интимную подробность выясняй сама. Но пойми: устраивать скандалы, истерики, этим ничего не добьёшься.
— Скандалы? Боится, значит. Скажи: не надо. Сначала хотела, потом и сама поняла, что глупо. Кураж весь вышел.
— Слушай, а ты и на самом деле любишь всех этих абстракционистов, кубистов, авангардистов?— я нарочно резко выбил разговор из вязкой колеи.
— Чтобы отрицать что-то, надо знать!— наставительно откликнулась она, поддавшись на мою провокацию.
— Где же узнать?
— Тебе правда интересно?
— Не спрашивал бы.
— Есть одна полулегальная выставка сейчас.
— Так я не знаю, где искать.
— Могу провести.
XX
Пропихнувшись через узкую щель в темноватое, неопределённых размеров пространство, образуемое грязными перегородками и причудливыми коленцами больших и малых труб, мы оказались между кучами строительного мусора, окружённого расставленными, развешенными и разложенными прямо под ногами — замысловатыми творениями неисчислимых художников, слонявшихся здесь же в этом мглистом пространстве и пребывающих в трансе беспрерывных дискуссий всех и со всеми.
— А впрочем, вы правы, когда констатируете сам факт, вы совершенно правы, но отнюдь и не правы, пытаясь постулировать свою негативную дефиницию.
С этими словами подскочил ко мне некий чернявый неопределённого роста господинчик с искрами во взоре. Будто некий огонь жёг его изнутри, так что и мгновения не мог постоять он спокойно, перебегая с места на место и извиваясь всем телом.
— Вы правы, вы абсолютно правы, но и не правы вовсе!— верещал он.
— Кому я говорил? Я ничего не говорил, я ещё слова сказать не успел,— попытался отбиться я.
— Ну как же! Как же! Вчера, вот ей,— он указал на Ирину.— Притом вы абсолютно правы. Но наша в том и задача: погрузить мир в космическую игровую стихию. Мы должны укрыться в иллюзорности. Бытию надо придать хоть какой-то смысл, ибо оно абсурдно по природе своей. То есть совершенно онтологически абсурдно.
— Новая истина в инобытии!— крикнули из толпы.
— Именно,— поддакнул чернявый.
— Нужно отказаться от предметного мира! Лучшим произведением будет, если я запру вас в пустой комнате,— вынырнул ко мне какой-то лохматый человечек.
— Зачем?
— Вы испытаете эмоции, неизбежно начнёте медитировать, а это ли не цель искусства?
— Нет, мы должны раскрывать в предмете его рефлектирующую имманентность, гносеологически-субъективную!— встал передо мною в позу некто, имеющий вид седовласого мэтра.
— Именно, именно!— восторженно завопил, завизжал от чрезмерности эмоций чёрный господинчик.— Вот великое назначение искусства. Мы должны создать искусство нового религиозного экстаза. Если религии говорят о существовании непознаваемого “того света”, то мы обязаны создать свой “тот свет”, особую ипостась арт-социума. И оба они, и наш “тот свет”, и религиозный,— всегда будут непостижимы, непознаваемы и недостижимы. А раз так — они и тождественны. Художник-демиург навсегда утвердит себя в трансцедентарте.
Мне представилось, что я помещён в студенистую неопределённую субстанцию, и она, впитывая меня, растворяя в себе, замутняет и без того мутную душу мою.
— Мы изберём своим объектом то, что неподвластно времени — пустоту, ничто!— ликовал, мелким бесом рассыпаясь, чёрный.
— А сами куда денетесь?— полюбопытствовал кто-то.
— Но какая в нас во всех такая уж особенная и нужда?— срезал любопытствующего господинчик.
Я уже перестал различать отдельные лица, одурманенный совершенно. Вскоре я потерял Ирину. Вокруг меня крутились сомнительные типы, все кричали, что-то показывали, пытались обратить внимание на собственные творения. Рядом со мною возникла некая дама, которую кто-то представил мне как крупную искусствоведку. Помню, что фамилия её звучала не вполне пристойно, представляя собою производное от какого-то матерного слова.
— Ну, покажите же мне, что у вас тут!— игриво гаркнула она.
Как раз перед нами у огромного белого листа бумаги — я удивился даже: неужели возможно существование столь обширного бумажного полотна — стоял возле идеально чистого белого прямоугольника невразумительный индивидуй с самодовольной ухмылкой.
— Белые шары на белом фоне!— объявил он нам.
— Оригинально,— одобрила искусствоведка.
Тут же нас атаковал какой-то жиденький молодой человек, настойчиво убеждавший оценить его мысль:
—Вот смотрите: я приклеил к полотну полено. И что же? Я тем самым вышел за пределы плоскости, отрицая эту плоскость. А ведь это не скульптура! Я опровергаю плоскостность нашего мышления.
— Конкретика бездарна!— крикнули ему.
Я взглянул — откуда кричали. Два субъекта снисходительно ко всем посетителям расхаживали вдоль выставленных в ряд мольбертов — на каждом был прикреплён большой кусок картона, ровно закрашенный в какой-либо цвет. Под картонами белели аккуратные белые прямоугольнички с чёткими обозначениями: “Впервые в истории мировой живописи демонстрируется чистый синий тон”, или: “Впервые показан жёлтый тон”, или: “Впервые голубой”...
Тут же висели в тяжёлых рамах холсты, произвольно замазанные красками разных цветов — эти обозначались однотипно: “Композиция”.
— Необыкновенное колористическое чувство!— оглядываясь на окружающих за поддержкой, произнесла искусствоведка с непристойной фамилией.
Многие понимающе закивали головами.
— Но это, конечно, заслуживает особого внимания,— заявила дама, указывая на значительных размеров полотно, свисающее с потолка до самого низу.
Когда-то в детстве мы с приятелями-одногодками любили дурачиться, чертя на бумаге: точка-точка-два-кружочка-носик-ротик-оборотик-огуречик-человечек. На отмеченном непристойной искусствоведкой холсте было изображено именно то самое, но широкими чёрными мазками кисти по небрежной грунтовке. Под гигантским “человечком” висела табличка: “Аполлон”.
— В этом что-то есть,— сказал кто-то.
— Да ведь это же проявление своеобразнейшего видения художника!— вразумляя всех, возгласила искусствоведка.
— Нет, это плоско, потому что здесь нет выхода из унылой плоскости,— опять попытался вызвать внимание на себя жиденький творец приклеенного полена.
— Устарелые тенденции! Лучше вон туда поглядите!— прочь от мгновенно стушевавшегося отрицателя плоскостей потащил нас беснующийся господинчик.— Вон, вон шедевр!
В глубине, в темноте, среди множества плошек, из которых рвались голубовато-красные языки пламени, почти не дававшие света, среди странной формы сосудов, наполненных водою, по засыпанному густой пылью полу — метался совершенно голый, лишь с узенькой набедренной тесёмкой, мертвенно-бледный человек и ударял маленьким молоточком по свисающим отовсюду деревянным и металлическим цилиндрам различных размеров и пропорций. Цилиндры позвякивали, иные гудели унывно, а голяк всё носился меж ними без устали и всё колотил своим молоточком. Череп его безволосо поблёскивал, и вообще на всём подсинённом отсветами огня теле его не было ни единого волоска, он судорожно корчился, как гальванизированный труп, а безжизненная маска вместо живого лица доводила общее отвращение от всего зрелища до тошнотворного совершенства.
“Люди утратили первобытное ощущение четырёх стихий-первооснов: огня, воды, земли и воздуха. Я призываю всех объединиться на древней основе! Я играю на изобретённом мною сферофоне, возбуждаясь и стремясь возбудить своих слушателей и зрителей. Я призываю обрести сознание первозданных сфер!”— было написано крупно на большом щите, установленном здесь же.
Вертлявый бес, исчезнувший ненадолго, вновь примчался откуда-то, закрутился, замельтешил, заверещал восторженно.
— Некоторые не способны понять истинное искусство,— сказала искусствоведка с матерной фамилией ни к кому не обращаясь, но затем строго взглянула на меня, как бы давая понять, кого она имеет в виду.
— Нассыте мне на грудь: жить без моря не могу!— завопил в это время некто, расталкивая всех и устремляясь к голому сфероману.
— Не мешайте творчеству!— остановили его.— Человек творит революцию в искусстве.
— По сравнению с тем, что происходит в моей душе,— отвечал кричавший, хоть и остановился,— все ваши революции лишь мелкая суета. Вы слишком спокойны. Вы чрезмерно спокойны. Перевешать бы всех спокойных, оставить одних беспокойных.
Неожиданно для всех он оглушительно чихнул, так что все вздрогнули, затем строго взглянул на господинчика, серьёзно сказал:
— Что же это ты! Нельзя так громко. Это неприлично.
И молча пошёл прочь.
Господинчик почему-то смутился и чтобы отвлечь внимание, завопил, указывая куда-то в сторону:
— Вот истинный гений!
В указанном углу некий худощавый, с одухотворённым лицом вьюнош звучно кромсал ножом вставленный в раму и во многих местах тронутый краской холст. Порезав холст, он принялся ломать раму.
— Так я воспринимаю мир,— грустно объяснил он нам.— Я ещё не знаю, зачем всё это. Я делаю, но мне нужно время, чтобы осмыслить, что я делаю. Зачем я разрезал свою картину? Не знаю. Но видеть её разрезанной — приводит меня к эмоциональному шоку. Может быть, это и есть мой эстетический акт. Я творю исключительно для себя.
— Он гений!— не унимался, проникаясь благоговением, господинчик.— Вот полное торжество интуитивной релаксации. В сущности, перед нами экстатическое искусство. Это искусство трансинтеллектуальных возможностей, рождённых силой, меняющей и обновляющей генерации творчества. Необходимо взаимодействие фактуры действия с фактурой мысли, и он этого добивается. Эмоциональный шок — это уже кое-что! Это эстетический, по онтологической сущности своей, шок. И он же дидактичен! Как вы считаете, мон шер,— я с удивлением увидел, что он обратился именно ко мне,— сколько может стоить сей шедевр?
С чего бы ему ко мне приставать? На всякий случай я пожал плечами. Все посмотрели на меня как на непосвящённого.
— С деньгами и дурак может, а ты без них попробуй,— мрачно пробурчал некто усатый.
— Именно!— как с цепи сорвался бес.— Именно. У вас практический склад ума, и в то же время вы имманентно иррациональны.
— Не дурак,— спокойно согласился усач.— Вот так. Я сколько живу, замечаю, что таких мало.
Все отправились дальше в неведомые дебри мутного подвала.
“Художник-концептуалист, единственный в стране, даст ваш портрет за одну минуту” — привлёк к себе многих коряво нацарапанный текст, который держал в руках симпатичный здоровяк. Обещание единственного в стране заинтриговало. Непристойная дама тут же выразила желание получить свой портрет.
— Как нужно позировать?— со знанием дела спросила она.
— Нет, мне достаточно лишь взглянуть на вас внимательно,— ответил портретист, достал лист бумаги, пристально взглянул на искусствоведку (она напряжённо застыла под его взглядом), потом начал что-то чертить на листе, стараясь загородиться от любопытствующих. Все с нетерпением ждали результата.
— Вот!— концептуалист протянул даме своё произведение.
Оказалось, что это вовсе не рисунок, а корявыми буквами нацарапанная фраза: “Та, которую трудно понять, но кажется, я понял”.
— Сколько я вам должна?— растерянно спросила труднопонимаемая, но понятая.
— Рубль,— невозмутимо ответил кажется понявший.
Запортретированная выдала требуемую купюру.
— Мне нужно узнать ваш телефон,— сказала она.— Хотелось бы с вами о многом переговорить.
Художник молча начертил цифры на листе с портретом.
— Вы знаете,— обратился вдруг ко мне розовенький пухленький человечек с ласковой улыбкой,— я подарил недавно ребёнку карамельку. Бог ведь зачтёт мне это, как вы думаете, зачтёт? Хотя и малое дело, а радость для дитяти. Поэтому и зачтёт.
Пухлячок умилительно заглядывал мне в глаза:
— А вы любите детей?
— Только в жареном виде,— услыхал я в ответ голос Роста: он незаметно подошёл ко мне сзади и взял за плечо.
— Рост! Ты чего тут?
— Тихо, старик. Интересно ведь. Красивое надо уважать.
— Но ты откуда?
— От отца с матерью.
— Ах, как вы остроумны!— подошёл сбоку бес-господинчик.— Но зачем вы тут? Скомпрометируете себя, скомпрометируете.
— Если вы не настучите, то и ничего,— примирительно ответил Рост.
— Я? Помилуйте! За кого вы меня! Но всё же должен сказать, что это нам всем совершенно чуждо. И ваше партийное лицо может запачкаться. А уж инквизиция — это уж вообще ни на что не похоже. Вы не согласны?
Я давно перестал понимать, что со мною творится, поэтому вовсе не удивился кульбитам его мысли.
— Слушай, Рост,— сказал я, когда чернявый оставил-таки нас в покое, так и не сумев втянуть в спор.— Меня сюда твоя Ирина привела, но куда-то затерялась. Ты её не видел?
— Старик, не напоминай. Как там у вас, кстати?
— Всё в порядке.
— Не натянул её ещё?
— Да перестань ты!
— Ладно, потом. Сейчас тут в зале будет выступать кое-кто. Пойдём, послушаем.
— А где?
— Пошли за мной.
Мы вскоре выбрели на небольшое помещение, заставленное почти сплошь сломанными стульями и табуретками.
— Садись, сейчас начнётся.
Худой, сосредоточенный в себе субъект стоял на небольшом пятачке, свободном от рухляди.
— Женька Марковин. Слушай. Тут выступать не всякому позволяют. Гений. Мой знакомый. Поэт.
Марковин начал декламировать:
и ЕМУ становилось до слёз обидно
что никто не знает кто ОН
хотелось закричать им всем
что они не смеют
потому что ОН выше всех
но зачем и кому это нужно после смерти
хотелось немедленно
ОН посмотрел
ОН повернул голову
и никто не знает что ОН есть Я
Я это ОН
но Он был жалок и смешон
одинок и велик
ОН любит ходить своей стремительной лёгкой походкой
и ОН ощущает великую ненависть
в СЕБЕ ко всем
НЕНАВИСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пусть не дано МНЕ
что дано им всем
но зато есть ОН
ОН выше их
ОН идёт
ОН гордо проходит мимо всех своей лёгкой стремительной походкой
и во МНЕ отрада что никто не знает МЕНЯ
Я это ОН
так же проходили мимо Шопенгауэра и Кафки
а ОН идёт
ОН посмотрел вперёд
ОН ускорил шаг
ОН ушёл вдаль своей стремительной лёгкой походкой
Голос стих. Стремительной лёгкой походкой декламатор скрылся от нас в пространстве подвала.
— Красиво, правда?— повернулся ко мне Рост, но я недоумённо высматривал: куда же скрылся сей странный субъект.
— Где же он, этот твой Морковкин?
— Домой пошёл. У него сегодня собираемся. Вовка Высоцкий придёт.
Мне захотелось, чтобы Рост взял бы и меня с собой в столь лестную компанию, но он лишь протянул мне руку:
— Пока, старик. Я пошёл. А с Ириной действуй. Там, где у меня прокол, я избегаю повторов.
Блуждая по грязному подвалу в поисках выхода, я ощутил вдруг свою внутреннюю ничтожность — не перед этими людьми, но перед столь значительным для них самих мироощущением, дающим им право презирать и меня, и моё отношение к жизни — они сминали меня своим наглым напором — и это тем более уязвляло меня, что в их самоуверенности я видел порождение болезненной ущемлённости непомерного самолюбия. И пожалуй, они достигли своей цели: я ухожу от них с чувством абсурдности мира,— ведь не может же иметь какую-то осмысленность то, чему я был тут свидетелем.
А вслед мне неслись из подвала вопли чернявого беса:
— Нам обетования даны!!!
У выхода я столкнулся с Ириной (неправдоподобная случайность!).
— Ну как?— спросила она.
— Это всё тут всерьёз?
— Ты считаешь, вероятно, что всерьёз — это на выставках пронафталиненных академиков? Да, здесь много неустоявшегося, спорного, но здесь ищут, здесь обретают неведомые идеи, а искусство тем и ценно.
— У меня, признаться, в голове от всего этого сплошной сумбур.
— Люди научного склада мысли как правило невосприимчивы к новым и непривычным идеям в искусстве. Вы принимаете прогресс линейно, тогда как он объёмен, и даже имеет пятое измерение.
...Может и хорошо, что я не пошёл в искусство,— думал я, бредя бесцельно по незнакомой мне улице, расставшись с Ириной (провожать её не захотелось).— Не начинает ли оно обессмысливаться вообще, это искусство? ...У меня своё. ...Он гордо проходит мимо всех своей стремительной лёгкой походкой. Он идёт. И он это я. Он посмотрел вперёд. Он ускорил шаг. Он ушёл вдаль...
XXI
Зашёл я по дороге в наш магазин. Девка-продавщица хамила всем со смаком, за наш счёт самоутверждаясь. Все терпели безропотно — внешне, внутри же — разжигались злобою.
— Я был за границей, — не выдержал некий почтенный муж, — там во всех торговых учреждениях меня с улыбкой встречали.
— Не нравится наш строй, можете убираться!— не растерялась хамоватая девка.
— Почему здесь эту шавку поставили!— и я сорвался, с утра ещё раздражённый.
— А почему вы оскорбляете! Что это такое: шавка!— бросились девке на подмогу горластые её товарки.
— Потому что кроме лая от неё ничего другого не слышно.
Я даже покупать ничего не стал, в бессильном озлоблении — стремительной лёгкой походкой — магазин покинув.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Кто-то мне рассказывал... Франциск Ассизский брёл со своей братией в некий город сырою зимнею ночью. И поучал: если мы обретём все блага мира, достигнем высшей святости, проникнем во все сокровенные тайны бытия, получим дар исцеления и даже воскрешения, научимся вещать на всех языках, обратим в праведность все народы, если сама Истина откроется нам в сиянии своём и мы окажемся достойны лицезреть её — то во всём этом не будет, однако, радости совершенной. Поражённые монахи спросили: в чём же тогда, о брат, заключается радость совершенная? И он отвечал: проникните умом и душою в то, что я вам скажу. Если мы придём сейчас в город и попросимся на ночлег, а нам откажут, вытолкнут взашей и укорят: зачем смущаете вы, бродяги, покой мирных людей, убирайтесь прочь — и если мы безропотно признаем правоту такой укоризны, со смирением и любовью согласимся с прогнавшими нас и, продрогшие, тихо проведём остаток ночи в холоде и голоде — тогда, только тогда, о братья, сойдёт на нас радость совершенная.
Услышав этот рассказ впервые, я признал его за несусветную нелепицу. Ныне же я думаю: прав был тот простодушный проповедник. Только отсутствие гордыни — в большом и в малом — может дать покой душе, а без того покоя — не утешат нас вполне никакие, пусть даже и величайшие утешения. Я знаю это, ибо в себе несу тот разъедающий меня яд. Кажется: десять лет кромешной несвободы — всё бы уже должны выжечь. Нет. Если же так сильна в нас страсть эта гордынная — то где пределы её? Недаром первый гордынец — сатана. Он и всех на свой пагубный позор соблазняет. Оттого нас и малое небрежение со стороны возмущает.
В одном твёрдо убеждён теперь: коли имел бы я хоть малую способность — без раздражённого гонора принять упрёк вот хотя бы той самой хамки-девки, да ещё и правой бы её посчитать... насколько бы счастливее оказался. Да нет во мне такого дара.
... Как будто: что за ничтожность — случайно попавшаяся на пути хамка. Вздор, вздор, разумеется. Но ведь это как та капля, по которой вкус океана познаётся.
XXII
Почему-то в то как раз время мысль меня всякая утомлять скоро стала. Додумывать всё до конца — невподъём. Начнёшь — и тут же: а зачем?
XXIII
Но и делать ничего не хотелось. И не было никаких дел: одни завершены, другие начинать энергии недоставало: летнее безвременье, безлюдье соблазняли к безделью. Даже кто и не в отпуске — даже видимость трудового энтузиазьму создавать не слишком усердствовали.
Решил я взять да и пойти опять на ту выставку авангардистов: позабавиться. Может, и понять чего — чем лукавый не шутит. Он — шутник, лукавый тот господинчик.
Подвал выставочный укрывался в одном из районов новых, и я задумал себя испытать: без провожатых сумею ли его разыскать? Ходил, бродил, смотрел... вот, вроде тут... нет, не то. Как в лесу порою начинает нечистый с пути сбивать, так и здесь. Заблудился под конец — впору на помощь звать. Отчаялся, пошёл куда глаза глядят — чего искал, так и не высмотрел, зато выбрел к дому давнего моего приятеля, сокурсника. Одно недолгое время мы втроём держались: я, Коля Спиридонов и Витя Маслов; потом всё больше отдаляться друг от друга стали, позднее и совсем разошлись. Коля уехал, как сгинул, никаких и вестей не подавал. Я вот — тут, сам с собою, мне от себя потеряться некуда. Маслов же — непонятно, что с ним. Вроде бы и не уезжал никуда, но затаился. Заходил я к нему несколько раз — он после университета на каком-то заводе в какой-то лаборатории химичил, со мною неохотно общался. Дело обычное.
И давно я уж его не видал, а тут случай вывел. Чего ж не зайти? Скорее всего, его и дома-то нет: день ведь.
...Я понял, почувствовал, что меня внимательно рассматривают через глазок в двери, но открывать не спешат. Туда ли я попал? Или приятель мой когдатошний переехал отсюда? Я ещё раз позвонил.
— Ты один?— раздался приглушённый и настороженный голос из-за двери.
— Один,— я плечами пожал от удивления.
Дверь, однако, не торопилась открыться. Я представил, как забавно деформирована моя физиономия в дверном глазке — как в кривом зеркале. Неужели ради этого меня нужно рассматривать столь долго? Иного развлечения нет?
Наконец после долгого щёлканья замков (по всему — нескольких) дверь приоткрылась, Маслов выглянул через узкую щель, посмотрел, посмотрел на меня ещё, дверь вновь прикрыл, цепочку откинул — впустил-таки.
— Входи быстрей!— и моментально дверь захлопнул.
Ради одного такого курьёза зайти стоило.
— Ты чего, боишься что ли кого?— глядел я, как он колдует с замками.
— А разве осторожность может повредить?
Мы прошли в крохотную кухоньку, Маслов поставил чайник.
— Давно я тебя, Витя, не видел. Случайно тут оказался, решил навестить.
— Вот так,— хмуро усмехнулся он.— Хоть пропади, никто и не вспомнит, не хватится.
— Зачем пропадать?
— Пропадают же люди.
— Кто?
— А вот у моих родственников хотя бы. Муж у двоюродной сестры поехал в командировку, в Воронеж, в трест какой-то там, ну не знаю. Вечером вышел с работы, то есть из треста этого, в который поехал, и в гостиницу пошёл. И нет с тех пор нигде.
— Как же так?
— А вот так. Не знаю. В гостиницу, говорят, так и не приходил.
— Скрылся?
— Для чего ему скрываться было, он же не преступник какой.
— А милиция?
— Объявили розыск, да это так просто, ерунда всякая. Для виду. Ничего и не нашли. Ещё хорошо, если просто убили.
— Скажешь! Чего же хорошего?
— То и хорошего. То, что если жив, то уж совсем в ужасных условиях. Страшно даже представить.
Странный выверт совершила, как оказалось, мысль моего однокурсника. Он уверил себя, будто имеются некие тёмные силы, властвующие незримо повсюду. И не какие-то потусторонние, а самые что ни на есть реальные люди, но скрытые, но неизвестные никому, но таящие злое дело в тайной глубине.
— В глубине? Под землёй что ли?
— У тебя, оказывается, тоже стереотипные реакции.
Знал, чем меня уязвить можно: мой гонор и намёка на ординарность тогда не выносил.
— Сам дурак,— ответил я.
— Оригинальный ответ. Вот, между прочим, я думаю, они на то и рассчитывают. То есть что люди вот так и станут думать, если всё рассказать: что это просто ерунда.
— Что именно — “это”?
— Вот ты представь: приходят к тебе некие люди, тебя уводят, и ты исчезаешь.
— Из органов что ли?
— Нет. Неизвестно кто.
— А документы должны же какие-то предъявить.
— Ну, документы!— хмыкнул Маслов.— Вот чайник вскипел. Тебе покрепче налить?
— Ладно, пусть документы липовые. Но кому нужно всё это?.. Хватит, а то чересчур крепко.
— Люблю хороший чай. Сахар вот. Только к чаю ничего у меня нет. Я всегда просто так пью.
— Ладно, ничего.
— А вот сколько по всей стране людей пропадает, как ты думаешь?
— Что я их, считал что ли?
— А вот мне один старик статистику рассказывал. Тысячи. Ну, скажем, часть это просто уголовные преступления. Но ведь не все же. Значит, что-то ещё должно быть.
— И кому это нужно?
— Кому власть нужна.
— И для этого людей воровать?
— А вот ты скажи: что нужно для власти? Это всем ясно: деньги. А для денег? Что-то произвести, чтобы продать было выгодно. Я вот так, например, думаю: а что, наркотики в больших количествах кустарным способом можно изготовить? Нет. Значит, ясно, что нужно какое-то предприятие подпольное. А кто работать будет?
Упоминанию о наркотиках я улыбнулся.
— Наркотики в промышленных масштабах?
— Не только наркотики, мало ли ещё что. Можно и вполне обычное что-то производить. Главное: нужны какие-то подпольные предприятия.
— И этим занимаются какие-то тайные личности?
— Ну а что же, государству что ли подпольные заводы держать? У него такие, обычные есть.
— И кто же эти тёмные люди?
— На то и тёмные, что не знает никто.
— Почему же ты так уверен, если не знаешь ничего наверняка?
— Я их вычислил. Ну вот смотри. Можно сопоставить множество непонятных явлений, совершающихся и у нас, и вообще в мире, о чём газеты пишут, и тогда совершенно ясно, что они просто так, сами по себе, происходить не могут. Значит, за ними есть какая-то тайная сила. Вот отправная точка моих рассуждений.
— Правомерно ли так рассуждать? Мало ли случайностей.
— Ну а разве ты в своей науке поступаешь не так же? Что ты делаешь? Ты наблюдаешь ряд явлений, потом сопоставляешь с другими известными тебе фактами и стараешься свести их в единую логическую систему, а потом её называют законом. Тут что? Чисто рассудочные операции, эмоций тут никаких и быть не может. А вот когда уже вмешиваются эмоции, тогда и начинаются нелепости. Эмоции устанавливают принцип: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ты вот тут хоть лоб себе расшиби, а всё равно ничего не докажешь, он и слушать не станет. Не может быть, и всё. Вот я думаю, они на это и рассчитывают.
— Хорошо. Но ведь если нелегально, то государство должно же пресекать, бороться.
— Государство само по себе абстракция. Дело делают конкретные люди. Ведь очень легко в нужных ключевых местах иметь своих людей. Не надо же так думать, что весь аппарат должен на них работать. Достаточно иметь двух-трёх, но на тех должностях, которые могут регулировать. А людей подкупить или запугать, да мало ли способов, это же несложно, ну сам подумай. Они вполне способны блокировать все подходы к себе.
— Подожди, ну а как же всё это, ну организовано что ли всё?
— Налить ещё?
— Давай.
— А вот представь себе. Где-то, допустим, в Средней Азии, куда и добраться почти невозможно, расположен некий объект. Время от времени в разных местах исчезают люди, которые вскоре оказываются там. Ну что, их доставить что ли так трудно? Доставляют. А потом заставляют там работать. Да их можно и на цепи держать, там же что хочешь с ними делать можно. А что, этими рабами что ли очень дорожить будут? Да кому это нужно? Умрёт, так и выкинем шакалам на съедение. А где-то новый человек пропадает.
Я слушал рассуждения Маслова и, разумеется, понимал всю бессмыслицу таких логических построений, да в том-то и фокус состоял, что логически-то всё неопровержимо было. Как допущение именно — неопровержимо. Всё во мне говорит, что это нелепость, но в сфере абстрактных умствований вполне возможно.
— А как же, по-твоему, похищение само происходит?
Я хоть и не верил ничему, но любопытна мне стала сама система, возникшая путём рассудочных построений Маслова.
— Просто происходит. Я думаю так: имеются какие-то нечто вроде агентов. Намечают подходящих людей. Например, если одинокий, как я. Тогда дольше не хватятся такого человека, значит, следы замести легче. Вот представь: заходит в квартиру слесарь водопровод чинить. Баллончик тебе к носу, и ты в его власти. Выводит тебя, садитесь вместе в машину. Всё.
— Но слесарь же не сам приходит, а по твоему вызову.
— Не всегда. Но даже и по вызову. Перехватить телефонный разговор проще простого. И не обязательно слесарь. Вот кто тебя знает, не исключено, что и ты их человек. Я жалею даже, что тебя впустил.
— Я?!
— Ну а почему нет?
— Но ты же меня знаешь.
— А что тут, собственно, невозможного? Достаточно показать тебе, в каких условиях содержатся рабы, и ты всё сделаешь, чтобы не оказаться среди них.
— Хорошо, они станут меня вербовать, запугивать, но я же и донести могу.
— А где гарантии, что тот человек, к которому ты обратишься, не подкуплен ими? Риск серьёзный.
— Не все же ими куплены, сам говорил.
— А прочие скорее всего не поверят. Да и побоишься ты донести.
— Почему?
— Разве угроза отомстить — пустяк?
— Но меня-то ты же знаешь. Ты же умный человек, чтобы меня без всяких оснований подозревать.
— Именно потому что я умный, я и не могу ни-чего абсолютно непререкаемо утверждать о ком бы то ни было. Предугадать человека нельзя в принципе. Ну, то есть возможно, конечно, предполагать, и эти предположения чаще всего сбываются, но с абсолютной вероятностью нельзя. Сам себя угадать человек не может: такое порой выкинет, что тут же первый и удивится. Любой человек способен на что угодно.
— Если сам утверждаешь, что нельзя ни о чём говорить со стопроцентной уверенностью, то как же сам безапелляционно судишь обо всём этом, ну о тёмных людях твоих?
— Человек непредсказуем, а система вполне. На моей стороне логика. Это она безапелляционна, а не я. Давай рассуждать. Я вот подумал: что может остановить человека от преступления? Совершенно ясно, что он не станет преступником в трёх случаях: если ему этого не нужно, если он боится и если ему совесть не позволит. Теперь смотри: совести у них нет, бояться им тоже нечего, по крайней мере, они себя почти полностью обезопасили. Остаётся одно: необходимость. Конечно, не значит, что они только и делают, что убивают или людей похищают. Нет, только когда есть необходимость. Ещё могут остановить какие-то технические трудности, но не настолько.
Я слушал и всё больше со страхом убеждался, что передо мною сумасшедший, но тут же я в том и сомневаться начинал: безумие есть без-умие, с ума сшествие — Маслов же рассуждал здраво, логически безупречно (так хотя бы казалось мне), а для этого именно ум требуется, а не сшествие с него. Если он и безумен с моей точки зрения, то и я таков же по его-то меркам, с позиции его логики, потому что не могу принять сущую очевидность, каковою его логика ему представляется. И почему моя точка зрения предпочтительнее? То есть для меня-то, без сомнения, предпочтительнее, но это субъективно слишком, а объективно вовсе и не так может статься. Одно лишь внутреннее чувство убеждало меня в моей правоте — почему я и не обиделся на бывшего приятеля, заподозрившего меня в служении злым силам.
— Хорошо,— решил сделать я свой ход.— Но в таком случае и ты можешь меня сейчас убить. Вот яду мне в чай подмешал. Что тебя остановит?
— Логически — ничто. Никто ведь даже не знает, что ты ко мне пришёл.
— Значит, я тоже могу исчезнуть?
— Тут могут быть два варианта. Первое: если ты ко мне не подослан. Тогда зачем мне тебя убивать? У меня нет заводов подпольных. Второе: ты всё-таки подослан. Тогда они знают, что ты у меня, и твоё убийство будет им на руку, если они что-то замышляют против меня.
— Я понимаю: если я начну высказывать сейчас своё несогласие, ты просто выскажешь своё презрение ко мне за мою неспособность принять явную с твоей точки зрения очевидность.
— Презирать? Да зачем же я на это силы стану тратить? Я просто равнодушен ко всякому иному мнению, потому что знаю, что прав... Чай кончился, сейчас новый заварим.
— Да давай в старую заварку дольём.
— Я так низко ещё не опустился.
— Значит, ты считаешь, что прав, думая обо мне как об агенте?
— Я не думаю, что ты агент. Я думаю, что нет никаких неопровержимых доводов против того, что ты можешь быть агентом. Как нет доводов и за. Ты и впрямь мог оказаться случайно возле моего дома. Но мог и получить приказ использовать это как правдоподобную версию.
— Нет, я и вправду случайно.
— Вот это ты обязан утверждать в обоих случаях.
— Логично.
— Потому я и не верю никому, что тут логика.
— Но тебя могут похитить на улице, зачем меня-то подсылать?
Я и сам начал ввязываться в его логику, как в игру, так что у меня стали появляться свои варианты её развития.
— Похищение на улице дело заурядное.
— А ты не думал, что и тебя могут?
— Я никогда никуда не выхожу.
— Сидишь всё время взаперти?
— Тюрьма лучше, чем каторга.
— Но работа?
— Давай свой стакан, ещё налью. Я получил небольшое наследство. При разумной экономии хватит на несколько лет.
— Ты что же, нигде не работаешь?
— Нет.
— Так ведь за тунеядство могут привлечь.
— Я думаю, что это только при столкновении с властями может обнаружиться. Когда тебе нужно от них что-то. Или нарушил что. Вот хоть бы дорогу не там перешёл. Меня когда-то так задержали, денег на штраф не было и документы с собой не носил, так три часа держали в каком-то подвале... кстати, вот и способ захвата на улице... выясняли, куда-то звонили, адрес и место работы тоже. А я теперь что? Ни с кем в контакты не вступаю, дорогу не перехожу. Я как исчез для всех. Вот, кстати, ещё одно доказательство, что исчезновение человека долго остаётся незамеченным.
— А есть-пить?
— Двоюродная сестра раз в неделю.
— Так её тоже могут использовать,— я чуть ли не всерьёз начал играть.
— Могут. Доля риска есть во всём, полной гарантии нет. Но тут наименьший всё-таки риск. Ничего не поделаешь.
— И не скучно так вот в одиночке сидеть?
— Скука есть свойство неразвитой души, пассивное восприятие внешних впечатлений. У меня всё же иной склад внутренней жизни, я слишком активно перерабатываю в себе самые неуловимые для других впечатления. Поэтому как же мне может быть скучно? То, что происходит в моей душе, значительнее и интереснее всей мировой истории. Я даже ропщу порою: зачем мне дано это наказание, что я должен переживать всё слишком глубоко? Зачем не могу ограничиться простыми житейскими радостями? Даже мелкий повод заставляет меня испытывать сильнейшие потрясения. Зачем мне эта способность воспринимать всё слишком многосложно? Зачем мне проникать во всё насквозь? Я не хочу, это наказание моё. Это моё мученье, а я не хочу страдать. Мне и самому лучше бы оказаться ограниченной особью человеческой. Я одинок из-за этого... Только всё-таки в одиночестве есть недоступная никому поэзия. Никто не способен понять и малой доли того, что доступно мне. Поэтому люди только раздражают меня. Скучно не без людей, а среди людей, в толпе. Одиночество в толпе — вот что поистине страшно. Я тебе скажу: все, и ты тоже, не имеете даже права рассуждать о том, что мною давно постигнуто и о чём я ни с кем не стану говорить, потому что вы всё равно не сможете ничего понять, и не догадываетесь даже, что не поймёте никогда, а с умным видом так и будете пороть чепуху, уверять друг друга в своей правоте. И тем вы меня оскорбляете. Я рад, что нахожусь не в вашей суете. Меня оскорбляет всякий, кто может коснуться своим недалёким умишком к тому, что для меня священно и постигнуто глубоко. Когда-то, когда я ещё общался с людьми, я даже нарочно начинал спорить, говоря совсем наоборот самому себе, чтобы только сбить всех с толку и не дать им трепать то, что слишком важно для меня. Нелепо? Теперь я стал спокойнее: пусть говорят, что хотят, я же не знаю этого, потому что не слышу всех ваших разговоров за этими стенами. Я живу в себе. И мне помогает то, что я ничего не делаю.
Я не обижался только потому, что на безумных обижаться неразумно. И всё же попытался продолжить разговор:
— Но без дела, хоть какого, тоже трудно.
— А ты не замечал разве, как развивающаяся привычка к деланию отучает от потребности думания и даже превращает всякую попытку к размышлению в тягость? Это сплошь и рядом.
— Вот тут ты, пожалуй, прав.
— Я безусловно прав, а не “пожалуй”. Тем-то и опасны тунеядцы: безделие развивает привычку к размышлениям.
— Все тунеядцы обречены стать великими мыслителями?
— Плоско. Разве всякий берущий в руки краски непременно станет Рафаэлем? Но додуматься можно мало ли до чего. Это ещё одна причина похитить меня: они не могут не понять, что я могу их вычислить. Бездельник, проводящий время в одиночестве,— поистине опасен для многих: он мыслит.
— Но если тебя захотят похитить, то войти в квартиру можно и силой, — я уже всерьёз рассуждал в рамках логической системы Маслова.
— Я укрепил входную дверь.
— При нынешней-то технической оснащённости!
— Придётся и сопротивляться. Шум может привлечь внимание, соседи вызовут милицию.
— Милицию можно подкупить.
— Есть шанс, что не смогут.
— Перережут телефоны, чтобы нельзя было вызвать.
— Живьём не дамся. У меня седьмой этаж. Так им и передай, если они тебя на разведку прислали. Скажи: от изуродованного тела не много окажется пользы.
— Какой пользы?
— Есть ведь ещё одна причина похищения. Сейчас распространяется трансплантация органов. Нужны доноры. Даже если я просто покончу с собой, моё тело можно будет использовать. Частично хотя бы.
Маслов внимательно посмотрел на меня и засмеялся:
— Я всё предусмотрел. Если они узнают это, то, может быть, поймут, что меня лучше не трогать.
— Ты уверен, что поймут?
— Зачем же я так долго тебе всё рассказываю? Чтобы ты смог передать. Скажи им, что я доносить не собираюсь, это пусть их не беспокоит, но кое-какие меры на случай похищения предпринял в этом плане. Мне нужно только одно: чтобы меня не трогали.
— Скажи: ты уверен во всех своих подозрениях?
— Я тоже знаю сомнения. То, что вчера казалось умным, даже гениальным, что восхищало меня самого и заставляло гордиться, сегодня, наоборот, кажется глупым, и от воспоминания обо всём, что думал прежде, становится стыдно перед самим собою. Вот что тяжело. А потом опять думаешь: вроде бы и ничего. Даже в высшей степени глубоко. Так и переходишь из крайности в крайность. Одиночество тоже несладкая вещь. Вот если бы я был художником, я бы так нарисовал: пожилая такая женщина, почти старушка, сама в старомодном нелепом пальто, и ведёт по улице на розовой ленточке кошку, а ленточка завязана вокруг шеи и пышным таким бантом. И подпись: “Одиночество”. Хотя под каноны соцреализма это не подходит. Это жизнь. Я такую женщину видел однажды возле нашего дома, когда ещё выходил. Может, и сейчас ходит. Не знаю. Но кто поймёт эту поэзию одиночества? Стадное чувство внушает к нему отвращение.
— Тебе никогда не бывает жаль того, что ты оставил там, за пределами своей конуры?
— Жаль? Жаль только уходящего времени. Пространство для меня безразлично. Есть такое слово: ностальгия. Тоска по родине. Сейчас всё чаще употребляют это слово по отношению к прошлому. Ностальгия по молодости. Время ведь более всего включено в понятие родины. А пространство абсурдно.
— Я вот тут был на одной авангардистской выставке... но тебе это трудно представить.
— Наоборот. Абсурдистское искажение мира? Не более чем результат дьявольской иронии. У нас нынче полсвета заражено иронией. Ирония же есть искажение реальности по определению. А ведь всё-таки не случайно Пушкин сказал, слушая “Мёртвые души”, что скучно. Искажение скучно. Отсюда и кризис у Гоголя: как ощущение неистинности иронического искажения жизни. Просто гоголевская высота прозрения мало кому доступна. Важнее другое: кому выгодно.
— Кому же?
—Им. Тёмным. Им необходимо, чтобы все признали искажённую картину мира и тем покорнее могли бы стать.
— Подожди. Но ведь и ты сказал, что бытие абсурдно.
— Я сказал, что абсурдно пространство. Ты невнимателен. Вернее, просто не имеешь привычки к сосредоточению. Но дело не в этом. Между моим и их утверждением абсурдности великая разница. Они дают свой вывод в результате искажения мира намеренного. Я — на основе трезвого анализа реальности. Поэтому, кстати, их искажения ещё можно как-то терпеть: таится на дне мыслишка, что всё то вздор и ничто ещё не потеряно. Мой трезвый анализ не оставляет никаких сомнений. Мир погибнет, и погубят его тёмные люди, которые распространят свою систему на всё это абсурдное пространство. Понять это — нужна сила неординарная. Ещё налить чаю?
— Нет. Да и хватит вообще этих разговоров.
Он засмеялся зло:
— Я знаю: ты меня тоже сумасшедшим считаешь. Какие-нибудь самоуверенные и бездарные эскулапишки — к ним только в руки попади и впрямь залечат до полнейшего безумия. Только я пока в своём уме. Вот когда ты это поймёшь, тогда можешь поздравить себя с тем, что наконец поумнел.
— Постараюсь.
— Постарайся... И вот ещё что. Ко мне больше не приходи. Другой раз не открою. Они небось думают, что доверие моё таким дешёвеньким способом завоевать можно: один раз, мол, обошлось, так теперь к нему легко проникнуть можно будет. Не пущу! Вероятно, потому и откровенен был, что знал: видимся мы в последний раз. Больше никогда. Запомни: ни-ко-гда.
Когда я выходил от него, он приоткрыл дверь еле-еле, так что мне пришлось протискиваться в узкую щель. За моей спиной зазвучали закрывающиеся замки.
И вот тут я — каким-то злым всколыхнувшимся чувством вдохновлённый — крикнул ему через дверь:
— А главный свой секрет выболтал: двоюродная сестра приходит!
Знаю: я обрёк его на тягчайшую муку. Зачем? Ведь и впрямь не увидимся больше никогда.
Может быть, и хорошо: это — никогда?
XXIV. XXV
Во сне мне привиделось, будто я попал в некую незнакомую, а главное — чуждую мне страну: всем я чужд, и все мне чужды, страшны для меня, и все — злые люди. Главное качество их — злоба. Главное занятие — они танцуют. Они всё время танцуют и зло веселятся. И убивают всех. Хотя никто из них не совершил именно на моих глазах ни одного убийства, но я-то хорошо знаю, что они убийцы, и всех убивают и будут убивать. Холодная жёсткая музыка звучит всюду, и все танцуют, и все — убийцы. И у каждого — грудь в орденах, и даже как будто все одеты в какие-то мундиры. А на мундирах — ордена разноцветные. Я боюсь людей в орденах. И думаю: хоть бы и мне один какой орден. Но перед собою стыдно, потому что знаю: если я возьму орден, то и сам убийцей стану, хотя и это не спасёт меня, если другие захотят меня убить. Потому что все убийцы. И все танцуют злые танцы под жестяную музыку.
Телефон разбудил меня, как будильник под ухом зазвонил. Я слушаю — молчание.
— Будете всё-таки говорить?— раздражённо спрашиваю я.
— Конечно, нет,— отвечает некто невыразимо гнусным голосом и вешает трубку.
Кто это? Зачем? Страх, порождённый сном, как будто усилился от бессмысленного звонка. Кто это, зачем? Я плохо соображал, так как не проснулся ещё окончательно, и в тягостно-дремотном состоянии сознания моего одна лишь мерцающая мысль тянулась: кто-то злой и меня ненавидящий хочет мне недобра и пугает. Они просто хотят узнать, дома ли я. А теперь прийдут и меня схватят. Зачем схватят? Чтобы убить? Нет. Но — страшно. Вон ведь что найти могут: склянку, мною для шефа приготовленную. Но шеф в отъезде, в Англии на симпозиуме. Ждать надо. Зачем ждать? Мария Петровна же дома. Самой ей отдать. Сейчас же и отдать. Не надо, чтобы дома хранить.
Даже окончательно очнувшись и сознав абсурдность своих страхов, которые всё же таились где-то во мне, даже несколько иронически оценив их, я решил, однако, сделать, что хотел: принести “лекарство” супруге Петельского — у неё в том нужда, в конце концов, а не у него. Признаться, некоторая деликатность ситуации требовала соблюдения определённых условностей — передача зелья дурманного именно через шефа, молчаливо и как бы ненароком. С Марией же Петровной, встречаясь, мы изображали взаимно как бы совершеннейшую невозмутимость. И полное как будто неведение: то есть я, если и изготовлял что-то, как бы не знал, для кого сие, а она, если и пользовалась, как бы не ведала, кто сие готовит. И я ничего, и она ничего.
Хватит играть в дурацкие игры, решил я, пойду и отдам прямо из рук в руки. Вероятно, действовала на меня остаточная мутность рассудка, какая-то сна частица: иначе недостойное желание совершить столь бестактный поступок меня бы не одурманило.
Когда я вёз уже свою склянку, в тесноте автобусной стал я свидетелем диковатого разговора. Некий очень весёлый с виду мужик втолковывал соседу, сжатому со всех сторон:
—… потому что ты мальчик!
— Я мужчина,— возражал тот, и впрямь довольно немолодой годами.
— Нет, ты мальчик. Мужчина в автобусе не ездит: его в машине возят. А тебя давят.
— Нет, у меня усы растут,— привёл самый свой решительный аргумент заподозренный в малолетстве.
— Ты всё равно мальчик, потому что тебя давят,— веселился от души обвинитель.
— Нет, не давят.
— Да! Не давят! А вот из-за таких, как ты, и нас давят.
Усатый вдруг с радостным самодовольством нашёлся:
— Чтоб в автобусе и не давили!
Развесельчак пуще рассмеялся:
— Ну вот!
— А ты что?
— А что я? Мы люди подневольные, нам теперь только смотреть, где бы куму прижать,— он подмигнул окружающим.
Тут автобусная круговерть расстроила наше случайное соседство, а вскоре мы и вообще разошлись насовсем.
Вот и я мальчик, тоже мальчик, которого давят и гоняют, куда захотят, думал я, угнетённый подслушанным разговором. Всё воображаем невесть что про себя, а вот она — трезвая повседневность.
Должно признать, что, несмотря на свои четверть с небольшим века, я оставался наивным тепличным растением и плохо знал то, что называют в повседневности — жизнью, и в том упрекавший меня Шерман был, несомненно, прав. Не то чтобы я полным несмышлёнышем оставался — жил-то я не совсем отделённым от житейской суетности, но всегда старательно пытался отгородиться от неё, не хотел и знать, что там, за пределами моих забот и интересов, создавая для себя такие условия, чтобы не видно мне даже было: что же творится в окружающей обыдённости. Не хотел, ибо: стоило коснуться ненароком этой стороны нашего бытия, как тут же всё в мрачном свете предо мною представало.
Эта-то жизнь и отомстила мне безжалостно, ввергнув туда, где от неё уже не отгородиться было.
Однако: какой пустяк может порою внутри человека всё перевернуть. Очутившись там, в зоне, я долго существовал в заторможенном состоянии ума и души, но как будто под какой-то толстой коркой таилось во мне — неверие (вопреки очевидности) во всё совершившееся со мною, неверие и надежда: должно же всё это наваждение исчезнуть, произойдёт же нечто, пусть даже и чудо, что высвободит меня из сковывающего недоумения. И вот заболел у меня однажды зуб, а некий вовсе беззлобный товарищ мой по неволе спросил с долей сочувствия в голосе:
— Чо, сильно болит?
— Да не так чтобы.
— Это просто. Средство есть. Один палец на больной зуб положи, а другой в жопу засунь. Через минуту поменяй местами. И так пять раз. Как рукой снимет.
Гораздо после эта милая шутка бесила меня при воспоминании больше, чем даже вначале.
И понял я, как гнойник внутренний прорвался, понял, что нечего мне ждать от внешнего мира. Ничего он мне не даст и дать не сможет. А те иллюзии, какие я в себе почти три десятка лет тешил — кто же виноват в их существовании, кроме меня самого... И стал я без иллюзий жить. Но где было отыскать внутреннюю опору для себя?
Хаос, как вспомню, бессистемный хаос идей, мнений, фактов — устремился (и устремляется) на меня отовсюду и ото всех — и смешалось во мне без смысла виденное, слышанное и пережитое мною, а где истина — как разобрать? Мрак был для меня повсюду, потому что во мне самом был мрак.
Но вот: с каким же усердием сам-то я омрачал свою собственную душу, добровольно и с удовольствием. Хотя и сам от себя отвращался порою.
“Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый” — вертелась у меня в голове музыкальная фраза, когда я подходил к дому шефа с дурманной склянкой в кармане. Мальчик. Бегаю вот по чужой указке. Матвеичу зелье фабрикую. По ростовым делам хлопочу. На что мне сие?
И тут увидел я впереди Роста: он как раз выходил из подъезда, где жил Петельский. Что ему было там делать, если шеф в отбытии? Впрочем, мало ли какая надобность случается. Хотел я его окликнуть, но не стал, а он меня не заметил.
Мария Петровна открыла мне дверь и чуть не вскрикнула: увидеть меня стало для неё тяжкой неожиданностью. Она, мрачно нахмурившись, всё же пропустила меня. Вид её привёл меня в смущение. Прежде она представала передо мной с величавым достоинством и в строгой простоте всего облика своего. Теперь на ней был лишь помятый халат, волосы висели космами, во взгляде мерещились мне попеременно — растерянность, злоба, стыд и насмешка. Я молча вынул свою склянку и протянул ей. Она вдруг подозрительно усмехнулась:
— Вы что, нарочно подгадали?
Недавнее пребывание здесь Роста, сам вид её — не могли не навести на уверенные подозрения, которым в то же время трудно было поддаться окончательно.
— Я случайно,— робко возразил я на её вопрос.
— Случайно!— засмеялась она нервно.— Конечно, что вы могли знать. Вы встретили там Ростислава? Как же он вас допустил сюда? Или уж он совсем...
— Он меня не видел.
— Значит, случайно. Но разве нельзя было подождать Михаила Матвеевича?
Я растерялся, не зная, как объяснить свой приход. Сказать, что страшный сон увидел,— совсем уж нелепо.
— Ладно, раз уж так случилось, может, кофе хотите?— она стала говорить совершенно спокойно.
— Нет, я пойду,— отказался я от несомненно странного предложения.
— Конечно, конечно!— со злою насмешкой поддакнула она.
— Простите, Мария Петровна...— не зная, что сказать, промямлил я.
— Милый мальчик, ваше смущение говорит лишь об одном: о неразвитости вашего ума. Учитесь у Ростислава.
— Чему?
— Запомните истину: каждый только для себя. Бескорыстного чувства не бывает, кроме, может, материнского. Человек одинок и никому не нужен. А боженьки, чем кое-кто способен утешаться, никакого нет. Или есть? А?
— Не знаю.
— Даже и тут смелости нет признаться,— она хохотнула с открытой издёвкой.— Следуете каким-то запретам, придуманным неизвестно кем.
Я слушал и с трудом вникал в смысл её слов. Моё полудремотное состояние как будто вернулось ко мне.
— Мальчик!— продолжала она с тупым отчаянием.— Можешь ли ты понять, какое это для женщины острое наслаждение порою — подчинить себя подонку.
Её глаза презрительно заблестели.
— А ты не знал, не догадывался, что он подонок? Как же! Сам-то чистенький? А с Ириной как — ещё не добился успеха?
“Выходит, они с Ростом обсуждали всё”,— с удивлением подумал я.
— Пока нет,— я нагло взглянул на неё.— Но вот сейчас пойду и добьюсь.
Она стала хохотать, хохотать, весело хохотать, вовсе без истерики, а я бежал прочь.
Что за неправдоподобно отвратительная сцена!
После я несколько раз приходил к шефу, мы встречались с Марией Петровной, будто никогда и не случилось между нами ничего. Лишь в глаза друг другу остерегались взглянуть. Она всегда оставалась сдержанно корректна со мною и строго сосредоточена в себе. Наркотики же я передавал всегда только через Матвеича, а о том разе он, кажется, и не узнал ничего. С Ростом мы и вообще ни о чём полслова не сказали, но иногда по обращённому ко мне взгляду его я начинал подозревать, что ему известно всё.
Но это уже потом, в те же минуты я был оглушён, и настолько, что даже не вполне ощущал свою ошеломлённость. После визита в дом Петельского я собирался вернуться домой, но вдруг решил отправиться к Ирине, правда, вовсе без каких-то особых намерений, о которых я в кураже заявил Марии Петровне — просто окончательно разделаться со всеми хлопотами за Роста, начавши ощущать какую-то свою неполноценность в роли мальчика на побегушках при нём.
Зачем мне вся житейская сия грязь? Я не хочу ни видеть, ни знать ничего. У меня — своё. Мне своих забот достаточно. Зачем осквернять всем подобным свою жизнь?
Ирина, не ожидавшая никого, встретила меня в одном халатике лёгком. “Что за всеобщая халатность?” Халат был очень короток, почти полностью открывал её красивые ноги.
— Слушай, Ирина,— начал я без всяких предисловий,— Рост мерзавец и подонок. Полчаса назад я услышал такую его характеристику от хорошо знающего его человека. Ничего не выйдет у тебя с ним. Возвращайся к мужу, если он тебя примет, и прекрати всю эту комедию.
— Комедию?
— Комедию,— подтвердил я.— Всё вокруг сплошная комедия. Мысль пошлая, но верная.
— Это он поручил сказать?
— Это я и без него знаю.
— Успел жизнь изучить? Умник.
Я смотрел на неё — и подумал, что под халатиком, пожалуй, и нет ничего. Соблазнительна она была в тот момент. Тон же презрительного превосходства, которым она заговорила со мною, раздразнил меня мгновенно: захотелось унизить её, наказать за пренебрежение, выказанное ко мне явно.
“А может, они о том и мечтают некоторые, чтобы их, растоптав гордость, силою брали?” Никогда ничего подобного не испытывал я — так не сыграть ли теперь роль негодяя, оскорбляющего робкую невинность? Всё надо узнать, всё перепробовать (лукавая мысль, и опасная отчасти: не обо всём, что мне пережить довелось, я мечтать бы решился). Я схватил Ирину грубо, повалился с нею на диван и придавил сверху своим телом. Она отбивалась молча, колотила меня по голове, по спине, однако удары лишь придавали мне яростной силы. Но сопротивление женщины создавало и значительные неудобства: халат на ней я распахнул легко, но надо было ещё расстегнуть и стащить с себя брюки, а на это у меня была только левая рука, правой же, обхватив свою жертву, я прижимал её к себе, помогая почти всё время и левой рукой тоже, так что долго пришлось провозиться. Но лишь только я справился со своими штанами, как тут же почувствовал, что сопротивления мне больше нет, даже наоборот: возникает лёгкое встречное движение. “Ах вот как, все вы такие”,— злобно подумал я и со злобою же овладел лежавшим подо мною телом. Мне почему-то вообразилось, что я наставляю рога Росту, и это доставляло мне особую радость, и радость обладания усиливалась тем, что женщина предавалась мне столь же упоённо, как прежде, вероятно, ему. Я так и не понял в результате: изнасиловал ли я её или нет.
Помню, что меня тяготил стыд из-за того, что надо было вставать со спущенными до колен брюками, натягивая их наспех. Впрочем, оба мы имели вид омерзительный. И оба не могли взглянуть друг на друга. Я бежал от неё — ощущая в помутнённой душе собственное своё безчестие.
На улице, возле её дома, тарахтела машинка, подстригающая газон. От скошенной травы пахнуло запахом свежести. Странно: этот запах совершенно не похож на аромат свежескошенного сена.
Тоска перехватила дыхание. Захотелось исчезнуть от самого себя. Или вообще не жить.
…………………………………………………………………………..
Одно лишь и утешало: ничего подобного случиться не могло. Потому что в это самое время я посылал Колю Спиридонова за чайниками к истукану-сидельцу.
XXVI
Мальчишки запустили бумажного змея. Змей поднялся высоко, до самых облаков, и рвался всё выше и выше. Но ему мешала верёвка, за которую его держали. Если бы не верёвка, думал змей, я мог бы улететь за облака. И он попросил пролетавших мимо птиц разорвать своими клювами сдерживающую его верёвку. Но когда она была разорвана, змей не мог уже удерживаться на воздушных волнах и упал на землю.
XXVII
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Назаров остановился, порылся в карманах и, доставши какую-то мелочь, вложил её в протянутую оборванцем руку.
— Ты всем нищим подаёшь?— спросил я.
— Кто просит; если деньги есть.
— Работать не хотят, лодыря гоняют, а ты потакаешь.
— Откуда нам знать. Да и само — руку протянуть — тяжкий труд. Сколько в себе преодолеть нужно.
— Чего там преодолевать! Притерпелись до безчувствия, даже если когда и было что.
— Тем более надо пожалеть. Безчувствие — страшно.
— Откуда нам знать,— передразнил я его интонацию.
— Не знать, значит и не судить. Просит — дай или не давай. Остальное не твоё дело. Мне отмщение, Аз воздам.
— Как же, как же, “Анну Каренину” читывали, читывали.
А во мне не безчувствие?
Весна всё как будто примеривалась и никак не решалась явить себя всерьёз. Конец апреля был такой же серый, сырой и холодный, как и начало. Я к тому притерпелся, впрочем, и обратил внимание на холод лишь после того, как увидел возле дома Назарова стоявшего в явном ожидании продрогшего бородатого субъекта в странном синем балахоне.
— Знакомьтесь,— сказал Саша.— Се человек Авдий. Расстриженный семинарист, подвергнутый гонениям за впадение в вольномыслие и ересь. А это Андрей Михайлович. Мы вместе работаем.
— Семинарист,— пробормотал я вполголоса,— стало быть, мракобес.
Есть у меня дурная привычка такая — воспроизводить пустые формулы шаблонные, вовсе не подразумевая за ними никакого смысла. Однако человек Авдий нахмурился.
— Я не вовремя? — спросил он, глядя куда-то в землю.
— Ты, Авдий, не обижайся,— я принял свой обычный с незнакомыми людьми безцеремонный тон.— Я неверующий, но ищущий. Кто знает, может быть, именно ты сможешь открыть мне то, что я пока не обрёл в своих исканиях.
Мы поднялись к Саше, но Авдий не оставил своей угрюмости, и мне не совсем ясно было: то ли он в гордыне замкнулся, то ли сосредоточен в себе безмерно, так что не всегда и не сразу может высвободить внимание для внешнего общения.
Авдий слишком замёрз в своей плохонькой одежонке: под хламидой у него обнаружился заношенный свитерок из фальшивой шерсти — в таком не очень согреешься на сыром ветру. Увидев, что гость всё никак не может унять зябкую дрожь, Саша поспешил поставить чайник.
— Ты ведь тоже не нашёл, очевидно, точки опоры, если тебя выперли из твоего заведения?
— Опора в Боге. Разве можно усомниться в этом?
— Да, но если я не знаю Бога, как мне придти к Нему?
— Через покаяние и любовь. В покаянии мы можем обрести подлинную человеческую суть. Через любовь Бог являет Себя нам, даруя высшее счастье бытия.
— А кроме общих-то слов ты чего-нибудь умеешь говорить? Меня на этой мякине не проведёшь. Я ведь и впрямь ищу, а не в слова играю. Что значит — подлинная человеческая суть?
— Она в стремлении к Богу через любовь и возвышение собственного духа.
— Это, конечно, хорошо, хотя и тоже несколько неопределённо. Но вдруг Бога нет?
— Для кого есть, для кого нет. Зависит от веры.
— Саша!— закричал я в восторге.— Ты слышал, что говорит божий человек Авдий?
Саша, занятый хлопотами на кухне, заглянул к нам в комнату.
— Чего ты кричишь?
— Что он говорит! Бог есть только для того, кто в Него верит! А это значит, что Бога нет.
Саша улыбнулся и снова ушёл на кухню.
— Но ведь Бог,— я чуть ли не вразумлять расстригу-семинариста принялся,— если существует, то существует независимо от веры в Него, существует вне нашего сознания.
— Вне нашего сознания Бога нет.
— Саша! — закричал я опять.— Бога нет!
— Нет вне нашего сознания, — опустив очи долу поправил Авдий.
— Так ведь наше сознание только до тех пор, пока живём. Помрём — исчезнет сознание. Исчезнет и Бог? Теперь мне понятно, что тебя турнули верно. Религия хотя бы обещает мне безсмертие, ибо утверждает существование Бога вне меня и надо мной.
— Бог как высшее мерило совести и милосердия над нами пребывает.
— А вот это ты брось. Как же надо мной, если не вне сознания? Просто некая моральная норма, не более?
— В сознании и душе ты можешь создать идеал, который сам же поставишь над собою. В этом я вижу свою цель — найти Бога, соответствующего современным потребностям человека, его души. Традиционные религии безнадежно устарели. Человеческому духу нужно предоставить свободу в познании Бога как высшей сути собственного бытия.
Он говорил, как бы вслушиваясь в себя и открывая то, что является ему из глубины его. Я же искренне забавлялся его речами.
— Да ты атеист, божий человек! И не оригинален. Бог, по-твоему, не там, в небе, а тут, в каждом человеке, и нигде больше? Но под этим-то каждый марксист подпишется. Это уже не Бог, а простенькая метафора. Метафорическое обозначение некой моральной нормы, выработанной собственным сознанием для собственного же потребления.
— Не потребления, а потребности.
— Пусть. Пусть даже человек так устроен, что у него потребность высшая имеется. Но ведь у него же и низменная потребность хоть одна, да есть же. У него рассудок. Они просто возьмут и подкорректируют этого собственного сотворённого человеком Бога, приспособят себе на ублажение. Тут и свободы никакой быть не может. Пока человек замкнут в себе, он всегда рискует впасть в соблазн внутреннего рабства у самого же себя. Свобода истинна лишь если есть нечто высшее вне человека. Я сомневаюсь, существует ли это Нечто. Но что оно должно пребывать вне нас — это я хотя бы теоретически признаю. Знаешь, Авдей, я тебе сейчас выведу всё, к чему ты стремишься, быть может, и подсознательно. Если ты считаешь, что Бог только в сознании каждого, то значит у всех свой не Бог, а божок. И эти божки, то есть идолы по сути, конечно, не могут совпадать между собой: хоть в чём-то, да различаются. Этакий религиозный плюрализм. Не ново, между прочим. Весьма старо. Значит, в поисках своих новой религии, нового современного Бога, ты сможешь предложить не истину вообще, как она в религиозных догматах утверждена, а только такую истину, как ты её понимаешь. Догматы ты, разумеется должен отвергнуть. Так? Ты просто в гордыне своей задумал себя со своею истиной надо всеми поставить. Вот и вся твоя тайна. Но твоя-то истина, субъективная истинка, может быть и не принята другими. Каждый начнёт создавать себе божка по собственному вкусу и усмотрению, а поскольку не все чисты духом, то иные божки окажутся весьма сомнительного свойства. И что выйдет? Как только ты начнёшь проповедовать своего божка, то те, кому это не понравится, потому что нарушает какие-то там их личные интересы, просто вышвырнут тебя из окошка. Хорошо, если с первого этажа, а ну как с десятого?
— Я готов пострадать за истину. Но я верю, что многие люди последуют моему призыву. В этом я вижу цель своего существования.
— Браво!— закричал я в восторге.— Сам всё рассекретил! Хочешь некую религию основать, а сам — пророком её! Недаром ты и обличье себе, подобное Христу, подобрал. Тоже через страдания утвердиться возжелал. Мы всё на новизну претендуем, а средства двухтысячелетней давности. Но неужели не понимаешь простенькой вещи: ежели тебя даже и распнут где-нибудь поклонники иного божка, от твоего отличного, то это останется лишь в милицейских протоколах эпизодом местной уголовной хроники, но отнюдь не актом утверждения новой веры. Христос всё-таки... повторяю, я отношусь к этому лишь как к легенде, но пусть и так... Христос всё-таки во исполнение воли Отца Всевышнего, вне сознания человеческого пребывающего и сознанием до конца не могущего быть постигнутым,— вот ради чего страдал. А ты погибнешь за измышления собственного умишки. Разница.
Я ликовал. Саша, который давно стоял возле нас, но всё не мог вставить слова в мой чрезмерно эмоциональный монолог, наконец сумел улучить момент:
— Чай давно готов, пошли на кухню.
Авдий хмуро поднялся и двинулся за нами следом.
— Я готов был обидеться на вас,— сказал он, обхватив ладонями горячий стакан и стараясь перебороть свою озяблость, всё никак не оставляющую его.— Но я обязан пересилить себя.
— Ещё бы!— подхватил я.— Ежели любовь сближает нас с Богом, хотя и не ясно же, что это такое по-твоему, то обида любовь уменьшает и от Бога отдаляет. Так что хочешь-не хочешь, а обязан не обижаться. Да и несовместима со званием пророка она, обида. Тут уж нонсенс совершеннейший, ежели апостол — и вдруг обидеться изволил. Смех. Назвался груздём, не говори, что не дюж. Крепись и самосовершенствуйся. Вот и случай к тому. А мне себя сдерживать нужды нет. Можешь даже попытаться переубедить меня, в свою веру обратить. Только сообщая свою истину, помни, что у меня в моём сознании своя имеется, и отличная от твоей. Учитывай сие. Живи в диалоге.
— Нет,— упрямо мотнул он головой.— Нужно просто говорить истину.
— Не пытаясь даже представить себе, как я её восприму?
— Главное: сказать истину.
— Вот у нас в своё время в Институте, когда я ещё до тюрьмы работал... я ведь в тюрьме сидел десять лет, имейте в виду, виды видывал... так вот тогда тоже вышел некий умник на трибуну и заявляет: сейчас возвещу вам истину!— я повернулся к Саше, который лишь молча слушал нашу перепалку.— Все уши развесили. Он и начал: блаженны нищие духом... И что? Дружно обсмеяли и с трибуны согнали. Оно, может, то и истина, да надо же соображать: кому, и когда, и как, и что говорить.
— Резонно,— согласился Саша.
— А знаешь, Авдей, где ты слабину дал? Тут я за версту чую. Гордыня в тебе. Отсюда и все претензии твои. Верно, тебе про то говорили те, кто тебя из семинарии турнул, но ты так той гордыней пропитался, что вряд ли и понял. К слову, показательный пример: тебе говорят дело, а ты не слышишь. Возомнил, что мудрее твоих доморощенных домыслов и нет ничего.
Авдий молчал, сидя в обнимку со своим стаканом.
— Вот от общего знакомого нашего,— я кивнул на Сашу,— узнал я, что великие христианские учители и проповедники, отцы Церкви, вначале от мира уходили, много лет в уединенном созерцании пребывали, и потом только учить начинали. Даже Христос, Сын Божий, сорок дней в пустыне постился, искушения преодолевал. А ты, сопляк, долго ли соблазны в себе одолевал? На первом же и сломался, банальным тщеславием приболел. Как ты такую наглость заимел: отвергать то, что великими мудрецами выработано было? То, что давалось людям в трудах великих и муках,— да чтоб такой недомерок мог бы с ходу опровергнуть и своё дать. Одна срамота выйдет, не смеши людей. Не тому, кто таблицу умножения едва осилил, опровергать формулы высшей математики. Я тебе скажу, кто ты. Либо нахал, либо недоумок. И заранее тебе полный конфуз во всём предрекаю, даже если и замочат тебя ненароком.
Авдий, видно было, испытывал сильную внутреннюю борьбу с недобрыми чувствами ко мне. А я так ведь и нарочно его дразнил.
— Неужели мы не можем,— решился он заговорить,— не можем добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Не может быть учения, которое познало бы истину до конца. Если так, это мёртвое учение.
— Ты не прав, Авдий, догматы христианства были выработаны не в добиблейские времена. Зачем искажать историю Церкви?— возразил Назаров.
— Великолепно!— обрадовался я.— Так ты даже историю религии не знаешь, семинарист недоученный. Какое же право ты судить имеешь? Но для меня это даже и не важно, когда те истины появились. Они ведь от Бога даны, и что же ты к Его словам добавить дерзнёшь? Впрочем, забыл: Бог в тебе только и сидит. Одного тогда не пойму: как ты хочешь за Бога жизнь отдать? Ведь Он же исчезнет с исчезновением твоего сознания — так что твоя жертва обернётся лишь убийством Бога. Сознаёшь, куда тебя гордыня-то завела?
— Как бы тебе самому в проповедниках не оказаться,— усмехнулся Саша.
— Нет. Я ведь на всё это со стороны взираю как на логическую систему. И вижу, где он против простейшей логики врёт. А тут не логика — тут вера нужна. Нет у меня веры. Так ведь вот и у него, у отставного семинариста вот у этого, и у него её нет. А он сознаться боится, самому себе боится прежде всего, и выдумывает всякий вздор. Умствует от гордыни, а данных для умствования маловато. Ты меня прости, Авдей, но обижаться ты имеешь право, если для тебя всё это лишь игра, забава. А коли ты и впрямь истины взыскуешь, то самые жестокие вещи должен уметь выслушивать, иначе грош тебе цена со всеми твоими исканиями. Но вообще я бы тебе посоветовал: найди себе бабу хорошую, семью заведи, сиди и не рыпайся. Хочешь же в пророки податься — посиди в пустыне лет двадцать, может, чего-нибудь и высидишь. Пока же тебе нечего людям сказать. А я тебя могу в рабство взять, так что и не пикнешь.
Авдий вздрогнул и посмотрел, наконец-то, мне в глаза с недоумением, я засмеялся и с жестоким презрением принуждал его не отрываясь смотреть и смотреть, хотя это доставляло ему внутреннюю муку.
— А хочешь, сявка, я сейчас здесь в кастрюле такое зелье сварю, что ты только попробуешь — и тебя от него за уши не оттащишь. А потом поговорим об истине.
— Почему вы так уверены в моей слабости?
— Потому что ты побоишься даже первый опыт сделать. Кстати, правильно. Никогда не пытайся.
— Не побоюсь.
— Это в тебе уже отчаяние заговорило. Бойся. Я тоже боюсь. Потому ничего и варить не стану. Да и на другой срок не хочу… Нет, Авдюха, прав был святой Франциск: когда гонор свой сумеем одолеть, тогда и будет у нас радость совершенная. С какой стороны не подойди, а вот она, истина.
— Но я не могу удалиться от мира, это было бы предательством его,— в голосе Авдия ощутилась внутренняя твёрдость, им вновь обретённая.— Мир гибнет от насилия, разврата, преступлений, надо спешить спасать его.
— Ещё один спаситель выискался. Да всё равно не спасёшь,— возразил я равнодушно.
— Но мой Бог, который во мне и над которым вы так зло посмеялись, велит мне бороться, несмотря ни на что, не слушая лукавых доводов рассудка.
— Твоё дело, твоя печаль. Но ныне человечество, хоть и боится признаться себе в том, охвачено апокалиптическими предчувствиями, и не зря ведь.
— Нет,— горячо и убеждённо начал говорить Авдий.— Видимое несовершенство мира лишь обманчивая иллюзорность, и она не должна сбивать нас с толку. Не это определяет жизнь. В человеке заложено стремление к самосовершенствованию духа. Ведь казалось бы: сколь ничтожны люди, сколько низостей и злодеяний несут они в себе, и среди всего этого отврата и мерзостей откуда-то вдруг — святые, пророки, прорывы духа. В конце истории всё человечество пришествует, в высокой праведности, ко Христу.
— Ха! У всех настолько разное понимание совершенства, что сойдутся ли они между собою, вот вопрос вопросов.
— А совесть?!
— Что в лоб, что по лбу. Если Бог вне нас, то совесть может быть выверена по Нему. А если по-твоему, то и совестей может быть сколько угодно. Помнится, один молодой человек старуху по совести топором по темечку тюкнул. Если счесть, что критерия истины вне твоего сознания нет, то всегда себя можно правым счесть. Теория, как видим, ещё и удобная. На потребу себе. Не себя по Богу поверять, а Бога по себе выстраивать. Ко всему прочему это и людей всех разъединит окончательно.
— Нет, нет, нет,— убеждённо повторил Авдий.— Я докажу, что Бог именно не вне сознания.
— Какие же могут быть доказательства там, где вера?— перебил я его, но он не слушал даже.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
XXVIII
А ведь сумел гордынец этот, сам не подозревая, и мое уязвимое место мне указать. Я в нём себя увидел.
Как трудно это: свой грех разглядеть — где добродетель мнится.
И как страшно это: если грех за добродетель почитать.
Вот где истинный труд и вот где подлинный ужас и погибель.
XXIX
Странная мысль мне явилась. Я подумал: как странно: не зная дня своей смерти, мы день этот во все годы жизни живём беспечно — а ведь ровно через сколько-то лет нам предстоит: или перед вечностью предстать, или в полную бессмыслицу превратиться. Живём бездумно, не ведая, что вот это-то и есть — тот день. И не только день, но и мгновение то как бы стороной минуем, и ничто не отзывается в нас вещим предчувствием.
Как будто: так и нужно, так и хорошо. Но разве к тому мгновению своему важному самому после рождения совсем уж безразличны должны мы оставаться? Однако начни о том рассуждать с кем-либо — почти не каждый ли безумным тебя сочтёт?
Я впервые прикоснулся к мысли о своей смерти вовсе и не тогда, когда столкнулся с чьим-то уходом из жизни в реальности, но при обстоятельствах совершенно далёких от того, что может навести на раздумье о неизбежности жизненного исхода. Это произошло в детстве, когда лет мне было около восьми, или меньше даже. Я шёл лесною дорогой, из соседней деревни домой возвращался. Солнце уже садилось, и нужно бы поторопиться, но такой покойный покой установился вокруг, что и малого беспокойства не могло во мне возникнуть, и я не спеша одолевал свой путь, переживая редкое даже и в раннюю мою пору состояние душевной беззаботности. В тихом вечернем воздухе растворялись незаметно чёткие линии и краски исчезающего дня.
И вдруг — я вздрогнул: далеко впереди стояла человечья голова с длинными до самой земли волосами, страшно чернела у самой дороги. Черт лица, обращённого в мою сторону, разобрать нельзя ещё было, один лишь прямой нос угадывался и закрытые глаза. И хотя здравый рассудок успокаивал: откуда здесь могла очутиться отрубленная голова и кому было оставлять её при дороге?— но я почему-то чувствовал, что теперь, в этот самый момент, нет ничего невозможного, и такое не поддающееся сознанию чувство переходило в медленный ужас.
Впереди ясно была видна мужская голова с закрытыми глазами и длинными тёмными волосами, какие носили давно (а я видел на картинке в книге). Я всё же шёл вперёд, вопреки овладевшей мною внутренней дрожи. Не поворачивал я назад только потому, что голова оказалась бы у меня за спиной, а так стало бы ещё страшнее. И остановиться я не мог, сил не имея на то: жуткое мучительное время и совсем бы остановилось вместе со мною, без всякой надежды на хоть какой-то, но конец всё же.
Голова ли приближалась ко мне, я ли к ней — но она становилась всё явственнее. И вдруг превратилась в старый пень с толстыми, у самой земли полого расходящимися в стороны корнями, которые-то я и принял за волосы, спадающие донизу.
Вот когда вошла в меня не смутная, как всё же случалось прежде, а отчётливая мысль о моей собственной смерти, смерти неизбежной — охвативший меня прежде ужас преобразился в эту тёмную и тоже страшную мысль. Я сначала почувствовал её, эту мысль, а уж потом сознал постепенно: весь окружающий мир — темнеющий лес, дорога, меркнущий день, безоблачное небо, шум ветра в вершинах деревьев, доносившиеся от деревни крики петухов — всё когда-нибудь останется без меня, а я перестану существовать не только здесь, но и вообще — везде. Меня не будет везде. Я не буду нигде и никогда. Никогда.
Никогда!
Утром того дня прошёл сильный ливень. Я хорошо запомнил это, потому что когда я вернулся домой, встретившая меня у калитки бабушка сказала, глядя на дорогу: “Надо же, как землю крепко насырело”,— а я подумал: ведь это не важно и даже бессмысленно, потому что не имеет никакого отношения к тому, что когда-нибудь меня, и всех нас, никогда и нигде не будет. И хотя никакой видимой связи между сыростью земли и моей смертью вовсе не было, но для меня она именно была, и заключалась в отсутствии всякой осмысленной связи между тем и другим.
Мысль о смерти мне в разных обликах являлась с тех пор, но тот раз был именно первым, и я хорошо его запомнил.
Я вообще рано начал сознавать себя отчётливо. И в памяти моей я нахожу себя с двухлетнего возраста. Мне не верят, если я говорю кому-нибудь о том (обычно мне приводят в ответ шаблонные прекословия, обнаруживающие у возражающих лишь скудость воображения), а я даже и из более раннего времени один эпизод помню — когда грудным ещё был. Но о том я уж и не заикаюсь ни с кем.
Всё это мелочи. Но вот что меня мучает: вспоминая свои ощущения в самые ранние свои годы, я — теперь уже редко — вспоминаю, что жил тогда с пониманием своего безсмертия, но оно постепенно истаяло во мне; а потом как ударило, оглушило меня — лицом к лицу столкновение с мыслью о смерти. Там, на вечерней лесной дороге.
А иногда я думаю: может быть в тот день, в миг тот, которого мы не ведаем пока, всё и откроется? Только ведь поздно уже будет. А мы того мгновения пока что мимо проходим, не помышляя о нём вовсе.
XXX
Когда я пришёл в Институт, Шерман с Ростом играли в шахматы.
— Великий путешественник явился!— возгласил Шерман.— Пржевальский! Миклуха-Маклай! Из дальних странствий возвратясь! Андрей Михалыч! Рассказывайте, где были.
— Лучше спросите, где я не был. И я вам отвечу: я не был в Омске.
— А зачем вам нужно было быть в Омске?
— Вот и я думаю: а нужно ли мне было быть в Омске?
— Ничего, не печальтесь. У вас остаётся зато мечта и надежда. Нет-нет, да и вспомните порою: а ведь надо побывать в Омске. И будет надежда: может, и доведётся всё же когда-нибудь съездить в Омск. Может быть, в том и смысл, чтобы поездке в Омск оставаться вечно нереализованной возможностью.
— Вы и сами не догадываетесь, Александр Иосифыч, сколько особого, глубинного, я бы сказал, смысла в ваших словах.
— Подсознательное ясновидение?
— Навроде того. А вы тут как всегда одно и то же: уезжал — играют, приехал — играют. Мне на эти шахматы глядеть уже скучно.
— Надо же Ростиславу Аркадьичу отвести душу.
— Чего там у тебя, Рост, стряслось?
Рост сидел за шахматной доской, раскачиваясь взад-вперёд, и барабанил ладонями по ножкам стула, припевая: па-па-ба-ра, па-па-ба-ра...
— Они племянницу замуж никак не выдадут,— сообщил Шерман.
— Женихов нет?
— Женихов навалом,— возразил Рост.— Она девка аппетитная. Я ей нашёл одного, во мужик!— он поднял большой палец.
— Сын нужного человека,— подмигнул Шерман.
— В последний момент отказался?— попытался угадать я.
— Наоборот. Парень уж спермой изошёл, а она всё тянет. Подождём, мол, да куда спешить. Глупые девки-то ещё. Вот бабы, те уже понимают, что к чему. Па-па-ба-ра, па-па-ба-ра...
— А что к чему?
— Вот ляжешь с бабой, она тебе объяснит, что к чему... приспособить.
— Обязательно ложиться?— в раздумье над ходом безразлично спросил Шерман.
— А он у нас эстет: в подворотне стоячком не захочет. Па-па-ба-ра! Шах.
— Не только не захочу,— сказал я,— но и не смогу. И считаю это своим достоинством.
— Заблуждаешься, старик, ох как заблуждаешься. В жизни надо всё испытать.
— Кстати, Рост,— как бы между прочим ввернул я,— насчёт Ирины можешь не беспокоиться. Теперь ты морально не имеешь перед ней никаких обязательств.
— Из молодых, да ранний,— хмыкнул Шерман.
Вот с этого момента, я думаю, Рост возненавидел меня окончательно. Как будто я ему и впрямь рога наставил. Сам же просил ведь. Просить — просил, но и уязвлён был таким известием. Однако неприязнь его никак, впрочем, не проявилась внешне. Лишь ироничнее, до сарказма почти, стал он в своём общении со мною; но я помимо и поверх слов, поступков — начал ощущать, как некое излучение, исходящую от него враждебность к себе.
Не знаю, объяснялся ли он с Ириной, рассказала ли она ему что-то. Я с нею не виделся с тех пор. Да и она встреч со мной не искала. Как вроде и знакомы никогда не были.
Я не сомневаюсь теперь, что Рост обо мне гораздо больше знал, чем я о том догадывался. Отчасти-то я беспечен был, отчасти всех своей меркой мерил. Вот Мария Петровна — я бы на её месте молчал о том моём посещении, мне и казалось, что она должна именно молчать — а она, кто знает, всё и выложила, может, Росту; разумеется выложила, и ему, а не Петельскому: от Матвеича из сострадания из одного скрывать всё надобно было.
И лукавый он — Рост. Помалкивал больше, про себя посмеиваясь и злобствуя одновременно. Зайдёт, глянет на мою кухню, кивнёт. “Осторожней, старик, осторожней”. А что значит — “осторожней”? Понимай как знаешь.
Странная всё же эта штука — психология человечья. Должен бы мне тот же Рост спасибо сказать за избавление от “истории”, а он озлобился тайно. Гордыня вздыбилась. Не надо было мне говорить ничего. Но ведь я простодушно — без всякого желания принизить: вот, мол, отбил у тебя зазнобушку. Так и он вроде бы ничего. О постороннем совершенно речь завёл:
— Мы тебя, старик, наметили в профбоссы. Совладаешь?
— Да пошли вы!
— Андрей Михалыч!— как будто взмолился Шерман, не отрывая взгляда от доски.— Не отказывайтесь от хлебного места. Нам путёвочки будете по блату обеспечивать самолучшие задарма.
— Зачем вы это всё придумали?— я искренне возмутился.
— Общественное лицо необходимо проявить,— наставительно возразил Рост (на суде он именно о моём “общественном лице” дурно отозвался).— Раньше была уважительная причина: диссертация, защита. Теперь давай, старик.
— Я антиобщественный.
— Дуся, такие заявки чреваты!— Шерман спародировал ужас на физиономии.
— Плевать. Не хочу я никакой общественной работы. Желающие найдутся. Я вообще ничего не хочу знать, кроме своего дела. Никаких общественных проблем.
— Вы в принципе против общественной жизни, или как?— поднял ироничный взгляд Шерман.
— Столько я за последнее время насмотрелся и наслушался, противно стало. Не верю я ни в какую общественную жизнь и знать ничего не хочу. Кто-то недавно говорил мне, забыл где: то, что происходит в моей душе, значительнее и глубже всех революций вместе взятых. Вот и я так. Запомните: отныне я вне всякой общественной и государственной жизни. Не хочу никаких социальных проблем. Никакой деятельности. Выберете — всю работу завалю, вот нарочно и завалю.
— Обывательская точка зрения, Андрей Михалыч.
— У нас, когда я в старом доме жил, одна соседка затевала на кухне склоки, а кто сторонился, тот, по её словам, антиобщественный мещанин.
— Как можно сравнивать, дуся! Аполитичность у нас предосудительна.
— Политика вообще от меня не зависит, чего я буду в неё нос совать? В Институте у нас — на собраниях когда надо и за что надо руку подыму. Чего ещё? В диссидентах не состою, знать их не знаю и знать не желаю. Чист. Мышиная возня всё это.
Я вдруг разошёлся не на шутку: раздражён был на всех и вся. И как будто душно мне стало от всей внешней жизни, которая пыталась втянуть меня в себя. Столько в последнее время людей вокруг меня круговерть затевало, все что-то внушить пытались, все чего-то как будто требовали, взывали — пусть даже и не делать чего-либо взывали, а порою просто к их мнению присоединиться — мне и от того невмочь стало. И так вышло, что на Росте с Шерманом я всю досаду свою и выместил, обругал, кто под руку подвернулся,— больше-то некого.
Оба меня с изумлением выслушали, пока я распинался перед ними, потом Шерман спросил:
— И чего же бы вы хотели?
— Ничего,— отвечал я, постепенно остывая.— Дело делать своё.
— Похвально. Ну а всё же вокруг-то вас не вакуум же.
— А вокруг чтоб всё было честно и справедливо.
Шерман и Рост дружно изобразили конское ржание. Потом принялись изгаляться над моим “скромным пожеланием”. Изощрялись в остроумии, ехидничали, потешались наперебой, пока самим, кажется, тошно не стало.
XXXI
Надоело мне выслушивать, как на мой счёт прохаживаются, и пошёл я бродить по Институту. Туда зайду, сюда — все вялые, скучные. И стало мне казаться, постепенно овладевая мною, что моё восприятие реальности — ей неадекватно. Как будто всё мерещится лишь, а где граница между действительностью и миражом — неизвестно. При таковом состоянии я и себя полупризраком воображаю.
В одной из комнат я увидел незнакомую молодую особу, недурную внешне. Я подсел к ней и спросил:
— А вы кто такая?
— В командировке из Ленинграда.
— Что вы сегодня вечером делаете?
— В смысле: не согласна ли я с тобой переспать?
Я хотел было удивиться, но решил: в бреду чего не пригрезится! Поэтому сказал откровенно:
— Именно в этом смысле.
— Если так, я согласна.
— Очень мило. Так вот прямо сразу и соглашаетесь?
— А чего тянуть и обставлять всё ненужными условностями? Можно было бы обоюдно повздыхать при луне, но ведь только время терять.
— Резонно. Скажите, а вам Рост нравится?
— Какой ещё Рост?
— Баранников. Наш учёный секретарь.
— Это не мой тип мужчины.
— А я — ваш?
— Кончай церемонии, переходи на ты. Ты — мой.
— Так тебе типы нужны или мужики?
— Мужики делятся на типы. Одни мне подходят, другие нет. Я согласна лечь под любого мужика моего типа. Что неясно? Только не бойся: венерических болезней у меня нет. Я женщина чистая.
— Приятно слышать. Значит, я или другой, всё равно. Был бы тип.
— Тебя шокирует?
— Взаимозаменяемость деталей в машиностроении. У нас в школе на производственной практике это проходили.
Я решил так: поскольку тут всё равно полный бред, то можно говорить что в голову взбредёт.
— А у тебя хата есть?— спросила она тем временем.
Я соображал: мама дома, надо что-то придумывать. Имеются разные приятели, да и вообще нынче лето...
— Если хаты нет, ничего не выйдет. Я ни в какие кусты не полезу.
— Почему?— бессмысленно воззрился я на неё.
— Потому что не хочу голым задом на какой-нибудь сучок напороться.
Я напоролся на такое впервые. Век живи, век учись — но никогда не воображай, что всё изведал.
— Почему обязательно голым?— спросил я, сам не зная почему.
— Ты что, идиот?
— Возможно.
— Я до сих пор подозревала, что ухаживать за женщиной значит стараться её в конце концов раздеть.
Я не был ошарашен только потому, что и без того пребывал в состоянии стукнутого пыльным мешком из-за угла.
— А как насчёт стоячком в подворотне?— я совсем уж отпустил тормоза.
— Прохожие станут мешать ненужными советами.
Вечером я отвёз её к одному знакомому на дачу, где целую неделю до самого своего отъезда она отдавалась нам по очереди.
Только на последнюю ночь, когда мама осталась на несколько дней в гостях у давней приятельницы, я привёз эту беспардонную особу к себе.
Звали её Галина. Без предрассудков женщина.
А мне было на всё наплевать.
XXXII
Понятия правды и добра, когда я думал о них, казались мне всегда прекрасными и справедливыми. Но стоило начать говорить о них с кем либо, как тут же мне становилось стыдно, самому представлялись жалкими и смешными все мои рассуждения. Собеседники же порою иронично опровергали все мои доводы быстро и безжалостно, и хотя я чувствовал внутреннюю неправоту их, но оспорить её не мог. Это оттого — понял я однажды — что мои слова вне меня, но не во мне раздаются. Нужно быть или подлинно добродетельным, или же чересчур самонадеянным и самодовольным, чтобы иметь силу противостоять скептической логике безверия.
XXXIII
Я быстро привыкаю к людям, и любое расставание для меня грустно. Острее ощущается покинутость собственная.
Галина собирала сумку, скоро надо было ехать на вокзал.
И потянуло меня на какую-то откровенность, пусть и не вполне душу излить, но хоть бы видимость создать.
— Знаешь, я вот всё думаю: что же связывает нас с миром? Может быть, то, что напрямую зависит от моего к нему отношения? От моих качеств душевных? Если я плох и гадок, то и миру благополучным не быть, ведь я в себе порчу как источник заразы несу. Может быть, нас всех то связывает, что мы должны взять на себя грехи друг друга, помогая тем самым друг другу исправлять мир, изживая его зло. Не знаю, я наверно, неясно говорю, но...
Она не дала мне договорить. Вначале она молчала, очевидно, не вполне понимая, что мне потребно от неё. И вдруг как в истерике зашлась:
— Надоело! надоело! надоело! надоело! надоело! Тоска зелёная! Я думала, ты нормальный мужик, а ты зануда каких мало. Перестань! перестань! перестань!
Она кричала надрывно, и с такой ненавистью ко мне, что я почувствовал тягучую усталость в себе.
— Перестань! надоело! надоело! Надоело!— орала она.
— Да угомонись ты,— сказал я тихо и примирительно.— Я пошутил. Больше не буду.
Я не к ней неприязнь — я к себе отвращение стал испытывать.
И теперь, вспоминая всё прежнее, думаю: с кем я не был един в грехе своём? И поэтому — за чей грех имею права ответа не держать? Нет такого. И все искупления требуют.
Я же оледенел душою и не стремился к тому.
Часть третья
I
Я проводил её, а когда возвращался с вокзала — я нарочно пошёл пешком, чтобы подольше не могло подступить ко мне одиночество в пустынной моей квартире — меня вдруг такая тоска взяла, такая невыносимая, что завыть впору. Я набрёл по пути — и долго стоял потом у того кафе-стекляшки, куда мы с нею еще вчера забегали наскоро, и все смотрел на стул в углу, где она тогда сидела, глядя на меня, как я несу от буфета кофе и пирожные на блюдечке. Отчего же такая тоска?— силился я понять. Не от расставания же. Нет. Не расставаться вовсе — я бы и сам не пожелал никогда. Мне ведь уже хотелось даже, чтобы она уехала поскорее. Долгая фальшивая близость чуждого (как ни крути ни верти) человека всегда тяготит, досаждает назойливо. Да и не любил же я её, эту шлюху по призванию, чтобы тосковать в разлуке.
Может быть (на миг мелькнуло), тут именно безысходность от ощущения своей неспособности к любви? Нет. Кажется, это уже перегорело во мне.
Я смотрел на тот стул в углу кафе-стекляшки и думал, что ведь ещё не раз смогу зайти, пусть даже и не с той, а другой какою женщиной — сюда: выпить наскоро чашку кофе. Впрочем, нет: сюда больше не хочу: отвратительно готовят, да и грязно — никогда бы специально сюда не пришёл, просто на пути попалось случайно.
Никогда? Значит, никогда уже никто не будет сидеть здесь, на этом вот стуле, и смотреть, как я несу осторожно, чтобы не расплескать, две чашки кофе и блюдечко с пирожными. Будут другие кафе, другие пирожные, другие женщины. Но того, что было — неважно даже: хорошего или безразличного — никогда не будет. Не повторится.
И я понял — пронзило насквозь — понял, отчего эта тоска во мне. То тоска, всё та же давняя моя тоска по времени, которое не вернётся. Никогда. Никогда. Страшно и непонятно. Можно снова встретиться с теми же людьми, даже в том же месте, где и прежде. Всё будет то же. Но время уже не вернётся. И ведь не то чтобы чем-то уж очень дорого было оно для нас, просто само сознание, ощущение, что — не вернётся — мне вдруг стало невыносимо до лютейшей тоски. Река времён не течёт вспять.
Никогда не войти — ещё в школе, помню, учили — дважды в одну и ту же реку. Но там, в реке, хоть иллюзия есть. А тут всё иное, всё меняется. Всё? И даже люди? Да, и люди. Порою это так явственно чувствуется: вчера с тобою был совсем иной человек: не то что внешне даже — внешне-то, хоть и в мелочах, непременно иной,— но и по сути своей внутренней. Да что вчера!— вот в мгновение какое-то изменилось настроение у человека — и перед тобою уже не тот, что был только что. А того нет. И не будет никогда. Как в калейдоскопе — меня эта мысль в детстве поразила — однажды выпавший узор уже никогда не повторится. А что калейдоскоп?— куча стекляшек разноцветных. В человеке элементов составляющих куда больше. Тут количественных перестановок и сочетаний бессчётно — это и математически вывести можно.
Выходит, с математической непреложностью выходит, что нельзя дважды встретиться с одним и тем же человеком. Хоть и приедет она вновь из своего Питера, та разгульная бабёнка, хоть и приведу я её — вот нарочно же приведу — сюда в эту забегаловку, и в углу здесь усажу, и кофе тот мерзкий возьму (экое пойло отвратное!) — а всё бессмысленно. Того не вернуть. Каждое наше расставание с человеком есть расставание со временем — вот где тоска-то.
Я смотрел вокруг, на дома смотрел, на людей, на машины проезжающие — и чувствовал: всё это я вижу в последний раз. А завтра всё иначе станет. То, да не то. Зыбкость и неустойчивость мира — я это вдруг чуть ли не физически осязать начал — отчаяние охватило! Даже умереть не так страшно стало. Не я умру — там, впереди во времени, уже кто-то другой умрёт, а меня уже и завтра не станет.
Теперь-то я понимаю, что хотел сказать мне однажды некий старик, случайный попутчик в каком-то, не помню, поезде. Почему-то мы с ним заговорили про “тот свет”. Я — так, из праздного чувства, чтоб время занять. А он, видно было, верил глубоко. Так вот он сказал мне тогда: вы, мол, рай небесный себе представляете, пусть это и сказка для вас, как сад какой-то фруктовый с вечным ангельским пением, а это не то. Рай, сказал мне тот старик, это когда времени нет. Остановится что ли?— спрашиваю. Да нечему будет останавливаться, сказал он. Просто там нет никакого времени. В ту пору я подумал: что за чушь дед несёт! Теперь-то я понял. Нет времени — и тоски этой нет, отчаяния этого. Значит, всё иначе, всё иное. Но может ли так быть, чтобы времени не стало? Не могу в себе этого представить. Внутренне ощутить и понять этого не могу. Хотя порою и кажется: если сосредоточиться, то какие-то обрывки, намёки в самой глубине души, сознания — можно почуять, хоть и смутно. Вот как будто забрезжит что то, но мгновение — и всё исчезает. Слишком уж призрачно. Нет, этого просто не может быть. Время вечно. А значит, просто не может быть никакого рая. Мечта всё это. Ничего иного не может быть, кроме времени: оно всегда будет течь — неуловимо и неумолимо.
И может ли что-нибудь утешить в этой тоске? Да нет, не то чтобы постоянно и была она, тоска эта от сознавания неудержимости времени,— так, порою лишь. В сутолоке, в суете и забывается всё. Может, оттого так и любят иные суету нашу. В суете некогда задуматься, вслушаться в себя. Суетою всё глушится.
Но вот что: сколько бы ни твердили мне прописных истин о всеобщем счастливом будущем — а ведь и будущее так же утечёт и прошлым станет. Впрочем, для всех вместе, для абстрактного общества — сколько бы его, времени, в прошлое ни уходило, а и в будущем всё-таки не убывает. Но у меня-то, у меня, вот у того, кто сейчас ощущает это моё Я, которое тоскует, страдает, а временами и радуется, которое мыслит (и следовательно, существует — вот ведь ирония!) — у меня же его всё меньше — времени. Я теряю его, растрачиваю как самый легкомысленный шалопай — транжирю. Проматываю последнее, даже если усилий к тому не прилагаю. А в конце — ничто. “И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели...” И что же меня в моей тоске утешит?
Да, да: лучше не вдумываться, не заглядывать в глубину самого себя. Страшно это.
Как же ухватить ускользающее время? Хоть крохи...
Память. Самое драгоценное, может быть, что есть у нас. Она удерживает хотя бы призрак уходящего времени, помогает хоть как-то примириться с утратой.
Но не усиливает ли она боль утраты? Если забыть — то ведь и утраты нет. Забудешь — о чём тогда и тосковать? Тогда жизнь прекрасна. Тогда — только будущее. А что ушло, того и нет. Забыто.
Память. Не проклятие ли наше вечное? Память об утраченном.
Не знаю: память — дар или проклятие. Но знаю: без неё я не могу. Без памяти об утраченном — человек перестаёт быть человеком. Это я знаю. Чувствую.
Но ведь и мучительна же она, память наша — понял я, стоя у стекляшки-забегаловки на затёртой между домами небольшой московской улочке. Понял, глядя на простенький в углу стул, на котором ещё так недавно сидела она, уехавшая теперь в другой город чуждая мне женщина, сидела, глядя, как я несу с осторожностью кофе и пирожные на блюдце.
Когда-то, помню, очень раздражал меня Пруст, слишком вязкий и тягучий. Потом я сознал, что нет иного способа обрести утраченное время — нет, кроме этих бесплодных усилий памяти. Пруст не стал мне оттого ближе. Потому что он искал и обманывался, будто нашёл — собственную утрату. Но мне-то, мне зачем утраченное другим время? Мне нужно своё, мною упущенное, потерянное прошлое. Мне нужна моя, только моя и ничья больше — память. Только мне нужен и дорог этот стул в московском кафе-стекляшке, где ещё вчера сидела исчезнувшая теперь для меня во времени и пространстве женщина. Только мне — и никому иному в мире.
Меня всегда раздражает ставшее во многих семьях ритуальным рассматривание фамильных альбомов с фотографиями. “А вот это мой брат,— рассказывает при этом какая-нибудь милая бабуся.— Посмотрите, какое выражение смешное. Мы ему в пирог зёрнышко перца подложили, а он и раскусил. Как все смеялись тогда”. Но мне-то что до того перца и до того смеха? Для них — здесь множащиеся и всё обволакивающие воспоминания. И перец — лишь знак ушедшего, многосложного, дорогого для них прошлого, это сразу целый мир, эпоха их жизни, к которой они деспотически желают приобщить и меня,— и до которой мне нет никакого дела. Так ведь и мои воспоминания им тоже безразличны. Не раз замечал, как скучнеют люди, хоть и стараются из вежливости придать себе выражение внимания, стоит мне увлечься рассказом о своём.
Только мне, только мне важен и дорог тот стул в углу небольшого московского кафе.
И вдруг мне понятным стало: как можно хоть ненадолго создать иллюзию власти над ускользающим временем. Нет, не прустовским пассивным воспоминанием.
Я не просто понял — я ощутил, моё сознание явственно ухватило (хоть это всегда на поверхности находилось, да мимо внимания скользило), что разные элементы окружающего мира движутся во времени с разной скоростью. Изменчива и непостоянна морская волна, но многие годы и века пройдут, прежде чем изменит свой облик утёс, под которым размылось и исчезло её недолгое существование. Многие времена не изменяет своего русла и течения река. Незаметно для глаза, но приметно во времени преображается облик берёзы на её берегу. А стрекозка, трепещущая крылышками над водной гладью, не доживёт и до будущего лета. Долго, очень долго, пока не вмешается недобрая воля человека, сохранят свои очертания моя улица и мой дом.
Мгновение минуло — мы умчались вперёд — но медленно, незаметно для восприятия уплывает во времени то кафе и тот стул в нём, на котором сидела она, далёкая от меня женщина. Мы умчались вперёд, а они лишь чуть-чуть стронулись с места, они почти неизменны. Они хранят в себе те ушедшие от нас мгновения. И прикоснувшись к этим материальным следам прошлого — рукою, мыслью, чувством,— мы как будто замедлим свой бег во времени и возвратимся ближе к ускользнувшему от нас. Мы цепляемся памятью за внешне неизменный материальный мир, как за валун, выступающий из стремительной течением своим реки,— и стремнина времени, как и водный поток, пусть ненадолго, но становится бессильной против нас.
И я понял, чего мне так не хватает сейчас.
Всё как-то перемешалось, запуталось в моей жизни. Порою мне казалось, будто существование моё всё наполнено какою-то безысходностью. Хотя со стороны поглядеть — я бы и сам сказал в иные времена: с жиру парень бесится. Не то что каких потрясений, а и мелких неприятностей не было. О чём толковать...
Но отчаяние-то моё — от пустоты, от безграничной всепоглощающей пустоты, что окружала меня и заполняла меня (пустота — заполняла? странно). Всё у меня было: и близкая уже блистательная карьера, и деньги некоторые, и свобода, и женщины, и беззаботность, и молодость, и крепость жизни — но всё вдруг обессмыслилось. Жизнь, такая полная и счастливая для стороннего взгляда, представилась мне тем ровным путём без цели, который сам по себе есть уже всеохватывающая безысходность. Со стороны этого не понять. Это перестрадать в себе надо — чтобы право иметь судить.
Пусть тут много было от мимолётного настроения, пусть даже оно и улетучится вскоре — но теперь-то оно во мне, тяжкой ледяной глыбой в груди, и надо было как-то перебарывать его.
И я понял, что мне нужнее всего сейчас: та твёрдая, неподвижная опора, за которую уцепившись, я мог бы хоть ненадолго удержаться, противоборствуя стремнине времени, отдышаться, одуматься. Мне нужны были соединённые с реальностью воспоминания. Но не те жгущие совесть воспоминания, какие могли быть порождены недавним временем. Нет. Моё воспоминание должно быть... не помню, чьё сравнение, чей образ, не я его придумал, но не найти ничего точнее; мне нужно воспоминание — как озарённая солнцем радостная лесная поляна.
И это — детство.
II
Давно уже собирался я съездить в ту деревню, где в детстве жил у деда каждое лето — и лет таких набралось более десятка. Когда дед умер, дом его зачем-то продали, и я там больше никогда не бывал. Да и вырос я уже — другие были интересы, другие привязанности, друзья. Поначалу меня туда и не тянуло. Будь и дед жив — не знаю, ездил ли бы туда часто.
А потом — и думал как-нибудь побывать, просто так, без цели — собирался, собирался, да как-то всё недосуг оказывалось. Всё думал: успею, ведь рядом же, здесь, под Москвой. Но и не так чтобы совсем уж рядом: часа четыре, а то и больше — со всеми пересадками, ожиданиями, хождениями — в один конец. Так и тянулось: пока некогда, но как-нибудь и успеется ещё.
Там, в лесу,— а вокруг нашей деревни почти сплошь леса — много было озарённых солнцем лесных полян. И зелень их как будто сама светилась и ласково согревала всё вокруг. Я любил бывать там. Цветов много. Бабочки всюду мелькали, красивые, разноцветные все, и стрекозы, казавшиеся мне тогда громадными. А у реки летали стрекозки поменьше, зато с цветными крылышками — синие, зелёные и коричневые. Река текла под горою, полная, спокойная, ровная — ясно и чисто отражая стоящий по берегам её высокий лес.
Золотым, прозрачно-золотым видится мне в воспоминаниях солнечный свет — золотым и пронизывающим весь тот давно исчезнувший во времени и уже сказочный для меня мир, в котором жил я в дальние мои годы. Разумеется, он не был таким в реальности, тот золотой свет, да я и не обращал тогда на него внимания, и вероятно, он был, как и теперь, обычным бесцветным — и лишь даль времени, подобно дали пространства, изменяет теперь облик, очертания, равно как и окраску тех дней.
Я вспоминаю тишину светлых летних вечеров, поглощающую и растворяющую в себе дневной свет. Вспоминаю в медленно густеющей сумеречной неясности — зыбкость деревьев, реки, кустов вдоль дороги, что уводит за собою взор через поле за деревней к далёкому горизонту.
Я вспоминаю, как любил уходить далеко по этой дороге, увлекаемый собственными глазами, которым не терпелось заглянуть всё дальше и дальше, сначала за ближнее поле, потом за пригорок, густо поросший невысоким кустарником, потом за небольшую берёзовую рощу... В роще в июльские жары крупнела в траве невообразимо пахучая земляника. Я порою очень ясно могу воссоздать в себе и чуть ли не реально ощутить тот особый земляничный запах, какого с тех пор я уже никогда нигде не встречал — то ли потому, что такого и не было нигде больше, то ли оттого, что я сам изменился и утратил свежесть и остроту восприятий, то ли из-за суеты, которая просто не оставляет мне возможности сосредоточиться в своих ощущениях. Я почти забыл все — когда-то такие ясные и знакомые для меня запахи; и лишь порою услышишь, почуешь что-то знакомое — и грустно, неизменно грустно становится. А когда-то я знал по запаху каждую комнату в большом дедовом доме, и все дома, в каких мне доводилось бывать, если там жили мои летние приятели. Я бы с закрытыми глазами узнал все места в окрестностях, потому что на огороде пахло совсем иначе, чем в поле, а в сосновом бору за рекою — чем у самой реки. Даже в огороде у картофельных борозд пахло ботвою совсем не так, как там, где росли помидоры или огурцы. Особый запах стоял и в зарослях акации, лопуха и крапивы у стен полуразрушенной церкви — над крутым склоном высокого берега реки.
“В этой церкви, — сказал однажды кто-то из взрослых,— венчались Дубровский и Маша”. Я и тогда понимал, что этого быть не могло, что Дубровский лишь вымысел. Я знал также — хотя и не читал, но в кино смотрел,— что Дубровский как раз и не венчался с Машей Троекуровой даже и в вымысле. Но в то же время я вполне допускал, или хотя бы хотел в это верить, что Дубровский мог существовать и в жизни, и что как раз в жизни-то — пусть там в книжке или кино всё кончилось для него несчастливо, но это лишь в книжке — а в жизни могло бы случиться и наоборот. А если так, то вполне возможно и само венчание в нашей церкви. Не просто же так было сказано о том. Опять-таки: в минуты, когда наваждение вымысла отпускало мой ум, я трезво сознавал, что тут именно игра ума, мечта,— но и тогда я не позволял себе отказываться вполне от мечты, где-то в глубине сознания не расставаясь с ощущением, что без этой мечты всё станет хуже, а с мечтою — теперь бы я сказал: романтичнее; но тогда мне не было известно это слово, и поэтому я назвал всё просто — красивее.
Мы с моими приятелями любили то место — “церковь Дубровского” (так её у нас называли) — там много было потаённых уголков, где мы укрывались для наших игр: среди кустов, высоких лопухов, в развалинах, в подвале, откуда вели в неизведанность тайные, как мы воображали, ходы, где было сумрачно, пахло сырой, даже в летнюю жару, прохладой, битым кирпичом, крапивой, росшей где попало снаружи и внутри запустелого храма. Часто с риском (подлинно — с риском!) покалечиться или и того хуже, а поэтому и со страхом (со временем, впрочем, притупившимся) мы залезали на обветшалую колокольню, карабкаясь по неверным выступам и выщербинам в стене, по обманчивым остаткам лестницы. Зато сверху — а впечатление усиливалось из-за собственной нашей малости — нам открывались необозримые и глубочайшие дали, и можно было увидеть (сразу всё вместе) то, чего никак не разглядеть с земли, с самых высоких её пригорков. Дома же, люди, пасущаяся скотина — всё казалось уморительно маленьким, отчасти игрушечным.
И как заманчиво было думать, что можно скрыться, исчезнуть, раствориться в глубине открывающихся сверху лесных далей — зажить там вольной и таинственной (в тайнах воображаемых самая прелесть и заключалась), никому неведомой жизнью. Укрытость и защищённость от мира, о которой мы все с непонятным внутренним ликованием смутно мечтали тогда — как порою мечтаю я и сейчас,— была, может быть, высшей для нас надреальной ценностью, хотя, здраво помыслить: от кого и от чего было нам тогда укрываться? Эти мечты парили у нас в сознании именно над реальностью, поскольку при всей нашей несмышлёности детской мы ясно отдавали себе отчёт в их не то чтобы недостижимости, но — более того: в полной бессмысленности.
И всё же теперь, когда те годы оказались уже в дальней дали — они представляются мне именно тем укрывищем, где можно было затаиться, хотя бы и ненадолго, скрыться от суетности и неустроенности настоящего, остановиться, задуматься и одуматься — осмыслить наконец вечно ускользающую — не то реальность, не то видимость бегущих навстречу, мелькающих перед глазами и свистящих в ушах жизни, времени, мыслей, ощущений, переживаний, страданий и радостей.
Мне захотелось — мне стало нужно, необходимо — снова десятилетним пацаном спуститься по крутому склону от церкви к самой воде, где трепещут над ровной её гладью разноцветные стрекозки,— захотелось, возжелалось до невыносимой душевной боли,— пробежать по узкой тропинке, идущей вдоль реки сквозь высокий прибрежный кустарник как через туннель,— добраться до старой плотины, давно уже прорванной и не сдерживающей затаённую в глубине силу течения, но всё же чуть изогнувшей русло реки — заглянуть в непроницаемую темноту омута возле этой плотины, в до сих пор жуткую, как и прежде, глубину его — туда, где утонул когда-то один из нашей тогдашней компании, анютин Серёга (так называли мы его потому, что он жил у бабки своей Анюты, привозимый родителями, подобно многим из нас, на лето из Москвы).
Это был один из моих главных врагов, вредный и противный малый, с которым мы непримиримо враждовали в то последнее для него лето. Он был старше и сильнее меня, и избил однажды до крови из носу — я его боялся и ненавидел. А когда он утонул, пережил — мерзкое, как понимаю теперь, но мне приятное тогда — злорадное чувство удовлетворённой мести. Но к тому злорадству, я помню, примешивалось и другое — страх, недоумение, растерянность перед тем ужасным, что всем нам было непонятно тогда (а теперь — понятно?).
Помню, мы, мальчишки, часто рассуждали об этом, затаившись где-нибудь в зарослях у церкви,— само место особенно и располагало к тому — толковали о таинственном, о возможности существования после смерти, о духах, о привидениях. Смерть анютиного Серёги стала для нас побуждающим к тому толчком.
III
Примерно за год до моей защиты я шёл с похорон одного из своих прежних преподавателей университетских — по неширокой дорожке старого московского кладбища. Я, помню, нарочно отделился тогда от общей компании, чтобы меня не зазвали на поминки, до которых я не большой охотник. В нынешнем их виде, с почти обязательным пьянством и обжорством, так что под конец забывается почти и повод сего обильного застолья,— поминальные трапезы скорее оскорбляют память ушедшего из жизни. Я шёл и думал — и размышления были банальны своей естественностью,— что вот странно, непостижимо: живёт человек, мыслит, чувствует, страдает, суетится, любит и ненавидит — и потом вдруг ляжет в деревянный ящик, ближние закопают его в яму и... и больше ничего. Думы вполне заурядные, но, кстати, тогда-то я впервые отчётливо и понял, как важна память оставляемая человеком, и понял ещё, что вовсе без памяти нельзя. Всё прошлое, ушедшее — преобразуется в память, именно в память. И даже материальные предметы — не что иное, как память, только не идеальная, а овеществлённая. И вот что: качественные характеристики нашей собственной жизни зависят от внутреннего нашего состояния, от того, что по старому шаблону мы именуем душою — душа же есть именно сконцентрированная в сознании память. Так думал я тогда, бродя по дорожкам кладбища. Каждое событие, каждый человек оставляют в нашей памяти либо светлую, условно, либо тёмную частицу, добавляет либо положительный, либо отрицательный элемент к её составу. Люди с отрицательной, если можно так назвать её, памятью — люди дурные. Прошлое вызывает у них отрицательные эмоции, на настоящее они смотрят сквозь призму своего отрицательного опыта, своей ненависти к жизни, своей злой памяти. В прошлом для них — зло, в настоящем — зло. И чего же ожидать им от будущего, если они не знают ничего доброго в жизни? Значит, если мы хотим добра тем, кто будет после нас,— мы обязаны прежде позаботиться: как заложить им в душу элементы доброй памяти. А вовсе не златые горы и реки, полные вина.
Так я размышлял, и, быть может, не всё было в тех думах вовсе и глупо.
Я вспомнил, как тот человек, с которого похорон я шёл тогда, учил меня варить какое-то особое варенье. Сейчас я, пожалуй, не смогу передать всех подробностей, чёрточек, деталей — но он был тогда так мил, так добродушно приветлив, так искренне стремился передать мне все немудрёные секреты своего умения — что, мне кажется теперь, память об одном этом эпизоде, быть может, важнее для меня всех его научных занятий. Я понимаю: что варенье?— вздор. С какой-нибудь всеобщей точки зрения — и двух слов не заслуживает. Но для меня, для меня-то, для души моей, даже и для всей моей жизни — оно важнее многого, очень многого. То есть не то важно, что я теперь умею варенье варить — я ведь уже и не умею, потому что забыл всё, и не собирался вовсе никогда ничего варить, а урок тот брал больше из вежливости, чтобы приятное человеку сделать (а ему это было приятно, я видел),— важно само расположение его ко мне доброе, которое не бесследно же прошло. Важно и моё то желание, искреннее совершенно, ему приятное сделать — вот золотая крупица!
И тут-то я увидел вдруг у самой дорожки, по которой шёл, у самого края — небольшой памятник с фотографией детской и надписью: Сергейка Паутынский. По фотографии я бы уже и не узнал, но фамилия слишком запоминающаяся и редкая, чтобы спутать с другими. И дата под фамилией лишь подтвердила: я не ошибся.
Вот она, случившаяся через много лет встреча — с моим давним врагом, теперь от которого, наверно, и не осталось-то ничего. Только вот этот холмик да камень с фотографией. Да недобрая во мне память. Сергейка... Как резануло меня что. Это для меня он был вредным Серёгой — а для кого-то маленьким любимым Сергейкой, милым драчуном и забиякой, неизменным источником радости и тревоги. Одно слово: Сергейка... Передо мной раскрыло оно теперь всю, и не подозреваемую мною силу и глубину горя неизвестных мне людей, которые ходят теперь на эту могилу (ходят: видно по ухоженности её), уже столько лет безуспешно пытаясь примириться со своей утратой. Или уже высохло всё, и лишь в пустой обряд превратились для них эти хождения?
Но для меня-то!— была же тогда мстительная радость. Неужто в глубине души я уже тогда был так испорчен — чтобы радоваться смерти? Я принялся утешать себя: что с меня тогдашнего и взять, с десятилетнего? Вспоминая то время, я со строгостью вопрошал себя: ну, а теперь ты тоже рад его смерти? Нет, разумеется, теперь мне даже жаль его — впрочем, даже не его, уже забытого мною, а этих совсем неведомых мне людей, остался он для которых маленьким любимым Сергейкой.
Как же мало соответствуют действительности наши ощущения, если одно и то же событие вдруг вызывает во мне чувства совершенно противоположные! Да какова она сама, эта действительность, когда ничто другое — одно лишь время заставляет её принимать те или иные очертания? “Она ни хороша ни дурна, а лишь такова, каково наше отношение к ней” — теперь только с ясностью я воспринял старую истину. А отношение к жизни, додумал уже я сам, зависит от времени, из которого мы смотрим на неё. Тогда я злорадствовал, теперь я сострадаю, потом — всё это может стать безразличным для меня.
Но что за вздор! Почему это вообще должно занимать меня? Разумеется, тогда я должен был ненавидеть его и радоваться смерти. А сегодня для меня всё это должно стать пустым местом. Зачем жалеть о событиях многолетней давности, о том времени, когда я просто не мог, этически и юридически, отвечать за свои поступки и свои примитивные эмоции? Теперь должно лишь посмеяться над тогдашними переживаниями, которые из сегодняшнего дня представляются слишком маленькими, как мал был я и сам... Не остановившись ни на чём определённом в своих раздумьях, я поспешил уйти и забыть об этих своих сомнениях.
Однако теперь, когда с того дня прошло уже больше года, я не мог уже просто принять справедливость своего детского злорадства, и своё нынешнее безразличие. Ибо: они несправедливы. Если меня так испугала пустота в душе, как бы вдруг возникшая... вдруг или исподволь? — не знаю... если я хочу найти опору в новом обретении утраченного прошлого — я должен выжечь из него все дурные воспоминания. Нужно, решил я — или подсознательно ощутил — попытаться совместить два времени: воскресить в себе своё сострадание на кладбище — и перенести его, бережно, стараясь не расплескать, туда: в прошлое, соединив с памятью детства — на старой плотине, над тёмной водою печального омута.
Зачем? Какой смысл? Смешно. Да и что за ерунда, в конце концов!— пытался остановить меня мой рассудок. Но мне так уже стало тошно от всего тупого рационализма нашей жизни, что я с ненавистью приказал рассудку заткнуться. Мною руководило теперь чувство, которое совсем недавно я и сам бы не понял, высмеял и осудил безжалостно.
Нужно с утра, рано-рано — думал я — надо ехать на то кладбище, найти могилу... это нетрудно, я примерно помню... а потом на вокзал... там, в деревне, к кому-нибудь попроситься на день-два... надо всё вспомнить, всё восстановить...
Но я не отыскал той могилы, как будто исчез куда-то маленький Сергейка, о смерти которого я пожалел год назад. Я попытался найти могилу нашего преподавателя, так и не научившего меня варить варенье, — но и это мне не удалось. Я без толку бродил по дорожкам, то кружась на одном месте, где, по моим расчётам, должна была находиться та могила, то уходя вовсе в сторону, уже без всякого расчёта и смысла.
Вот так мы и теряем память, склоняемся к тому собственным безразличием и небрежением. А взамен — пустота... Мне попался на глаза покосившийся и заляпанный птичьим помётом памятник с полустёршейся позолотой надписи: “Мамочка, родная, светлая,— с трудом разобрал я буквы,— ты всегда с нами, будем достойны тебя”. Где же вы, думал я, не сдержавшие своего слова? Неужели мы превращаемся в людей, теряющих память? Она ведь, память, не в суете юбилеев и дат, а здесь, в тиши кладбищ.
Я вспомнил, как недавно в одной шумной молодой компании все с насмешкой и недоумением взглянули на одного нашего приятеля, когда он сказал (не припомню уже, по какому поводу), что он должен пойти на кладбище. “Ты что: ненормальный! Нашёл развлечение — по кладбищам ходить!” А некий эрудит с пьяным глубокомыслием продекламировал: “Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий”. И завершил сентенцией: человек должен думать прежде всего об удовольствиях жизни, смерть же, когда нужно будет, сама тебя разыщет. И все решили, что по этому поводу нужно выпить.
И ещё я вспомнил, как один из моих знакомых весело сказал однажды: “Все бы эти кладбища снести: сколько места без пользы пропадает! А всех бы жмуриков — в печь и на удобрение. Вот это действительно разумное решение. А со слюнявыми эмоциями кончать надо”.
Ну а сам, сам-то я — хоть раз ходил на кладбище на чью-нибудь могилу? А ведь есть к кому...
Тоска, тоска, тоска давила меня. От бессмысленного кружения среди могил на меня вдруг начало накатывать ощущение ненужности и иррациональности видимого мира. “Всё действительное бессмысленно, всё бессмысленное действительно” — вот бы что надо сказать заумному зануде Гегелю. Что толку в оставляемой нами памяти?..
Но у меня ещё оставалась цель: встретиться со своим прошлым.
IV
Ехать нужно было на электричке, потом на автобусе до небольшого низенького городка, а уж оттуда на другом автобусе до места: пешком оставалось с километр, рядом совсем.
Когда-то от городка до деревни мы ходили пешком. И дорога там была обычная, просёлочная.
Золотым, прозрачно-золотым видится мне в воспоминаниях время моего детства. Я помню, как тихо освещало заходящее солнце густые заросли акации и сирени вокруг нашего дома, как сладко тянуло от цветущих лип в саду. Я уже вижу себя идущим луговою тропой среди высокой некошеной травы, сплошь пестреющей цветами, над которыми выше всех — жёлтые грозди пахучей пижмы. Тропинка плотно утоптана и местами кажется мне асфальтовой. Отовсюду — перестрёкот кузнечиков. Тёплая земля ласково дышит на меня — и я иду по ней — пока ещё только в мечтах — уже не тогдашний, а теперешний, снова возвратившийся, перенесённый в то далёкое время — и я весь переполнен счастьем этого возвращения — которое скоро станет для меня реальностью, потому что в реальности-то я пока ещё не там, а ещё только еду туда — счастливый предощущением теплоты матери-земли — по которой я уже мысленно иду среди трав и цветов, а в золотом воздухе не то слышится, не то чудится тихая грустная песня — и грудь готова разорваться от радости, от слёз, от любви ко всему великому и прекрасному миру.
А солнце уже как будто село, и у горизонта над лесом — малиново-розовое зарево. Маленькое облачко висит в темнеющем небе. Звёзды всё гуще блестят, и лишь самые маленькие дожидаются полной темноты.
Покой. Всеобнимающий покой растворяет в себе, утишает волнение — и душа ощущает себя чистой и безгрешной, сопричастной вечному счастью и вечной любви. Я чувствую, что я безмерно полон любовью — сам не знаю, к кому и к чему — мне хочется припасть к земле и плакать обильными лёгкими слезами, и ликовать — под огромным звёздным миром. И любить. И страдать.
Я возвращался в своё детство, и тихая радость вытесняла из груди леденящую тоску.
Больше часа пришлось дожидаться мне нужного автобуса в маленьком городишке, который я хорошо запомнил с тех давних пор. Я не досадовал на ожидание: оно полно было предвкушением уже близкого свидания с возвращающимся ко мне временем. Я изгнал из души нетерпение — оно лишь нарушило бы нисходящий на меня покой. Я взглянул на городок — вот чудо: он почти не изменился — и понял, что встреча с прошлым уже началась. В те годы городок становился для меня то предвестьем скорой деревенской вольницы, то началом нового вхождения в заботы московской жизни, преодоления уже укоренившейся в привычках отчуждённости от неё. Эти поездки — в начале лета в деревню, а в конце его обратно — всегда были радостны для меня, приводили всего меня в столь сильное возбуждение, что если бы накануне отъезда по каким-либо причинам он был отменён (к счастью, этого ни разу не стряслось), то я сразу стал бы несчастнейшим человеком на земле, а может быть, и слёг бы в нервной лихорадке.
Помню, когда однажды мы ехали на вокзал, я увидел из окна трамвая на какой-то улице одиноко игравшую в мяч девочку — она бросала свой мяч об стенку и подпрыгивая ловила его — и меня неожиданно поразила мысль о колоссальной разнице между положением моим и той незнакомой мне девочки: я еду далеко, впереди счастье, а она обречена остаться здесь, на эту одинокую игру, и предвкушаемое мною блаженство недостижимо и непостижимо для неё. Я не мог себе представить ничего хуже этого, я почему-то вообразил, что она именно обречена на одинокое пребывание в городе,— и долго потом воспоминание о ней болезненно отзывалось во мне острейшей жалостью, но одновременно и радостью, что судьба избавила меня от подобного несчастья.
Сидя у автобусной станции на площади немноголюдного зелёного городка, я вспоминал, как по-разному отзывался во мне его облик при поездке из Москвы и при возвращении в Москву. Весной он зеленел началом новой жизни. К концу лета я начинал скучать и по городскому шуму, и по прежним радостям и заботам, по старым друзьям, по нашей улице, по заливчатым трамвайным перезвонам. Хоть маленький городишко этот был совсем тих и неспешен жизнью своей, но всё же вид его обозначал для меня переход к совсем иному, нежели прежний деревенский, способу существования — к иному быту, к иной манере общения с людьми, к иным приёмам поведения, к иным ценностям — к иному восприятию реальности вообще. Ощущение инако-существования моего в городе и в деревне было во мне неколебимо.
И вот странно: если при переезде из деревни в город маленький городок обретал для меня все приметы его близости городскому бытию, то при поездках в деревню облик того же городка становился несомненным знаком существования негородского. Я мгновенно выделял в нём все приметы жизни утраченной и вновь обретаемой — и они отзывались во мне радостным чувством совершавшихся во мне перемен и обновления.
Этот городок находился, как мне порою представлялось в те годы, не просто на границе, но — на грани двух миров (двух цивилизаций, двух мироощущений для меня — так попытался бы я теперь сказать точнее) — и переход из одного в другой поэтому не мог не напрягать всех моих ощущений, не отзываться в моей душе. Вот и теперь: дожидаясь своего автобуса, я уже не сомневался в том, что уже начинается та перемена во мне, которой я с такою неистовою силою жаждал,— я знал, чувствовал, что робко, почти незаметно, но начинается моё вхождение в прошлое, обретение утраченного. Я уже представлял себе мысленно ту дорогу, по которой поеду сейчас,— вспоминал, как когда-то шли мы по ней пешком... вот наконец покажется за пригорком верхушка колокольни, потом вся старая церковь, “церковь Дубровского”, а уж после, ниже у реки, и вся деревня за нешироким полем, через которое угадывается извилистая тропка, сбегающая прямо к нашему дому. Дорога же резко свернёт в сторону, снова в лес — и на опушке его забелеет, как и прежде, высокая фигура солдата с автоматом: памятник на братской могиле.
В наших местах в войну, в сорок первом году, самые бои шли, и даже годы спустя находили то тут то там спрятанные в земле мины. Помню, как прочёсывали наше поле и лес специально присланные сапёры с миноискателями — после того как нашли старую мину прямо посреди футбольного поля пионерского лагеря, что неподалёку от нашей деревни. Помню, как пионеры, проходя строем мимо братской могилы, отдавали ей салют, а если в отряде шёл горнист, то он торжественно трубил, а барабан вторил его горну. Война была ещё так близко, и люди жили памятью о ней. И я, хотя и не знал войны, тоже жил этой памятью и искренне понимал, что нельзя просто равнодушно пройти мимо памятника. Теперь, заглушая привычный скепсис, я не побоюсь снова назвать то чувство, которое испытывал тогда, проходя мимо братской могилы,— священным,— хотя ныне утратил его, как и многое за прошедшие годы.
“Да, я обязательно пойду к тому памятнику,— думал я, уже сидя в автобусе,— но сперва нужно к нашему дому... там кто-то незнакомый теперь... хотя бы в палисадник... попрошу пустить... интересно, акации растут ещё?..”
Сплошные акации совершенно закрывали наш дом со стороны деревни. Помню, куры любили, разгребая рыхлую землю, устраивать себе под акациями пыльные ямки, в которых сидели подолгу, время от времени встряхиваясь и поднимая пыль. Помню, как на акациях созревали обильные стручки, из которых, пока они были зелены, мы делали себе пищики; потом стручки темнели, становились жёсткими и лопались с треском, разбрасывая семена. Под самыми окнами вокруг дома шла утоптанная плотная дорожка, на ней в жаркие дни появлялись большие трещины, в дождливую непогоду стояли лужи, а в ливень бежали струистые потоки — из сада к калитке на деревню.
В набухшие влагой ненастные дни я любил глядеть, как жалобно гнутся на ветру кусты и деревья, размахивая ветвями, как будто умоляя о чем-то судьбу. В низинах и у воды начинает всё явственнее густеть туман. Отовсюду тянет запахом сырой земли и травы. Замычит где-то корова, и кажется, она тоже жалуется всем на холод и судьбу. И хорошо сидеть у окна, слушать треск в печи, смотреть, как идёт мимо по деревне редкий мужик, месит грязь сапогами. И вдруг заметить, как сорвалось в саду и упало на землю с неслышным стуком тяжёлое яблоко. Тогда можно выбежать на миг прямо под дождь и тут же мчаться обратно, и передёрнуть плечами от озноба, очутившись снова в тепле,— и яблоко брызнет соком у тебя под зубами.
Яблок у нас было много — и какой дивный запах поселялся в доме, когда постепенно начинали заполнять ими старый шкаф и большие ящики, стоявшие в нежилой горнице и в сенях!
Яблоки — это уже конец лета, осень, близость отъезда, последние деньки, счастье которых я только теперь сумел осознать полностью.
И вот теперь, в один из таких милых моей памяти погожих дней на исходе августа я вновь пройду по тропинкам моего прошлого, увижу с высокого берега лесные дали за рекой, услышу шум боровых сосен, загляну в темноту старого омута.
День был редкостный своею погодою. Солнечный свет, как и в давние времена, золотил воздух и стоящие вдоль дороги берёзки — даже сверх меры: обычно в это время желтизны на деревьях почти не заметно, нынче же даже палого листа было немало по опушкам среди увядающих иван-да-марий, зверобоя и редкого тысячелистника. Видно, осень поспешала очень быстро. Над самой дорогой впереди возникли две бабочки, тоже золотые — бабочки-лимонницы, как называли мы их в детстве,— замелькали, закружились и исчезли в солнечных лучах.
Я вспомнил, как над светлыми полянами моего детства так же радостно мелькали такие же бабочки, а в шелестящей листве деревьев звучали птицы, и лёгкий ветерок ласково гладил меня. Давно это было.
Мне стало грустно: наверное, невозможно так легко и просто вернуться в дальнее далеко времени — а что разглядишь там отсюда, с расстояния в двадцать лет?
А автобус уже поднимался на пригорок, и уже показалась верхушка колокольни — она стоит, уцелела!— и нервная дрожь тронула меня — и вот я увидел впереди...
...огромный, иссиня-серый водный простор увидел я там, где должна была стоять наша деревня. Церковь уже не возвышалась на горке, а ютилась у самой воды...
Впрочем, это была уже не церковь, а груда развалин, лишь колокольня еле держалась, ещё не успела рухнуть и торчала нелепо над сухим бурьяном. Дорога уже не делала резкого поворота, потому что там, куда нужно было поворачивать, тоже была вода. Дорога тянулась теперь берегом широкого водохранилища, затопившего бывшую речную долину,— по краям его во многих местах стояли в воде мёртвые остовы деревьев. Вблизи развалин церкви был ровный песчаный пляж, а на нём — две сломанных кабинки для переодевания, покосившийся грибок, обрывки газет, старые молочные пакеты и прочий мусор. Особой горкой выделялись ржавые консервные банки. И всюду изобильно — бутылки, целые и битые. Следы костров. Рваная автомобильная камера.
Там, куда уходило шоссе, километрах в двух, виднелись ровные порядки стоявших на пустынном открытом пространстве серобетонных (или шлакоблочных?— кто их там разберёт) домов — вероятно, передвинутая на новое место деревня.
Был бы я одиноким степным волком — я бы выбежал на бескрайний простор и завыл, так что на сто вёрст в округе у людей стыла бы кровь от ужаса. Был бы я простой деревенской бабой — я бы бросился на землю и зарыдал в голос, и царапал бы её, срывая ногти. Был бы я художник — я бы вылил свой вопль в неведомый доселе шедевр.
Но я просто пустился в обратный путь. Вернулся домой. И больше ничего.
V
Я узнал потом: там водохранилище создали — “для улучшения водоснабжения столицы”. Что ж! Дело нужное.
А я потерял вкус ко всему. Всё моё существование, прежние интересы, привязанности — всё стало именно безвкусным каким-то, пресным. Меня даже спирт, который я начал было потаскивать из лаборатории, не брал: я испытывал от него не будоражащее опьянение, а тяжёлый тупой дурман и злобу на всех. Да я и без всякого спирта как в дурмане каком находился, главное: всё представлялось мне безнадёжно бессмысленным. Всё, что я ни делал, я совершал просто как заведённый механизм, как часы, которые стоят в пустом запертом доме, откуда все уехали,— а часы идут и идут, и отбивают положенные удары, потому что завод ещё не кончился и нет у них собственной воли прекратить всю эту несуразицу.
Я испытывал полную утрату устойчивости, слабость изголодавшегося человека, не находящего нигде и ни в чём насыщения. И совершенно утратил волю. Мне говорили: пойдём выпьем!— я шёл и выпивал; мне советовали: сходи на такой-то фильм,— я шёл и смотрел; меня просили помочь кому-нибудь в эксперименте — прежде я всегда отказывался, а теперь покорно плёлся за просителем. Меня бы и не на то угораздило — да никому до меня дела в тот период не было.
Часто я просто выходил на улицу и бездельно бродил по Москве — в толпе, в сутолоке становилось легче: я как будто подчинялся уличному броуновскому движению, и толпа увлекала меня за собою — мне нравилось растворение моей воли в безсмысленной и безликой воле людской суеты.
Я стал человеком толпы, меня это тянуло. Я пристрастился к спортивным зрелищам, до которых прежде был не большой охотник, начал почему-то болеть за “Спартак” — особенно и привлекала сама нелепость и беспричинность моей склонности: чем мне был так дорог “Спартак”, именно он,— никогда бы я не смог разумно объяснить. Я ходил и на футбол, и на хоккей, заимел новых знакомых среди завсегдатаев стадиона, при первой возможности вопил вместе со всеми от восторга и матерился в сердцах, и спорил до посинения, орал, обсуждая с такими же как я знатоками все тонкости турнирной борьбы. Я забывался во всём этом, и мне становилось легче. Каждый раз я с интересом читал в газетах отчёты о виденных мною накануне играх, и вновь проживал в себе испытанные накануне волнения.
И вот однажды в какой-то, не помню, статье я задержался на неожиданно поразившей меня фразе — подобное и раньше встречалось, но проскальзывало мимо — я впервые задумался над утверждением комментатора, что команды, игравшие такой-то матч, впервые встретились ещё в довоенные годы. Как?! Ведь тех игроков, каких я видел вчера на поле, до войны ещё и на свете не было. Ведь если вдуматься: при любой замене даже одного спортсмена команда становится иною совершенно. Порою это видно, как говорится, невооружённым глазом — по самой манере игры: вышел кто-то на замену — и как будто всех подменили. А тут: встречались ещё до войны!
Впервые я сознал простейшую как “аш два о” истину: коллектив пытаются сделать бессмертным. Пройдёт сто лет, все мы давно в прах рассыплемся, но вчерашняя победа команды будет причислена к заслугам тех парней, которые выйдут на поле с той же эмблемою.
Что значит отдельный человек? Его появление на свет абсолютно случайно — определяется нелепым стечением некоторых необязательных обстоятельств. Он просуществует свой недолгий срок и исчезнет безследно, распадётся на простейшие элементы, и ветер развеет след его могилы. Но безсмертными объявляют себя сообщества людей, большие и малые, тешат тем себя, пытаются в том обнаружить смысл и собственного бытия: они вкладывают свою частицу во всеобщее безсмертие. И кто же посему смеет не признать справедливость того, что интересы этих сообществ важнее стремлении отдельного индивидуя: право на таковое предпочтение основано на безсмертии целого и конечности единичного.
Вот, к примеру, тот орден, что дали недавно нашему Институту,— не отбирать же его, когда вымрут те, кто как бы заработал эту награду своими стараниями. Их заслуга уже не принадлежит им лично — но навеки всем вместе.
Однако с того момента я оравнодушнел к спорту. Я уже не мог болеть ни за какой “Спартак”, ни за какую иную команду. Для меня теперь существование любой команды стало совершеннейшим абсурдом: ведь даже если от игры к игре состав не меняется (чего не бывает) — то и тогда это каждый раз вовсе не те, какие были накануне. Потому что люди-то меняются. “Нельзя дважды войти в одну и ту же реку”. И изменения в каждом человеке не могут не отразиться на всех. Я не могу, если бы и захотел, болеть за “Спартак”, ибо нет неизменного и единого “Спартака” — всякий раз это нечто совершенно иное. Я мог переживать и волноваться, пока не понимал того, но теперь прошлое увлечение потеряло для меня всякий смысл.
Мир окончательно распадался в моём сознании на дробные, взаимонепроницаемые сущности. В каждое мгновение он становился другим и менялся беспрерывно — и я уже перестал понимать, в каком мире я живу, да и существую ли я сам-то, если сегодня уже нет вчерашнего меня, не говоря уже обо мне, о том человеке, который обозначался моим именем десять лет назад.
Пожалуй, я был близок к умопомешательству.
Я как будто нашёл опору для себя: в некотором единстве, хотя и относительном, моего самосознания, отражённом в моей памяти. Но что лежит в основе такого единства — оставалось для меня загадкой. А реальность не поддержала меня в моих воспоминаниях. Оставалось лишь размышлять об идентичности разновремённых церебральных биохимических реакций. Вздор!
Наваждение, которое как будто начало отпускать меня, пока я отвлекал себя зрелищами, растворяясь в толпе, — теперь снова обволакивало меня; я впадал в состояние серого бреда, реальность опять представлялась мне ирреальной — и ничего не хотелось: ни жить ни умирать, ни спать ни бодрствовать, ни есть ни поститься. Время тянулось болезненно и нудно, как шершавая нить, — и нить эта тянулась прямо через моё сердце, и сердце болело, и я хотел только одного: чтобы время остановилось, перестало бы тянуться.
Мои бесцельные прогулки продолжались, хотя теперь я старался выбирать места безлюдные. Я бродил в одиночестве и размышлял — и результаты этих размышлений не радовали меня.
VI
Так я забрёл однажды на кладбище, то кладбище, где я тщетно пытался отыскать могилу недруга моего детства. Теперь я уже не стал искать её, а просто бродил по дорожкам, разглядывая памятники, читая надписи на них.
На одном из могильных камней было высечено: “Он жил...”. Многоточие меня особенно умилило. Вероятно, те, кто придумал столь оригинальную эпитафию, полагали, что сие многоточие придаёт надписи некую особую многозначительность. Право, подумалось мне, подобная банальность претенциозная не заслуживает труда того мастера, который выбивал эти три точки. Что за самонадеянность! А другие — что: не жили?
Сколько жизни, сколько неведомой мудрости, страстей, поэзии — под всеми этими памятниками и крестами! Да, я знаю, найдутся умники, что поспешат возразить: одни живут, но другие лишь существуют, небо коптят. Я скажу подобным олухам так: да что вы за ясновидцы, присвоившие себе право решать, кто живёт, а кто лишь прозябает? Под самой неприметной внешностью, в самом жалком и тусклом существовании — могут таиться страсти шекспировской мощи. А тот человек, о котором все с восторгом вопят: он жил! он испытывал всю полноту бурных страстей! он преодолел все возмущения стихий!— не была ли его внешне столь насыщенная жизнь, не была ли она: всего лишь суетливым бегством к химерической цели, пустой и жалкой? Кому дано судить?
Неподалёку, на невысоком сером обелиске под фотографией совсем молодого паренька позолоченными буквами была запечатлена иная сентенция: “Каждому дню я радовался”. Ну, это вряд ли. Родители явно переусердствовали. Нашёл чему радоваться.
Я вгляделся в фотографию: юное лицо действительно светилось радостью. А может, и впрямь справедлива та кажущаяся нам банальной гипотеза, что уж если родился человек, то должен жить и чувствовать, что живёт, — радостно ощущать полноту бытия. Жить просто: чтобы жить и не мучиться дурацкими вопросами. А если уж этого не дано, то зачем других презирать за радость их?
Пусть так, но радости же часто иллюзорны и быстротечны. Если бы всё радости только! Пожалуй: если одни радости, то они, разумеется, и сами по себе цель.
Однако ведь и тут беспокойные люди отыщутся: а каков смысл в радостях? Зачем они? Положим, тут совершеннейший был бы бред — в таком вопрошании. Но кто запретит? А уж как хоть один раз поставлен будет вопрос — так и не отмахнуться от него. Так и будет, проклятый, в мозгу свербить.
Что толку во всех радостях, когда в результате... снова и снова к одному мысль возвращается... когда в итоге из тебя лопух тот базаровский вырастет — и ничего больше.
И вдуматься ведь: ничего, кроме лопуха. Ничего. Так хоть иллюзиями бы себя потешить. Я и того лишён. Я химик. Хорошо ещё если лопух... Помню, у “церкви Дубровского” что лопухов-то было!.. Ужасно. Тут и верующим позавидуешь: у них хоть конфетка впереди за все муки — загробное блаженство... Да, вот тут на кладбище церковь есть.
По пути к церкви я вычитал на одном из старых памятников: московская купеческая жена. Как почётное звание какое...
Снаружи церкви, у входа, на длинной скамье стоял гроб, возле него несколько человек, да ещё несколько неприкаянно слонялись поблизости. Какая-то пожилая женщина с красным мокрым лицом порывами голосисто причитала над покойником (я разглядел: совсем молодой), мордастый же парень с какой-то неловкой, но снисходительной улыбочкой тянул её за рукав, приговаривая: ну хватит, мать, довольно.
Из церкви вышел моложавый священник — к нему выпрыгнула откуда-то бабка в чёрном платочке и, кланяясь, протянула две ладони горстью, как за милостынею: батюшка, благослови. Батюшка перекрестил её и вложил в протянутые ладони пухлую руку. Старуха поцеловала её и отошла. Видно было, что она осталась весьма довольна совершившимся. “Этому батюшке она уже бабушка”,— усмехнулся я про себя.
Священник тем временем обратился к мордастому парню: “Скажите, а вы верующий — вот крест на вас?” У парня на волосатой груди виднелся крестик на жёлтой цепочке. Он косо взглянул на попа и скривился, крутанув головой. “Зачем же вы против совести идёте, крест носите, если не верите?”— не унялся батюшка. “Он ещё и антицерковной пропагандой занимается”,— подумал я, глядя на служителя культа. Тот укоризненно покачал головой и не сказав ничего более пошёл прочь.
Я ещё раз оглядел всех, толкавшихся вблизи гроба, внимательно всмотрелся в них: так ли уж искренне выставляемое напоказ торжественно-мрачное настроение? Один из стоявших, примерно мой ровесник, встретил мой взгляд и отвечал растерянной улыбкой. Видно, ему захотелось сказать мне что-то. Я усилил выражение вопросительного внимания в своём взгляде. Он ещё раз жалко улыбнулся и пожал плечами:
— Вот никак не укладывается. Когда старик — жалко, но понятно, как будто всё-таки надо. А ведь мы месяц назад с ним на футбол ходили. Смеялся всё. А теперь вот лежит. Странно: ходит человек, а потом вдруг так вот лежит.
Я тоже пожал плечами и отвернулся: чего отвечать! Толочь воду в ступе. Отчего так однообразны и стандартны мысли и реакции наши? Вот примерно то же самое и мне приходит в голову, стоит попасть на похороны.
...А может, это меня хоронят? Я тоже ходил недавно на футбол, тоже смеялся чему-то...
В этот момент кто-то выскочил из церкви и как в панике замахал рукой, громким шёпотом — а чего шептать-то было?— заторопил: “Скорее, скорее, несите! Где же вы!” После небольшого суматошного замешательства и метаний гроб подхватили и все спешно двинулись в церковь. Я вошёл следом.
Помню, в детстве — не мог преодолеть непонятного мне теперь страха перед церковью, перед тёмным замкнутым пространством, которое виднелось в проёме церковного входа. Я и к дверям храма с опаской подходил, а войти внутрь — ни за что меня не могли уговорить. Кажется, вошёл бы— и тут же умер от ужаса. Что так пугало меня тогда? Тёмная тень того страха и теперь во мне колеблется порою, и теперь с опаской вхожу я в церковный полумрак.
В церкви уже стояли три гроба, к ним присоединили новый — и находящийся тут же священник, только не тот, молодой, а старенький и седенький, приступил к соответствующей поводу церемонии. Для меня были совершенно непонятны все её элементы: действия служителя, жесты, их смысл и значение, были почти неразличимы слова произносимых им молитв, равно как и невнятное нестройное пение вторившего ему хора бледных худолицых женщин в платочках. Вокруг же, по всему пространству храма — творилась отвлекающая внимание суета — хождение людей от иконы к иконе, какие-то торгово-канцелярские операции у конторки при входе.
Что это? Бессознательная потребность в самообмане? Во мне была воспитана — отчасти мною самим, отчасти привита другими — трезво-ироническая манера мышления и жизневосприятия, отчего многие элементы совершаемого на моих глазах обряда казались мне не просто нелепыми, но смешными. Во мне не укладывалось тогда: как можно всерьёз участвовать в том, что происходит, что лишено всяческого смысла, что давно превратилось абсолютно для всех в мёртвую лишь форму. Господи, как ещё глупы, как непроходимо глупы люди!
То, что я наблюдал, никак не удовлетворило моего любопытства, но наскучило скоро — и я принялся бродить по храму. Настенная живопись, как и иконы, были весьма невысокого качества. Всюду перед иконами подрагивали пламенем безсчётные свечи, а люди подходили и зажигали всё новые.
Для кого-то — это робкий огонёк надежды. Или нет? Суеверная плата за ожидаемые или оказанные свыше милости? Попытка задобрить своё божество? Или просто бессмысленный обычай? Нет, если бы я попытался обрести здесь успокоение или ответы на измучившие меня вопросы — я, казалось мне, не нашёл бы здесь ничего.
— Колеблешься?— строго спросил меня вдруг странного, ибо отчасти безумного вида старичок в потёртом пальто.— Всегда так. К Богу трудны первые шаги, зато к лукавому легки. Приманчив он, ох как приманчив! Зато потом у Всевышнего радость неизреченная, а у лукавого — тьма и скрежет зубовный. Этот мир всё о телесном беспокоится, а о душе кто подумает? Вот и рассуди.
Может, и справедливы были эти слова, да слишком невзрачен говоривший, и у меня не тот настрой — я промолчал. Старик же упорно взглянул на меня:
— Ну? Что?!
— Да не в коня корм, наверно,— вздохнул я.
Он ещё раз как-то странно посмотрел на меня и сурово отошёл.
Полный ироничного недоумения, я вышел вон. Мысль опять вернулась во всё тот же заколдованный круг и понеслась по нему в сотый и в тысячный и в миллионный раз — всё об одном и том же. Как бессмысленна вся эта жизнь, и как бессмысленно поэтому всё, что делаю и думаю я сам, и как бессмысленны все заботы этих людей, суетящихся и не понимающих тщеты своих стремлений.
Пусть, пусть все эти мысли пошлы и неоригинальны. Я не об оригинальности печалюсь. Я не знаю: как и зачем мне жить.
Осуждайте, клеймите, бичуйте — но что же мне делать, если меня не утешает предсказанное, пусть и научно объективное, будущее социальное благоденствие. Пусть оно даже и завтра наступит — но послезавтра же из меня лопух вырастет.
Да, я признаю: интересы общества выше и священнее моих маленьких интересов и вопросов. Но ведь не могу же я совсем без них.
Я эгоист? индивидуалист? эгоцентрик? Но ведь это и самому мне радости не доставляет. Я потерял сам себя.
Я понимаю и признаю справедливым: общество может и имеет право делать со мною что угодно. Но одно не в его власти: сделать меня счастливым. Я бы и сам хотел, да не могу. Верёвками меня что ли ко всеобщему счастью привязать? На аркане притянуть и привязать.
VII
А жизнь тем временем продолжалась. И всё шло как положено. Я и в Институт ходил, и опыты ставил, и статейки пописывал — а Рост-прохиндей из меня две ценных идеи вытянул. Я ему, считай, треть докторской так-то сделал (а остальное он потом сам украл, когда меня туда сдал). Он явно что-то учуял в моём настроении — даже не то чтобы учуял, а просто своей тактике верен остался: не ослаблять напора и выцарапывать из окружающих насколько сил хватит. Прежде: как только он слишком нахально попрёт на меня — я отпор даю — он почувствует, отступит, и как ни в чём не бывало. Теперь же он меня чуть не за горло брал — а я: будто так и надо. Меня спрашивали: ты к нему нанялся что ли? А мне даже возражать тошно.
Я как будто издалека на всё глядел и дивился только: что за мелькание такое, что за суета! Противно было унижаться до всего до этого мельтешения. Пропади всё пропадом! Мне даже смешно было порою на всех и на всё.
Сидели мы однажды в лаборатории — я, Рост, Шерман и Казакова. Тамара посуду спиртом мыла. Шерман говорит ей:
— Солнышко, не переводи ценный продукт зазря. Давайте лучше тяпнем.
Тяпнули. Я тут Тамару и спрашиваю (в трезвом виде вряд ли спросил):
— Слушай, Тамара, а ты когда-нибудь задумывалась: зачем ты живёшь на белом свете?
— Я думала, ты умный,— отвечает,— а ты в философию вдарился!— говорит и этак снисходительно на меня взирает.— Жить надо просто чтобы жить. И никто ещё ничего умнее не придумал.
— А что значит — жить?
— А вот то и значит.
Я спьяну-то не сообразил попервости, что возразить. Есть у меня такой изъян: медленно иной раз до меня доходит. Бывало и сообразишь, что ответить, да лишь на следующий день — вот беда.
На следующий день я и допёр: жить чтобы жить — тут ведь нулевая информация. Пустая скорлупка. Форма без содержания. Бессмыслица в обёртке глубокомыслия. Ахинея, имеющая, однако, претензию выдавать себя за глубокую и чуть ли не конечную из конечных истину. Тут всё тот же дешёвенький трюк: вместо объяснения подсовывается обозначение. Жить чтобы жить — говорите? Сказать так всё равно что ничего не сказать. Что такое квадрат? Это квадратная фигура. Зачем книгу читать? Чтобы прочитать. Вот тип подобных рассуждений.
Зачем жить? Ради процесса. Чтобы есть, пить, спать, совершать прочие физиологические отправления, расти, взрослеть, стариться и потом идти на удобрение почвы. А зачем всё это?
Те, кто не задумываются, — они своё стихийное понимание выработали: жить значит получать наслаждение от жизни. “Жить надо в кайф!” Старайся получить побольше удовольствий — вот и вся суть.
— А что есть удовольствие?
— А это уж кто как понимает. Нравится книжки читать — читай. Нравится по горам шататься — шатайся. Нравится по бабам промышлять — не зевай.
— Кто во что горазд?
— Примерно так.
— А если мне нравится вам кирпичом по башке шарахнуть?
— Нужно разумно ограничивать себя.
— Ну уж если цель — наслаждаться, то ограничивая свои удовольствия, мы жизнь тем обессмысливаем. А если не ограничивать, то все скоро глотки друг другу перегрызут за собственный кайф.
— А совесть...
— Это уж бросьте! Понятие, смею заметить, вовсе неопределённое. А потом со словом совесть чаще сочетается слово муки. Что опять-таки смыслу жизни противоречит. Как соединить: удовольствие и муки? Я, простите, не мазохист.
Да ведь и не одни же наслаждения в жизни. А остальное зачем? Его, остального, намного больше ведь. Просто списать за ненадобностью, не замечать, не считать и жизнью даже? Поди попробуй — не заметь.
Хорошо: в сторону вопрос — зачем все муки и страдания на земле? Разумеется, на такой вопрос не ответить, то и смысла жизни не отыскать. Но я другого не пойму: а наслаждения-то зачем? Вот ведь тоже до вопроса додумался! И не такой уж он бессмысленный. Опять-таки посмеются: чего спрашивать — наслаждайся и всё, если можешь. А зачем? Я понимаю, что меня за идиота сочтут. Ладно, пусть так. Только вот те умники, кто не задумываются вовсе,— не дурее ли?
Наслаждения имеют одно препакостное свойство: они приедаются. Требуются всё новые, более острые, утончённые и примитивные одновременно — вот парадокс. До той грани доходит поиск наслаждения, где всё неизбежно пресуществляется в извращение и склонность к преступлению. Неизбежно. Оглянитесь — это так.
Читал я как-то рассказ фантастический... автора уже не помню... там в будущем всё... вроде секты тайной... собираются люди и самые великие шедевры живописи, из музеев похищенные, медленно, с наслаждением, в оргиастическом экстазе — уничтожают. Фантастика? Реальнейшая реальность будущего.
Тут гибель всего, если наслаждение — цель. Тут пустота. Хуже страданий. И тягостнее умирания.
Что там картины — человеков станут живьём пожирать, и медленно, чтоб подольше помучился.
VIII
На тех путях-перепутьях, где искатели истины скитаются, давным-давно всё хожено-перехожено, езжено-переезжено. И столько во все стороны направлений обозначилось — со счёту собьёшься.
И чего только не наговорят те, с кем доведётся столкнуться на иной стёжке, сквозь дебри пробираясь. Натопчут свою собственную и манят: иди за мною. А я смотрю: куда ни поверни — одними лопухами всё заросло.
Вот лопух проклятый! Привязался — не отвяжется. У нас Сашка Боков тайно корень лопуха копает: от лысины отвары делает. Вот тебе и вся суть. Живи — чтоб плешивых потом меньше стало.
Всё же отважусь сказать: жить — это значит: знать, для чего живёшь, и следовать тому.
А для чего мы живём?
IX
А мы и не живём. Мы — играем.
Можно ведь притвориться, будто знаешь всё. Можно поиграть в особую игру: в жизнь.
Можно не печалиться о постижении законов и смысла жизни. Можно произвольно установить их для себя самим, со всеми в том условившись и притворившись, будто эти-то ценности и ценны. И уже не нужно сопоставлять понятия добра и зла с неизменной шкалой всеобщих эталонов платино-иридиевых. Можно изготовить и разметить их собственноручно.
И следовательно: всё условно, вечных ценностей нет. Условно — любой может признать себя самым гениальным гением: это поможет человеку избавиться от любых комплексов. Измыслить несуразное звукосочетание и сказать, что гениальнее Пушкина. Это поможет обрести устойчивость. И труда никакого не нужно к тому прилагать.
Можно менять правила в любой момент: они же условны. Менять, сообразуясь с собственной выгодой. Сегодня я превознесу кого угодно до небес, а завтра продам его с потрохами. И буду чувствовать себя правым.
Правило же едва ли не главное всегда: я начальник, ты дурак.
Вон Рост — я никогда не сомневался: когти будет рвать — выбьется в начальники и начнёт себе чужое приворовывать откровенно, в знаки собственного отличия превращать. И ведь как в воду я глядел.
Вот недавняя хотя бы история. В соседней с моею (бывшей, бывшей моею!) лабораторией полимер некий произвели на свет. Случайно, в общем-то. Занимались совсем другим, а тут вдруг попутно — сами не ожидали — схимичили. Бывает. Смотрят: вроде ничего вышло. И на выставку какую-то там. Рост и не знал ничего. Ну, пока это дело тянулось, то да сё, формальности всякие и прочее — все и думать забыли. Вдруг как с неба: золотая медаль и две серебряные — по разным параметрам оценки. И кому же? Золото — Росту, по серебряной — завлабу и руководителю группы. А тому мужику, какой всё и сделал,— благодарность в приказе директора. Хоть бы четвертной на премию выделил, сукин сын! Так ведь многие считают, что всё по справедливости, что всё так и надо. Играй, ребята!
Да что медаль с выставки — так, между делом. У него в послужном списке трудов научных и не сосчитать — почти все, разумеется, в соавторстве.
Прочь все пророки! Не мешайте нам играть! не лишайте нас наших иллюзий!
Жизнь слишком сурова. А мы не хотим ничего принимать близко к сердцу. Вот мы утратили наши сокровища — а это и не сокровища вовсе — это просто камешки — наберём новых — и опять всё распрекрасно. Вот кровь хлещет фонтаном — но это не кровь, а подкрашенная водичка, клюквенный сок. Неужто кто-то хочет истекать настоящей кровью?
Мы поняли одно: это прекрасно, что мы не знаем истины. Истина деспотична. А мне хочется, чтобы хоть изнутри меня никто бы не распоряжался мною.
Но как всё это хрупко и ненадёжно. Стоит по-настоящему задуматься — начать задавать себе вопросы — и настоящая кровь брызнуть может. Только бы не думать! Только бы не думать!
Мы стараемся оглушить себя. Развлечениями, алкоголем, спортом, газетами, политикой, ритмами рока, сидением у “ящика”, суетой, видимостью дела. Да и самим делом.
Не потому ли и стал нашим идеалом человек, который “не может ни минуты усидеть без дела. Именно: не может. Вот подлинная доблесть. Да я без дела с ума сойду!” — типичная убеждённость многих. Потому что без дела придётся думать. А это страшно. От этого и впрямь с ума сойти можно. Я-то знаю.
Помню, зашёл к нам в лабораторию некий наш сотрудник институтский, а я сидел в окно смотрел.
— Ты чем занят?
— Думаю.
— Лучше бы делом занялся.
Не в упрёк сказал, а так — по инерции.
Уже совсем недавно, когда я уже оттуда вышел, мне дали прочитать статью в газете про Роста — какой он прекрасный человек, учёный и директор. Ну, это мне и без газет известно. Но там любопытный эпизод один. Журналист повествует, как Рост в отпуск с женою (правда, не уточнил: с какою именно) на юг поехали. Дикарями. Опять же демократично. Поставили палаточку на берегу морском в уединённом месте. И тут-то оказалось вдруг, что делать совершенно и нечего. Не всё же море да любовь. А в промежутках что? И вот Рост принялся камни таскать и отгораживать (зачем — автор так и не объяснил вразумительно) небольшую бухточку каменной дамбой. Последний камень был уложен в день отъезда. И то, что Рост бессмысленно камни у моря ворочал,— представлено было почти как подвиг: вот какой активный и энергичный герой нашего очерка!
Это вы другим сказочки рассказывайте — я-то Роста знаю. Испугался он. Хотя, может, и сам о том не догадался. Потому что когда человек вдруг лишается возможности отвлечь себя внешней суетой — вот тут он, хочешь-не хочешь, а вынужден на самого себя (и в самого себя) в упор взглянуть. Нет уж — лучше в камушки поиграть. Есть, правда, люди с такой сильной фантазией, что ею, как завесой дымовой, отгородиться от мира могут. Но Рост всегда отличался скудостью воображения. И думать — то есть быть способным задавать себе страшные вопросы — он никогда не умел и боялся.
Помню, в идиллические времена Рост развивал передо мною теорию, что двигателями истории являются так называемые люди дела, которых цель — деньги делать. У нас они, дескать, для явно общего блага этим заняты, а на Западе — хотя как будто и из эгоистических соображений, а по сути, тоже на общество работают. Теория не оригинальная, впрочем.
По-моему, в данном словосочетании — делать деньги — не на том слове ударение ставят: всех, разумеется, деньги привлекают. Но ведь деньги при их росте с некоторого момента превращаются в некоторую же и абстракцию. Иметь миллиарды долларов, допустим, и стремиться к увеличению состояния ради него самого — было бы чистым безумием. Не деньги, но: делание — вот приманка. Я уверен, что так называемые деловые люди — суть особи, лишённые творческих талантов, воображения, способности к высшим переживаниям. И всё это они компенсируют деланием денег, самоутверждаясь таким примитивным способом. Их мир настолько беден, что без своего дела они быстро деградируют.
Хотя: от самой мысли, что ты, например, богаче всех на свете — неизъяснимый восторг в душе может возникнуть. Тоже цель заманчивая.
Ну, а если вдруг нечего делать — так хоть камушки потаскать.
Чем бы дитя ни тешилось...
Теперь вот жалуются мои коллеги бывшие, весь Институт лихорадит: Рост, кажется, о нобелевских лаврах возмечтал — и мечется, вынюхивает, за что бы ухватиться, чтобы верняк был. То одну начнут тему — не кончат, бросят на пол пути — за другую хватаются. И ведь всё мимо.
Дурак — Рост! Зря он меня тогда заложил. Я бы ему это дело вытянул. Знаю, где жар-птица скрывается. Я бы и изловить её смог. Не хвастаясь говорю. Я бы его и в соавторы по собственной воле взял, потому что: чего у него не отнять, так это проходимости и хватки, а без них нынче нельзя — у меня же от того с души воротит — и не миновать нам было в одной связке с ним очутиться. Прекрасное бы вышло “творческое содружество”!
Да ведь: хоть десяток нобелевских премий — оросительную систему для лопухов на те деньги сооружать?
А пока живу — мне есть чем себя утешить: я знаю, кто из нас с Ростом чего стоит.
Кто чего стоит — я знаю. Всем грош цена. Это только такие как Рост могут утешаться, что их не ниже чем на Новодевичьем похоронят...
X
Но жить как-то же нужно было. Я вновь прежнее время вспоминал — и вот странно: тогда, в минуты сильнейших недоумений, так же, как и потом — там — и теперь — ни на миг не являлась в голову мыслишка: коли нет смысла, так зачем и небо коптить? Мало ли способов — сбежать... То ли слишком велика во мне жизненная сила, то ли оставалась несознаваемая вера, что есть же разгадка, есть ответ — а если я не могу его отыскать, то не значит же это, что нет его вовсе.
Надо было только как-то устроить её, эту свою жизнь, с которой расставаться я и не помышлял, — нельзя же неподвижно на диване лежать, в потолок глядя. Собственно, и проблем особенных не было: направление движения давно задано, всё изначально предопределено. Я продолжал работать, время шло. Всё было как всегда.
Ну — рвения прежнего не имелось, да Росту не мешал попользоваться кое-чем. Так-то вот и год пролетел.
Я тогда себе цель положил: обрести для себя как можно большую степень свободы. Уж если заниматься работой, то чтоб никаких побочных соображений — а так, из одного лишь чистого любопытства. По такой примерно схеме: а что будет, если вот этот порошок вон в ту жидкость всыпать? И чтоб ни выгоды никакие не смущали, ни соображения практической пользы, ни угрозы начальства, ни критерии научной перспективности, ни степени, ни мысли о повышении зарплаты — ничто.
Вот сравнить для примера просьбу и приказ. Просьба ведь предполагает возможность выбрать: хочу — сделаю, не хочу — нет. На всё моя добрая воля. А уж приказу и возразить не смей. Я в просьбе никогда не отказываю, а от приказа всегда, хоть бы и неприятнейшие неприятности мне грозили, всегда старался уклониться.
В то же время: как ни хорошо сознал я порочность стремления к жизненным удовольствиям, натура постепенно брала своё — и отказываться от них я уже не собирался. И если я даже был уверен, на опыте убеждён, что все они, в конце концов, могут мне осточертеть, так ведь в том ещё не повод, чтобы отказываться от них, пока этого не произошло окончательно.
Именно: зачем бы мне от них отказываться? Смысла в них нет? Так ни в чём его нет. В аскетическом самоистязании тоже особого смысла не сыскать, сколь ни пытайся. Жизнь свою в удовольствиях можно сгубить? А коли в ней смысла нет — чего и тужить...
Зачем удовольствия, наслаждения? То-то и оно, что низачем. Нравится — и ладно. Всё остальное — измышления нашего больного и равнодушного ума. Бесспорно лишь чувственное и осязаемое наслаждение.
При нынешнем уровне развития общества наивысшую степень возможной свободы — сколько ни крути вокруг того словес — помогает достичь лишь одно: деньги. Мысль опять же пошлая, неоригинальная до отвращения, но — верная. Зачем мне ждать того, чего я уж и не дождусь — будущего всеобщего процветания? Нет: мне теперь подавай! Я уж на то раззадорился.
Деньги, кроме того, имей я их много помимо зарплаты, помогли бы мне обрести внутренний иммунитет против смущающих покой мыслей о неизбежной корысти, примешанной к моей увлечённости делом, о материальной зависимости моей от работы. Сознание независимости представляло для меня немалую ценность.
Мне нужно было: чтобы я работал и знал: я работаю, потому что хочу работать, а не потому, что обязан работать. Ради куска хлеба. Пусть даже и с маслом. Лучше с икрой.
Все мои умозаключения с закономерной последовательностью приближали меня к тому выводу, к которому мне неизбежно было прийти.
Где взять денег? Теоретически — можно получить большое наследство. Но зачем говорить о случае с нулевой вероятностью?
Можно реализовать свой труд и талант. Однако: исходный момент всех моих рассуждений в том и заключался, что я согласен был вкалывать, но — непременно бескорыстно.
Последняя реальная возможность достижения данной цели — найти дорожку в обход закона. Я не находил в том ничего дурного. В законах я видел не более чем условность, определяемую людьми, временем и пространственными координатами. Тут тоже не более чем игра. Ведь: что принято одними людьми в таком-то месте и в такое-то время как добро, другими людьми в другом месте и в иное время может быть сочтено злом. Да люди могут и обмануться. Одно и то же общество по прошествии времени может кардинально изменить свои критерии оценок. В одно и то же время в разных частях света отношение людей к одному и тому же явлению может быть прямо противоположным. Таким образом, критерии истины оказываются весьма неопределёнными. Всему тому история даёт бесчисленные доказательства.
Другое дело, что за нарушением закона, поскольку он так или иначе, но установлен, может последовать наказание. Но здесь, во-первых, нет стопроцентной вероятности, а во-вторых, это не имеет никакого отношения к нашим внутренним критериям оценки добра и зла. Я не могу, допустим, считать взгляды и убеждения Джордано Бруно дурными только на том основании, что какие-то конкретные люди сочли необходимым сжечь его на костре.
Законы же нравственные, если к ним подойти не с иррациональными эмоциями, а чисто логически,— имеют ещё большую степень неопределенности. И также весьма относительны. Так или иначе, но законы эти всегда связывались с интересами той или иной общности людей. Почему же отдельный индивидуум не может связать их со своими собственными интересами?
Разумеется, общество имеет возможность не признавать индивидуальные интересы нравственными и законными, выдвинуть требование подчинить их интересам всеобщим. Но индивидуум тоже может не признать подобных притязаний общества.
Общество обладает лишь одним преимуществом: в силе, которая обеспечивает ему возможность применять наказание к преступившим его законы. Но это, ещё раз скажем, не имеет отношения к критериям нравственных оценок.
В конце концов и в начале начал — речь идёт о внутренних убеждениях и устоях человека, которыми он только и станет руководствоваться в тех случаях, когда приобретёт уверенность и надежду, что общество не сможет осуществить в приложении к нему свои карательные функции.
Я, например, никогда не украду у ближнего своего даже копейки — именно потому, что внутренне настроен против такого поступка, а не из страха наказания. Но, положа руку на сердце, я не видел ничего дурного в невиннейшем ограблении какой-нибудь сберкассы. Во-первых, от этого никто не пострадал бы лично. Во-вторых, если украсть даже миллион, то в пересчёте на одного жителя нашей страны вышли бы десятые доли копейки. Стоит ли шум подымать из-за такой мелочи?
Кто-то вставит тут шаблонное возражение: но что будет, если все так начнут рассуждать? Не беспокойтесь: не начнут. Лучше задуматься вот над чем: поскольку сберкассы всё-таки грабят, значит, есть люди, которые так всё-таки думают, а пока существуют такие люди, будет сохраняться и потенциальная возможность преступления. Сила закона в борьбе с такими людьми обществу мало поможет.
Создайте во мне такое внутреннее убеждение, что то, что вы считаете злом, есть зло на самом деле. Что: кишка тонка?
Сам-то я грабить сберкассы вовсе не собирался. У меня был более доступный и, как мне казалось, безнаказанный способ достигнуть своей цели. Я мог делать то, что уже много раз делал для своего шефа.
Синтезировать наркотики.
XI
— Ты хочешь продавать людям наркотики?
— Спрос рождает предложение.
— Ты хочешь наживаться на болезни человека?
— На его стремлении к наслаждению.
— Наслаждению на ничтожно малое время?
— Но разве существует вечное блаженство?
— За наслаждением его ждёт страдание.
— Это его личная печаль. Я никого ни к чему не неволю.
— Ты толкаешь его к гибели.
— А вы можете гарантировать ему безсмертие?
— Но человек, которому ты продашь свою отраву, будет деградировать как личность.
— Зачем ему сохранять свою личность?
— Чтобы жить полноценной жизнью.
— А что такое полноценная жизнь?
— Жизнь с наибольшей пользой для общества.
— И почему же кто-то должен жить с пользой для общества?
— Мы все в долгу перед обществом. Пора бы понять это.
— Не надо говорить мне о долгах. Мы не на собрании.
— От развитого общества, от общественного благосостояния зависит и твоё личное благо.
— Моё личное благо зависит от моего кармана. Общество меня лишь сковывает.
— Ты думаешь, тебе удастся обрести свободу от общества?
— Я сделаю для того лишь то, что в моих силах.
— Закон накажет тебя за это.
— Я постараюсь укрыться от закона.
XII
Подтолкнуло меня к таковому деянию знакомство с прелюбопытными индивидуями, адептами оккультизма купно с верою в летающие тарелки.
Началось всё встречею, случайною совершенно, с некиим приятелем Роста, зашедшим к нам с какою-то, теперь уж и не помню, приватной просьбой... Стоп! Вдруг в ум пришло: не нарочно ли тогда Рост начал этакую-то мину под меня подводить? С него станется. Может, он и не наверняка рассчитывал, а так — наудачу пальнул, с дальним прицелом пальнул. Возможно, подумал: вдруг что и выйдет из того, а не выйдет, так и шут с ним — пусть дело начнётся, а там поглядим.
Нет, скорее, грешу я на него понапрасну, зря грешу. Всякое в ум взбредёт. У меня как комплекс навязчивых идей появился: во всём козни Роста усматриваю. Мания своего рода. Но разве так уж невозможно: зазвал он своего так, ненавязчиво зазвал, будто тот сам явился — и пошёл краснобайствовать.
Трепач был редкостный, виртуоз, можно сказать, в своём деле. Манерою изъясняться он отчасти походил на самого Роста: изрекал всё неуловимо свысока, как будто считал собеседников не вполне способными понять некоторые вещи сразу, и не просто ораторствовал, а одновременно как бы растолковывал то, что для него проще пареной репы, а для прочих — премудрость за семью печатями.
Начал он, помнится, с того, что разделил человечество на две неравные части — щекотная мысль — на мыслителей и потребителей.
— Из всей толпы лишь процентов десять имеют эту несчастную способность: думать,— разглагольствовал он, сидя в углу и крутя в руках какую-то колбу, которую преблагополучно и разбил в конце концов.— Что поделаешь: статистика! Давить бы их надо, чтоб не мешали, мыслителей этих,— добавил он отчасти самодовольно, кокетливо подмигнув самому себе: вот-де я каков: из тех, что давить бы надо, а всё же не станет никто давить, нечего бояться, так что можно и покалякать о том не без приятности.
Затем он долго и, надо отдать должное, весьма красно толковал об оккультизме и всяческой мистике. Три часа язык чесал. Суть же была вот какова.
Человека, как установила наука, вполне можно назвать механической биомоделью. Но он сам ощущает себя сущностью вневременной, хотя жёстко привязан к своему времени. Отсюда внутренний дискомфорт и прочее. (Но откуда же у машины столь немашинное восприятие мира?— забрезжило во мне ненадолго.) Образовавшуюся нишу в эмоциональном самосознании (хитро!) когда-то заполняли разного рода религии и культы. Но нынче произошёл кризис веры, и кризис вообще всего старого мира со всеми его ценностями. Поэтому вместо веры теперь пошли — свято место пусто не бывает — разного рода суеверия. Вот тут и оккультизм, и летающие тарелки, и прочая телепатия вкупе с телекинезом и левитацией.
Хорошо это или плохо? Все явления и хороши и плохи одновременно. Смотря по тому, какова точка отсчёта. В любом отрицательном явлении можно найти положительное и наоборот. Собственно, оценка по системе “хорошо-плохо” вообще не годится. Но уж коли оценивать, то мистические явления последнего времени явления суть весьма положительные.
Говоря об оккультизме, он, кстати, упирал на сугубо научную его сущность. Логика тут была не нова: первобытному дикарю многое из обыденного для нас показалось бы сверхъестественным, но ведь и мы не более чем дикари по отношению к далеко отстоящим от нас впереди поколениям — так почему бы не попытаться предвосхитить хоть в чём-то их достижения? А поскольку развитие человечества пойдёт далее отнюдь не по пути развития технической цивилизации (она уже близка к исчерпанию себя и ведёт, что всем стало ясно, в тупик), то следовательно, начнётся активизация духовного начала, освоение новых структурных уровней бытия и выход на те явления, которые в непросвещённые времена почитались за колдовство, магию, а теперь же обозначаются как телепатия, взаимодействие биополей, ну и всё прочее такое.
Я по размышлении пришёл к выводу, что тут просто ещё одна логическая система, каких много нынче скопилось в области мыслительной умственности и умственной мыслительности, как то: в философии, в науке, в эстетике, этике — и даже одновременно в чистейшем эмпиризме, как ни странно. Одно лишь всё сие логистика, созданная для самоуспокоения и самоодурманивания. Но может, я ошибаюсь?
Когда у нас недавно зашёл о том разговор с Назаровым, у него всё просто оказалось: лукавый мутит. Ну, от Саши чего и ожидать? У него всё: либо свыше, либо от нечистого.
— Пожалуй, здесь повторение первородного греха ещё на одном витке: попытка проникнуть в область запретного знания,— сказал он как о чём-то давно для себя уяснённом.— Соблазн псевдодуховности. Самый коварный, без сомнения.
Легко ему: сказал так — и думать уже не надо.
Соблазн-то, соблазн — я и прежде что-то подобное смутно ощущал, но ведь на то он и соблазн, чтобы им соблазниться. И всегда ведь мыслишка подстерегает: а вдруг и впрямь что-то такое есть? Притом: весьма научное, хоть и не признанное пока.
Вот на что приятель Роста и напирал: не обязательно сразу соглашаться, но придерживаясь научной точки зрения, надо же и исследовать эмпирически. А вдруг и впрямь что-то есть?
Я его спросил, помню: так что же тут — наука или суеверие, как он вначале утверждал. Он опять принялся долго и свысока растолковывать, что такой вопрос вообще неправомерен, поскольку наличие бесконечного множества точек зрения на нашу призрачную действительность не позволяет делать категорических оценок и дефиниций. Нельзя вообще разграничивать науку и суеверие. Только вульгарный ум может ставить проблему в одной плоскости и искать единственно верных критериев, каких в природе просто нет: мир многообъёмен, многомерен и в высшей степени лишён определённости. Каждый может выбирать себе точку отсчёта, руководствуясь собственными вкусами и пристрастиями,— нужно только и за другими признать их право выбора, то есть свободу.
Двойственное у меня от всего от этого осталось ощущение: и нравилась мне декларированная свобода, и неуютен сей свободный и многомерный мир казался: как будто проваливаешься куда-то в бездну и барахтаешься без надежды обрести опору.
Но вообще эти рассуждения хорошо на моё настроение тогдашнее ложились. Да и зазорно было себя к вульгарным умам причислять. Знал, подлец, как противника одним махом обезоружить.
Тут вечная моя слабость: я как будто подпадаю под влияние подобных людей, хоть ненадолго, но подпадаю: такой неоспоримой представляется вдруг их жёсткая логика — хочешь, не хочешь, а принимай. И ведь как будто что-то угадал он во мне...
— А что, есть такие, кто к мистическим переживаниям некоторым эмпирическим макаром и прикоснулись уже — из простых смертных?— спросил я.
— Так о том масса письменных свидетельств,— отчасти даже удивившись моей неосведомлённости, ответил он.
— Да нет, мне чтоб живьём таковых увидать.
— Могу,— он самодовольно кивнул.— Я вхож в эти круги. У меня много знакомых парапсихологов.
— И когда же?
— А вот хоть бы и завтра.
Мы условились о встрече на завтра, чтобы пойти затем к живым мистикам и телепатам. Когда я позвал с собою Роста, он снисходительно отмахнулся.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Но как поразительно изменчива личина человеческая! Когда на другой день мы вошли в какой-то темноватый полу подвальчик, где застали многолюдное сборище индивидуев, столь значительно молчавших, как если бы они являлись хранителями наиважнейших тайн (и я подивился: неуж так много народу запросто общается с потусторонними силами?) — меня поразила метаморфоза вчерашнего Цицерона: он с почтительнейшей приниженностью обратился к некоему долговязому худощавому субъекту, представляя меня и как бы прося прощение за самовольное приглашение в святая святых столь сомнительного типа, как я. Тощего субъекта звали Гришей — все эти мистики называли друг друга исключительно по именам, независимо от возраста,— и он явно почитался среди прочих за старшого. Гриша, впрочем, отнёсся ко мне весьма доброжелательно, в отличие от некого Виталия, тоже, по всей видимости, из местных вожаков,— тот снисходительно, полуиронично даже, выспросил меня, знаю ли я что-либо из оккультной литературы, и получив отрицательный ответ, значительно покачал головой, как бы подтверждая своё изначальное предположение о моём невежестве и ничтожности. Цицерон же мой (каюсь: совершенно запамятовал его имя, да и то: с тех пор я ведь и не встречал его ни разу) понимающе перемигнулся с Виталием и чуть заметно развёл руками, одновременно и извиняясь и подчёркивая нечто сближающее их, посвящённых в высшую премудрость, и незримо превозносящее надо мною, убогим. Хотя и тут Цицерон не изменил своего подобострастного выражения.
Я, не вполне ещё освоясь, стал осматриваться — и обнаружил, что присутствующие, представлявшиеся мне поначалу глубокомысленными молчальниками, вовсе и не молчат, но создают некое висящее в пространстве кружение голосов. Я попытался вникнуть...
“...на астральном уровне... переход в ментал важнее... он же достиг состояния самадхи... Кришнамурти распустил “Орден Звезды” — это ведь имеет сакральный смысл... эти энергетические уровни нам вполне доступны... тогда как Елена Ивановна Рерих прямо свидетельствует... йог полностью усваивает прану, поэтому и может обойтись... чёрная ложа постарается, конечно, не допустить, но разве можно противостоять священной Шамбале! ...Блаватская, конечно, много даёт, но ведь уже и “Агни-йога” не последнее слово... нет, в ведизме мы видим полное отречение от воли и ответственности, а этот уровень весьма высок...”
— Но разве отречение от воли и ответственности так уж хорошо?— осмелел и спросил я.
— А как иначе вы изживёте собственную карму?— как о чём-то само собою разумеющемся ответили мне.
Меня привлёк разговор в группе, сплотившейся вокруг Виталия.
— Даже президент США признал необходимость исследования состояний, вызываемых наркотическими воздействиями,— рассуждал некто.— Конечно, невежественные люди воспринимают всё на заведомо примитивном уровне, но такова участь всего, что не укладывается в рамки понятий, выработанных заурядными умами.
— Когда у одного гуру в Индии спросили о наркотиках,— вставил своё слово Виталий,— он ответил примечательно: Бог должен был превратиться в порошок, чтобы люди заметили его.
Все закивали головами, как китайские болванчики, давая тем понять окружающим: ну я-то, как и все мы,— мы понимаем с вами, сколь глубока эта мысль.
— Тут ведь возникает возможность преодолеть структурные преграды между различными уровнями бытия.
“Надо запомнить”,— мелькнуло у меня, хотя я и сам не сразу сознал, какой мне от того прок.
Я заметил, что все присутствующие, хотя и казались поглощёнными каждый своею высокоумной беседою, постоянно оглядывались на Гришу, отрешённо стоявшего в стороне от всех. Как будто чего-то ожидая.
— Скажите, я здесь впервые, а кто этот Гриша?— обратился я к весьма симпатичной девице, которую высмотрел среди прочих.
— Ну!— благоговейно и с нежностью в голосе ответила она.— Он же Посвящённый. Учитель.
Признаться, устыдился своей серости и не спросил, а что же за зверь такой — Посвящённый. Вероятно, догадался сам, обладающий каким-то особенным знанием.
Но вот что занимало меня: неужели все тут обладают мистической силой и опытом? Я разыскал отдалившегося от меня Цицерона и спросил его о том.
— Нет, конечно,— только и ответил он, потому что Гриша в тот самый момент начал говорить, и все мгновенно принялись внимать его словам.
Он говорил много и складно — о духовных монадах, составляющих основу бытия; о некоторых людях, представляющих собою лишь материальную оболочку без такой монады; о необходимости освоить выход в астрал как о первой ступени на подъёме, уводящем к высотам освоения энергетических стихий; о способности особо просветлённых личностей сосредотачиваться на своём внутреннем состоянии, черпая из него энергию высших постижений...
— Знаете, Гриша, вот интересно, что экзистенциалисты близко подошли к этим проблемам и уверяли...— перебил Посвящённого какой-то неискушённый вьюнош, но Гриша тут же остановил его — я видел, что Грише было даже не то неприятно, что его перебили, но больше: само упоминание о чём-то, ему неизвестном (я почувствовал: именно неизвестном),— и он высокомерно заметил:
— Не надо ярлыков, я буду говорить о вещах более глубоких.
И вновь полилась плавная речь, часто перемежаемая одною и тою же фразой: “Наука этого ещё не знает, это ей только предстоит открыть”.
Мне хотелось спросить, откуда же ему известно то, что ещё и наука не успела открыть, но, признаюсь, заробел: я предчувствовал, с каким презрением и негодованием воспримет аудитория мой вопрос. Я всматривался в Гришу и видел, что он упоён тем благоговейным вниманием, с которым все внимали его словам. Если вначале он был сдержан в жестах и движениях, то под конец восторг перед самим собою настолько уже распирал его, что он начал незаметно для себя самого и внешне совершенно беспричинно подхихикивать своим речам, изгибаться всем телом, и при этом то садился на низенькую табуретку, то снова вставал, а то вдруг, усевшись, балансировал на двух её ножках, ловко удерживая две другие на весу, подбрасывал и тут же ловил неведомо откуда очутившуюся в его руках книгу — но всех сих манипуляций как будто вовсе и не замечал никто, наоборот, многие пытались бессознательно проделать нечто подобное и сами.
Своё выступление Посвящённый завершил пространным рассуждением о неизбежности существования сложной иерархии богов — и высмеял в связи с этим все монотеистические религии.
Когда пророк смежил уста, все пребывали в состоянии сильнейшего возбуждения: как будто у всех глаза раскрылись на нечто неведомое им доселе. Особенно бесновалась та девица (а может, и не девица — не проверял), что аттестовала мне Гришу как Учителя — она перемещалась по всему пространству, с сияющими глазами заговаривала то с одним, то с другим — и напоминала мне осеннюю ошалевшую муху, которая будучи разбужена какою-то случайной причиною, летает очумело с громким жужжанием, мечется, ударяясь о возникающие перед нею преграды, каковые она не в состоянии различить из-за одурелости своей. Говорят, такая муха должна непременно погибнуть.
— Нам обетования даны!— возглашала девица.
Признаюсь: при всём моём скептицизме я и сам соблазнился отчасти словами проповедника. Пожалуй, какой-то смысл моему существованию они сулили. Или манили тайнами, до коих мы все так падки? Как будто действительно пелена с глаз спала. Да и чуть ли не обладание каким-то могуществом обещалось...
— Мы живём под апокалиптическим знаком гибели материального мира,— начал говорить тем временем ещё один пророк, правда, по всему видать: калибром поменьше.— Но переход хотя бы на астральный уровень лишает мысль об уничтожении нашего бытия какого бы то ни было смысла. Вот путь к спасению.
— Да, ключ к Апокалипсису утерян, но не ощущать роковых предзнаменований мы не можем,— подтвердил Гриша.
Рядом со мною снова очутился Цицерон.
— Здесь вот у некоторых есть желание иметь постоянный и верный источник для оккультных исследований с наркотиками,— сообщил он как о чём-то мне понятном и без особых разъяснений.— Вы не могли бы помочь? Разумеется, они понимают, что затраты должны быть возмещены.
О, идиот я и кретин! Как же не заметил я столь откровенной ловушки! Или не было тут никакого подвоха, а подозрение возникло лишь теперь, пост фактум, так сказать? Ничего не разберу…
— Надо подумать,— только и сказал я, но обоим нам стало ясно, что дело сладилось.
Затем он снова свёл меня с Виталием, мы перебросились незначительными фразами, имевшими, впрочем, особый скрытый смысл — но это не имело ровно никакого значения: всё решилось помимо и прежде того.
Когда я выходил на улицу, незнакомый мне парень, шедший впереди, доверительно обернулся почему-то ко мне и усмехнулся:
— Все мы хотим, чтобы спастись, но поменьше усилий...
Я промолчал, да он и не ожидал ответа — пошёл себе восвояси. А я подумал: ладно, предоставлю вам такую возможность.
И вот что мне самому любопытно: при всём овладевшем мною соблазне — что-то воспротивилось во мне даже мысли о новом посещении подобных сборищ. Лишь с Виталием мы встречались с того времени всё чаще и чаще — но и он, почуя, вероятно, телепатически, что не в коня корм, не предпринял никаких попыток залучить меня на их собрания. Мы ограничивались лишь товарно-денежными отношениями.
Однако ясно я понял, когда наваждение прошло: одна тут игра, самообман. Так, тешат себя разными гипотезами и надеждами — просто от скуки или от отчаяния, какое, скорее всего, и сами-то не вполне сознают. Или я ошибся, не уяснил чего-то? Не разглядел?
Нет, зачем мне такое топтание на месте? Торопиться, торопиться жить! Что мне до всего остального!
А если и впрямь апокалиптические времена? Тем более — торопиться.
Да что бы там ни было — всеобщая гибель или всесветное благоденствие — от собственной же смерти никуда не деться. Так вот: кого волнует — пусть сам о себе заботится. А мне некогда. Вовсе не циник был тот, кто утверждал, что после него хоть потоп. Он просто трезво глядел на жизнь, он был правдив до конца, не лицемерил, подобно прочим иным.
XIII
Баба одна. Спорить со мной тут стала. Разбитная такая бабёнка. По мужикам промышляет. И не сказать, чтоб из корысти какой особенной. Так, из любви к искусству больше. То с одним, то с другим. А то и с тремя сразу.
Кто, говорит, меня не одобряет, тот несовременно мыслит. Я, говорит, с устаревшими предрассудками рассталась. И вся из себя передовая.
Чего ж, говорю, нового-то у тебя такого особенного? То, говорю, самая она древняя профессия и есть.
Оскорбилась.
XIV
Не знаю, не понимаю теперь: когда это произошло и было ли вообще. В прошлом или настоящем?— не могу вспомнить.
Как будто это случилось теперь. Или тогда?
Не помню, не сознаю. Да собственно, ничего и не было.
Я вышел из дому рано, мне нужно было побывать в больнице у мамы, потом я думал зайти в библиотеку, чтобы поискать ту публикацию, что так уязвила в своё время Роста. Но прежде надо было заскочить в кулинарный магазин, где я постоянно брал что-нибудь из полуфабрикатов, которые можно наскоро разогреть: самостоятельно готовить что-то основательное не умею и не хочу.
В небольшой очереди стояла сзади меня нелепая старуха, сгорбленная, в странном каком-то берете на голове, в довольно потёртом пальтишке и старомодных резиновых ботах — колоритная бытовая зарисовка могла бы выйти — при том, что в самих манерах её сквозила претензия на стародавнюю интеллигентность.
— Вы не будете так добры сказать,— обратилась она ко мне,— что: вон тот салат у них бывает здесь несвежий?
Почему-то я понял, что её вовсе не интересует ненужный её салат, но просто от застарелого своего одиночества она хочет хоть несколькими словами перемолвиться пусть со случайным, но человеком. Может, я и ошибся. Однако я и вообще не склонен вступать в общение с посторонними, а тут и вовсе находился в своём почти обычном раздражённом состоянии — поэтому сердито буркнул нечто невнятное и грубо отвернулся. И хотя я отвернулся, но заметил, что она поворотилась как бы за сочувствием к стоявшей рядом женщине, показывая на меня глазами и с жалкой улыбкой строя гримасу показного испуга. Но и соседка старушки тоже не изъявила желания сказать хоть слово сочувствия и, нахмурившись, отвела взгляд. Старушка ещё более сжалась и постаралась стать как бы совсем незаметной.
И неожиданно столь незначащее, совершенно ничтожное событие, если можно назвать это событием, отозвалось во мне острым стыдом и какою-то болезненной жалостью к незнакомому мне старому — и одинокому по всему — существу. С чего бы? Почему-то мне стало стыдно перед Сашей Назаровым — нечто совершенно необъяснимое для моего рассудка. Как будто я ударил кого-то беззащитного, но удар поразил меня самого, и теперь мне было от того больно и гадко. Но в то же время ложный стыд перед самим собою — именно перед собою: кого ещё было стыдиться?— не позволил исправить мою оплошность и ответить просившему мимолётного участия одиночеству хоть малою долею сочувствия.
Или слишком уж нафантазировал я — дал волю обычной своей мнительности? Не знаю. Но тягостное чувство сохранялось во мне долго, даже когда я сидел в давно надоевшей мне больничной палате. Здоровье мамы не улучшалось. Да и у самой у неё, я видел и понял, не было воли жить. Впрочем, она по давней привычке спрашивала о моих делах, даже как будто начала строить планы о моём возвращении в Институт (я всегда поражался мере её наивности и непонимания жизни), но я односложно бурчал нечто маловнятное, и она покорно смирилась перед обычной моей отчуждённостью.
Когда я вышел из больницы и сел в трамвай, я вдруг увидел ту самую старушку: она стояла впереди спиною ко мне, держась за металлическую стойку, хотя в трамвае и были свободные места. Вот уж не могу понять — но я выскочил на следующей остановке, боясь, что она обернётся и узнает меня. На улице было ветрено и сыро. Отвернувшись от ветра, я разглядел впереди, куда ушёл трамвай, старое кладбище, посреди которого, возвышаясь над частыми деревьями, пока ещё тёмными, лишёнными листвы,— круглится жёлтая под серым куполом ротонда церкви. И меня потянуло туда — меня настигло нелепое желание: поставить свечку у какого-нибудь образа — и это (брезжило в туманном сейчас моём сознании) искупит мою вину... но какую вину — я и сам перестал понимать.
До входа на кладбище пришлось идти целую трамвайную остановку — по сырому ветру небольшое удовольствие.
Когда я вошёл в церковь, в ней было пусто, в тишине лишь чётко слышались звуки одинокой уборщицы, протиравшей пол мокрою тряпкой. А в самом углу, у какой-то тёмной иконы неприметно стояла та самая старушка, отрешённо и печально смотря куда-то в сторону. Я уже не боялся, что она меня увидит, но ставить свечку в пустом храме мне было неловко, стыдно — опять не пойму: кого и чего.
Я вышел на стылый воздух, побрёл, задумавшись по какой-то дорожке,— и тут по самым нервам моим ударили трубы грянувшего похоронного марша. И мне стало жутко, я от ужаса сжался внутренне: я ощутил жестоко, что следом за мною движутся похороны и что я не должен видеть их, иначе произойдёт нечто страшное,— и я почти побежал прочь, вперёд, но дорожка сделала неожиданный поворот, и теперь я вынужден был идти навстречу надвигающемуся на меня гробу — я всё же успел свернуть куда-то вбок, и бежал, и снова поворачивал, и опять уклонялся в сторону, а музыка доносилась то с одной стороны, то с другой, и некуда было спрятаться от неё, и она настигала меня, и я опять и опять спасался бегством, а тёмная толпа обтекала меня то справа, то слева, и холодея от её завораживающего движения, я ринулся между могил, но вскоре оказался в тупике: так тесно, вплотную одна к другой, были поставлены передо мной могильные ограды — но хода назад не давала накатывающаяся страшная музыка, и я полез через ограды, цепляясь одеждой за острые наконечники прутьев,— продирался куда-то в невыразимом ужасе не разбирая дороги и вырвался наконец из окружения памятников и крестов — и далеко позади осталась тёмная музыка, а совсем рядом громыхнул на стыке рельсов трамвай.
Я помнил, что мне нужно ещё успеть домой к шефу: он сегодня ждал приготовленного мною снадобья — Мария Петровна, вероятно, опять была близка к новому срыву, а прежний запас как будто бы иссяк.
Как ни странно, но когда я вошёл в трамвай, моей старушки там не было. У окна сидела девушка, привлекшая меня той самой неприметной тихой красотою, которая сильнее всего действует на меня. Я сел рядом.
Я подумал, что мог бы заговорить с нею сейчас, но не сделаю этого — трамвай остановится и мы разойдёмся навсегда, и никогда я не увижу её более, и мы так и останемся навсегда чужими друг другу, и она никогда ничего не узнает обо мне, и я никогда даже не услышу её имени — и это нелепо и бессмысленно.
Как нелепо и бессмысленно всем нам одиноко стремиться куда-то...
В библиотеке, где по обозначенному в каталоге шифру я выписал нужный мне журнал, выяснилось неожиданно, что хотя данное издание и поступает к ним, но именно нужного номера в наличии почему-то не имеется. Но вероятно, сказали мне, он есть в библиотеках институтов соответствующего профиля. Это я и без них знал. Я подумал с неудовольствием: не в наш же Институт идти. Придётся просить кого-то из знакомых.
По дороге из библиотеки, проходя мимо подворотни одного из домов, я заметил, что туда только что свернула с улицы та самая, не дававшая мне нынче покоя старушка — как некое кошмарное наваждение. Несуразное любопытство заставило меня двинуться следом. Она шла впереди, медленно, еле ковыляя на выгнутых колесом ногах, придерживаясь порою за стену — было видно, что она а крайней степени усталости, а больные ноги каждый её шаг делают мучительным. Я физически ощутил, глядя на неё, какое это будет счастье дойти до места и дать покой этим усталым ногам — скорее бы, скорее бы — но идти оставалось ещё много: она пересекла обширный двор, вошла ещё под одну арку в самом углу его — а там был ещё один двор, поменьше. “Неужели тут начнётся бредовая бесконечность арок и дворов, которая измучит и вконец опустошит меня?”— испугался я. Но нет. Во втором дворе старушка вошла в какую-то дверь, я постоял ещё, посмотрел ей вслед — и отправился своей дорогой.
Весь это нелепый и смутный кошмар до сих пор саднит мне душу оставленным в ней воспоминанием.
Было это, не было — не пойму.
И что за ничтожные случайности обретают порою для нас непостижимое, но важное значение...
XV
— Но я ведь дам им свободу наслаждения.
— Ты поработишь их пагубной страсти. Они попадут в кабалу к греху.
— Понятие греха — не нелепость ли в наше просвещённое время?
XVI
Мне снился сон. Как будто меня судят. Потом, когда наяву уже я пытался вспомнить, за что же меня судили, мне этого никак не удавалось, но во сне я хорошо знал. Или лишь смутно чувствовал? Нет, я знал: потому что, помнилось мне, было в моём положении какое-то одно уязвимое место, которого я боялся и о котором опасался, что станет говорить прокурор, и я помнил, как похолодело у меня внутри, когда прокурор всё-таки заговорил о том. Я помню, что внимательно следил за ходом всего дела, участвовал в допросах свидетелей и приводил некие убедительные доводы в свою пользу. И — то казалось мне, будто я вовсе не виновен и меня судят по ошибке и нужно только указать всем на эту ошибку и доказать её, то представлялась очевидной и несомненной моя вина, и тогда я начинал как будто хитрить и изворачиваться, и всё старался скрыть эту свою вину, и искал какие-то остроумные доказательства собственной невиновности, ложной, но и бесспорной одновременно.
Я помнил также, что все, и я тоже, были уверены, что наказание будет условным , и помнится даже, как спокоен я был, когда читали приговор. И было даже смешно, потому что судья сначала очень долго что-то говорил (нарочно, мне думалось, чтобы помучить меня), а я тогда взял да и ушёл домой, потому что стало вдруг скучно и я был убеждён в условности наказания. Когда я вернулся, судья ещё продолжал какие-то общие рассуждения (потом я забыл какие, но тогда хорошо помнил и понимал), а затем — этого-то я никогда не забуду — он вдруг прекратил свою болтовню, объявив неожиданно и странно: безусловное наказание,— так и сказал: безусловное. Потом, то есть на переходе от сна к яви, я никак не мог уяснить, что же за странное слово такое и как оно могло быть произнесено, да ведь и не бывает наказание безусловным , ну хотя бы формально так никогда и никто не объявляет. Но в тот момент, во сне, мне названное слово показалось не странным, а страшным — страшным, но не необычным. И как будто меня осудили на тюрьму, и безусловно. Затем я опять пошёл домой, но уже не уверенным в себе, а только спокойным внешне, потому что меня заставлял быть таким ужас.
Я был свободен, но каждую минуту могли... а срок дали небольшой, можно же было и переждать... но ведь каждую минуту могли безусловно осуществить наказание. И это вызывало во мне настолько сильный ужас, что я едва не проснулся, но лишь едва не , потому что неожиданно пришла судья — теперь это была почему-то женщина, а прежде мужчина — и долго потом с ненавистью и страхом я вспоминал её наяву и даже какое-то время боялся и ненавидел ту, на кого походила в реальности вынесшая мне безусловный приговор и которая и прежде была неприятна мне, — и она пришла и сказала, что пора вспомнить о наказании. Меня отвели в тюрьму, но это оказалась и не тюрьма вовсе, а комната, очень похожая на ту, где я спал и видел свой сон,— только выходить оттуда было никуда нельзя, и я остался там и сидел в тоске от своего безсилия, а потом вдруг как будто обрадовался, что всего ведь два дня сидеть, но скоро свирепая тоска опять овладела мною, так что когда кто-то пришёл и сообщил, что через две недели состоится новый суд, на котором меня оправдают непременно, но надо сидеть и ждать, то я страшно обрадовался и умолял, чтобы суд состоялся безусловно , а я готов ждать и целый месяц, но чтобы обязательно состоялся, иначе я не выдержу тут... И как будто суд был, и что-то мне смутно припоминалось и об этом суде, и как будто... Нет, уже не помню...
Но помнил я, что когда я проснулся, пробуждение не принесло мне облегчения, как бывает, когда освобождаешься от неприятного сна, но наоборот: стало ещё страшнее. Как будто и наяву может прийти та женщина и безусловно запереть меня здесь. Моя комната напоминала ту самую тюрьму, куда меня заперли там, во сне, и я бежал от неё, от её стен, от сна, от воспоминаний о нём, от ужаса перед каким-то чудовищным наказанием, несправедливым, безусловным, как смерть, и давящим, как неволя. И лютая безысходность ощущалась во всём — и хоть об стенку головой бейся — а ничего не изменишь. Чувствование бестолковости всего, что случилось со мною и во мне, более и более овладевало мною — то странное состояние, когда чего-то нужно и в то же время не хочется ничего, состояние недоумения над самим собою. Состояние, в каком стоит лишь подумать о чём-то: вот это надо сделать,— и тут же всё существо твоё цепенеет от безразличия ко всему. И некуда деться от своей внутренней окоченелости, от собственного бессилия перед собственным же тупомыслием.
Я утратил сознавание времени и последовательности событий — так что даже и теперь трудно мне восстановить её — да так ли уж то и важно?
Прежде я нередко задумывался над тем, что вся жизнь состоит из неведомых мне по внутреннему смыслу сложных комбинаций, отчасти сходных с шахматными построениями. Всё жёстко взаимодействует со всем, и нужно лишь разгадать тайную логику композиционных связей, чтобы постигнуть и скрытый замысел пребывающего в постоянном самосотворении бытия. Чтобы понять, нужно всё сопрягать — вспомнил я знаменитое толстовское словечко. И вот во мне как будто всё рассыпалось, распалось — и я уже ничего не могу связать в моём сознании, в моей душе. Как если бы я разложил всю многосложность окружающего мира на элементарные геометрические формы, числовые соотношения, отвлечённые цветовые сочетания — и не знал бы, каким образом можно вернуть им утраченную осмысленность.
Вот странно: я совершенно различно воспринимаю цвет вообще , в его чистой отвлечённости от всего, и цвет как внешнее проявление внутреннего смысла окружающей нас реальности. В цветовых комбинациях временами смутно угадывалась мною их соотнесённость с жизненными ситуациями. Нередко в детстве, особенно в деревне когда я жил, краски окружающего мира вызывали во мне глубинные, до сих пор непонятные мне переживания: как будто, созерцая их, я прикасался к некоей тайне этого мира,— но именно лишь прикасался слегка, ибо она оставалась надёжно скрытой от меня, и только некий намёк на неё чуялся мне в цветовых откровениях, посылаемых мне из неведомых сфер. Да, как отблески неведомого воспринимал я порою всякий чистый и насыщенный цвет, если он встречался мне в природе. И до сих пор помню, какое поистине мистическое чувство снизошло на меня — и ужас и восторг одновременно,— когда на закатном небе увидел я однажды сочетание чёрной синевы, которую несла в себе поднимавшаяся из-за горизонта туча, и ярчайшего алого сияния заходящего солнца. Теперь я уж и не уверен даже: видел ли я то в действительности: с тех пор мне не довелось наблюдать подобного ни разу. Тогда же, вглядываясь в небесные краски, я детским своим сознанием почему-то верил, что там , если проникнуть сквозь них ввысь, в глубь небесной тверди,— можно непременно увидеть и узнать какую-то разгадку — хотя и сам не знал, что именно предстоит там разгадать. Теперь-то я знал: за той тучею ничего ведь и не было — пустота. Скучно стало.
Отголоски того состояния удавалось мне порою подслушать в себе и после, хотя прежнее цветоощущение всё более размывалось во мне течением времени. Мир постепенно как будто обесцвечивался для меня: я, разумеется, не утратил способности различать краски, однако они превратились в элементарные сочетания различных по длине световых волн.
Может быть, подумал я, прежнее цветоосмысление мира я смогу обрести вновь, если сумею — насколько возможно полно — ввести себя вновь в состояние раннего восприятия природы. Но ведь тот мир, где я с такой полнотою переживал её в себе,— его нет, он исчез навсегда.
Тут я вспомнил, как один давний мой приятель — настолько давний, что, вероятно, уж и забыл обо мне,— когда-то в незапамятные времена зазывал меня к себе: он некоторое время обретался где-то за городом — около часа на электричке, да лесом от станции километра три.
И вот тогда я представил себе совершенно непостижимую комбинацию и поверил: мой сон, моё восприятие цвета и то давнее приглашение — всё вместе составляет некое загадочное пока единство, которое, будучи осуществлённым въяве, каким-то образом повлияет на мою судьбу.
— Когда это было?
— Так ли уж и важно?!
Как в шахматах: партия, разыгранная тысячу лет назад, может и сегодня поразить нас своею логической красотой — так и жизненно-бытийные композиции привлекают и своей независимостью от времени. Пугающее время вдруг утрачивает свою властность над реальностью, и она являет перед нами то важнейшее, ради чего мы готовы терпеть её давящую тиранию. В сущности: не самообман ли: освобождаясь от одного ярма, окончательно смиряемся с другим: подчиняемся неким окостенелым схемам, повторяющимся в разных обличьях, но неизменно из века в век —?
Странное рассуждение. Или опять сон?
Просто метался я, не зная, куда деться. Думал: вот начну жить торопясь — всё иначе пойдёт. Нет: одна сумятица.
Тянуло вон из стен, напоминавших тюремную камеру — там, во сне,— и невмоготу тяжко стало мне в теснящихся этих плоскостях, как будто готовых сдавить всякого, кто отважится хоть ненадолго остаться между ними. Простору не хватало, вольного воздуха.
Как будто нечто вне меня (или надо мною?) управляло моими действиями и независимо от моей воли заставляло совершать то, что я сам же и воспринимал, как полнейший абсурд. Бессильный противиться своему безволию, я пустился в путь к людям, которые меня вовсе не ждали, даже не подозревали о моём существовании.
Прилегающее к железной дороге пространство, через которое пробирался вначале пригородный поезд, было долго загромождено с обеих сторон — какими-то сараями, вагонами, путями, мятыми деревьями, рваными кустами, насыпями, мостами, задворками улиц, рытвинами, задними обшарпанными фасадами домов, грудами мусора — и поезд всё никак не мог выбраться из их хаоса. К окнам вагонов на железных дорогах любят собирать всякий хлам. Но как и любой кошмар, придорожный городской пейзаж перешёл наконец в нечто более приятное для взора.
Особенно привлёк меня один открывшийся ненадолго вид: покрытый чистой зеленью косогор, изгиб неширокой речки под ним, несколько весёлых домиков с палисадниками по склону, беленькая церквёночка наверху — а дальше чистое поле и светлая берёзовая рощица, совсем недавно зазеленевшая. И я подумал, когда всё это уже осталось позади: зачем рыскать по свету в погоне неизвестно за какими миражами — вот то покойное счастье, которое мы легкомысленно оставляем в стороне и о котором лишь память затоскует порою. Странное побуждение во мне возникло: нужно непременно очутиться возле тех домов, у стен той белой церквёночки, присесть на пенёк в тени той рощи — без цели, без смысла, без рассуждений. Если я не сделаю этого теперь, то уж и никогда тому не бывать. Это всё просто исчезнет, потому что бытует только теперь, а скоро исчезнет, как всё исчезает. И значит, ещё одна нелепая утрата увеличит число моих внутренних утрат.
Тяготило меня, как и прежде много раз, это никогда : неужели именно никогда не смогу я сделать то, что вот мелькнуло в моём сознании? Никогда — вот мой злейший враг, которого я всегда ощущал в своей судьбе. Всё, всё, к чему я стремлюсь, отделяется от меня этим чудищем. Вот враг, которому нужно бросить вызов, перебороть его хотя бы в малом. Нет, то не блажь, не безумный бред — необходимо преодолеть, победить. И нет ничего для меня важнее — пересилить жестокое никогда .
Экая бессмыслица!— посмеялся я над собой.
Однако на ближайшей станции — а поезд укатился уже достаточно далеко — я покинул вагон, через зачерствевшие ухабы и колдобины, через пристанционную грязь выбрался на полевую тропку и пошёл себе назад, недоумевая отчасти и дивясь собственной несуразности. И стоило мне добраться до места, подняться по тропке к опустошённой церкви, как сознание полной несообразности содеянного лишь всколыхнуло во мне раздражение и досаду. Я тупо огляделся вокруг — ничего я тут не знал, и меня не знал никто, чужое мне здесь всё было, и лишним я стоял — и для деревеньки, и для храма, и для рощи, до которой и дойти-то теперь стало мне просто лень.
Ну вот пришёл. Вот стою тут. И что?
Ну вот пришёл, вот стою тут — и что!
Я решил: чтобы потом не было чересчур стыдно перед самим же собою, нужно не валяя дурака возвращаться обратно, заняться делом и тем заглушить разгулявшиеся во мне несуразные настроения. Подходя к станции, я уже по-другому задумал: поеду туда, куда прежде поезд будет. Первой пришла электричка на Москву, а я наперекор себе отправился к прежней своей цели.
Я ехал и думал: опять ведь на то же нарвусь: чужие мне, незнакомые люди и я — хуже татарина. А всё-таки ехал.
XVII
Хранящая в себе влагу ушедших снегов и первых весенних дождей, лесная земля была ласково мягка под ногами, нежный ветерок успокаивал меня, и пока я шёл от станции к назначенной мне деревне, что-то во мне как будто высвобождалось из-под гнёта, расправлялось и разглаживалось. В сквозящей весенней зелени сплошь гомонили птицы; где-то в стороне громыхнул гром, но солнце в просветах между верхушками деревьев не собиралось прятаться в тучах, сверкало радостно, покрывая дорогу обилием светлых колышущихся пятен. Оттого было мне и радостно и грустно: трудно освободиться от давящего ощущения своей чужести всеобщему ликованию вокруг, но невозможно не покориться, хоть в малой мере, его всевластному призыву.
Впереди послышался крик петуха, потом ещё. Покоем и уютом отозвались во мне те немудрёные звуки; я без колебаний и сомнений шагал теперь и шагал себе, окончательно решив: раз я явился сюда, значит, это для чего-то необходимо мне. И вскоре лесная тропинка вывела меня к деревне, одним концом своим упиравшейся прямо в лес.
Спросив нужный мне дом, я подошёл к голубому палисаднику, из-за которого раздавался тонкий высокий голос, как будто выпевавший на одной ноте: ти-ти-ти-ти-ти... Перед крыльцом стоявшего в глубине дома, обшитого тёмной вагонкой, топталась сморщенная старуха в не первой свежести платье, засаленной кофте и надетых прямо на чулки галошах; из-под небрежно накинутого платка прямо на лицо её свисали космы седых волос — и вся она походила отчасти на бабу-ягу, когда бы не то общее впечатление полнейшего добродушия и незлобивости, которое возникало сразу при первом же взгляде на неё и выражалось прежде всего в графическом рисунке морщин на её лице. Старуха сыпала перед собою на землю какую-то крупу, которую время от времени черпала горстью из небольшого эмалированного таза, скликая и без того уже поспешавших кур.
Я отвлёк её и спросил о своём приятеле: здесь ли он. Она не ответила, а закричала в сторону дома: “Валька-а!” Из дома вышла полная рыхлая с крупными чертами лица женщина лет сорока пяти. Я повторил вопрос.
— Ой, да он уж и не живёт здесь давно,— ответила мне женщина, видимо, дочь старухи.— Да вы заходите, чего там стоять. Он вам кто будет-то?
Я вошёл в палисадник. От меня явно хотели узнать причину моего появления, но причину эту я и самому себе не смог бы вразумительно растолковать — пришлось прилгнуть:
— Да вот он приглашал меня когда-то, я адрес этот записал, да так и не собрался. Знаете как: то то, то это... А теперь он мне по одному делу нужен, а где искать, не знаю.
— Нет, — повторила женщина,— он тут уж давно не живёт.
— А может, вы знаете, где его теперь можно найти?— я уже не мог отделаться от своей фальшивой роли.
— Да где-то было у нас записано, только вот уж не помню...— она обернулась к старухе:— Мать, а отец-то где?
— Ухрял куда-то,— живо откликнулась та.
— Вот он должен знать, у него та тетрадь была. Да вы проходите в дом, он тут где-то, придёт скоро.
— Я лучше здесь подожду,— скромно возразил я.
— Да чего! Проходите,— сказала опять женщина и неожиданно принялась громко хохотать, вглядываясь в лицо матери.— Слушай, мам, ты так и не отмылась ведь.
— А, страсть делов-то!— отмахнулась старуха.
— Ну мать у нас: это тыща и одна ночь!— дочь вновь обратилась ко мне.— Ведь это только сказать кому. Вчера она вон у бабки Середневой сидела, и чего-то голова у неё заболела. А та ей и говорит: ты уксусом полей, полегчает. Ну она домой, значит, пришла, а у нас уксус там вон в сенях на полке стоит. А темно уж. Она как в темноте бутылку-то достала, полила на себя. “Вальк, говорит, помогло”. И спать пошла. А мне и ни к чему: помогло и помогло. А утром сегодня как встала, платок накинула и в магазин, а бабы на неё там так и уставились: “Ой, Надя, что это с тобой!” А у неё...— Валентина не удержалась и вновь закатилась.— А у неё... ой, не могу... по всему лицу полосы. Это она когда в темноте по полке-то шарила, а там у нас чернила стоят в точно такой же бутылке, четвертинки такие, знаете. Она чернилами себя и полила. И главное, ведь говорит: Вальк, полегчало.
И она опять принялась хохотать — от души и всласть.
— Э, болдунья, окаянный тебя драл!— добродушно проговорила старуха.— Только бы мать обстрамотить. Такая ехида.
— И главное: полегчало, говорит!— и было успокоившаяся Валентина вновь залилась, так что потом от изнеможения долго не могла отдышаться.
Я решил не противиться обстоятельствам и ждать, что из всего этого вздора выйдет. Ладно: узнаю совершенно не нужный адрес давнего своего знакомца — меня от того не убудет. Да и любопытны мне стали эти простодушные женщины, нравилась мне нецеремонность их. Зазвали они меня в дом и принялись потчевать. Старуха — величали её Надеждой Петровной — поставила на плиту чайник и вдруг, к вящему моему изумлению, бухнула в него штук пять не совсем чистых, в навозце, куриных яиц.
— Мать!— возмутилась Валентина.— Ты бы хоть ради гостя этого не делала. Они же знаешь откуда у курицы вышли.
— Вот страсть делов-то,— невозмутимо возразила бабка.— Всё в море будет.
Но на Валентину сей довод не подействовал: она вылила воду из чайника, достала яйца, и сполоснув, налила его свежей водой из стоявшего на лавке ведра, пояснив при этом:
— Она у нас так воду экономит. Не уследишь, так и будешь чай с дерьмом хлебать.
Разговор за чаем начался с обсуждения погоды, которую мои хозяйки весьма не одобряли. Я подумал было, что вот и тут правила политеса требуют непременного пустопорожнего обсуждения погоды, но потом решил, что, пожалуй, я не прав: отношения у этих людей с погодой иные, нежели у горожан: для нас все проблемы упираются в сомнения, как одеться да прихватить ли зонтик на случай дождя, здесь же явно ощущались отголоски иных забот, более насущных.
— Летошний год как стало лить,— напомнила старуха,— так и погнило всё.
— Всё сикось-накось пошло,— проговорила дочь.
У Надежды Петровны имелось и объяснение тому :
— Люди грешные. Бога не признают. Вот Он им и делает так. “Всё сами будем! И погоду сами!” А вот не очень-то.
Валентина тут же отвергла оную версию:
— Всё ты, мать, ерунду говоришь. А я вот в газете читала,— обратилась она ко мне,— что это оттого, что озоновый слой выжигают, и климат меняется.
— Это всё от атома,— поправила её мать.— Никакого толку от этого атома нет, а только люди мрут.
— И вовсе не от атома, чего ты говоришь, когда не знаешь. А есть озоновый слой там наверху, и его ракетами выжигают.
— И чего же?— спросил я: так любопытно мне было это рассуждение.
— А ничего. Как всё выжгут, так все перемрут.
— Ты что!— возмутилась мать.
— Вот тебе и “ты что”. В газете вон писали.
— Они напишут!
— И как же теперь быть?— не унимался я.
— Как, как... Никак. Что они теперь, летать что ли перестанут из-за этого?
— Так ведь сами же себя губим.
—Выходит, что губим.
— Как подумаешь об этом, так страшно,— гнул я свою линию.
— Чего страшного? Смерти бояться не надо. Почём ты знаешь, как твоя жизнь сложится. Может, ты сейчас умрёшь, а тебе на завтра суждено мучение перенести. Значит, это тебе избавление.
— А вдруг мне счастье на завтра выпадало, а я сегодня умер?
— Да, много его нам выпадает!— заметила Валентина с явной иронией.
— И всё-таки озона жалко. Остановиться бы надо.
— У кого ж на это ума хватит?
— Думаете, не хватит?— я уж и всерьёз спросил.
— А то хватит! Вон мужики — знают, что водка губит, а хоть один пить бросил?
— Многие у нас подобрались уже,— подтвердила Надежда Петровна.
— С вина кто не помрёт. И всё равно пьют. Да ладно бы ещё водку. Всякую гадость жрать начали. Вон Ванька Курозаев клей какой-то хлещет. И выкобенивается ещё. Так его и околевание не берёт.
— Ну, этот совсем негодящий,— опять подала голос бабка.
— А другие годящие!
— Нажрутся до усёру и знать ничего не хотят.
— И чего же у вас не борются с этим?— задал я бестолковый вопрос.
— Борются. Вон как по телевизору передавали, передача была,— Валентина, видно, припоминая, начала смеяться.— Мы, говорит, её пьём, потому что боремся, чтобы её меньше оставалось. Так и у нас. Да это ещё что! Вон у нас колдуны завелись. Вот дела-то.
— Что за колдуны?— я искренно заинтересовался.
— Не знаю, чего они там у себя колдуют.
— Да какие они колдуны!— вмешалась мать.— На блядки они тут собираются,— Надежда Петровна вообще в выражениях не стеснялась.
“Час от часу не легче,— подумал я.— Экие дивы дивные под самым боком у столицы”.
— А ты видала, что так говоришь!— набросилась тем временем Валентина на мать.
— Бабы говорят.
— А ты баб-то слушай больше, они и не такого наговорят.
— А я что? Мне ложь, и я то ж.
— Вот и молчи лучше.
— Я и молчу.
— И молчи.
— Погодите,— остановил я перебранку.— Вы лучше всё толком объясните.
— Экстрасенсы они, так что ли это теперь называется?— Валентина, я заметил, боялась неправильно сказать незнакомое слово и заранее как бы извинялась передо мною самим тоном речи.
— Есть такие,— подтвердил я.
— Ну вот. У нас Нюша Шишкова померла. А этот, кто он ей? Я и не знаю. Племянник что ли. В общем, неважно. Дом она ему отказала. Ну вот и навёз сюда девок, парней каких-то. Виталий его зовут. Закроются там и колдуют. И длинный у них ещё какой-то, за главного, видать. Нинку Курозаеву к себе приманили.
— А вы-то колдовство их видели?
— Ну да, стану я смотреть. Они и не пускают никого.
— Так что хоть делают-то они?
— Кто их разберёт. Тётя Дуня Варгина Нинку пытала, а та молчит.
— И что же, постоянно они тут живут, или как?
— Кто и живёт, а кто приезжает. Всё время народ толчётся.
Меня зацепило имя “Виталий” и упомянутый в разговоре “длинный”. Уж не мои ли то клиенты-парапсихологи?
— Где же тот дом?— я решил проверить свою догадку.
— На том краю. Такой под крышей зелёной.
— Хочу пойти посмотреть.
— Чего его смотреть!
— Колдуны всё-таки. Не каждый день встретить можно.
— Это-то так,— согласилась Валентина.— Только они не пустят.
— А чего я теряю?
— И это верно.
— Я к вам зайду ещё за адресом.
— И где же это он записал?— засуетилась Валентина, перебирая какие-то бумажки, конверты и тетрадки на столике в углу.— В Монетчиках он живёт, от вокзала недалеко. Так-то я вот помню, как идти если, а адрес шут его знает, как он пишется. И куда отец-то запропастился?
— Намазурился где-нибудь,— откликнулась Надежда Петровна, собирая со стола.
— Большое спасибо!— поклонился я хозяйкам.
— Не на чем,— ответила старуха.
— Я ненадолго, а потом опять зайду.
XVIII
Выйдя на деревню, я легко отыскал нужный мне дом. Снаружи он ничем особенным не выделялся: дом как дом, ладный, весело глядящий из-за буйных зарослей сирени, пока ещё робко распускавшей свои листочки. Вот только окна, пожалуй, слишком плотно изнутри занавешены. И вообще никаких видимых признаков жизни дом этот не обнаруживал. Я потоптался в нерешительности у загородки, а потом решил, что уж ежели пустился я нынче во все тяжкие, то и тут тушеваться негоже — не убьют же!— и толкнул калитку.
Меня, как оказалось, заметили, потому что не успел я постучаться, как дверь в доме отворилась и безмолвным вопросом возникла передо мною женская фигура — странное и неприятное чувство возникло во мне сразу же от её взгляда: она смотрела прямо мне в глаза, но в то же время и как бы мимо меня, сквозь меня, как если бы меня вовсе и не было или я был для неё ничтожен совершенно.
Но не отступать же из-за того. Я спросил Виталия — и почти мгновенно тот самый Виталий, покупщик моего снадобья, отчасти ошарашенный, лупил на меня свои бельмы.
— Поскольку я здесь,— заявил я ему, решив блефовать напропалую,— то думаю, не надо объяснять и доказывать, что я пользуюсь некоторым доверием у лиц из определённых кругов.
О ком именно идёт речь, я и знать не знал.
— Кого вы имеете в виду?
— Разве в таких случаях принято называть имена?— твёрдо и с лёгким оттенком иронии укротил я его любопытство.
Ещё в самом начале знакомства с Виталием я понял, а вернее — почувствовал, что он в высшей степени тугоумен. Догадка эта возникла у меня, лишь только я увидел линию его силуэта в профиль: подобная линия могла быть только у безнадёжного тупицы. Более внятно объяснить не могу.
Может быть, мой ответный выпад и не произвёл бы должного впечатления на субъекта с более вёртким умом, но Виталий не нашёлся мне возразить, что для него самого стало доказательством моей правоты — да оно и логично: если некое суждение не может быть опровергнуто, оно должно быть признано за истинное.
Виталий пригласил меня войти, произнеся при этом со значительным видом:
— Вы успели вовремя, мы уже начинаем.
И в тот самый момент, когда мы, миновавши стылые сени, входили в затемнённое внутреннее помещение, я увидел долговязого Гришу, который с размаху бил по лицу какую-то девицу, с презрением изрекая поверх голов стоящих вокруг него:
— Я заставлю вас отринуть вашу низменную самость!
И девица в восторженном порыве вдруг бухнулась перед ним на колени и припала губами к руке, только что отвесившей тяжкую оплеуху. Я узнал в сей девице ту, что ошалело кричала когда-то о данных нам всех в речах Гриши высших обетованиях.
Размышляя позднее над увиденным, я вспомнил рассказ одного старика, уверявшего меня, будто есть люди, имеющие над окружающими особую неодолимую власть, которую нельзя объяснить никакими видимыми причинами. Особенно легко могут подпадать под эту власть женщины, такова уж их природа, причём сама склонность к подчинению может иметь различные истоки: интеллектуальные, эмоциональные и чисто физиологические. В его родной деревне, как рассказывал мне тот старик, проживал мужик, имевший над бабами необоримую плотскую власть, так что стоило ему пожелать — и ни одна не могла ему противиться. Кончилось тем, что кто-то из деревенских зарубил того пакостника топором прямо на собственной жене — за что был приговорён (о благословенные патриархальные времена!) к церковному покаянию и трёхгодовому послушанию в ближайшем монастыре. Случилось сие, разумеется, ещё до революции где-то в Смоленской губернии.
Кто его знает — гипноз то или неведомая иная сила, но я уверен, что Гриша обладал над многими именно такой властью. Считайте меня каким угодно ретроградом и мракобесом.
— Я нашёл вас, потому что вы были готовы к этому,— проповедовал Гриша перед своею паствой.— Я избрал вас, потому что ваши духовные сущности раскрыты для слова истинного гуру.
Было несомненно, что все присутствующие уже находились к моему приходу на грани особого состояния нездоровой экзальтации, а истинный гуру готов был всевластно управлять этой мини-толпой (всего здесь было около пятнадцати человек, из них большая часть — особы женского рода).
— Человек страдает, ибо не может отречься от мерзостной самости. Вы должны растоптать её, вы должны отринуть себя, отказаться от себя, отбросить низменное сознание, уничтожить стыд, раствориться в воле гуру и через неё войти в высшее состояние. Нет ничего абсолютного и неизменного в плотском мире. Наша цель — достижение высшего состояния, достижение чистых божественных сфер и преодоление телесности грубого материального мира. Мы создадим иную этико-нравственную ситуацию для проявления тончайшего личностного начала. В соитии телесном познаем слияние духовное. В каждом телесном акте вы должны стремиться осознать символ сакральных действий, становящихся эманацией вашего высшего духа.
Та особа, которую он только что избил на моих глазах, взирала на учителя в особом исступлении.
— Вы примете частицу бога и бог войдёт в вас, и вы сольётесь с богом и причаститесь высшей духовности и вам будет открыт доступ в чистейшие сферы — вещал гуру.
Виталий вынес небольшой светлого металла кубок (такие, помню, вручали победителям на школьных спартакиадах) и передал его проповеднику. Тот застыл посреди комнаты, подняв кубок над собою. На столе у стены закурилась сладким дымом какая-то смесь. И вдруг все запели непонятный мне тарабарский текст и принялись дёргаться в механическом ритме — отчасти всё было похоже на современные рок-танцы. Беснование длилось достаточно долго, при этом и учитель и его подручный совершали некие явно ритуальные действия. Затем пастырь с непостижимой акробатической ловкостью, сохраняя неподвижность во всём теле, начал сгибать ноги и подворачивать их под себя, так что в результате оказался сидящим на небольшом коврике в позе индийского йога. Плавным движением он опустил кубок на уровень своих глаз. Виталий подошёл к нему и, зачерпывая маленькой ложечкой находящийся в кубке порошок (я догадался, что это мой “товар”), начал сыпать его крохотными порциями в открытые рты по очереди подходящих к нему участников ритуального действа.
Виталий взглянул на меня — я оставался последним, и понял, что не подчиниться общему порядку нельзя,— и тоже подошёл к кубку с открытым ртом, и получил свою дозу отравы. Я знал — теоретически — особенности действия данного порошка: он был сравнительно безобидным — но всё же отойдя в сторону я постарался незаметно избавиться от того, что впихнул в меня тупоголовый экстрасенс.
Я не уследил за всеми дальнейшими подробностями церемонии, так как не понимал совершенно её смысла. Она казалась мне забавной, местами даже смешной, но та болезненная восторженность, которая всё сильнее разгоралась в её участниках, становилась мне более и более неприятной. Но и я постепенно без всякого порошка (или что-то просочилось в меня?) начал заметно поддаваться общему дурману, я будто отрешался постепенно от нормального самосознания — и сдерживающие меня тормоза, вначале позволявшие мне совершенно отстранённо наблюдать происходящее, чем далее, тем становились слабее, и вдруг я утратил истинное чувство реальности.
“Всё вздор, всё бред, всё бессмыслица, нет ничего абсолютного и неизменного, всё абсурд, всё бред, всё вздор, всё можно”,— кружилось у меня в мозгу (или они пели и кричали это?), и я заворожённо вовлекался в общую вакханалию.
— Аллилуия любви!— возопил учитель.
— Аллилуия любви!— запели все хором.
Началось непотребство. Свальный грех — по старым понятиям. По новейшей передовой терминологии — групповой секс.
Я утратил разум и сознание, я воспринимал сам себя лишённым удержу зверем, и это доставляло мне глубочайшее наслаждение, какого я не знал ещё никогда прежде, и я изведал радость силы и насилия, я в упоении постиг восторг от чужой боли и страдания, причиняемых мною ближним моим, я готов был растерзать все эти обнажённые извивающиеся вокруг меня тела, я физически ощущал, как недостаёт мне клыков и когтей, чтобы вонзать их в мягкую податливую плоть,— и тоска и отчаяние, давно прочно угнездившиеся во мне, растворялись теперь в той злобе, что обуяла меня, и внутренняя скорбь отпускала мою душу, пресуществляясь в физическую боль беснующихся вокруг — подобных мне нелюдей.
………………………………………………………………….
О блудодейство окаянное! Будь я проклят, поддавшийся тебе!
………………………………………………………………….
Пожалуй, я отрезвел быстро, к реальности меня вернуло переполнившее меня чувство тошнотности во всём теле. И я сразу почувствовал на себе тяжёлый взгляд главаря.
— Ты духовный вампир, ты расслабляешь и разрушаешь мою ауру, ты высасываешь из меня прану моего духовного тела, зачем ты тут?— прохрипел он.
Рядом с верховодом сидел Виталий — и как же гадостны были они оба в голом виде! Их неэстетичность переполнила меру моего отвращения к себе и ко всем — и меня тут же вырвало прямо на пол — и я инстинктивно пополз прочь от собственной блевотины, кое-как отыскал свои тряпки, напялил их на себя, выкарабкался наружу, а затем долго сидел в отупении на ступеньках низенького крылечка, обхватив голову руками.
Потом я поднялся и выйдя из палисадника оказался вскоре у околицы. Солнце висело уже над самым горизонтом, и, пронизанная его закатными лучами, светилась чуть в отдалении, посреди насыщенной зелени широкого луга, трепещущая берёзка. Вглядываясь в переливы и переходы её цветовых оттенков, я вдруг почувствовал близость того самого особого, может быть, мистического восприятия цвета, ради которого я ведь и ехал сюда (хотя и сам не мог бы объяснить, почему оно должно было посетить именно здесь — в этом, что ни говори, какая-то несуразица). Однако столь долго жданное мною ощущение спугнул Виталий, догнавший меня в тот момент.
— А всё-таки,— настойчиво сказал он,— кто вас всё-таки послал сюда?
Я досадливо поморщился:
— Боитесь, что заложу?
Он не ответил, но я знал, что не ошибся.
— Пойми, тупица,— с расстановкой проговорил я,— мы связаны одной верёвочкой. Та отрава, которую вы тут скармливаете, она же сделана моими руками.
И я пошёл прочь.
— Смотрите!— крикнул он мне вдогонку с жалобной угрозой.
XIX
До сих пор не пойму странного пересечения отдалённых друг от друга времён (а если и пространств?). Так параллельные прямые по новейшим остроумным измышлениям пересекаются где-то в недостижимой бесконечности — и таковое чудо принимается нами уже на неоспоримую и всеочевиднейшую реальность, а не как именно отвлечённое умствование, ради щекотания игривых рассудков сочинённое,— опять-таки своего рода логическая система, для удобства дальнейших наисверхлогически-диалектических построений предназначенная, или же для того созданная, чтобы нашему ограниченному уму евклидовскому — большую бы гибкость придать. Впрочем, я это от отвращения к себе забалтываться начинаю.
Но однако: такое перекрещивание времён всё же для мово умишки убогонького непостижимо в совершеннейшей степени. Хотя: не аберрация ли тут моей собственной памяти, совместившей в одной точке времени и пространства далеко отстоявшие одно от другого события? Умопомрачение что ли на меня снизошло? В полнейшем пребываю недоумении.
Помню только ясно, что шёл, досадуя на тупоумного Виталия, спугнувшего мои начавшиеся прозрения, помешавшего тем перебороть то тошнотворное, физически и нравственно тошнотворное состояние моё, которому он же и был отчасти причиною. Я принялся заставлять себя вновь возвратиться к переживанию цветовой сущности мира — и вглядываясь опять в насыщенную зелень луговой травы, сопоставляя её с трепещущими оттенками золотых тонов в листве одинокой берёзки, я начал туманно догадываться, что в самом зелёном (а не синем, не красном, к примеру) весеннем обновлении природы нет случайности, а есть лишь загадка, какую, быть может, никому и не доведётся разгадать, но она всё же есть, полная скрытого значения.— И пожалуй, лишь интуитивное прикосновение к ней могло бы — пусть и смутно, но — дать почувствовать её тревожащий сознание смысл.
Впрочем: что опять за вздорное блудомыслие?
Тщетно стараясь перебороть блудом умственным память о блуде телесном, я брёл без цели и смысла по тропинке совершенно в сторону от деревни и от дороги на станцию, куда всё-таки нужно же было бы мне направляться: опускались сумерки, и не в поле же было мне ночь коротать.
И вот как из воздуха возникнув, прямо навстречу мне вышел Саша Назаров со своим сыном — оба что-то увлечённо обсуждали и от избытка возбуждения размахивали руками. Параллельные линии пересеклись и я очутился в бесконечности? Они же ничуть не удивились, увидев меня, а мальчик даже обрадовался чему-то: просиял и запрыгал на месте. У меня же на удивление и сил не хватило.
— Ты отчего такой мрачный?— спросил Назаров.
— Да вот, говорят, активно уничтожается озоновый слой в верхних слоях атмосферы, что грозит гибелью всему живому. Вам не жалко, что вот это всё,— я показал широким жестом вокруг себя,— всё погибнет?
— Не нашим умом, а Божьим судом,— невразумительно ответил Саша.
— Абы на кого вину спихнуть? Ещё и на Боженьку?
— Вот мы только что спорили: виновата ли кукушка, что она на других свои заботы сваливает, или не виновата?
— И к какому же выводу пришли?— я окончательно утвердил в своих репликах мрачную иронию.
— Решили: не виновата.
— Она же не может выбирать, такая у неё природа,— пояснил Назаров-младший.
— Как прекрасно!— почти искренне воскликнул я.— Как прекрасно быть не виноватым, потому что природа такая. Вот природа и виновата. А я как кукушка: не могу выбирать, вынужден внимать природе. Просто гора с плеч!
— Кукушке хорошо,— согласился Саша,— чем она отличается от нас, которые, хочешь-не хочешь, а выбирать должны постоянно — что и делает нашу жизнь невыносимой порою, страдать заставляет.
Божий же суд — он уже после выбора.
— А если отказаться от права выбора?
— Так ведь это тоже будет результатом выбора.
— Куда ни кинь, всюду клин. И не выбирать нельзя, и за выбор тебя судить станут? Хорошо, коли на несуществующем том свете : есть надежда отмотаться. Так ведь ещё и на этом судов понасажали.
— И от того не уйдёшь,— грустно покачал головой Назаров,— и тут: от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
— Кабы в одной тюрьме дело. Ладно, пусть: тюрьма. Было за что,— я окончательно признал перед самим собою вину свою.— Но вот хоть бы меня взять: теперь-то за что? И общество со мною, и я с обществом — сполна в расчёте. Теперь-то за что? Да ведь и с точки зрения того же общества я бы ему больше пользы принёс — там, в науке, а не на наших задрипанных курсах. Нет, я так, безотносительно говорю. Меня и позовут — не пойду. Но хотя бы теоретически: справедливо ли до сих пор меня бить?
— Ты сам себя бьёшь,— ответил Саша.
Мне досадно стало такое непонимание, ещё и неловко чувствовал я себя оттого, что наш разговор внимательно и серьёзно слушал мальчик.
— Нет, ты не понял,— всё же пересилив свою внутреннюю нерасположенность к продолжению разговора, сказал я,— на десять лет, это я сам себя измордовал. Но теперь...
— Я про теперь и говорю. Знаешь, когда мне плохо, я всё время вспоминаю мысль одного святителя: если тебе плохо — ищи где согрешил. Само страдание — лишь выражение внутреннего нашего греха. Ведь просто.
— Да, да, я помню, мы что-то такое говорили не помню с кем...
Тем временем мы успели уже войти в деревню и оказались перед ладным домиком с красивыми резными наличниками.
— А ты где тут остановился?— спросил Саша.
— Да нигде,— ответствовал я,— мне ещё до станции топать.
Между тем уже заметно смеркалось.
— Так оставайся у нас, места хватит.
— Ты разве тут живёшь?
— Бабушка у меня тут. Вернее, сестра бабушки. Я как свободный — так частенько сюда. Сегодня, например, вообще не мой день, а на завтра у меня физики под итоговую контрольную часы забрали.
— А мне завтра идти.
— Так не с утра же,— уговаривал он меня.— После обеда выйдешь, как раз успеешь. Чего сейчас-то впотьмах по лесу блуждать?
— Конечно,— рассудительно поддержал сын отца,— а места у нас много. Ещё придут — и их будет куда положить.
Ладно, уговорили.
В доме встретила нас маленькая ласковая старушка.
— Вот, баба Катя, гостя привёл,— указал на меня мой приятель.
— А я как знала, — радостно сообщила старушка, — блинов поставила.
— Не хвались: ты до них сама большая охотница.
— А чего ещё остаётся? Знаете, как прежде говорили,— обратилась она ко мне:— две старухи без зубов толковали про любовь: мы с тобою влюблены — ты в кисель, а я в блины.
— Блины дело хорошее,— подтвердил я.
— А вы чьи же будете?— полюбопытствовала она.
— Да я здесь случайно. Сюда приехал, а уезжать не хочется, пошёл гулять, вот и загулялся.
В хлопотах и приготовлениях к трапезе старушка не переставала что-то приговаривать, рассуждать — не то сама с собою, не то со всеми сразу:
— Сяду я подумаю, чем кормить угрюмую. Куплю сахару, изюму, накормлю свою угрюму,— выпевала она свои присловья, накрывая на стол. Сева с милой старательностью помогал ей.
— С молоком нынче плохо стало. На всю деревню две коровы, только и всего-то литр нам один достаётся,— сокрушалась хозяйка передо мною.— А ведь бывало, вон Сашенька ещё помнит, как стадо гонят, так на полдеревни растягивается. Я тоже держала, а нынче уж стара, доить не могу: руки уж не руки, а крюки.
— А вы тут одна живёте?
— Упрямая потому что,— с укором ответил за старуху Саша.— Давно её зовут все, а она ни в какую.
— Пока ещё двигаюсь. Вот и хорошо. А пустой дом-то как оставить? Лишний раз уж и не приедешь. И при доме я тут, и люди все свои,— говоря это, она всё время обращалась ко мне как бы за поддержкой.— Недаром же говорят, что дома и стены помогают. Не нами сказано.
Поглощаемые мною блины оказались, между тем, отменно хороши. Вскоре я уже вынужден был с трудом переводить дыхание от обилия съеденного.
— А вы что же не едите-то?— всполошилась баба Катя, лишь только я откинулся в изнеможении на спинку стула.
— Да уж сыт, спасибо.
— Сыт покуда съел полпуда, осталось фунтов семь, и последние съем,— подложила она ещё парочку.— Грех оставлять.
— Завтра доедим,— заступился за меня Саша.
— Гретые это уже не блины.
Когда Саша повёл сына укладывать на ночь, старушка горестно взглянула мне в глаза:
— Беда-то у нас какая! Уж я и виду стараюсь не подавать, а он ведь порой еле держится, у меня глаз приметливый.
Я сделал, больше из вежливости, скорбное лицо, сокрушённо вздохнул.
— Вот как,— поддалась она на моё сочувствие,— злее зла зло бывает.
— Давайте, я вам помогу,— предложил я, скорее чтобы перебить тягостную для меня обстановку вынужденных сожалений и вздохов, чем от истинного желания помочь.
Всё уже было убрано, когда вернулся Саша. Он молча подсел к столу, я тоже молчал: на меня снова накатило досадливое на себя и на всех настроение, хотелось остаться одному, уйти от людей, и невозможность этого начала раздражать меня. Хозяйка вдруг робко и смущённо обвела нас взглядом:
— А я сегодня молитву сочинила.
Это ещё что за диво! Я неподдельно изумился. Саша тоже казался удивлённым. Баба Катя распрямилась и, глядя куда-то поверх наших голов, начала торжественно:
— Господи, всеблагий и предвечный, слава Тебе, слава Тебе. Всемилостивый жизнедавче, пресветлый благоустроителю, утешителю в скорбех наших, слава Тебе, слава Тебе. Долготерпеливый человеколюбче, пречудный душ укрепление, слава Тебе. Пресильный, преславный, пресладчайший, слава Тебе, слава Тебе. Помощниче и надежда наша, слава Тебе. Пастырю многомудрый, водителю по жизненному пути нашему, слава Тебе, слава Тебе. Судеб вершителю, любовь неизреченная, сердец веселие, нечистоты устрашение, слава Тебе, слава Тебе. Наставниче пребезсмертный, мздовзимателю премилосердный, слава Тебе...
Она вдруг запнулась, замельтешила, поясняя смущённо:
— Это я всё славлю, славлю Его... У меня там ещё есть, тоже всё так. Это я прославляю...
Я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Саша же с серьёзностью сказал:
— Надо записать. Ты мне потом продиктуешь всё полностью. Не забудешь?
— Я уж давно сочиняю, а сегодня вот закончила,— ответила она.
Тут как будто возникла какая-то неловкость, напряжённость повисла над нами, скорее всего — от моего присутствия: так часто бывает, когда что-то сокровенное выставляется ненароком перед посторонним человеком. И пожалуй, чтобы замять эту неловкость, Саша обернулся ко мне:
— Ну что, пойти подышать на сон грядущим?
— Погуляйте, погуляйте,— поддакнула баба Катя и посмотрела на меня, ещё не преодолев смущения:— Бывали дни, гуляли мы, теперь гуляйте вы. Здесь воздух-то то-онкий. А как в Москву эту приеду, всё тяжело и как будто давит, всё вздохнуть как следует не могу.
Я согласился.
XX
Саша пошёл вперёд, как бы приглашая меня последовать за ним.
— Значит, страдание есть продолжение греха?
— Ты думаешь иначе?— тихо спросил он.
Сейчас я тебе врежу!
— Ладно,— я решил не щадить его.— Когда ты хоронил дочь, ты страдал оттого, что любил. Значит, и любовь — грех?
— Мне было больно, потому что колебалась моя вера в справедливость высшего Промысла.
Он всё-таки держался молодцом, самообладание у него было просто поразительное. Но меня было не сбить:
— Слишком завиральная логика.
— У веры нет логических критериев.
— Но зачем же твой Бог всё же допускает зло?
— Этот мир — не цель, а лишь средство. Испытание для человека. Грех был добровольно выбран нашими прародителями — и нам нужно познать что есть жизнь вне Бога в грехе. Чтобы мы могли сделать иной выбор, если должно осмыслим этот опыт. Но выбор каждому делать самому.
— Ага! Расплата за выбор Адама! Но где же тогда справедливость вообще, если я должен платить по долгам какого-то Адама, которого я и в глаза не видал и не уверен даже, жил ли он и на свете-то? И яблочки я те не откушивал. Сын за отца не отвечает.
— Уж если наследство — так всё: и доходы, и долги. Благами же, тебе оставленными, пользуешься?
— Я и доходов не хочу брать. Я сам по себе.
— Ты отрекаешься от человечества? Отрекаешься от тех, кто тебе дал жизнь? И отрекаешься тем от самой жизни? То есть от смысла своего бытия вообще? Впрочем, вне Бога всегда тянет к небытию. Таков закон.
— И каков же смысл бытия?
Я спросил скорее от безразличия, вяло. Он же начал воодушевлённо:
— Вот как ребёнок: должен непременно девять месяцев развиваться в материнской утробе и только пройдя тот путь, может явиться на этом свете, так и наша жизнь здесь тоже своего рода утробное развитие для вечной будущей жизни. Разница лишь: от ребёнка в те месяцы ничего не зависит, нам же на то и дана свобода воли, чтобы мы сами направляли своё развитие, готовили себя. Да плоховато используем, что нам дано. Хотя куда как ясно сказано: не собирайте сокровищ на земле, но ищите прежде Царства Божия. То есть: готовьте себя для Горнего мира.
— А коли нет того мира? Тогда же всем твоим рассуждениям грош цена.
— Да, тогда: подминай всех, и всё позволено.
— Как же быть?
— Всё-таки готовить себя к тому самому значительному моменту, который всех ждёт.
— Готовиться к исчезновению здесь...— безнадёжно проговорил я.
— К рождению там ,— твёрдо возразил он.
— Красиво всё это, даже логика своя есть. Только нет твёрдых доказательств.
— Доказательства были бы губительны для внутренней свободы. Без свободы нет и веры.
— Какая вера, когда в душе сплошная мерзость запустения...— равнодушно возразил я.
— Кто же её вместо нас самих вычистит?
— А коли сил нету?
— Проси помощи. Ни у кого ведь нет в полной мере. Просите и дано будет вам, стучите, и отворят вам...
— И для того ходите на театрализованные представления в храм...— в тон ему подхватил я.— В том-то и бессилие ваше, что кроме — и сказать ничего не можете.
В глазах Саши я угадывал страдание, но не мог отказать себе в удовольствии помучить его.
Себя я мучил — не его. Теперь понимаю: он страдал, потому что видел: мы говорим на разных языках, а я не хочу сделать усилие, чтобы выучиться истинам веры.
XXI
Утром, в полудрёме ещё, в удивительно тихой тишине услыхал я крик петухов по деревне — и что-то со времён детства хранящееся во мне шевельнулось и замерло у самого сердца.
Ночью прошёл дождь, но к утру разгулялось — и лишь остатки недавней пасмурности таяли в небе, когда я вышел на крылечко приютившего меня дома. Вышел — и от запаха свежей молодой зелени стало мне и радостно и грустно, как при воспоминании о чём-то прекрасном, но унесённом уже необратимым течением времени. С шумом прилетел откуда-то крупный красивый шмель, сел на цветок, закачался, пригнув его своей тяжестью. Рядом замерла, раскрыв крылья, бабочка-крапивница. Сверкал под лучами солнца весёлый разноцветный мир. И отовсюду — сплошной птичий гомон.
А ведь и вправду: зачем ломать голову, чего-то искать, мучить себя и других? Вот это мгновение светлого зелёного утра — длиться бы ему вечно — в нём бы жить, с ним бы и умереть...
...За околицей деревни, за зелёною луговиною, где накануне повстречал я своего странного приятеля, тянулся небольшой овражек, болотистым дном которого бежал вёрткий ручеёк — он разливался в глубокую лужу как раз при пересечении его с дорогой, так что всем приходилось пробираться краем лужи по кочкам или прыгать по камушкам, положенным здесь кем-то на значительном один от другого расстоянии. Но ни скакать с камня на камень, ни доверяться нетвёрдым кочкам у меня не было охоты; я остановился перед лужею, остановились и Саша с сыном. Мы втроём отправились после недолгого утреннего чаепития обозревать окрестности, а вернее — на это уговорил нас неуёмный мальчишка, снедаемый довольно обычным для многих желанием разделить восторги от местных красот природы хотя бы ещё с одним человеком — теперь вот со мною.
Полуночный разговор наш с Назаровым и у меня, и (по всему) у него тоже оставил не совсем приятное внутреннее ощущение, поэтому мы старались не вспоминать его и рассуждали о совершенно постороннем, и даже не между собою говорили, а как бы через посредника, обращаясь более к юному нашему спутнику — его увлечённость беседою постепенно передалась даже мне.
Мы принялись разглядывать раскинувшуюся перед нами лужу: в незамутнённой воде ясно различимы были все её обитатели. Ползали тут какие-то неведомые червяки и козявки, расчертившие всё дно извилистыми полосами; грузный ручейник казался среди них огромным чудищем, а тянувшийся за ним след выглядел глубокой траншеей; у самого дна шныряли повсюду мелкие жучки, сверху же скользила по гладкой воде одинокая водомерка. Вся же толща воды кишела несчётными головастиками: их гнало откуда-то из верхнего болотца течением ручья, которому они не могли противиться,— в широкой луже наступало затишье, но с того краю, где вода вновь устремлялась дальше по овражку, они увлекались вновь неумолимым потоком вперёд.
— Вот как странно,— обратился Саша к сыну,— ведь сколько всяких живых тварей тут перед нами, а мы даже отдалённого понятия не имеем, что они чувствуют, о чём думают.
— Ты полагаешь, они думают?— усомнился я.
— Конечно,— как о чём-то само собою разумеющемся отозвался мальчик.
— Но ведь они же совсем примитивные.
— Но ведь им же бывает больно?
— Не знаю. Наверно.
— Если больно, то они должны это понимать. Если не понимать, то значит, и не больно.
— Так может, им и на самом деле больно не бывает.
— Но вот я его прутом трону, почему он тогда в сторону плывёт? Значит, чувствует. И вообще лягушки умеют кричать от боли.
— Верно,— подал голос Назаров-старший,— если больно, то непременно подумаешь: мне больно.
— По-моему, ерунда,— сказал я,— просто больно и всё. Чего тут понимать?
— Не понимают только машины. Стоит же пристальнее вглядеться, и сразу ясно: эти козявки во много раз сложнее любой машины. Я не могу себе представить, что в них нет хотя бы зачатка мысли,— Саша зачерпнул горстью воды с несколькими головастиками, поднёс к глазам, разглядывая некоторое время, и затем выплеснул обратно.— Только начинаешь вдумываться в окружающий мир, и рассудок цепенеет перед его загадками. Что определяет отличие вот этих живых тварей от неживого? Что они ощущают, входя в наш мир? Каков смысл их существования?
Меня не привлекало подобное глубокомыслие на мелком месте — в прямом смысле на мелком: в самом глубоком месте тут было не более чем по колено. Впрочем, ежели в смысле педагогическом, то предназначенное юному отроку рассуждение было весьма приемлемо как побудительный толчок для дальнейших размышлений.
Всё же я вознамерился возразить, и вот каким образом: критерием истины может стать и собственный опыт, а опыт наш таков: когда мы были бессмысленными младенцами, то мы, разумеется, ощущали и боль, и телесные удовольствия, и неудобства разные (не успел родиться, а уж орёшь благим матом), но разве мы сознавали что-либо тогда? Однако приближаясь мыслью к собственному младенчеству, я всё же порою не мог отделаться от воспоминания, от уверенности через воспоминание: я тогда очень интенсивно осознавал и осмыслял окружающее. Что именно я тогда думал — не помню уже, конечно. Но именно думал — тут меня не разубедить. Я это помню. Поэтому моё намерение спорить сразу же натолкнулось на мою память и было опровергнуто ею. Я промолчал, признав тем свои сомнения в правоте собственных возможных возражений.
— А ты, брат, философ,— сказал я мальчику, когда мы шли обратно.— Вывел ненароком важный закон бытия: страдания и мысль неразделимы, сущностным признаком боли является её осознание, боль рождает размышление. А может, и размышление — боль?
Моё (втайне ироничное) замечание, я подметил, наполнило его горделивой радостью. Боже, и в столь юном уме угнездилась уже гордыня!
Мне тем временем нужно было отправляться восвояси. Назаровы вызвались меня проводить, но мне хотелось остаться одному. Я кстати вспомнил, что приезжал сюда вовсе не в гости к приятелю, и сослался на необходимость зайти по делу к давешним моим приветливым хозяюшкам и собеседницам, у которых могу на неопределённое время задержаться. В адресе, который я у них выпытывал, я, разумеется, не нуждался, а всё же счёл невежливым миновать Валентину с её хватской матерью.
— Ой, это вы!— удивлённо и отчасти (не пойму, отчего) радостно встретила меня Валентина.— А мы уж тут думали всё, думали: колдуны что ли его там заколдовали?
— Да какие колдуны!— я постарался как можно небрежнее отмахнуться от такого предположения.— Я к ним и не ходил. Просто совершенно неожиданно встретил моего товарища. И знаете, как бывает: то да сё, а потом уж поздно, неудобно было вас беспокоить. Ладно, думаю, завтра.
— А мы тут голову ломаем! И кто же этот товарищ?
— Саша. Он тут к бабке приезжает. На том краю живёт, зовут её баба Катя, а подробнее и не знаю даже.
— А! Мать! Это он у Кати Краёновой был. Ну да. Сашка к ней приезжает. Слышишь, мать?
— Вот мать твою так-то,— отозвалась старуха.— А мы уж бознать что думали.
— Уж не серчайте.
— Да ничего. Вот ведь как бывает. А мы тут с матерью сидим... был человек, и нет его. Уж мать тут чего только не говорила.
— Я думала, на б—ках застрял,— призналась та.
— Скажете тоже!— изобразил я смущение.
— А чего! Тут всё в голову взбредёт. Ну как же: был человек, и нет его. Скоро, говорит, вернусь, а сам не вернулся. А я и говорю: мать, его колдуны украли. А тут оказывается: товарища встретил. Мы-то же не знали, вот и гадали. Ну куда мог деться? Пошёл к колдунам и не вернулся. А он у Кати Краёновой. Откуда же мы знали. И кто он вам будет, Сашка-то?
— Работаем вместе.
— Ну надо же! А мы тут не знаем, что и думать. Ушёл человек и пропал. И отца тоже нет. Думаем: и его что ли колдуны заманили? А он у дяди Васи Курбанова сидел, хорош вернулся. Мать его уж чихвостила, чихвостила. Ты, мать, его уж больше не трогай, а то знаю я тебя.
— Вот ужо ещё просиборю.
— А он оттого пить перестанет!
— Как же, перестанет, жди больше.
— Ты вот, мать, тоже... Что же ему теперь: отказываться, когда угощают?
— Его каждый день угощают.
— Ну и не ври: не каждый.
Я решил прервать прения:
— Адрес-то вы нашли?
— Вон лежит. Вчера ещё.
— Где?— оглянулся я.
— Слепой пятиалтынный! Вон он,— Надежда Петровна указала на подоконник.
Пришлось изобразить заинтересованность и переписать адрес на отдельный клочок бумаги.
— А мы всё думаем: и куда он пропал?— никак не могла уняться Валентина.— Ушёл и нет его. Я говорю: мать, не мог же он так уйти, если он из-за этого специально сюда ехал. А тут вон оно что: товарищ сыскался. И ведь надо же как бывает!
— Да знаете, я и сам думать не думал, что встречу,— в тон Валентине поддакнул я.
— Ну надо же! А мы всё гадаем: что стряслось? А он у Кати Краёновой. Да вы бы хоть зашли предупредили.
— Так знаете: то да сё, заговорились. А потом уже поздно — неудобно. Чего же, думаю, тревожить зря, завтра зайду.
— А чего неудобного? Мы поздно ложимся.
— Откуда же я знал, поздно или рано. Уж раз всё равно остался, решил сегодня зайти.
— Это конечно. Но всё-таки мы-то не знали, что у вас товарищ тут.
— Я и сам не знал.
— А мы думаем: куда он делся?
— Куда же я мог деться?
— А кто его знает? Всякое бывает. Да ещё к колдунам пошёл. Я матери и говорю: ведь не может же быть, чтобы он уехал, когда он из-за этого специально приезжал.
— Конечно. Вот видите: пришёл.
— А мы-то откуда знали, что так? А вы что, к колдунам и не ходили?
— Да у них заперто. Я посмотрел: вроде нет никого.
— Там они. Они чужих не любят.
— А что же, скажите: милиция их не трогает?
— Был тут милиционер. А он что может? Тот говорит: я тут живу. А это ко мне в гости приехали. Милиционер с тем и ушёл. Так у них вроде всё нормально. А там кто их знает, что они делают. У них окна изнутри занавешены. И запираются.
— Шут с ними, — постарался я ещё раз беспечно махнуть рукой.— Зато вот кого не ждал, того встретил.
— Ну как же, Сашку-то мы хорошо знаем. Он вот таким ещё бегал,— Валентина показала рукой от пола.— Теперь свои уж такие... Ой!— схватилась она вдруг за голову.— С девчонкой-то у них что?
— Умерла.
— У нас ведь кто что говорит. Спрашивать вроде неудобно. А он молчит. Катя говорила: лечили плохо.
— Плохо.
— Ну вот правильно бабы говорили: врачи упустили. Слышь, мать? Этим врачам только в руки попадись. Одна слава, что лучшие в мире.
— Разные бывают. Как и везде,— заступился я за врачей.
— Да как же врачи разные могут быть? Тут ведь жизнь. А теперь вон какое горе. И ведь надо же! А мы её хорошо помним, девочку-то. Машенькой звали. Симпатичная такая была. Они вон к нашей соседке, к тёте Мане ходили. Так, помню, и ходили все втроём. Он, Сашка-то, всё с детьми, всё с детьми. А жену его мы и не знаем почти. Приезжала раза три. Городская, непривычная, не нравилось ей тут. Ой, мы на неё тут умерли, помню. Тётя Маня им молока парного дала, а она скривилась: коровой, говорит, пахнет. Ведь надо такое сказать: коровой молоко пахнет!— Валентина закатилась в хохоте.— Коровой молоко ей пахнет. Во как бывает. Быком ему что ли пахнуть! Она там в Москве своей молока-то настоящего и не пробовала ни разу. Вот как... Они совсем что ли с Сашкой-то разошлись?
— Вроде совсем.
— То-то мы смотрим: он всё один да один. Жениться ему надо, чего же одному-то?
— Это уж его дело.
— Да уж конечно... Так вот втроём всё и ходили. А уж девчонка была — ну прямо картинка. Да вы же её видели.
— Видел,— вздохнул я.
— Вот ведь горе-то. Мы как узнали, прямо ахнули. Всё, помню, бегает, смеётся. Живая такая была... А в этом году они у Насти молоко берут. Тётя Маня продала свою. Руки болят доить.
— Настя эта преподобная,— проворчала вдруг Надежда Петровна. — Воды набухает, там и молока-то не остаётся.
— Да будет тебе, мать, на людей грешить. Молоко как молоко.
— То-то Мишаня с того молока три дня дристал. Чего она там намешала?
— Твой Мишаня с чего только не дрищет!
В этот момент в дом вошёл неказистый мужичонка в видавшем виды пиджаке, по всему — хозяин.
— Птяха, ты куда опять ухрял!— накинулась на него старуха.— Чушку пора кормить.
— Кстати,— спохватился я, не заметив висевших у меня за спиной ходиков,— время-то сколько?
Птяха (полного обозначения старика я так и не узнал) проворно сунулся за занавеску, притащил оттуда большущие карманные часы-луковицу, открыл крышку и приподнёс мне:
— Вот!
— Будет тебе хвалиться!— одёрнула его дочь.— Иди лучше поросёнка кормить,— и обернулась ко мне:— Вон на стене сзади вас часы. У него уж и время разучились показывать. Любит тоже пофорсить.
— Вы знаете, мне пора. Ну, спасибо вам большое.
— Да чего там! Хорошо хоть всё объяснилось. А то мы с матерью вчера уж не знали, что и думать. Я говорю: мать, ведь не мог же он так уехать, ведь сказал же, что зайдёт.
— Видите, как бывает. А я приятеля неожиданно встретил.
— Да, всякое бывает.
XXII
Уже к самому концу рабочего дня заявился я в Институт.
— Здорово. Ты куда пропал?— встретил меня Рост.— Матвеич тебя ищет. И у меня к тебе дело на сто тыщ.
Вот как: похлопает простецки по плечу — и вроде бы свой в доску, а со своими чего и чиниться.
— Беру любую половину,— вторил я игривому его тону.
— Тут имеются люди,— Рост отвёл меня в сторону, хотя в комнате никого не было, и понизив голос, принялся доверительно мне втолковывать:— Мне, конечно, всё равно, дело твоё. Я, учти, вообще ничего не знаю и знать не хочу. Просто мужик хороший, почему, думаю, не помочь? А ты его так изящно обработаешь. А что? В этом, старик, что-то есть.
Хотя ничего определённого он как будто не сказал, но я сразу сообразил, в чём дело, и, признаться, обрадовался: с Виталием, по всему, мои контакты рвались: даже если он и попытается восстановить связь, я с ним и разговаривать не стану: вспомнить — и то тошно. Однако это грозило уменьшением доходов, что мне явно не улыбалось. Роста же бояться нечего: он же “не знает” ничего. (Так он потом и на суде уверял: ничего, мол, не знал, граждане судьи.)
— Подумаю,— с вялым равнодушием ответил я.— Да и вообще хочу прикрыть свою лавочку.
— Подумай, старик, подумай. Но люди надёжные.
Рост ещё раз похлопал меня по плечу и вышел. Я постоял, подумал и решил, что глупо упускать верный шанс.
Потом я, помню, пошёл искать Витьку Монахова, заглядывая поочерёдно во все двери, потому как на месте его, по обычаю, не оказалось. В одной из комнат я, к удивлению своему, увидал рыдающую Дегтярёву, окружённую кудахтающими бабами и дамами, поэтому, хотя Монахова среди них и не было, я несколько замешкался, они же все вдруг оголтело накинулись на меня:
— Ваш распрекрасный друг учёный секретарь теперь думает: что хочу, то и ворочу?
Оказалось, Рост решил притормозить деятельность Дегтярёвой — не то чтобы вовсе прикрыть, а просто распорядился перекрыть снабжение группы дефицитными и необходимейшими ей реактивами, а дабы оборудование не простаивало: передать временно большую его часть в соседнюю лабораторию. Дегтярёва садилась на мель, кое у кого накрывались почти готовые диссертации. Попросту: резал без ножа.
Тогда я, по дурной своей наивности, не сразу смог сообразить, зачем ему сия совершенно бесполезная акция, чем помешала ему несчастная Дегтярёва (а чуть было не сорванную его защиту я и забыл), которая, ко всему прочему, разрабатывала весьма перспективное направление и была близка к успеху. Да и сил сколько потрачено, времени, нервов. Правда, дегтярёвские результаты перечёркивали всю кандидатскую самого Роста, но то дело прошлое — кому нужно старое ворошить...
Теперь-то я всё понял. Задним умом все мы крепки. Рост, как виртуоз-шахматист, рассчитал на много ходов вперёд. Он уже смело прозревал то светлое будущее, когда он сядет в кресло Матвеича, прикидывал удобную и выгодную для себя стратегию Института, план научных свершений, согласно той убогонькой логически-концептуальной схеме, каковая сложилась в его башке, вероятно, ещё в школьные времена. Он уже и начал всё увязывать и согласовывать с этой своей схемой. Дегтярёва же (виделось ему) как-то слишком выдавалась из общего ряда. Опять же: приятно ли вечное напоминание о твоей собственной бездарности, выражавшееся самим фактом существования опровергающей тебя чьей-то непрекращающейся деятельности? Лучше прекратить. Да и историю с собственной защитой не забыл же он.
Постоянно якшаясь с чиновным начальством в высших сферах (что ему и по должности как бы полагалось), Рост успел коротко сойтись со многими нужными людьми. В народе о таких, вроде него, говорят обычно: без мыла в жопу влезет — и оного таланта ему было не занимать стать. Руками нужных людей он ограничил (чуть ли не до нуля) снабжение Института как раз реактивами, которые были до зарезу нужны дегтярёвской группе, и создавшейся нехваткой оправдывал соответствующие меры медленного удушения тех, к кому лелеял в душе тайную неприязнь.
Я, признаться, тогда не знал всего этого, о том вовсе не думал, да и плевать мне было много раз на все дегтярёвские проблемы и переживания, но чем-то меня Рост раздражил, и я, явившись к шефу, между прочим заметил:
— Михал Матвеич, чего же дегтярёвских-то ущемляют?
Петельский находился как раз в одной из тех своих обычных для последнего времени депрессий, кои следовали за очередными семейными катаклизмами, и с глубоким внутренним отвращением относился ко всякой попытке втянуть его в административные дела.
— Андрюша, что вы говорите!— сказал он с досадою в голосе.— Кто их там ущемляет? Временные трудности со снабжением, вещь довольно заурядная. Кроме того, вы забываете об общей стратегии Института. Нам нужно выдать, руководствуясь политической конъюнктурой, сейчас, немедленно, хоть какой-то эффектный результат — от этого многое зависит, вы должны понимать. Поэтому мы сосредотачиваем усилия, в частности, на теме Монахова, ему и первоочередное внимание. Дегтярёва в ближайшее время всё равно ничем не могла бы нас порадовать. Ну и пусть подождёт, подтянет тылы, как говорится. Да, знаю, ей нужно время, у неё перспективная работа. Но будем мыслить широко: научное открытие не станет менее значительным, если будет совершено на три месяца позднее.
С тоскою слушал я, как успешно освоил академик терминологию Роста. Впрочем, шеф, сдаётся мне, искренне верил в то, что успел насуфлировать ему расторопный учёный секретарь. Но каков Рост! Матвеич рассуждает о “политической конъюнктуре”, об “общей стратегии”... Милейший Михал Матвеич, когда-то неистово презиравший подобный прагматизм хитроумных бездарей, пошёл на поводу одного из них.
Выходя от шефа, я в приёмной столкнулся с Ростом, который кокетничал с Аллочкой-секретаршей. Скорее по инерции, чем из любви к истине, я сказал ему:
— Рост, ты чего делаешь с Дегтярёвой? Хоть бы о том подумал, что на работу затрачено масса средств. Всё коту под хвост? Тебе же за перерасход...
— Не серьёзно, старик,— с некоторым укором перебил он меня.
И что в самом деле за наивность! Странная есть у меня черта: мне бывает искренне жаль пропадающих понапрасну государственных затрат. Меня, например, так и подмывает, когда я вижу вхолостую работающий мотор грузовика, оставленного беспечным шофёром, подойти и заглушить его: бензин же зря выгорает. Глупо, но ничего с собой поделать не могу. Росту, разумеется, подобные эмоции не знакомы. Он на мой довод снисходительно улыбнулся лишь.
Да и впрямь несерьёзно.
А то серьёзно, что Рост решил взять противника измором. Временные меры, они, как известно, самые долговечные и есть. Рост же потом ещё много таковых измыслил, вёл осаду по всем правилам “общей стратегии”. Так что ещё при Матвеиче Дегтярёва ушла из Института, группа распалась, тему закрыли. Убытки списали. Правда, я тогда уже далече обретался.
Бытовала, говорят, некогда среди человеков игривая склонность ума, именуемая порядочностью. По слухам, в стародавние времена ежели какой индивидуй вышеупомянутой склонностью не обладал — ему и руки не подавали. И вот думаю теперь: разделяй я тот старорежимный пережиток — как раз и не случилось бы со мною ничего такого этакого. Плюнул бы Росту со всеми его клиентами в рожу — а? Так нет. Широкость ума воспрепятствовала.
Я только Витьке Монахову в тот же вечер выговорил:
— Он ведь твоим именем прикрывается. Мне, конечно, наплевать, но нехорошо же.
— Если мы подобных дефиниций придерживаться станем, — ответил он мне,— то недалеко уйдём. Хорошо, плохо... Не мне тебе объяснять: нынче не только семь пядей во лбу требуется, но ещё рука наверху и собственные крепкие локти, лучше то и другое сразу. У меня же ни того ни другого нет — обделён природой и судьбой. Поэтому пришёл я недавно к Росту и сказал: Ростислав Аркадьевич... заметь: по отчеству и на вы... Ростислав, говорю, Аркадьевич, мы люди без предрассудков, буду говорить прямо. Я вижу в вас сильную личность. Готов работать на вас. То есть всё, что я делаю, будет выходить отныне прежде всего под вашим именем. Но я должен быть всегда при всех условиях и во всех ситуациях вторым. Всегда: вы первый, я второй. Кроме того, обещаю безоговорочную поддержку во всех ваших схватках с конкурентами, недоброжелателями и прочими.
— И что же он?
— Его всегда отличала широта ума и нешаблонность мышления. Он понял меня правильно. Пойми меня правильно и ты. Мне противно темнить. Я выложил свои карты перед ним, раскрываю их и тебе. Осуждать меня ты не имеешь права: тебя прикрывает твой фавор у шефа, у тебя иное положение, тебе легче.
Я и не осуждал его. Я его понял. Он на верную лошадку поставил. А теперь всё при нём: доктор давно, в замах у Роста ходит, лауреат. На следующих выборах Рост в академики выскочит, а Витька в членкоры.
Помню только: тогда, глядя ему вслед, я подумал злорадно: хрен вам всем, первым буду я. А вы уж как-нибудь потом...
XXIII
На следующий день — мамина соседка по палате, Вера, должна была выйти из больницы.
И мерзкий сон мне перед тем приснился. Будто ребёнок её уже родился, и это мой ребёнок, а я сижу и считаю деньги, и будто бы выходит так, что я все деньги должен отдать на ребёнка (...кто: мальчик или девочка?), но мне не на что станет покупать реактивы, которые Дегтярёва прячет от Роста и продаёт Виталию, мне же нужно перекупить их, чтобы заставить всё сборище деревенских “колдунов” подчиниться мне, потому что я хочу овладеть особой мистической силой для борьбы с Ростом, и будто бы Вера приходит ко мне со своим ребёнком, а я прячу от неё деньги, чтобы не отдавать, и начинаю объяснять ей, что не верю, что я отец этого ребёнка, потому что она была любовницей Роста, но хочет взвалить на меня чужую обузу, и она начинает плакать и говорить, что Рост заставляет её сделать аборт, но если она сделает, то ребёнок умрёт, потому что он уже родился, и это будет убийство, за которое нас всех посадят в тюрьму; а в это время откуда-то появился Саша Назаров, присел на стул у окна и вдруг начал рыдать, громко и страшно, я же, глядя на него, подумал, что если он так рыдает, то оттого что ему больно, и он понимает, что ему больно, и если бы не понимал этого, то ему стало бы легче. И откуда-то во мне явилось понимание моей вины в его страданиях, и эта вина острой тяжестью разрасталась во мне.
Когда-то я совсем не знал, не мог представить даже, что вина — это именно тяжесть, физическая тяжесть, что она материальна, так ощутимо давящая грудь. Порою она чуть слабеет, но потом наваливается вновь. Она убивает, вот сейчас убьёт меня. И ноющая, изнуряющая жалость к себе угнездилась в самом моём сердце, и оно болело, болело, болело, и ничто не могло утишить его боль. По моим щекам текли слёзы. Боль давила и колола, я чувствовал, явственно чувствовал, как оно может разорваться. Дайте мне другое сердце, я не хочу жить с этим... Надо устроить катастрофу для Роста и взять его сердце... Ведь если я умру, то со мною умрёт всё, что во мне, что досталось мне такой дорогой ценой,— но не может же всё это исчезнуть вот так бессмысленно и бесследно. Я ещё не успел сделать чего-то очень важного, самого важного для меня. Зачем тогда моя жизнь? Зачем эта бессмысленная жизнь? Как я ненавижу её. Я же не хочу умирать. Мне нельзя ещё умирать...
Недавно от одного умного человека я услышал: ничто не исчезает, что было и есть в нас,— но сохраняется в Боге...
И вот тут, на грани, на зыбкой грани между сном и пробуждением меня пронзила мысль, что я должен искупить свою вину перед этой женщиной, пусть даже и незнакомой мне совершенно. Подобная мысль не могла бы придти ко мне въяве: слишком она нелепа и нелогична. Но и проснувшись, я не мог уже выйти из-под власти того ощущения, состояния, которое оставила во мне та мысль из полусна,— состояния вины, долга, жалости к чужому одиночеству.
Проснувшись, я некоторое время лежал неподвижно, дожидаясь, когда станет тише боль в груди, но утвердившееся в подсознании стремление очень скоро заставило меня (мне казалось: я действовал помимо сознающей себя воли) подняться и отправиться по уже привычному для меня пути к небольшому садику, вжатому среди томительных серых корпусов в обширный больничный квартал. Ждать мне пришлось совсем недолго, и когда Вера показалась на дорожке между деревьями, я молча подошёл к ней и взял у неё из рук большую коричневую сумку с вещами — как будто так и нужно было, будто это само собой разумелось, а естественнее ничего и быть не могло. Мой безмолвный жест сразу же установил между нами ощущение особого душевного единства, как если бы всё давно уже было ясно и ненарушимо до конца времён.
Опасная иллюзия. Я знаю: она оборачивается в конце особо жёсткой взаимной отчуждённостью. Но некоторое время внутренний покой создаёт всё же видимость гармонии и счастья.
Я проводил её до самого дома, поднялся в маленькую квартирку, потом сходил в магазин за продуктами, помог кое в чём по хозяйству. Мы долго пили чай с принесённым мною тортом и говорили о всяких пустяках. Я знал, что она, может быть, ждёт от меня каких-то более важных слов (или действий?), но я просто болтал без всякого смысла и был, как это случается со мною иной раз, весьма остроумен и интересен. Когда я почувствовал приближение того опасного момента, после которого почти неизбежно и непоправимо начинается спад внутреннего эмоционального напряжения, зарождается и растёт ощущение отъединённости друг от друга,— я поднялся и приготовился уйти. Вообще-то, такой, неуловимый почти, момент, если удастся его не упустить, весьма благоприятен для перехода к объятиям, поцелуям и прочему — и всегда обещает успех. Но я не хотел оскорблять в себе того, что дорого для меня было в моём внутреннем состоянии в тот самый момент. Я поцеловал её в лоб — невинный братский поцелуй — и ушёл.
Не сообразил: оставил её в недоуменном одиночестве. Я думал только о себе. Вот в чём печаль.
XXIV
Так вышло, что Вера жила в том самом районе, где обитал и мой давно позабытый приятель, адрес которого я с приключениями раздобыл в недавней поездке за город. Клочок бумаги с адресом так и провалялся бы долго и бесполезно в моём кармане, если бы я не очутился — случайно совершенно — поблизости от его жилища.
Мы сошлись с ним когда-то, на заре туманной юности, в пору наших совместных ученических занятий живописью. Признаться, я уже начал забывать его, даже в фамилии не твёрдо был уверен... Гаенков — вот как: Владимир Гаенков. Да не в том суть. Пути наши давно разошлись. Я принялся химичить, он же подался в архитекторы, но после окончания учёбы ни на какую казённую службу идти не захотел, а перебивался случайными и не вполне понятными мне заработками. Впрочем, источники его доходов — они мне были безразличны, он что-то говорил мне даже, а я — мимо ушей пропускал. Мы встречались время от времени: так просто, сами не знали зачем — скорее по беспечности молодого немыслия. Потом он отправился на жительство в добровольную деревенскую ссылку, мне же туда ездить было вовсе не с руки. Так мы и затерялись друг от друга.
Теперь вот я подумал: почему бы и не зайти?
Владимир оказался дома. Он меня узнал, не удивился, широким жестом пригласил войти — в одну из комнат обширной коммунальной квартиры с неопределённым и непроглядным коридором. В комнате, почти лишённой мебели (внушительная двуспальная кровать у стены и три стула, посуда и непонятный хлам на двух широченных подоконниках), стояла посредине большая чертёжная доска. Неопрятный и плюгавенький индивидуй что-то вынюхивал в некиих чертежах, почти водя носом по листам ватмана, приколотым к доске.
— Рекомендую,— широчайшим жестом указал мой бывший приятель на индивидуя.— Александр Феликсон. Коллега.
— Андрей Михалыч,— представился я.
— Кто бы мог подумать! Даже Михалыч!— воскликнул Гаенков и без всякого перехода ошарашил меня вопросом:— А скажи нам, разлюбезный друг Андрей Михалыч, для каких таких непонятных целей люди строят башни? Молчи. Всё равно изречёшь вздор. Я скажу. Вовсе не для того, чтобы установить там пушку или же телевизионный передатчик, к примеру. Или прочий абсурд.
— Чтобы места поменьше занять, — предположил я.
— Я же сказал, что изречёшь вздор. Со времён Вавилонской башни человечество жуёт подобную бессмыслицу. Молчи. Лучше молчи, не то скажешь, а потом будет стыдно. Я объясню. Человек стремился испокон веков построить башню, чтобы забраться туда и крикнуть на весь мир: “Вот я!!!” Но побочные соображения вскоре одолевали его, и он отвлекался от истинной цели всякого рода практическими химерами. Саша, подтверди. Саша у нас знает всё. Мы соавторы. И мы-то как раз высвободили изначальную идею из-под всей наслоившейся чепухи. Молчи и слушай. А лучше смотри. Вот проект. Огромная башня. Высота на пределе достижимого.
— Выше Останкинской?
— Не опошляй. Не оскорбляй чистоты идеи. В верхней части — сияющий прозрачный объём. Молчи. Всё равно не поймёшь. Любой человек может подняться туда и предстать перед всеми в сиянии яркого света. Его голос, усиленный мощными стереоустановками, прогремит с вышины: “Смотрите, это Я!!!!!” Всё продолжается пять минут. Затем туда поднимается следующий. Башня работает круглые сутки. Билеты распространяются через общественные организации и систему специальных рекламно-кассовых агентств.
Я ошарашенно вопросил:
— Это серьёзно?
— Я сказал: молчи. Самому же будет стыдно. Если бы было несерьёзно, за это не платили бы деньги. Со своим проектом мы заняли первое место на международном архитектурном конкурсе в Японии. Премия — несколько десятков тысяч иен.
— Однако!— только и смог я сказать.
— Именно!— подтвердил он.— Мы только этими конкурсами и живём.
— То есть ещё и...
— Не один раз. Две первых, одна вторая, одна третья премии различных международных конкурсов. И все в валюте. Сейчас вот работаем над темой “Дом для Винни Пуха”. Швеция объявила. Александр, а почём нынче шведские кроны?
— И у нас тоже такие конкурсы есть?— проявился в моём затуманенном сознании вопрос.
— У наших чиновников пока не хватает воображения. Только в мире свободной мысли может возникнуть идея поощрения вольной фантазии творца.
— А что вы ещё натворили?
— Лучшей своей идеей я считаю “Лестницу, устремлённую от буден”. Я опять тебя спрошу: зачем нужны лестницы? И ты опять скажешь вздор. Поэтому молчи. Любая форма и конструкция могут стать либо несуразнейшим воплощением скудоумного человеческого прагматизма, либо отражением высших смыслов. Смотри. Мы ставим лёгкую, уходящую в беспредельность лестницу над скопищем городских трущоб. Человек подымается ввысь, постепенно вырываясь из каменных теснин, вся низменная суета внизу и остаётся, постепенно город преобразуется под ногами в слившееся сияние несчётных огней, остаётся всё ниже, а человек обретает единство с музыкой небесных сфер, сливаясь с вышним простором. Первая премия в Лондоне.
— И что, это строить будут, или как?
— Вот грубый материальный ум! Посмотри, Александр!— обратился Гаенков за поддержкой к соавтору.— Человек должен творить идею в чистом виде. Всё остальное — лишь вульгарное приложение к сфере мысли, и по сути — фикция. Между прочим, нас поддерживает поэт Андрей Вознесенский, тоже архитектор.
— Не знаю,— не сдался я.— Пусть и сфера чистой мысли, но я вот лишь подумал, как карабкаюсь по той лестнице, и у меня одышка началась. Мысленная.
— Молчи. Подобные критерии неприменимы к творчеству.
— А нельзя ли всё же на лифте — к небесным сферам?
— Важен сам процесс.
XXV
Нашу плодотворную дискуссию прервал звонок у входной двери. Владимир вышел и затем ввёл нового посетителя. Тот взглянул на меня и подтвердил:
— Мир тесен.
Это был Владислав, с которым однажды я встретился у Назарова. Помнится, они ещё спорили о судьбах христианства.
— Вы знакомы,— как бы выражая своё согласие с фактом сказал Гаенков.— Молчу.
— Вот и молчи,— поощрил его Владислав.— Лучше бы стульев купил побольше, а то кому-то всё время стоять приходится из вежливости.
— Вон садись,— указал хозяин на кровать.
— И сяду. А ты всё-таки стулья купи. Или валюты жалко?
Гаенков пожал плечами. Владислав грустно посмотрел на него и на безмолвного индивидуя-соавтора, который всё водил носом по чертежу:
— Вот он, дьявольский соблазн творчества. Художник творит свой мир и всё время живёт как бы на грани реальности и вымысла. А как легко сорваться и уйти в эту, тобою сотворённую фантазию — без оглядки! Вот взять хоть бы вас — существуете в химерическом мире из башен для страдающих комплексом неполноценности и лестниц для самоубийц в компании с Винни Пухом, а реальность, о чём свидетельствует роскошь обстановки, в совершеннейшем презрении. Правда, от валюты пока не отказываетесь.
— Молчи. Если бы то были химеры, нам бы не платили деньги. Буржуи деньгами не швыряются зазря.
— Если платят сумасшедшие деньги тем, кто, например, публично лупят друг другу морду или бегают наперегонки, то ваши премии — отнюдь не большее безумие.
— А почему соблазн дьявольский?— неожиданно подал голос соавтор.
— Потому что возомнили себя равными истинному Творцу.
— А!— удовлетворённо хмыкнул индивидуй и замолк навсегда.
— Что спорить с таким приземлённо убогим пониманием вещей!— в раздумье произнёс Гаенков, но Владислав тут же нарушил его философский настрой:
—Ты в подвале был?
— Некогда.
— А я собирался тебя за компанию прихватить.
— Некогда, сказал.
Владислав огорчился:
— Одному неохота.
— Вон его возьми,— ткнул Гаенков пальцем в мою сторону.
— А что, идея!
— Какой ещё подвал,— не понял я.
— Выставка авангардистов. В прямом смысле подпольная, ибо — в подвале.
— Их что, запрещают? Теперь же вроде всё можно.
— Кому они нужны? Запрещать их ещё... Но тут суперрадикалы. Пошли, пошли, будет забавно. А этих зодчих будущего оставим в их бредовом хаосе.
— Молчи.
— Сам дурак.
Я не мог не рассмеяться, выходя от Гаенкова.
— А вот ещё что!— как бы спохватился Владислав уже на улице.— Надо Сашку же захватить. Его вообще надо теребить и отвлекать от мрачных мыслей. Он ведь только вида не подаёт.
Я не возражал.
Когда мы явились к Назарову, он гладил на кухне какие-то детские вещи.
— Один?
— Севку в деревне оставил. Чего ему тут?
— Тем более,— заявил Владислав.— Ты имеешь полное право посвятить себя культурному досугу.
— Чего ты ещё выдумал?
Саша отнекивался, но Владислав всё-таки растормошил его и вытащил из дому.
— Мы отправляемся на передовую. Противник наступает по всему фронту искусств,— возгласил наш вожатый.— И кто бы мог подумать, что это совсем недалеко, за двадцать минут доберёмся.
По дороге к подвалу Владислав развивал собственного, вероятно, изобретения теорию — с таким жаром он витийствовал — теорию о грозящей человечеству “игровой слепоте” (как он называл), зародыш которой несёт в себе искусство.
— Искусство вообще всё сплошь игра. Хотя в игре, впрочем, есть и рациональное зерно. Дети вот — они так жизнь постигают. Вреда в создании иллюзии инобытия нет до тех пор, пока в этом видят средство к постижению самого бытия. Но в игре могут увидеть и цель: полный уход в творимое фантазией инобытие. Например. Собираются вроде бы взрослые люди и начинают: “А я теперь как будто председатель земного шара!” А все: “Да, да, ты председатель земного шара!” Или: “А я как будто поэт великее, чем Пушкин и сейчас напишу вам будто гениальные стихи: дыр-был-щур”... или как там?— Владислав взглянул на меня вопросительно, но я не мог сказать точнее и лишь утвердительно подкивнул головой, будто знаю и удостоверяю правильность его цитирования, и он, ободренный, продолжал:— Ну а поскольку в заднице-то свербит, оттого что это же только в твоём иллюзорном мире ты гениальнее Пушкина, то и: долой его с корабля современности, как ту персидскую княжну. Разыгрались — просто удержу нет. И главное: есть же кто-то, кто весь сей вздор всерьёз изучает. Диссертации пишут. Вот сейчас придём, глянем, во что теперь нынче играют.
— Так пусть себе. Кому мешают?
— Они приучают к тому общественное подсознание. Тут хитрый механизм. Ведь все начинают играть. Вот я как будто хороший начальник, умелый руководитель и мне за то премии и награды положены. А я как будто великий учёный и как будто великие открытия сделал и мною как будто все восхищаться должны. А я как будто великий писатель. А я общественный деятель, опытный политик. А я как будто ночами не сплю и о всеобщем благе голову ломаю. В справедливость играют, в добро, в правду тоже. Из любви тоже игру сотворили. “Вот как будто то, что у нас с тобой, это и есть любовь”. Придёшь в поликлинику а там как будто врач тебя как будто лечит. Как дети: нарвут бумажки: это как будто деньги. Пока играем, деньги, ценности. А потом сразу и выбросить можно. И это ещё цветочки. Новые технологии вообще всех погубят: виртуальные миры создадут, и человечество заблудится во многих реальностях, не разбирая, где истинная.
— Так ты полагаешь, во всём виноваты художники?
— Да,— вздохнул Назаров,— промочили ноги, а потекло почему-то из носа.
— Головастый!— с нарочитым почтением воскликнул Владислав.— Сразу суть ухватил.
— Какую суть?— не понял я и даже подосадовал на себя.
— Взаимосвязь разрозненных отправлений реальности. Во всём этом искусстве, каковое как будто само по себе, заключена всеобщая потенция превращения бытия в инобытие. То есть раньше инобытие искусства существовало как бы параллельно, а теперь им просто норовят перекрыть реальность. Усёк? А может, искусство чутко предугадывает потребности общества? Во всяком случае, по состоянию искусства можно судить, куда готово двинуться человечество.
Однако лишь только Владислав принялся развивать свою теорию перед художниками, среди которых мы в конце концов оказались, добравшись-таки до подвала — а где он находился, я бы и не нашёл теперь, довелись мне искать его вновь и самостоятельно — и пропихнувшись через узкую щель в темноватое бесформенное пространство, образуемое грязными перегородками и причудливыми коленцами больших и малых труб, кучами строительного мусора, окружённого расставленными, развешенными и разложенными прямо на бетонном полу замысловатыми творениями неисчислимых живописцев и скульпторов, слонявшихся здесь же, в этом мглистом пространстве, и пребывающих в трансе беспрерывных дискуссий всех со всеми, так что мне померещилось даже, будто Владислав именно здесь и витийствовал в то время, пока мы добирались сюда, как бы раздвоившись что ли, опередив самих себя,— ибо лишь только он принялся развивать свою теорию, то не успел и двух слов сказать, как тут же был срезан ловким вопросом: какой же тип игры подразумевается: экстатический или миметический. Вопрос совершенно обескуражил Владислава, он начал тушеваться и был добит язвительным советом: сперва разобраться в азах теории, а уж потом брать на себя наглость навязывать другим собственные домыслы.
XXVI
— А впрочем, вы совершенно правы, когда констатируете сам факт, но отнюдь не правы, пытаясь постулировать свою негативную дефиницию!
С этими словами вступил в разговор некий чернявый неопределённого роста господинчик с искрами во взоре. По его лицу время от времени пробегали лёгкие судороги, хотя оно казалось совершенно застывшей маской; да и сам он, будто его жёг изнутри некий огнь, не мог и мгновения постоять спокойно, перебегал с места на место, но остановившись, перебирал ногами и извивался телом, иногда взвизгивал свиньей, временами исчезал, потом снова появлялся, подбрасывая в ведущийся спор вовсе не относящиеся к делу реплики.
— Вы правы, вы абсолютно правы!— верещал он.— Но так и надо. Наша задача — погрузить мир в космическую игровую стихию. Мы должны укрыться в иллюзорности. Бытию надо придать хоть какой-то смысл, ибо оно абсурдно по природе своей.
— Почему же абсурдно?— с присущей ему наивностью в голосе поинтересовался Назаров.
На протяжении всей нашей дальнейшей экскурсии по подвалу , как и по дороге к нему, он чаще молчал, с большим любопытством всматривался в людей, чем даже слушал их речи, никому не возражал, лишь в редчайших случаях задавал вопросы.
— А как же!— послышался в ответ на его любознательность гвалт выкриков.
— Именно по природе абсурдно!— радостно настаивал вывалившийся из общего гвалта визгливый господинчик.— Как может быть не абсурден мир, лишённый всякой цели собственного существования?
— Но почему же лишённый цели?— опять спросил Саша.
— А какая же может быть цель у слепой игры стихийных сил?
— Ага!— выкрикнул кто-то.— Опять игра!
— И мы должны противопоставить ей собственную игровую перманентность.
— Ведь ясно же,— втолковывал, обращаясь ко всем сразу, юркий господинчик,— ясно: чтобы наличествовала цель, необходим сознающий и оценивающий её разум, пребывающий вовне! Что же тут неясного? А его, разума-то, и вовсе нет.
— Во-первых, мы должны сами создать новую систему истин,— выступил из полутьмы круглый здоровяк.— Нынешние истины основываются на так называемом научном принципе, прагматически-позитивистском, я бы сказал. Но присутствует ли дионисийский феномен в научной истине? Давно доказано, что нет. Значит, нужна истина иная, нами же, художниками, а вовсе не учёными сотворённая.
— Новая истина в инобытии!— кричали из мглы.
— Именно! Радикализм полный и во всём. Не ограничивая себя ничем и ни в чём.
— Да. Но ведь сегодня можно это “что угодно” объявить произведением искусства, а завтра и это не будет уже оригинально. Как быть?
— Надо полностью отказаться от предметного мира, от события как такового. Мы должны отразить не предмет, а отсутствие предмета, не событие, а отсутствие события. Эстетическое переживание заменить отвлечённой медитацией.
Голосов было так много, что я не всегда различал, откуда и от кого они исходят. Да это было уже и не важно. Забавнее мне казалось другое: находясь в подвале долгое время, мы так и не начали пока собственно осмотра творений нового искусства, причём сами мастера как будто выказывали к ним отчасти даже и безразличие. Лишь изредка кто-то хватал кого-то за руку и подтаскивал к своему опусу. Меня, например, атаковал жиденький молодой человечек, настойчиво и жалко убеждавший оценить его мысль:
— Вот смотрите, я приклеил к полотну полено — и что же? Я тем самым вышел за пределы плоскости, я отрицаю плоскость в прямом смысле. И ведь не в скульптуре же, заметьте!
— Конкретика бездарна! Мы должны нацеливать себя на беспредметную медитацию.
— Нет, мы должны раскрывать в предмете его рефлективную имманентность, гносеологически субъективную. Непонятно? Поясняю,— седовласый мэтр встал в позу и принялся излагать своё пояснение, украшая речь презамысловатыми модуляциями голоса, как это делали провинциальные “благородные отцы” на дореволюционной сцене.— Вот взгляните (он показал всем авторучку, потом вынул из неё стержень, показал и его), вот сей заключённый вязкий субстрат я, быть может, вытяну на листе бумаги в замысловатую линию, подобную причудливой арабеске, и она выразит в своём затейливом узоре мысль, которая, быть может, поразит человечество величием своим, своею высокостью непостижимой! (Тут он выдержал театральную паузу.) Но мысль ли главное? Главное: предощущение мысли и преклонение перед нею. Зачем же тогда сама мысль? Вы правы, мои юные друзья: она не нужна. Мы должны лишь, вглядываясь в предмет (он особо повертел в воздухе стержнем от авторучки), предвосхищённо осознать потенциальность мысли и поразиться ею.
— Надо освободить предмет!
— То есть как?— седовласый искренне оскорбился сей репликою.
— Нужно отстоять независимость его составных частей, отказавшись совокупить из них его целостность.
— И что же?— седовласый выказал ещё большую оскорблённость.
— Освобождение предмета символизирует освобождение человеческого духа. Надо освободить его от любых внешних ассоциаций, сковывающих его, накладывающих на него какие бы то ни было обязательства. Надо освободить его от времени и пространства.
— Именно, именно!— восторженно завопил, завизжал примчавшийся на эти слова чёрный господинчик.— Вот великое назначение искусства! Мы должны создать искусство нового религиозного экстаза. Если религии говорят о существовании непознаваемого “того света”... Вспомните, Будда погружался в благородное молчание, едва его вопрошали о нирване... да, “тот свет” непознаваем. Но мы имеем в таком случае право создать свой “тот свет” — погружая человека в особый слой арт-социума и трансцедент-арта, ибо: чем в принципе будет отличаться их “тот свет” от нашего? Оба непостижимы, недостижимы и непознаваемы. По сходству трёх признаков устанавливаем их тождественность. Кроме того, и тут и “там” мы имеем в наличии принцип абсолютной свободы. Он выражается в тенденции относить к глубинным слоям искусства всё, что утверждается волею художника-демиурга. Я могу покрывать холст краской в любых сочетаниях, а могу не покрывать его ничем, я могу вообще отказаться от холста, не брать его, я могу вообще ничего не брать, и тогда пустота станет моим созданием.
— Малевич совершил великую революцию,— подхватили из толпы,— ибо он упразднил пространство, он лишил его права на существование. Он декретировал это своими созданиями.
— Позвольте, но его “Чёрный квадрат” — это всё же пространство.
— Во-первых, это не квадрат, а портрет квадрата в ракурсе. Такие вещи надо бы знать.
— Это чёрная дыра в пространстве!— перебили из толпы.
— Ага! всё-таки в пространстве!
— И шаг к отрицанию пространства. Он прозрел бытие чёрных дыр, когда наука даже не догадывалась, что их можно открыть.
— А отсюда рукой подать до идеи свёртываемого слоями мироздания.
— Вот эти-то семантические слои искусство и должно попытаться раскрыть.
— А как же Шагал и Ларионов?— недоумённо пролез вперёд некий хлипкий индивид.
— Скажи ещё: Репин.
Все понимающе загоготали.
— Даже сам ракурс в портрете квадрата,— не унимался кто-то,— постулирует именно волевое обращение с пространством и знаменует собою шаг к отмене его.
— Именно!— возликовал господинчик.— К отмене! А следующим шагом должна стать отмена времени, потому что сущностная характеристика “того света” заключается как раз в отсутствии пространства и времени. Средствами нового искусства мы и упраздним их.
— Как же вы это сделаете?— спросил Назаров.
— Мы изберём своим объектом то, что неподвластно времени и пространству. Пустоту! Ничто. Nihil.
— А сами-то куда денетесь?— опять спросил Саша.
— Разумеется, высшим творческим актом стало бы полное самоуничтожение человечества, но оно ещё не настолько дерзновенно.
— Да и какая в нас во всех такая уж особенная и нужда?— снисходительно принялся растолковывать нам какой-то толстячок.— Поэтому мы призываем к отречению от самости во имя утверждения себя.
— Именно,— егозил чернявый.— Надо уничтожить своё “я”, и такое уничтожение наполнится светом мистической силы, высшей духовности, этическим смыслом божественных откровений.
— И эстетических!— подхватил толстячок.
— От эстетических необходимо отказаться вообще,— нравоучительно и веско изрёк невысокий сухой человек, лицо которого, казалось, было сделано из мятой жести, жёсткое и жестокое, и походило на грубо отчеканенную маску врождённого бесстрастия. Заметно было, что при чеканке по металлу били неуклюжим молотком, и небрежно. Жестяной презрительно щурился и цедил:— Только примитивный поверхностный ум станет искать эстетического совершенства или какой-нибудь идеи в искусстве.
— Верно: где эстетика, там уже и идея,— подсказал вертлявый.— Эстетика сама по себе идея.
— А где идея, там идеология. Последняя же в принципе антиэстетична. Абсурдный замкнутый круг. Нужно искать автономные формы внеэстетизированных смыслов.
— Собственно, идеал и совершенство суть понятия неопределённые, и весьма,— заявил некто неразличимый во мгле.— Критериев-то нет и не может быть. Они насквозь субъективны.
— Единственным, хотя и условным критерием,— мрачно произнёс жестяной человек,— мог бы считаться Христос, но мы давно отвергли этот неудачный символ, поскольку Христос всегда был антидемократичен, проявляя насилие над свободою воли и над всей жизнью вообще. Его патернализм отвратителен. Искусство же не может существовать вне свободы. Хотя сам по себе Христос был, должно признать, великим художником, и та игра, которую он затеял, принимается многими и по сей день.
— Браво, брависсимо!— завизжал господинчик, завертелся на месте, подобно волчку, и тут же умчался во тьму.
В это время из пространства материализовалась перед нами какая-то дама, которую Владислав, шепнув мне на ухо, представил как крупную искусствоведку из престижной газеты. Запамятовал её фамилию, помню только, что если бы в этой фамилии заменить одну букву на смежную, то звучала бы она, фамилия, весьма неприлично. Как можно было догадаться, дама явилась в подвал негласно: неприлично же было ей, специалистке по древней иконе и Рафаэлю (как было доложено шёпотом), посещать столь прогрессивное место. Крупные черты лица её ещё более укрупнялись грубой косметикой, под ушами висели массивные блямбы, каждая величиною не менее самого уха, на руках были нацеплены столь же громадные перстни, а над головою возвышался пышный бант, блестящий и трескучий.
— Ну покажите же мне, что тут у вас!— игриво и иронически-снисходительно гаркнула она.
Наконец-то начался обход самой выставки — дама с матерной фамилией шла впереди, остальные составляли как бы свиту,— а у того или иного опуса из общей массы вывинчивался автор, давая пояснения. Выставленное было весьма многообразно: тут и измазанные краской холсты, фотографии с дорисовками, и всевозможные изделия из разного рода деталей и обрезков, в основном металлических, и просто самые обычные предметы — например, в одном углу лежали: молоток, камень, тыква, ещё что-то, и к каждому же предмету прилагалась бумажка с обозначением: “Молоток Бога”, “Камень Бога”, “Тыква Бога” и так далее. Произведением искусства оказалась и куча мусора, возвышавшаяся посредине. Автор кучи пояснил:
— Предметы старого искусства были средством выколачивания денег. Это оскверняло и унижало искусство. Я стремлюсь создать нечто такое, за что никто не захочет дать ни гроша. Это и станет истинным искусством.
Искусствоведка одобрительно кивнула.
Рядом в уголочке стояли две небрежно сляпанные скульптурки, напоминавшие отдалённо Венеру Милосскую и Аполлона Бельведерского. Под первой из них помещалась не без изящества исполненная табличка: “Венера без трусов”. Под второй так же лаконично: “Аполлон без трусов”.
— Исполнение вздор. Главное слово,— заявил крутящийся тут же, вероятно, автор.— Тысячи лет люди смотрели и не видели. Все твердили: обнажённая натура. А они просто без трусов. Я первый обратил внимание. Если в начале было слово, так давайте и не пренебрегать словом.
— А вы, батенька, ещё и филолог, любослов, так сказать,— одобрительно похлопал автора по плечу неведомо откуда примчавшийся господинчик.
— Конкретика бездарна!— прокричали где-то рядом.
— А вот это, конечно, заслуживает особого внимания,— заявила неприличная дама, указывая на значительных размеров полотно, свисавшее с потолка до самого пола.
Возле огромного этого холста, уставившись куда-то в угол и вовсе как бы не замечая никого из сновавших вокруг, сидел человек с застарелым блеском, но только в одном глазу.
— Финогеныч! Неужто смог!— вновь вывернулся откуда-то вездешний господинчик.
Человек с одноглазым блеском отрешённо кивнул.
— Нет, это выше моего понимания!— господинчик яростно раскочегаривал свой восторг.— Повторить такое! Я заранее объявлял это невозможным.
— Оригинал купили недавно на одном международном аукционе. Триста восемьдесят семь тысяч франков отвалили,— сообщил мне неразличимый во тьме шёпот.— А это уже авторское повторение.
— Сикстинскую Мадонну легче было повторить,— раздумчиво, как бы целиком уйдя в себя, пробормотала специалистка по русской иконе.
Градус всеобщего восхищения был столь высок, что я даже побоялся предположить, что окружающие просто издеваются над нами.
На полотне, автор которого как будто и не замечал своих почитателей, хотя блеск в его глазу усилился и даже перекинулся отчасти и на другое око,— на обширнейшем этом полотне (примерно два на три метра) была изображена оранжево-красная линия, стремительно пересекавшая чуть наискось густой синий фон... И всё.
— Вот,— взял слово один из зрителей.— Человечество всю историю свою смотрело на всевозможные линии, а пришёл гений и указал на то, чего никто не видел: эстетическую самодостаточность линии.
— Тут символ переживания бытия,— заметил кто-то из толпы и развёл руками, как бы заставляя тем всех признать, что такое не может не быть гениальным.
— И вовсе нет,— напористо возразил его сосед.— Тут идея линейности прогресса...
— Плоско!— заставили его тут же замолчать.
— Об этом,— указывая на полотно, наставительно и с расстановкой начал отчеканивать господинчик,— нельзя сказать вообще ничего, и в том-то и смелость шедевра. К этому, именно к этому должно стремиться искусство.
Всё смолкло. Высказывать мнение стало боязно.
— Я бы всё-таки позволил себе сказать,— после некоторой паузы произнёс некто с неопределённой физиономией,— я бы позволил себе, с вашего разрешения, разумеется...
— Ну разумеется,— поощрил господинчик.
— Так вот я бы позволил себе сказать, позволил бы заметить, что тут всё же в материализованном артуме выражено понятие о грани между мирами трансцендентным и трансцедентальным.
— Ну разумеется!— опять согласился господинчик.— Разумеется, вы правы.
Видя, что высказывать своё мнение вовсе не возбраняется, толпа вдруг загалдела наперебой:
— Это жизненный путь человечества.
— Тут стремление к неизведанному.
— Перед нами символ неизреченного.
— Презумпция познания мира.
— Наоборот: непознаваемости бытия.
Господинчик согласно кивал всем. Один юный отрок вдруг выпалил:
— Луч света в тёмном царстве.
Выпалил и нахально покраснел. Все понимающе переглянулись и улыбнулись снисходительно. Чернявый судия снова одобрительно кивнул:
— Молодой человек демонстрирует эрудицию и смышлёность.
Отрок запылал нестерпимо.
— И свет во тьме светит!— предложил кто-то набор гипотез.
— Это уж слишком,— поморщился господинчик.
— Простите,— я решился обратиться к нему,— но вы же сами себе противоречите. То вы утверждаете, будто тут ничего нельзя сказать, то соглашаетесь, когда все говорят вразнобой. Что же правильно?
— Противоречу!— по-детски простодушно засмеялся он.— Именно противоречу! И в том-то вся и суть. А чего вы хотите? Тут же диалектика. Как же без противоречий? И все именно правы, поскольку тут противоречие в квадрате. Квинтэссенция диалектики. Супердиалектика. Метаметадиалектика.
И вдруг завопил, указывая куда-то в угол:
— Вот истинный гений!
В указанном углу некий худощавый вьюнош звучно кромсал ножом вставленный в раму и во многих местах тронутый краской холст. Порезав холст, он принялся ломать раму.
— Так я воспринимаю мир,— грустно объяснил он нам.— Я ещё не знаю, зачем всё это. Я делаю, но мне нужно время, чтобы осмыслить, что я делаю. Зачем я разрезал эту картину? Не знаю.
— Он гений!— не унимался, проникаясь благоговением, господинчик.— Вот полное торжество интуитивной релаксации. В сущности, перед нами экстатическое искусство. Это искусство трансинтеллектуальных возможностей, рождённых силой, меняющей и обновляющей генерации творчества. Необходимо взаимодействие фактуры действия с фактурой мысли. И он этого добивается.
Движение по подвалу возобновилось.
Через некоторое время, обогнув одну из внутренних перегородок, мы оказались перед неожиданным зрелищем. Жирный бородатый человек с растопыренными глазами, по пояс голый, со вздутым волосатым животом — громоздился посреди пустого пространства на несуразной кушетке, на полу рядом с которой стояла миска с ломтями смачной ветчины,— он опускал, не глядя, руку, захватывал всей пятернёй ломоть и пихал в рот, столь обширный, что там помещалась чуть ли не вся пятерня,— человек жевал и сальными губами ласково и одновременно презрительно наставлял окружающих, ни к кому, впрочем, не обращаясь персонально.
— Вот вы говорите,— начал он при нашем приближении, хотя ему никто и слова не сказал,— что экзистенциальность есть определяющий момент в познании непознанного. Как вам, право, не надоест ещё? Вы и впрямь в это верите? Стыдно, господа!
Все изобразили на лицах стыдливое почтение, а пучеглазый без всякой логики продолжал:
— Нужно просто уметь быть первым. Гениален не квадрат этого болвана Малевича, а гениальна его способность убеждать всех, что он гениален. И потом: нарисуй мы сейчас хоть все геометрические фигуры — и всё равно выйдет лишь жалкий плагиат. Нас опередили, господа товарищи социал-демократы.
— Нет, Костенька, ты не прав,— опять объявился чернявый, который никак не мог отказаться от дурной привычки куда-то исчезать.— Квадрат гениален и сам по себе. Он значителен. Он первооснова бытия, первоэлемент космоса и отрицание пространства и времени в одно и то же время, прошу прощения за невольный каламбур. Вот вы, мадам,— обратился он к престижной искусствоведке,— вы тоже, я уверен, не должны этого отрицать.
— Я вообще-то думаю, что весь супрематизм, несмотря на его несомненную сверхэстетическую ценность,— как-то очень по-домашнему забеседовала мадам,— что он давно уступил дорогу иным трансавангардным смыслам. Я отдаю предпочтение концептуализму, ибо в нём мы видим не ремесло, развлекающее одряхлевшее человечество, а интеллектуализм, смеющий сметь.
— Несомненно, несомненно!— в который раз восхитился господинчик.— Это меняет критерии восприятия мысли, и именно смеет сметь!
— Тут раскрываются пути к созданию языка нового искусства, провокация обновляющих генераций творчества,— подхватила на лету дамочка.— А супрематизм... Ведь уже в рублёвской Троице весь супрематизм налицо, что ни говори. Зачем же возвращаться к такой архаике? Её, разумееется, нельзя отвергать, но она уже исчерпана.
— Вот и я говорю,— сокрушённо сказал вдруг чёрный,— что совершенно бессмысленно работать для вечности. Зачем? Зачем, если для меня вечности не предвидится? Вот предложили бы мне сейчас полнейшую известность теперь за полнейшее забвение на другой день после похорон, ни на миг бы не заколебался.
— Не кокетничай,— брякнул Костенька.— Ты бессмертен.
Господинчик ухитрился смущённо покраснеть и, взвизгнув, испарился.
Столь странный выверт логики несколько озадачил даму, но жующий Костенька тут же ошарашил её ещё сильнее:
— Когда вы ляжете сегодня спать,— забубнил он с набитым ртом,— значит, спать ляжете, н-да, и вам приснится сон, то именно это станет моим высшим шедевром.
— Почему же твоим?— выпучил глаза вовсе и не думавший испаряться господинчик.
— А потому. Потому что я первый до этого додумался.
— Костенька, ты гений!— закричали все.
— Я бы и не то сказал, но у меня в голове нынче сквозняк и он мешает мне сосредоточиться,— сообщил Костенька, отправляя в пасть новый ломоть.
— Понимаете,— продолжала тем временем непотребная искусствоведка свои прения с господинчиком,— необходимо воздействие фактуры изображения с фактурой мысли, а для этого следует вообще переместить фокус творческой направленности мастера со структуры работы именно на её фактуру, или, другими словами, на создание любыми средствами мощного трансимманентного взрыва, который трудно идентифицировать.
— Но взгляните с иной стороны,— возразил ей оппонент,— вот перед нами (он ткнул пальцем в сторону) довольно изящный кусок кирпича под названием “Для носа”. Согласитесь: трансимманентно и в то же время визуально образ совершенно не обременён интеллектуализмом. А он воздействует!
— Но тут главное же радикализм по отношению ко всему. В этом основной критерий трансавангарда вообще.
— Зато акт восприятия более действенен в ситуации не взирания, а лишь спонтанного подглядывания.
— А мы только в банях подглядывали,— мелко-мелко захихикал вдруг Костенька,— мы и в мертвецкую захаживали, чтобы посмотреть на голеньких курочек.
Но хихикал он уже вслед толпе, которая оставила его, устремившись в ту глубину пространства, где некий заморыш блямкал кувалдой по бесформенному кому жести.
— Форма не должна быть застывшей, она должна как бы перетекать из одной ипостаси в другую, иначе смерть для искусства. Стоит мне остановиться, и творение превратится в ничто.
— Испарится что ли?— спросил я и был обруган:
— У вас грубое материальное мышление. Исчезнет перетекание ипостасей формы.
— Игровая стихия творит новые ценностные феномены,— как бы погрузившись в глубины собственной мысли, тихо произнёс господинчик.— Вдумаемся: сей мир не более чем временное обиталище смутно сознающих себя мнимостей. Значит, он странен и ужасен. Наша задача поэтому отбросить шелуху этико-эстетического обмана, окутывающего наше восприятие. И нужно захватить сферу ещё не открытых ощущений, преодолевающих узкие рамки обыденных пяти чувств. Интуитивное тоже должно обрести и материальный смысл. Мы же материалисты,— обратился он к непотребной бабе.
— И всё же не забывайте,— решила она вернуться на свои ортодоксальные позиции,— что объектом искусства должен оставаться именно человек. Всё-таки!!!
— Именно!— возопил господинчик.— Я в том всегда пребывал убеждённым. Я покажу вам сейчас мои истинные творения. Но это там,— он указал куда-то во мглу.
Все отправились в тусклую неопределённость, минуя какие-то выгороженные помещения, где бродили и бродили мятые фигуры, на которые мы уже не отвлекались, а всё шли и шли вперёд (подвал, видимо, находился под очень длинным домом, каких теперь в множестве понастроили на окраинах Москвы, так что двигаться пришлось долго), и стены выламывались перед нами в тумане, и мы погружались в этот почти осязаемый вязкий туман, и становилось трудно идти, а мглистая бесконечность пространства безнадёжно терялась где-то впереди, и низкий тошнотворный потолок опускался всё ниже, давя и изматывая меня,— а спереди всё явственнее долетали жёсткие шершавые, корябающие слух звуки: потолок не давал им уходить вверх, но опрокидывал на нас, помутняя сознание. Затем из мглы начали выплывать фигуры молодых людей с неопределёнными выражениями лиц, многие были одеты весьма экстравагантно, встречались и вовсе не одетые (чему я уже не удивлялся), с раскрашенными телами и волосами. Кое у кого волосы были совершенно обриты, но их непременно заменяла ярчайшая раскраска. Попадались и такие, кто был одет весьма изысканно, однако одежды их имели внизу спины и живота большие округлые прорехи. Все они отрешённо двигались под громкие ритмизированные шумы, источник которых остался для меня непонятен.
— Молодёжь не виновата в том, что она такая. Время такое,— объясняла всем некая добродушная тётка.
Среди всеобщего разгула почему-то объявилась чета явных молодожёнов: невеста в свадебном белом платье и жених “весь в чёрных штанах”, как пелось в какой-то дурацкой песенке. Они ходили, держась за руки, и не то с любопытством, не то с сочувствием разглядывали окружающих.
Невеста обладала той самой красотой, от которой в старинных арабских сказках слабые натурой сыновья неограниченных владык или богатейших купцов обретали недержание мочи, теряли рассудок и лишались чувств. “И пупок её вмещал унцию масла”,— вспомнилось мне обозначение высочайшей степени женского совершенства. Впрочем, никакого пупка видно не было.
— Ну разве можно верить в справедливость,— подошёл ко мне субъект с мрачным байроническим взглядом,— разве можно верить в справедливость, если такая баба должна ложиться под этого мозгляка и раздвигать для него ноги?
Таковой речевой силлогизм меня несколько озадачил.
— Послушайте,— спросил я,— а вы случаем, не отвергнутый соперник?
— Первый раз их вижу. Но, как говорил мой дядя, хоть и не завидую, а зло берёт.
— Может быть, жених и вправду отчасти мозглявенький,— признал я,— но...
— Но очень скоро он завалится на неё. А мне досадно, что не я.
Субъект мрачно завернулся в широкий плащ и, вперив взор в рокочущие волны, вскоре скрылся в тумане — вместе с палубой беспокойного корвета, на которой он хмуро возвышался в гордом одиночестве.
Беснование же продолжалось.
В мрачном тупике какие-то индивидуи зазывали проходящих на “выставку порно-иконы”: здесь всё было заставлено большими и малыми прямоугольниками из досок, на которых знакомым иконным формам была придана откровенная непристойность.
— А почему нельзя? а почему нельзя?— егозил и извивался повсюду чёрный господинчик.— Кто сказал, что нельзя?
— Аллилуия любви!— запели все истошно-гнусавыми голосами.— Аллилуия любви! Аллилуия!
— Красавчик!— завопила неожиданно голая раскрашенная девица, бросилась на Назарова, повисла на нём, обвивая руками и ногами.— Я хочу иметь с тобою любовь!
Саша спокойно оторвал её от себя и слегка приподнял над полом, держа на вытянутых руках (тут я только понял, насколько он силён физически — недаром грузчиком подрабатывал), потом, оглядевшись, посадил на стоявшую у стены тумбу и погрозил строго пальцем: “Сиди и не балуйся!”. Она обиженно надула губы, но с тумбы не слезла. Сидела и пела:
Я сначала всем давала...
Из кармана семечки,
А потом давать не стала:
У самой маненечко!
— И напрасно, и напрасно!— заверещал господинчик.— Препикантнейшая цыпочка!
Он взвизгнул и, оставаясь совершенно неподвижным, одновременно исхитрился вывернуться вокруг самого себя как бы в состоянии полнейшего невладения собой от восторга — и я потом долго недоумевал: как же ему удалось подобное?
— Предмет искусства человек!— вопил господинчик.— Я воплотил это в реальность!
Вся толпа посетителей распалась, рассосалась, и даже непечатная дама исчезла куда-то. Господинчик бесновался в совершенном одиночестве.
— Где же тут выход?— спросил Назаров, оглядываясь в поисках Владислава.
— Куда же вы!— ходил вокруг нас вьюном чёрный бес.— А у нас тут и песенки будут. Послушайте!
И впрямь некоторое время какой-то вялый белотелый парень выкрикивал из ритма шумов: “О-о-о! я и ты! О-о-о! ты и я! О-о-о!..”
— Погодите!— соблазнял бес.— Он споёт свой шлягер “О аромат говна моей возлюбленной!” Это шедевр, истинный шедевр! Но вы обязаны объяснить мне, почему можно петь о глазах девушки, но нельзя про её дерьмо. Кто это сказал?!
Мы уже далеко ушли, но всё неслись вслед нам его истошные вопли: “Нам обетования даны! Мы есть провидцы новых времён!”
Дорогу нам загородил массивный помост, окружённый толпою, через которую невозможно было протиснуться. Мы вынуждены были некоторое время созерцать, как на высоту взошла голая девица в одних туфельках. Она покрутилась во все стороны, потом сняла обе туфельки, присела над ними, раздвинув ноги, и принялась попеременно писать тонкой струйкой то в одну, то в другую туфельку.
— Тут главное не промахнуться и попасть точно,— усердно растолковывал всем непременный господинчик.— И вот этот-то акт, господа, есть на нынешний момент высшее достижение мирового, нет, даже вселенского искусства!
Мы бежали от него и в поисках выхода набрели на небольшое, сплошь заставленное длинными скамейками помещение. На скамейках тесно сидели возбуждённо ожидавшие чего-то люди; с многими из них я уже сталкивался здесь, в подвале. По углам стояли те, кому не хватило мест, и среди них оказалось тоже несколько примелькавшихся лиц.
— Что тут будет?— спросил я у одного из них, полагая, что наше отчасти совместное блуждание даёт мне некоторые основания считать его своим знакомым.
— Гениальный поэт. Там (он мотнул головой) для вульгарной толпы. Здесь для подлинно утончённых эстетов.
— Чем же он гениален?
— Пишет стихи без рифмы, без знаков препинания и почти без смысла. Вот только от слов никак не может избавиться.
— На Западе его считают крупнейшим нашим поэтом,— подвернулся с объяснениями вездесущий господинчик.
— Но если смысла нет, то как же...
— Eсть мета-смысл. Это сразу переводит поэзию на более высокий уровень.
— Но мета-смысл нужно же всё-таки выразить в слове?
— Тогда он сразу превращается в обыденный смысл, и это убивает поэзию. Слово вообще противозначно подлинному искусству.
— Но стихи-то состоят всё же из слов?
— Это признак несовершенства нашего мира,— безапелляционно вставил господинчик.
Тут все захлопали, потому что перед скамейками возник маленький тщедушненький человечек, с интеллигентской бородкой. Публика изготовилась внимать. Человечек глухо монотонно и не без картавости начал:
я хочу купить её
вот она лежит
витрина в бликах
дребезжание трамвая
трость тэрсть
ты помнишь меня во время без трости
теперь не время
я думаю о трости
кто знает
никто
эту трость
пройдёт время
зачем так гремит трамвай
память доносит звуки полей
трамвай удаляется
я спокоен
и все будут знать
эту трость
не зная
а-а-а у-у-у
готовили что ему
прутовище безрыбья
но он есть я
бхырбь бзырбь
хотя не знают того
и кто уехал в пыльном трамвае
а ты мечтаешь в полях о времени
потомки их будут внимать реликвийности
теперь же безвестность
его трость
и я есть он
и он есть я
лёгкость походки
от трости
трость тэрсть
— Особенно гениально это повторённое “трость-тэрсть”,— проникновенно вымолвил, обратившись ко мне, случайный сосед,— любые звуковые ассоциации гения достойны запечатления в вечности.
Мы бежали дальше, наткнувшись вдруг на громадную вывеску: “Катарсис метарелигиозного экстаза”. Волосатый армянин, разместившийся под вывеской, возвещал всем, что всего за сотню баксов он разрешит уплатившему разрубить топором одну из расставленных здесь копий великих шедевров иконописи: рублёвской “Троицы”, нескольких икон Богородицы, Нерукотворного Спаса. Кроме того, желающим будет позволено справить на образовавшиеся щепки малую нужду или вскипятить на них стоящий здесь же большой самовар.
Неожиданно всё окружающее пространство заполнилось какими-то бритоголовыми уродами: они вытащили на средину ту самую невесту, которая встретилась нам прежде, принялись срывать с неё белую одежду — и вскоре началось непотребство, а жених бегал вокруг и подзадоривал всех: давай, давай...
— Аллилуия любви!— вопили все.
— Кто ещё хочет попробовать мою невесту?!— надрывался жених.
— Особенно хороша она будет в жареном виде,— замурлыкал господинчик, блаженно ухмыляясь.— Ведь любовь это прежде всего соединение телесное, а можно ли полнее совокупиться с объектом страсти, чем скушать его во всех подробностях?
Господинчик с заговорщицким видом придвинулся к нам:
— Знаете, вот так-то однажды Парфён Рогожин с князем Львом Николаевичем Мышкиным укушали Настасью Филипповну Барашкову, сожительницу господина Тоцкого... не изволили быть знакомы? И Гавриле Ардальонычу кусочек достался. Сынку генеральскому. А как же-с! Он ведь тоже вожделел. Правда, я не вполне разобрался, чего ему на самом-то деле надобно было...
— Чего ты плетёшь!— почти заорал Владислав.
— Да вовсе и не я,— обиделся господинчик.— Мне батюшка один знакомый рассказывал. Отец Иоанн. Не слыхали? Там ведь тоже продвинутые имеются.
Мы устремились прочь и наконец отыскали выход. Я еле сдерживал тошноту.
— Вы что-нибудь поняли из того, что здесь произошло?— спросил Владислав, когда мы, выкарабкавшись из подвала, пытались вытряхнуть из себя пыль, пропитавшую нас в его мглистом нутре.
— А чего тут понимать?— ответил грустно Назаров.
— И чего же ты понял?
— Люди растерялись и не знают, куда плыть. Так это не ново. Но теперь стало хуже: безбожный человек окончательно распадается в своей основе.
Его тянет к небытию. А перед этим он проходит через ряд безобразных форм. Его к тому поощряет сила тьмы. Весьма успешно, надо отдать ей должное. Человека уже активно приучают к аду. На поверхности же, как симптом: всё больше людей, которые никогда не перестанут кривляться, страдая, чаще бессознательно, от собственной безысходной бездарности.
— А тот чёрный тоже?
— Кто бездарнее беса?
XXVII
Это было как раз накануне ... Мне нужно было зайти к шефу. Помню, перед тем я купил сирени — люблю, как она пахнет. Сразу вспоминаю нашу сирень в деревне — и почему-то поиски “счастья” о пяти лепестках в пышных её кистях.
Жил когда-то и не подозревал: счастье-то — вот оно! Переживай его, пока не ушло... Или уж так устроены мы, что счастливою жизнь представляется нам лишь в воспоминаниях. Или грезится впереди — в надеждах.
Помню, какие удивительные краски воспринимал я в те счастливые дни детства на закатном небе. У горизонта над зашедшим солнцем — малиновый пламень, выше — несколько полос розовеющих облаков, и тут же три бесформенных крохотных серо-коричневых облачка, как три неаккуратных прикосновения кисти поверх основного тона. А с противоположной стороны, на востоке, небо синё, и разных оттенков серо-фиолетовые курчавые облака. Светлая полоска на горизонте постепенно смещается от запада к северу: там, где-то очень близко, идёт солнце. На южной стороне — чистейший горит месяц, и постепенно появляются редкие звёзды. Пахнет сиренью и свежей травой. Ликуют на болотце лягушки. Подала голос кукушка из глубины леса и тут же примолкла. И всё умолкает. Соловьи завладевают тишиной. Всё заметнее опускается роса.
Когда это было? Это и теперь есть, но не для меня. Просто нет уже того меня, а у нынешнего...— так, сожмётся что-то при воспоминании.
Запах сирени теперь у меня навсегда будет связан и с тем временем — накануне ареста. И всё будет царапать душу...
Когда я подошёл к дому Петельского, оттуда появился Рост, мы столкнулись нос к носу, и он как-то чересчур уж развязно, слишком даже оживлённо принялся мне что-то говорить, будто замять старался некую неловкость.
— Ты к шефу?
— Да.
— Его нет дома С утра срочно вызвали в Президиум.
— А ты чего там делал?
Рост не ответил, подмигнул и заспешил куда-то.
Оставшись один, я вспомнил, как некая проницательная дама в Институте намёками толковала мне об особом “канале влияния” Роста на шефа. Я об этом и без того почти знал, и меня это мало волновало, своих забот хватало. А тут вдруг противно стало.
Теперь вот думаю: не подтолкнуло ли и это Роста — то, что я как бы откровенно застал его на месте преступления? Ведь он как будто испугался. И неприятно же, когда застанут при какой-то гадости.
Нет, Роста в подобных эмоциях заподозрить нелепо: он любую гадость принародно сотворит и как будто так и надо — не передёрнется. Может, донос его уже лежал “где надо”, и всё же неловко было ему со мною говорить как ни в чём не бывало?
Элегическое настроение моё рассеялось — и я принялся злобствовать против всех — и неожиданно ясно сознал — именно странную прозрачность рассудка ощутил я тогда — и увидел: между мною и возможностью поиздеваться над собственной жизнью нет никаких преград. Я понял, что удерживали меня до сих пор лишь химерические, искусственно изобретённые и неизвестно кому нужные условности, бессмысленные, отжившие свой век табу. Поразительно: люди порою на всё готовы ради жалких граммов белого порошочка... Я же... “Бог должен был превратиться в белый порошок, чтобы люди обратили на Него своё внимание”,— кажется так вещал долговязый Гриша? Не обратить ли теперь того внимания и мне?
Счастье то или несчастье моё, что ничего не успел я тогда? Ведь именно тогда внутренние запреты утратили для меня всякий смысл. А внешние — их просто и не существовало как будто. Я презирал весь внешний мир — и он за то без жалости исхлестал мне душу, исполосовал вдоль и поперёк.
Когда меня — уже через три дня — впервые допрашивал злорадствующий Пётр Сергеич, я испытывал банальнейшее ощущение нереальности происходящего, вовсе не туманное, а прозрачно ясное сознавание того, что вся сия нелепость вот-вот прекратится. Не может же быть так, что я только что был свободен, мог распоряжаться собою, вступать в общение с людьми, и вообще я жил, а теперь как будто жизнь прекращается, какие-то люди (абсурд! абсурд!) в силу непонятных условностей могут распоряжаться мною, отдавать глупые (сколько же глупостей творилось со мною тогда, бесполезной жестокости даже) приказания, и я должен их исполнять, хотя порою просто завыть хотелось и об стенку головой биться, но поделать-то ничего нельзя! Какой, какой смысл во всём том? Или меня надо было измордовать, чтобы мне больно стало? Да, мне больно.
В притче о Господине, созвавшем гостей на пир, Христос Спаситель рассказал, что те под разными предлогами отказались: у кого дело, у кого свадьба, у кого нужная дорога. Погнались за необходимым во времени и лишились важнейшего в вечности. Батюшка недавно на проповеди это хорошо раскрыл.
А я: и вовсе как блудный сын — отошёл в страну далече, и отказывался отвечать на призыв. И был остановлен: не туда иду. Но я слеп был, не хотел видеть явного данного мне знака, и десять с лишком лет маялся, упрямо не замечая единственно мне потребного. Теперь понял: благо мне было дано. Я, по недомыслию своему, всё вопрошал: за что? за что? А надо бы: зачем? куда меня направляет совершаемое со мною? Знаю теперь: от времени к вечности.
Господи, милостив буди мне, грешному.
Господи, слава Тебе!
Ты был рядом со мною, Ты сострадал мне, а я не понимал. Я не понимал, что ещё там, на Кресте, Ты брал на Себя мой грех и мою муку — осмысляя тем и моё страдание.
XXVIII
У меня есть знакомый, плюгавенький невзрачный человечек, который в один вечер покорил чрезвычайной привлекательности женщину, притом бывшую весьма моложе его,— только тем её одолел, что беспрестанно ныл и расписывал свои невзгоды и страдания, в большинстве лишь мнимые, а некоторые и придуманные только что по вдохновению. Десять лет почти они прожили, она родила ему троих детей, обихоживала, как могла, он же все десять лет только ныл и страдал, а потом он-таки и ушёл от неё — к другой, и теперь (я навещал его на новом месте) точно так же ноет и жалуется, а сам живёт себе припеваючи (втайне от всех — припеваючи), окружённый самоотверженной заботою новой подруги жизни. Как тут не воскликнуть: женское сердце, кто тебя разгадает!
Признаться, мне самому противно бывает, когда слишком уж начинаю я нюниться, но если совсем чуть-чуть — отчего же и не пожалобить податливую к состраданию слушательницу. А то ещё и так расслабишься, что и самому себя жалко станет,— а что приятнее, чем самого себя жалеть?
Теперь я плакался перед Верой — и мне это тем более нетрудно оказалось, поскольку жила она совсем недалеко от дома покойника-шефа: и именно по дороге к ней я вспомнил, проходя мимо того дома, последние вольные мои дни, столкновение с Ростом в дверях подъезда — я нарочно дал крюку, чтобы пройти мимо того подъезда (зачем? вероятно, из странного желания ещё раз ковырнуть засыхающую болячку) — отчего злоба на всех и жалость к себе всколыхнулась во мне в который раз.
Испытанный приём не подвёл и теперь. Мне помогло и то, что сама Вера тоже находилась в тягостном состоянии и знала не понаслышке, что такое душевная боль и одиночество. Она в последнее время отдалилась от всех, даже от близких когда-то (относительно, впрочем) людей: она-то как раз не любила, чтобы её жалели. Нас, двух одиноких особей рода человеческого, сближала наша внутренняя бесприютность.
— Скажи, что же мне делать?
Когда Вера говорила мне это, я смотрел на неё и думал, что ведь она обладает редкой красотой, неброской, но постепенно изнутри раскрывающейся и исподволь проникающей в душу.
Но моим сознанием одновременно овладевали её слова:
— Сейчас последняя неделя, когда можно что-то решать.
В моих намерениях было уговорить её “не осложнять себе жизнь” — что я, признаюсь ещё раз, и собирался сделать и что для меня не составляло особого труда: она уже почти смирилась с неизбежным, мне оставалось лишь слегка подтолкнуть...
И тут мне впервые — в жизни!— стало страшно от ощущения и осознания собственного бесовского паскудства. Я как палач: готовился выбить последнюю неверную опору из-под ног жертвы, чтобы она через мгновение забилась в удушающей петле.
Что же мы все делаем!
— Не ходи никуда,— сказал я.
— А как же?
— Как-нибудь.
Я и сам не знал — как. Я и впрямь думал: как-нибудь.
Опять-таки по совести: я вовсе не желал принимать на себя какую бы то ни было ответственность. На Веру я смотрел до сих пор — нечего сладенькие сопли размазывать!— лишь как на временную и весьма привлекательную сексуальную партнёршу. Но одно я знал теперь твёрдо: такого греха мне потом — хоть два раза, и три, хоть десять раз по десятку лет отсиди — не избыть.
А ведь с другой стороны: дело-то заурядное, и весьма. И уж не безгрешен я был в том грехе. И иной доброхот — коли сказать кому — лишь плечами недоумённо пожмёт: тоже нашли проблему на ломаный грош.
Что же мы все делаем?
Но пусть то для всего хоть мира вздор, а я не могу.
А как же тогда?.. Не знаю. Как-нибудь.
— Как-нибудь. Как-нибудь образуется. Пойди посмотри лучше: чайник не перекипел ли?
Утром, возвращаясь от Веры, я вновь сделал крюк, чтобы пройти мимо тех дверей, возле которых я столкнулся с выходящим от Марии Петровны Ростом. Подошёл, постоял недолго. Хотел даже войти в подъезд — раздумал.
Может быть, и впрямь та встреча его подтолкнула?
Уже во время следствия я знал: выдал меня Рост. Я и не подозревал даже, какую он успел забрать силу. Связи его оказались столь надёжны и многообразны, что несмотря на всю мою тогдашнюю оцепенелость и отстранённость от всего, я не мог не почувствовать: кто-то как будто из укрытия направляет ход следствия, а потом и суда.
Сам он, хотя, подчёркивал свою сторонность, показания давал скупо, не слишком выставлял напоказ и своё гражданское негодование. Я же его имени тоже не касался, чтобы шефа ненароком не задеть. Но вот: прокурор требовал для меня семи лет, суд выдал на полную катушку — драматургия абсурда, никогда так не бывает. Адвокат потом, оправдываясь, намекал мне, что кем-то было организовано особое давление на председателя суда через районное начальство.
Что ж, я уж не так наивен, чтобы не поверить тому.
Я постоял недолго у столь мне памятного подъезда, и прочь пошёл. На душе было снова пусто и лишь досадно на себя же самого: зачем накануне отговорил Веру — взваливал на себя последствия чужой вины? И что за страсти наворочал вокруг сущего вздора...
Я пошёл бродить по лесу, с которым мой дом соседствовал. Натоптанные тропки уже почти просохли после оттаявшего снега, и вероятно, было бы совсем сухо уже, когда бы не моросил второй день мелкий — как осенний — дождичек. И вообще время срединной весны, пока не распустится листва, в пасмурную погоду мало чем разнится с осенью. Так же голы деревья, земля, так же пахнет палым листом, так же сквозит в лесу... Нет, есть одно отличие: птицы — даже в ненастье слышны. А всё же хмуро и бесприютно.
Я бродил и вспоминал, как давным-давно, в прошлой жизни, мы гуляли здесь с мамой. И как она мечтала вновь придти сюда со мною...
XXIX
А вернувшись домой, я узнал, что мама умерла.
Это не было неожиданностью. Этого ждали. Накануне меня предупредили в больнице, что собираются её выписывать,— а попросту, хотя прямо о том не говорилось, отправляют умирать домой. Дело обычное. У них там своя отчётность. Я на них не в претензии: для чего бы им ухудшать свои показатели? Я сразу их понял и не спорил. Да и против чего было возражать? Не против смерти же.
Но она ни с кем и ни с чем не посчиталась.
И ещё один камень навалился на душу, как ты ни мудрствуй. В кого бы его зашвырнуть?
Многочисленные тётушки-приятельницы освободили меня от всех неизбежных хлопот и похоронной суеты. Признаюсь, я всегда терялся, едва сталкивался с необходимостью каких-то действий по казённой надобности. Так и прежде было, и теперь. Все эти бумаги, выписки, квитанции — казнь египетская. Когда же смерть рядом — вся формалистика может и невподъём оказаться. Хорошо, как есть кому помочь, а как некому? “Свидетельство о смерти” — что за немыслимое измышление чьего-то бойкого ума? Вот оно свидетельство — остывшее недвижимое тело.
И всегда, хоть в который раз случись, всегда непостижимо: что же это — смерть? И сызнова по столь привычному уже кругу движется мысль: что же это — смерть? И где тот человек, что лежит безвольно и беззащитно перед тобою? Творится ли с ним некое таинственное действо, или нет уже ничего? И неужели и я — Я!— так же вот лежать буду — неужели так?! Никуда мне не сбежать от того.
И всегда всё ничтожно перед этим.
Я стоял у гроба мамы в пугающем душу просторном пространстве старого крематория — но ещё не понимал вовсе: вот оно, совершилось — то событие, одной мысли о котором я ужасался когда-то и которое мало затронуло пока мои чувства. Через динамики зазвучала где-то впереди “Элегия” Маснэ.
Где те дни?.. А ведь и вправду — где? Что это значит: всё прошло, всё позади? Что значит: никогда, никогда — !— я уже не услышу её тихого укоряющего голоса, обращённого ко мне?
Всё по тому же, давно накатанному — и не мною одним — кругу скользила мысль.
Краем глаза я увидел внесённый в зал ещё один гроб, и множество венков (а у нас всего один, бедноватый), и награды на красных подушечках. Как всё это бессмысленно и глупо, подумал я. Как всё незначительно перед этим.
Но что, что же есть — это ? Каков в нём смысл?
И вот я так же буду беспомощно лежать, и может быть, в этом самом зале.
Неужели всё так просто: все мы окажемся перед этим, и как бы ни разнились мы жившими, это уравняет нас. Неужто всё так просто, и нечего мудрить и усложнять?
И всё по одному и тому же накатанному замкнутому кругу движется мысль.
И важно не то, сколько блестящих бляшек будет приколото к красным подушечкам,— а то важно, с чем в душе своей придёшь ты к этому моменту — и за что станешь держать ответ — перед кем?— перед собою ли самим?— перед Кем-то высшим?
Вот она, точка отсчёта, от которой бы мерить нашу жизнь: с чем придём мы к этому часу. Страх мой перед этим — вот что он означает: с чем приду я к сему единому для всех смертному исходу?
Я всегда был обуян гордыней, я возмечтал об утверждении себя над другими, но я впал лишь в житейскую суетность, и страдаю оттого до сей поры. Я поработился сластолюбию, и ради наслаждений ублажаемой мною плоти поддался корысти и пошёл на преступление, и был повержен, и не желаю раскаяться. Я жестокосерд, я нёс без сострадания горе всем, с кем сводила меня судьба, ибо я несу в себе порок болезненного себялюбия, и я страдаю от него теперь безмерно. Вознеся себя в мечтаниях над людьми, я начал презирать их, но неизбежно перенёс презрение на самого себя, сознавшего собственную малость. Рождённое сознанием страдание озлобило меня против мира и произвело во мне зависть к ближним — и это не даёт мне покоя доныне. Я перестал бояться своего греха, но я был нетерпим к малейшим слабостям окружающих меня, ибо я не любил никого, видя во всех лишь соперников себе. Я легко впадаю в гнев, я вспыльчив, непокорен. Я умею роптать на весь мир, но не умею сдерживать себя. Я всегда был лжив и лукав в погоне за благами жизни. Я не ощущал потребности ограничивать себя ни в чём, был невоздержан и злоречив — и это мучает меня — но я не желаю смириться. Я вовлечён в порочный круг страданий: гоняясь за внешним, я пренебрёг тем, что имел доброго и благого в себе, в глубине души своей — и все муки её есть лишь продолжение моей внутренней порчи.
Тревожно мне, непокойно. Я в постоянном раздражении. Нечисто в душе моей.
Кто поможет мне?
Никто.
Даже мама не сможет уже никогда! никогда не сможет простить меня.
И вот вдруг пришло ко мне прозрачно-ясное сознавание того, что ничего нет, и всё навсегда и бесповоротно прекращается в вульгарной печи бессмысленного крематория.
И сразу как будто легче стало. Как отпустило что-то внутри. И проще всё, и спокойнее, и как будто вольнее. Нет причины насиловать сознание, ни страдать.
Но и тяжелее стало, мрачнее всё увиделось. Душа осквернена и отвержена от мира. Как очистить её — если нет: ради чего.
Господи! Где же Ты! Хочу уверовать в Тебя! Хочу слиться с Тобою и в Тебе обрети покой, своё бессмертие. Хочу возвыситься в величии Твоём. Хочу утешиться молитвою к Тебе. Страданиями моими хочу искупить свой грех перед Тобою. Волею Твоею хочу получить блаженство в Тебе. Разумом Твоим хочу постичь смысл бытия моего. Твоею мудростью хочу примириться с миром. В Тебе хочу сохранить себя. Боже! Зачем Тебя нет?!!
Зачем кто-то говорит какие-то слова? Зачем мне велят прощаться с этим безжизненным телом? Зачем кто-то плачет?
Музыка смолкла. Гроб движется вниз. Две шторки смыкаются над ним. Как всё это...
Мама, прости меня.
Странно: но ведь её уже нет?
Потом мы все приехали в мою пустую квартиру — она именно теперь опустевшей мне показалась, хотя я уже давно жил в ней один, — поехали справлять ещё один нелепый обряд: поминки. Я подчинился воле тётушек-приятельниц, да и в высшей степени грубо было бы не соблюсти известных приличий, тем более что тётушки помогли мне, растерявшемуся совершенно в столь непонятном для меня положении.
Всё шло своим положенным чередом. Я знал и видел, что все, принявшие участие в похоронах, с искренней любовью (по меньше мере — с симпатией) вспоминают маму, искренне вздыхают, искренне жалеют — и под всеми вздохами и сожалениями чуялось мне искреннее же, хотя и не выказываемое слишком уж явно, сокрушение о моей непутёвости, преждевременно сведшей её в могилу. Они со скорбным и важным видом поджимали губы, украдкой указывая на меня глазами, и затем переглядывались многозначительно, и даже как будто отчасти выражали тем своё тайное удовлетворение — вот поди ты, разберись в человеческой душе.
Усугубляло выразительность их мимики вдобавок и то, что на похороны пришла Вера. Пришла она, в общем-то, как знакомая покойной, привязавшаяся к маме за недолгий срок совместного лежания в больнице. Справедливости ради, надо бы сказать: мама, заметив мой интерес к Вере, отнеслась к тому ревниво-неодобрительно. В одно из последних моих посещений она долго увещевала меня — вышло нечто вроде изъявления последней воли — остерегала от опрометчивых поступков. Скучно всё это и неинтересно. Но тётушкам был лишний повод особо значительно поджимать губы.
Так уж само собою вышло, что после поминок Вера задержалась после всех, помогая мне завершать уборку (но в основном-то всё было сделано не нами). Я и рад был и не рад её приходу. Одному тяжко бы остаться было, и не просто одному, а с сознаванием бесповоротности свершившегося. Но... но как быть с тем, что поддавшись мимолётному чувству, я... нет, не знаю, мимолётному ли... но ведь теперь уже не вернёшь... чему быть, того не миновать... теперь я взял на себя тяготу ответственности...
Вера всё суетилась, выискивая для себя какие-то хлопоты, а когда совсем уж никаких дел не осталось, замерла и взглянула на меня с печалью и покорностью.
Не знаю, как теперь будет. Ничего не знаю.
Как-нибудь.
XXX
В детские мои деревенские годы была у нас в ближнем лесу небольшая полянка, среди других какая-то особенная, необыкновенно солнечная вся — такое у меня воспоминание осталось: будто никакого иного состояния у той полянки и быть не могло. Может, видел я её только в солнечные дни, а скорее всего: в пасмурности внимания не обращал — вот и задержалось в памяти.
И когда я поехал туда, через много лет поехал на свидание с ушедшими годами — всё время в уголке сознания теплилось: нужно непременно на той полянке побывать — детство в душу вернуть. А вышло: бессмысленно всё.
И вот я вдруг выбрел на ту самую полянку, солнцем светящуюся. Это случилось близ деревни, где жил Назаров,— опять я к нему поехал. Шёл по дороге лесом — тропка какая-то в сторону свернула. Взял да и пошёл по ней — она на ту поляну и вывела.
Светлая зелень берёз, какая лишь на переломе от весны к лету случается, золотилась в солнечных лучах. Дубы, тут стоящие, зеленели особенно нежно, как будто их отдельно солнцем высвечивало. Хотя солнца вовсе и не было.
Посреди поляны две молодые ёлочки росли... не помню только: стояли ли они здесь тогда...
Та ли эта поляна?
Я не тот — вот что. Не осталось во мне того солнечного детского чувства. Так, где-то в глубине, на дне самом... на дне чего?.. шевельнулось будто.
Когда я выходил обратно на дорогу — передо мною проехали два пацана на велосипедах, а за ними на стареньком дребезжащем ещё один... Так вот и я когда-то. А теперь это уже не моё. Это чужое детство.
И мне вдруг представилось, что меня и вообще здесь нет, а просто я подглядываю как будто со стороны (как на экран что ли?), подсматриваю чужую жизнь. Чужое детство. Чужое время. Я подсматриваю чужое время, не имеющее ко мне никакого отношения. А моё всё уже давно прошло.
Заворожённое и завораживающее, вне меня вершащееся, инопространственное и иновремённое существование мира — окружало меня и было чужим и чуждым и чужеродным мне, и не было возможности проникнуть в него, соединиться с ним, утвердиться в нём — не было ни возможности, ни воли к тому, ни желания, ни сил; казалось: мир, зыбкий как видение и неверный как мечта, готов раствориться и исчезнуть в небытии, оставив меня в тоскливой пустоте одиночества, в которой плотно вязли, обессмысливались мои чувства, мысли, даже отчаяние моё. Всё вне меня, и я вне всего.
Время реального мира как будто вышвырнуло меня из себя. Но затем оно снова втянуло меня в своё тугое течение и опять потащило в неведомую даль. И не дано никому вернуться к истокам.
Роковая бессмыслица нашей жизни — время. Вечное проклятие наше.
Не пора ли угомониться мне? Надеяться уже не на что — у разбитого корыта. А я всё как будто не живу, а чего-то жду, всё надеюсь на свой маленький урывочек счастья. Как будто всё ещё что-то случиться должно. Ничего не случится. Одни заботы житейские. Но если ты всё один да один — какой в них смысл?
Но зачем мне новая обуза? И какой из меня отец семейства?
Вот нелепость: вроде бы никому ничего и не обещал. И себе, прежде всего, не обещал ничего. Но в то же время как будто долг надо мною. И перед самим собою долг.
Что за вздор!
Какой из меня отец семейства с нищенской зарплатой преподавателя подготовительных курсов? И она тоже должна с работы уходить. А беременную где теперь возьмут?
Я вспомнил вдруг, как Назаров принёс своим детям крохотный тортик и как радовались все они тогда, и как я жрал огромный тортище, жрал, пока не обблевался с досады. Нет, если ребёнок рад дешёвенькой конфетке больше, чем пресыщенный обжора редкостным лакомствам — я предпочёл бы быть тем ребёнком. Ведь и впрямь, в конце концов, не в деньгах счастье.
Режущей тоской возникла вдруг боль в сознании в моём и в душе — вызванная желанием ощутить прижатое ко мне лёгкое тельце беззащитного ребёнка, моего сына, которого я должен буду в тщетной надежде заслонить собою от невзгод всего мира. И глубинная, из недр души поднявшаяся жалость к нему, несуществующему, охватила меня. И эта жалость соединилась во мне с неодолимой, острейшей, чисто физической потребностью ощущать себя отцом.
Я представил себе, как принесу ему однажды... нет, не торт... почему-то представился мне большой арбуз, от которого засияют восторгом глаза мальчика, и маленькое, тихое, но счастье согреет меня.
Счастье?
— Нет в жизни счастья,— грустно сказал я Назарову, внимая весеннему ликованию природы.— Такую наколку себе блатные часто делают. И ещё: не забуду мать родную. Вот и мне сейчас это самое как раз впору. На одной руке и на другой.
— Счастье?
— Счастье. Да вот просто хотя бы: тихий покой и уют. Я бы теперь и на том угомонился.
— Всего-то?
— И того ведь нет.
— И не должно быть,— слишком жестоко сказал он.— Наша душа послана в этот мир на испытание, а мы всё ждём какого-то комфорта, и прежде всего для тела даже. Не бессмысленно ли?
Не помню уже точно, что именно и как говорил Назаров, — всё смешалось в моём сознании: и его слова, и мои мысли, вызванные его словами. То мне кажется, будто он говорил, а я вовсе и не думал ничего, но порою уверяю я себя, что всё то мои собственные домыслы:
— Мы почему-то заранее решили — почему? хочется, и всё,— что мир создан лишь для нашего благополучия. Да и благополучия-то для тела прежде всего — вот чего мы ждём. А коли для души того же хотим — так ещё то страшнее. Потом мы увидели, что устройство мира не слишком-то подходит для такой цели. Но вместо того, чтобы догадаться, что цель понята нами неверно, мы бьёмся над тем, чтобы приспособить мир к этой ошибочно понятой нами цели. А ничего и не выходит. Но мы упрямо, вместо того, чтобы устроять нашего внутреннего человека , мы крушим и стараемся переделать и перекорёжить мир окружающий, и отчаиваемся в том, и пытаемся урвать у внешнего мира хоть что-то, чтобы ублаготворить себя. А глупо: не теряем ли мы лишь время понапрасну? Да и зачем устраивать именно то, что исчезнет? При этом какие-то шустрые умы из надуманной идеи несовершенства мира сделали вывод об абсурдности самой идеи Творца. Но мир-то совершенен. Только для своей цели, а не для навязанной ему нами, нашим недомыслием. И вся жизнь наша от неверно сознаваемого смысла бытия коверкается нами. А чтобы окончательно заглушить голос духовной нашей сущности, лукавый подсунул нам много искусных забав. Мы и забавляемся. Потому что это очень подходит к тому, как мы понимаем смысл нашего существования. Удовольствие. Несмотря ни на что — удовольствие. Переступая через что угодно. Отвергая всё. Всё, кроме этого кумира нашего — наслаждения.
— А не в том ли источник бед наших, что появляются порою шальные головы, вроде твоей?— возразил я на сей монолог.— Появляются вроде твоей головы шальные, в которых зарождаются столь диковинные мысли. И других мутят.
— Ну, у многих к тому иммунитет устойчивый. За всех бояться не стоит,— усмешливо возразил он.
— Вот жену твою, насколько я знаю, подобные идеи не тревожат, и она-то как раз благоденствует. А тебе, дураку, одни заботы. Даже, как я слышал, на алименты подала, проявив восхитительнейшее остроумие.
Об истории с алиментами мне рассказала Тамара Казакова, с возмущением рассказала, аж кипело в ней всё, пока рассказывала. История и впрямь в своём роде восхитительная. Бывшая сашина жена подала на него в суд, требуя алименты на содержание сына, который и без того жил не у неё.
“А если, говорит, будешь отказываться, я его у тебя и вправду заберу, суд в этом вопросе всегда на стороне матери, а ты тем более дочь уморил, тебе и вообще веры не будет”. И не для того грозилась она отобрать сына, чтобы он жил с ней, а просто из мести — мальчика она в интернат сдать собиралась, и зная характер бывшего мужа, так прямо его о том и предуведомила.
К слову сказать, Тамара сообщила мне, что журнала с моей статьёй она нигде не могла сыскать (я для того с нею и встречался) — стало быть, не прохлопал это дело Рост. Но то уж теперь дело десятое.
— Вот ты, умник,— не отставал я от Назарова,— как же ты ей по харе её наглой не смазал? Что теперь делать будешь?
Он виновато улыбнулся, кротко сказал:
— Буду платить.
— За что платить! Помилуйте!
— Да ведь во всех случаях платить. Заберёт к себе — платить, не заберёт — тоже платить придётся. Но не в приют же его сдавать.
— На таких дураках, как ты, просто грех не ездить.
Он пожал плечами.
А ведь и впрямь баба его со всех сторон обложила: в суде его позиция весьма непрочна, а про интернат — она же не дура, чтоб всех оповещать. Заранее никому ничего не скажет.
— Где же ты денег возьмёшь?
— Моя основная профессия ныне: грузчик широкого профиля. С такой квалификацией — да работы не найти!
И за что же его-то так, вот этого, идущего рядом со мною простеца?
Мы шли через поле, приближаясь уже к самой деревне, а в медлительном тёплом воздухе над нами и вокруг нас журчала и струилась песнь жаворонка — и так, кажется, покойно должно бы было быть на душе в этом светлом и радостном мире.
А ведь мальчишка этот, он (Тамара, помнится, говорила), может, и не сын его вовсе, и Саша знает — и ничего. Смогу ли я так? Назаров хотя бы на сомнение имеет право, а у меня и того нет. Впрочем, может, и свой когда появится... Господи, не накажи меня в детях моих... Но способен ли я на такую жертву, как Саша? Но почему жертва? Разве любовь не в радость? Но где же любовь? Ведь не любовь у меня — необходимость. И от всего иного — навсегда отказ. Так ведь и нет его — иного этого. Ничего нет. Отказывайся — не отказывайся — ничего нет, и надеяться не на что. Пора бы угомониться.
Но ведь не создан я для таких обыденных забот. Не будет мне в них покоя.
...Всё-то мы меряем в своей жизни мерками самоутверждения себя в ней. А надо бы — тем мгновением, когда предстанем перед вечностью ответ держать.
Ведь как просто, если задуматься... Не задумываемся. Однако: если задумаешься, то и поймёшь: вздор всё, нет никакой вечности, и глупо отказываться ради химеры хоть от малой доли земной радости, коли выпадает она на долю твою. А там гори всё огнём...
Хотя: я-то уж нахлебался этих радостей земных.
Только башню не успел соорудить, чтобы вскарабкатся и заорать на весь белый свет: Вот я каков!!!
...Тем временем мы уже шли деревней — и как раз мимо того дома, где я поддался когда-то соблазну “мистического” непотребства. Дом стоял мрачно, глухо, пустынно. Окна скрывались за тёмными ставнями. И я не то что не спросил о нём у Назарова, но и виду не подал — будто и знать ничего не знаю, будто и вижу тот угрюмый дом впервые и безразличен он мне вовсе: сидел во мне смешной страх: если я хотя бы чуть дольше, чем нужно, разглядывать стану, то мой спутник тотчас поймёт и догадается обо всём. Нет: вздор: ясновидец он разве?
Я лишь мельком, равнодушно скользнул по позорной своей памяти и тут же излишне суетливо и с нарочитой развязностью понёс совершенную уж околесицу.
XXXI
Но память не давала мне воли, задорила любопытство.
— У меня тут знакомые есть, ты иди, я догоню, зайду на минутку,— сказал я и направился туда, где когда-то отыскивал ненужного мне полузабытого приятеля.
В женщине, стоявшей у крыльца, я сразу узнал Валентину; хотя она стала почти совсем уж седая, но лицом совершенно не изменилась.
— Ой, а я что-то и не помню вас,— ответила она на моё приветствие.— Вы кто же такой будете?
— Да я приходил к вам своего знакомого искал.
— Ой, нет, не помню.
— Вот ещё матушка ваша, Надежда Петровна, кажется...
— Так вон это когда! Уж мать-то три года как на кладбище снесли. И отца похоронили. Я теперь тут одна.
Я покачал головой, как бы выражая сочувствие, но так и не нашёлся, что же надо сказать, приличествующее положению.
— А я вас сразу узнал.
— Ну вот, а я совсем не признала.
— Помните, вы мне ещё про колдунов говорили.
— Ой, колдуны! Никакие они и не колдуны оказались. Они, оказывается, наркоманы были и разврат там у себя устраивали.
— Какой разврат?— боюсь, я покраснел при этих словах.
— А я почём знаю, какой. Свальный грех вроде. Вон Нинка Курозаева родила урода после, а от кого, и сама не знает.
— Как урода?
— Ну слабоумного. Уж вон большой теперь мальчишка, а говорить не может, только мычит и слюни пускает. Уж ей тут говорили все, чтоб сдала его, а она не хочет.
— Всё-таки же свой ребёнок.
— А кому он такой нужен? Идиот и есть идиот. По-моему, усыплять таких надо, чтобы и сами не мучились, и других не мучили. Уколы бы делали какие. А то ведь совсем идиот.
— Надо же!— ничего умнее я и сказать не придумал.
— Вот то-то и оно! Мы уж ей говорили: сдай!— а она ни в какую. А кому он нужен? Вырастет, ещё хуже будет. И у неё теперь вся жизнь загублена. И сама уже как трёхнутая малость. Ей теперь и замуж не выйти: кто её возьмёт с придурком? А ведь он ничего совсем почти не понимает. Вот как есть идиот. Только слюни пускает и мычит. Усыплять таких надо. Уколы какие или таблетки. Что-нибудь уж придумали бы. А то ведь он и сам не живёт и другим жизни не даёт. Уж и бабка их измучилась с ним. Есть, говорят, интернаты такие специальные, так не хочет отдавать. А таких ведь теперь много идиотов нарождается. Молодёжь теперь незнамо как живёт. И пьёт, и наркотики эти. Вот и у нас так же было. А мы, помню, всё гадали: чего они там запираются? А они вон чего. Жрали порошок какой-то и в одурении развратничали. А теперь вот и расхлёбывай — вон он, урод, бегает. Мы уж говорили: раз уж так вышло — сдай. А она упёрлась. И кто отец — неизвестно. Их вон там потом посадили сколько-то человек, да что толку. Этот-то всё равно идиот. Только слюни пускает.
— А с домом что?— сам не знаю зачем спросил я.
— Ничего. Запертый стоит. Хозяин отсидит — вернётся. Вот его бы не сажать, а заставить на ней жениться и ребёнка этого кормить. А то отсидит — и вроде бы уж и не виноват ни в чём. А бабе на всю жизнь крест. И малый вон какой. Кабы ему оттого, что тот сидит, ума бы прибавлялось, так я бы их, моя бы воля, вообще из тюрьмы не выпускала. Пусть бы они там так и сидели, а этот бы выздоравливал. Так нет. Их бы стрелять всех. Жрали бы свои наркотики, если нравится, а других-то зачем вовлекать? Ведь жизнь испортили девке. И ребёнок урод. Мы уж говорили ей: сдай ты его. А она: нет и нет.
— И почему же она так?— задал я ещё один безсмысленный вопрос.
— Кто её знает. Тоже трёхнутая стала после наркотиков этих. Упёрлась и всё тут. А по-моему, таких вот, которые уроды, усыплять надо. Ведь он совсем ничего не понимает. Идиот, он и есть идиот. А она говорит: их там бьют и не кормят. И не ухаживают за ними. Что под себя делают, говорит, то и едят. Так ведь они всё равно ничего не понимают. Его хоть лупи, хоть не лупи, они, мне кажется, и не чувствуют ничего совсем. А уж лучше бы их, конечно, усыплять. Чего с ними маяться-то? Ведь всё равно они не люди. И вылечить их нельзя. А она всю свою жизнь себе поломала. Убивать таких надо, кто вот до этого доводит. А то он отсидит своё, уж и выйдет скоро, а на ребёнка ему, что он такой, наплевать. Ему что ли мыкаться-то? Он своё дело сделал. А она страдай теперь. И сдавать не хочет. Тоже на неё псих нашёл. Да теперь все вообще ненормальные. Я вон когда по телевизору смотрю, всё думаю: совсем уж все рехнулись что ли? Вон говорили на днях: столько бомб понаделали, что по нескольку раз всех поубивать можно, кто на земле живёт. И ещё делают.
— Да вот сокращать вроде собираются.
— Как же! Тратились-тратились, а теперь выбрасывать? Да это ладно, тут уж только бы сразу, чтоб не мучиться. А вон в Библии, бабка Анюта говорила, написано, что так будет, что живые мёртвым завидовать начнут. Я вот сижу и думаю: и впрямь позавидуешь порой. Такая жизнь, что и глаза бы не глядели, что творится. И газеты хоть не читай, и не смотри ничего. Хоть ложись да помирай: чего творится везде.
— Ну,— робко возразил я,— всё-таки живём, ничего.
— Мы-то живём. А сколько всего вокруг! Вон Нинка — это жизнь что ли? Ладно — родила. Так был бы хоть нормальный. А то мычит да слюни пускает.
“Боже! Боже! Не накажи меня в детях моих!”
Я вспомнил, как у деда, в соседней деревне, куда мы ходили в магазин, жил вот такой же идиот. Ему выгородили специальный загончик в углу палисадника, и он целыми днями стоял там, держась за штакетник и тупо раскачиваясь из стороны в сторону — а когда мы проходили мимо, он рычал и страшно выл на нас, а всё лицо его было измазано слюнями и соплями, которые беспрерывно текли у него из носу. Я до глубокой внутренней дрожи боялся его, ибо не понимал, что же он за существо: не зверь и не человек. Даже дикий зверь был понятен мне (хотя бы по сказкам), волк и лев были опасны, но понятны. Рычащий же кретин вызывал в детском сознании моём несдержимый ужас. И я тянул взрослых обойти далеко стороной это леденящее меня ужасом существо.
Что может быть непереносимее для человека, чем рождение такого ребёнка? Господи, не накажи меня в детях моих!
Но вдруг этот маленький идиотик и есть мой сын?! Кого я там мял в угаре дикой оргии — кто скажет? Нет, не может быть: я же не глотал той отравы.
Но я же сотворил всё своими руками... Боже, пощади меня!
А вдруг и тот, кто ещё не родился, появится на свет таким же уродом: ведь так всё неустойчиво в нашем мире. Как знать: в каком состоянии был зачат он, этот готовящийся придти в мир человек?
Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Страх разливался холодом по всему телу, и я физически ощущал этот холод, от которого всё во мне становилось чужим, так что трудно стало поднять руку, сделать шаг.
“Господи! Помилуй меня, грешного! Не накажи меня в детях моих!”
Так я и шёл обратно с ледяной тяжестью во всём теле — мимо того хмурого пустынного дома, и за глухими его ставнями будто таилась непостижимая тайна, узнать которую никому не дано.
И потом, сидя за столом, возле которого ласково хлопотала милая старушка с добрыми глазами, я вспоминал почему-то её славословную молитву (Слава Тебе! Слава Тебе!— всё звучало в моей памяти) и с отчаянием думал, что нет во мне той силы, чтобы после всех бед и тягот вот так же восславить от сердца... ну, не Бога, хотя бы просто жизнь. Да что сила — права-то у меня нет на то.
— Зачем я сюда приехал? Не знаешь?— спросил я у Назарова.— А я вот знаю. Лихо мне, Саша, душа болит.
— Так надо.
— Мерси-с, — хмыкнул я.— Утешил... Лучше я вот что: домой поеду.
Он не возражал.
Я шёл лесною дорогой и твердил про себя: ... и внуки нас похоронят... и станем жить, и так до гроба рука с рукой дойдём мы оба... и внуки нас похоронят... и внуки нас похоронят...
И слышалась мне сквозь весь лесной гам тишайшая тишина, которая проникала всюду и завладевала всем властно.
XXXII
Тишина. Тихая тишина охватывала меня, когда в детстве — после неуёмного городского шума оказывался я на деревенской воле. И всякий звук, раздававшийся здесь, только вторил ей, тишине,— подчинённый ею, он растворялся в ней, не мешая мне проникаться её покоем.
Тишина начиналась для меня с того момента, когда затихал вдали шум уходящей электрички, а мы с мамой и бабушкой, выйдя на окраину небольшого уездного городка, оказывались вскоре на просёлочной дороге, тянувшейся то полем, то лесом, то вновь полем, берегом речки, задами трёх деревенек, над которыми горланили неугомонные петухи. Вот эти петушиные песни и соединились для меня навсегда с ощущением покойной и уютной тишины: такою глубокою она представлялась мне тогда, а петухи своим криком лишь подтверждали её необъятность.
Идти было далеко, вёрст десять — мы шли долго, не раз отдыхали, опять трогались в путь — и радостна была для меня та дорога, сближавшая меня с пространством родной земли. Теперь уж, несомненно, никогда не испытать мне того свежего отрадного чувства, с которым погружался я когда-то в тишину этого пространства. Тишина земли вовсе не была пустою, она звучала — и лаем собак, коровьим мычанием, птичьим гомоном и шумом леса. Над полем журчали невидимые жаворонки. Я старался, но никак не удавалось мне их разглядеть.
А то вдруг раскудахтается где-то ошалевшая курица: издалека слышна всегда её клокочущая брань — то ли на нелёгкую куриную долю, то ли на надоедливых товарок своих, то ли на супруга, всегда отвечавшего ей грозным окриком.
Дорога неторопливо уходит в даль, и даль эта прекрасна, и мне всегда хотелось и добраться быстрее до места, но и идти долго-долго, растягивая радостное счастья приближения дали, счастье узнавания родных мест. Даль как будто втягивает меня в себя, но не даётся мне, всё манит и манит, то раскрываясь вся на просторе, то прячась за пологим подъёмом.
За зиму я успеваю отвыкнуть от деревенского простора, от знакомого, но теперь уже как будто немножко чужого мне дедовского дома — всё предстоит обвыкать заново, сживаясь с его покойным уютом. И какой удивительный запах стоял в том доме! Ласковый запах жилого тепла. А возле дома — забываемый за долгую зиму аромат свежей травы, листвы, сырой земли, чистоты светлого воздуха.
Нас встречает дед, уже седой, но ещё бодрый и сильный. Пока в доме разбирается поклажа, устраивается порядок в долго пустовавших комнатах, готовится еда — я обегаю палисадник по плотной утоптанной дорожке, заглядываю в огород, в сад (там ещё пусто: приезжали мы всегда рано, с первой зеленью), потом иду на деревню, встречаю кого-нибудь из знакомых мне взрослых, веду с ними важные разговоры о житье-бытье, о том, что вот снова приехал и что давно бы пора.
...А дело уже к вечеру. Вот уже солнце коснулось края дальнего леса. Я сижу под нашими большими липами на задах, и вокруг всё та же тишина. Вдруг начинает накрапывать дождичек, и непонятно мне, откуда он мог взяться: только маленькое облачко висит в темнеющем небе, на котором уже высыпали почти все звёзды, и лишь самые мелкие ждут полной темноты. Ветерок ли колышет листья, то ли шлёпает по ним накрапывающий дождик, но липы тихо шумят над головою — и я растворяюсь в тишине их вечернего шелеста.
Но совсем по-иному звучит утренняя тишина, неизменно начинающаяся для меня криком петуха за стеной, жёстким, как выстрел, хлопаньем пастушьего кнута и мычанием коров, выгоняемых на деревенскую улицу. И так не хочется просыпаться и вставать, а петух всё орёт и орёт, оголтелый, и солнце пробивается сквозь занавешенное окно, и гремит посуда в соседней комнате, и стучит во дворе дедов топор. И вот я уже за калиткой, и тропкою, протоптанной среди густой лапчатки и спорыша отправляюсь к своим деревенским друзьям — и всё окрестное приволье становится нашим. И лишь одна лёгкая печаль порою ненадолго овладевала мною тогда: сожаление о недоступности дальних далей, открывающихся то с пригорка за деревенским оврагом, то с опушки леса, то со старой колокольни, куда забирались мы, рискуя сломать шею, оступившись на неверных перекладинах её ветхих лестниц. Но рядом с печалью жила и надежда: когда-нибудь одолеть дальние пути и изведать радость постижения незнаемого.
А время струится незаметно. Проходит май с его частыми холодами и ненастьями (май: коню сена давай, а сам на печку полезай,— приговаривает бабушка, подкладывая поленья в огонь), комариный июнь со светлыми ночами и тёплыми запахами всеобщего цветенья — и вот уже природа являет себя во всей летней силе, мощная и изобильная. Густота зелени лесов и лугов ещё не обнаруживает в себе признаков увядания и иссыхания. Запахи трав, нагретой хвои, сильной листвы будоражат и влекут в себя. Воздух звенит обилием насекомых; порхают и красуются бабочки, стремительно проносится стрекоза, назойливо докучают оводы и слепни. Над полем трепещет какой-то запоздалый одинокий жаворонок. От разноцветья и разнотравья шалеют глаза. Немилосердно томит зноем.
Случается: к вечеру небо незаметно сереет, начинает погромыхивать издалека — брызнул дождичек, но тут же перестал — а на светло-сером небе прорезаются молнии и гремит сильнее. Опять заморосило и вновь перестало. Кажется: дождя уже не будет, гроза минует стороной, но и не понятно, откуда и куда она движется, — гремит то с одной, то с другой стороны, а по всему небу пятнами проглядывает ясная голубизна. Вдруг окончательно темнеет, дождь начинает сыпать крупными каплями — и внезапно обрушивается на землю ливень такой густоты и силы, что заслоняет горизонт над полем. Эхо от грома могучими валами перекатывается над лесом. И теперь уже кажется, что ливень никогда и не кончится вовсе. Вот застучал по крыше град, хлынуло ещё мощнее. Но перекрывая хлёст воды, трещат без умолку по всему лугу кузнечики в густой траве. И уже сверкает в разводьях туч солнце, и последние нити слабеющего дождя тянутся в его весёлых лучах. Всё сияет. Скоро над полями и лугом возникают и густеют белёсые комья тумана. Гром перекатывается где-то далеко-далеко, и совсем не страшен теперь и даже вызывает в душе какую-то жалость к себе, слабому и безобидному.
И опять тишина, тишина.
Сочно звучит коса, врезаясь в густую траву на лесной поляне,— и нет ничего духовитее вянущего чабреца в охапке подсыхающей кошенины. Я перебираюсь спать на сеновал, и всю ночь над самым почти моим ухом добродушно жуёт жвачку дремлющая в своём закуте корова. И тихо, тихо в ночи.
А ночи всё больше выстывают, по утрам уже нередок зябкий туман — но жаркое солнце быстро сгоняет его отовсюду и всё настойчивее высушивает траву, листву, рассыпает пылью зачерствевшую землю. Пышно красуются на тёмной ботве соцветия картофеля. А что за запах у этих цветов и ботвы! Я ещё мал, она с головой укрывает меня, когда я скорчившись, прячусь среди грядок, осторожно выглядывая из густых зарослей. Есть что-то острое и волнующее в этом состоянии — чувствовать себя скрытым от всего мира, затаившимся, никому и ничему не доступным. На лужайке за картошкой барственно разрослись репейники, всюду желтеет пижма, пылают луговые васильки. И здесь моё укрывище. Я прячусь в траве, почему-то не скошенной, и заворожённо слежу, как в длинное облако, растянувшееся по горизонту, опускается красно-багровое солнце.
А дни медленно тускнеют. Засентябрило, хотя и август ещё. Выйдешь на крыльцо — что это? Дождь — не дождь, а какой-то крупный туман или мельчайшая изморось? Всюду серо, серым-серо. Всё становится волглым, промозглым от холода и сырости, в которой вязнут и без того тихие звуки. Тишина ещё заметнее стихает. Только капает вода с крыши в подставленные корыто и вёдра (бабушка готовится к стирке). Промокшая курица со свалившимся набок гребешком обречённо пьёт из лужицы, запрокидывая голову, потом долго стоит с осоловелым видом посреди дорожки. Серый, зеленоватый, голубоватый местами туман закрывает половину поля и дальний лес. Идущие по деревне осторожно выбирают, куда ступить, обходя лужи.
Думаешь: ну вот, конец лету. Но нет. За пасмурным августом наступает вдруг такой ясный и тёплый сентябрь, что уж и не знаешь: то ли лето не хочет уходить, то ли осени лень начинаться.
Но тишина всё глубже и шире.
Бабушка с дедом копают картошку и ссыпают её на пол в затенённой горнице (чтобы не позеленела — объясняют мне). И я таскаю по несколько картошин в маленьком ведёрочке. В горнице стоит особый запах сохнущей картошки — для меня это запах осени, как и запах палого дубового листа в прозрачных октябрьских лесах: его терпкость не спутаешь ни с каким другим листом, в изобилии устилающим всё лесное пространство.
Листья шуршат под ногами, берёзы тихо шумят в вершинах жалкими остатками листвы. Их белые стволы контрастно рисуются на зелени невысоких ёлок. Но особая живописность — в богатейших оттенками цветовых пятнах зарослей орешника, ещё вовсе не облетевшего. И тут же краснеющие клёны — вот где подлинная эстетическая самодостаточность цвета, сказал бы я теперь — но тогда просто вбирал в себя цветовое многообразие мира.
И надо всем — грустная осенняя тишина.
На небо, будто невзначай, набегают прозрачные тучки, принимается мелкий и редкий дождичек — как будто лишь робко примеривается и опасается даже поморосить от души. Но влажный густой запах всё явственнее тянется от леса. Тучи — ниже, сплошнее, серее. И облетела уже вся листва на деревьях. Лишь кое-где желтеют остатки ярких пятен — на зелёном хвойном и чёрном фоне готового к зиме леса.
Холодный ветер, мелкий, но уже не робкий дождик. И на душе так же мелко, холодно и серо. И бесприютно.
Пора отправляться в Москву. Я уже жду отъезда, я уже скучаю по городской жизни. Но и расставаться с волею — тоже грустно.
В последний день мы с мамой совершаем обряд прощания с деревней, лесом, с полями.
Мы идём к лесу, к оврагу — и я кричу:
— До свидания, лес! До свидания, речка!
Надо бы ещё:
— До свиданья, тишина! Прощай.
XXXIII
И вот дошёл до меня неясный слушок. Что Рост заболел. Смертельно. Каюсь, поначалу весть эта тайно меня согрела. Потом собрался я и вечный вопрос себе задать: ну и что? и зачем же нужна была вся та убийственная суета? всё отравляющая суета...
Собрался, да раздумал вопрошать: пусть сам себя спрашивает — его срок настал.
Хотя: потешить себя он всё-таки успел. Не в пример моему. Однако то всё уже в прошлом. Не странно ли: что прошло — уже как бы и бессмысленно. А что остаётся? Смутная тоска воспоминаний. Но не станет тебя — и она исчезнет.
А потом, в конце всех концов — или полнейшее ничто, или кому-то вечное блаженство, другим же...
Тут как ошарашило меня: невозможно то блаженство ни для кого!
………………………………………………………………………….
— Вот теперь на самый страшный вопрос ответ дай!
Я пребывал в каком-то исступлении, и увидел, что в его глазах и впрямь порождён мною страх.
— Вот ты праведник,— со смехом сказал я (мне всё смеяться хотелось), — и последуешь в Царствие Небесное...
Он вздохнул сокрушённо и взглянул на меня с такой тоской, что я увидел сразу: он тяготится чем-то, что лежит и на его душе.
— Хорошо,— возразил я,— пусть не ты, пусть будет условно... я не про то. Ты или другой... Но коли праведник, так ведь должен любить меня, как самого себя, иначе какая тут праведность — так ведь в заповедях?
— Так.
— А я вот грешник, и гореть мне в геене.
Он смотрел на меня с великою тоскою.
— И вот ты,— продолжал я со злобным смехом,— находясь там, в вечном блаженстве пребывая, как же ты сможешь блаженствовать, если я, любимый тобою... а не любить меня ты не можешь, мы уже договорились, ты бы тогда и в рай не попал... так как же ты сможешь в раю, когда я-то муки невыразимые принимаю, а ты знаешь про то! Тут ведь и для тебя уже рай не в рай будет. Вот чего я знать хочу. Концы с концами-то не сходятся.
Он посмотрел на меня и сказал тихо и твёрдо:
— Я не знаю ответа на твой вопрос.
— Кто же знает?
— Наверное, никто. Никому не дано знать тайны Божией.
— Конечно: вечные уловки ваши! Чуть что: нельзя. Мол, там качественно иное, там тайна, нам не открытая, там критерии иные.
— Но если так?
— Кто знает: как? Пусть бы и так. Но я опять на том не остановлюсь. Пусть даже мне будет дано прощение свыше и место в раю предложено. Но мне надо, чтобы я сам себя простил. Иначе мне покоя не будет. Прощу ли я себя — сам-то прощу ли? Вот и тю-тю райское блаженство. Для всех вас. Ха-ха-ха!
— Но это гордыня,— сказал он с состраданием в голосе.— Как же ты себя хочешь над Ним поставить? Не принять Его милосердия? Что же ты себя мучаешь так?
— А мне дана свобода воли,— торжествовал я.— Значит, и в прощении себе самому я ни от кого не завишу, я свободен. Свободен ведь?
— Свободен.
— Стало быть, никто мне тут не указ. Вот как!— я как безумный был, и смеялся.— В гордыне, говоришь, погряз? Тем более. Все вы от меня теперь зависите: пусть хоть все прощение получат, а я, погрязший, себя не прощу! И не видеть вам никому райского блаженства: так и будете сидеть и меня вечно оплакивать. А я ведь ещё и не верю ни во что вдобавок, так что тем более меня прощать некому, кроме самого себя.
— Оттого и не хочешь принять Его прощения, что не веришь.
— Да что принимать-то? Ведь меня еще не прощал никто,— усмехнулся я угрюмо.— Мы тут шкуру неубитого медведя делим.
Но я чувствовал, что что-то значительное начинается во мне. И чтобы не спугнуть это новое, только зарождающееся — я знал это — нужно уйти, остаться одному.
Он не удерживал меня.
Что же за мука эта! Как избыть тяготу, давящую меня?
Я знал теперь, что несу в себе вину перед всеми, и ею соединён с миром неразрывно, и жизнью должен искупать её. Хватит ли сил моих на то?
Впереди у меня долгий путь сквозь сомнения, отчаяние. И обретения.
Обрету ли я прощение в душе моей?
И нет тому сроков и пределов.
Это была последняя вспышка моего неверия.
То, что я считаю важнейшим для себя, случилось со мною вскоре, неожиданно и вдруг. Так массивную гору незаметно подмывают подземные ручейки, большие и малые, и она рушится внезапно. Все события, какие я вспомнил о своей жизни, и были теми ручейками и потоками, обрушившими моё безбожие.
Рост умер. Похоронили его с велией престижностью. Я на кладбище пошёл, но не хотел никому на глаза попадаться, и оказался у могилы, когда уже все разошлись. Захотелось хоть в малом позлорадствовать: ты вот там, а я живой — и плюнуть на твою могилу могу. Сколько ещё грязи из души предстоит вычерпать!
Смотрю: гора венков и цветов, и портрет фотографический большой: Рост — и улыбается так ясно.
И понял я, понял вдруг, что виноват перед ним, за все свои мысли чёрные виноват беспредельно. И сказал ему, как живому... “Прости меня, Рост,— сказал я, глядя в его улыбающиеся глаза.— Прости меня. Я был не лучше тебя, даже гаже. Если ты и виноват, то только в том, что выпало тебе самому. А за своё я сам в ответе — никто больше”.
Ведь я только и делал, что виноватых вокруг выискивал. И в себя по-настоящему заглянуть боялся. Даже и заглядывал, и видел как будто всё, а мужества не хватало жестокую правду себе сказать. Теперь могу.
Вижу: меня вела воля Того, Кто надо мной и над всеми. (Рост той воле только следовал.) А я не понимал.
Господи, дай мне, недостойному, радоваться о Тебе, а что мне для того потребно — Тебе лучше ведомо.
Да будет воля Твоя.
Комедия условностей
Действующие лица
Дон Жуан
Сганарель
Дон Карлос
Командор
Изабелла
Дон Родриго
Эльвира
Инквизитор
Путешественник
Герцогиня де Мендоза
Старик
Монах
Пожилой придворный
Дуэнья Изабеллы
Глашатай
Прохожие, толпа
Сцена первая
Городская площадь.
Сганарель.
СГАНАРЕЛЬ. С тех пор, как наш родной, любимый и великий король окончательно и бесповоротно победил всех своих врагов, мы празднуем это событие каждый год, и чем дальше, тем всё пышнее. Правда, все другие праздники он отменил. Чтоб мы не растрачивали нашу радость по пустякам и прикопили бы её для этого торжественного дня.
Входит Путешественник.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Скажи-ка, любезный, куда это я забрёл? Я сбился с пути...
СГАНАРЕЛЬ. С жизненного пути? Или с пути поиска истины? Теперь таких много. Вы, выходит, мудрец?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Нет, я обычный путешественник...
СГАНАРЕЛЬ. ...всего-навсего заблудившийся в пространстве. Что ж, вам повезло. Мы вот тут, например, заблудились во времени. Это хуже.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Как во времени?
СГАНАРЕЛЬ. А вот так. Никто не знает, какое у нас время. Самое гнусное, что это не известно даже автору нашей пьесы. Так что крупнейшие учёные вынуждены заниматься этой проблемой. Иначе жить невозможно: сплошные анахронизмы. Голова кругом идёт. Даже комиссию пришлось организовать — по борьбе с анахронизмами. И наука специальная создана: историческая математика. Или математическая история. Ещё не решено, как лучше назвать. По этому вопросу ведётся научная полемика.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И что же это за наука?
СГАНАРЕЛЬ. Ну, чтобы высчитать, какая у нас эпоха. Собирают все приметы времени, суммируют их, делят каждому по заслугам, а потом выводят среднее арифметическое. По научному: средний коэффициент эпохи.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И что же выходит?
СГАНАРЕЛЬ. В среднем все пришли к выводу, что теперь среднее средневековье. Правда, Дон Карлос, друг моего господина Дон Жуана, как будто сделал недавно научное открытие: провозгласил начало возрождения. Он утверждает, что главная примета времени — это наш родной и любимый король, а всё остальное вздор. Мы, говорит, возродились теперь к новой жизни. И уже началась разработка математического обоснования новой теории. Кое-кто ропщет, но, понятно, из зависти, что не они первые додумались.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Так пусть чего-нибудь своё выдумают.
СГАНАРЕЛЬ. Уже. Есть у нас тут один исторический математик, Дон Фома, он вообще предложил выкинуть из истории тыщу лет, а все события и людей спрессовать в оставшееся время.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И как?
СГАНАРЕЛЬ. Утрамбовали. И получилось, что наш великий король и Александр Македонский — одно и то же лицо.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Душа что ли переселилась?
СГАНАРЕЛЬ. Никакого переселения, тут тебе не Индия. Они буквально одно и то же лицо. Вот наш обожаемый король — это и есть Александр Македонский.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Ничего не понимаю.
СГАНАРЕЛЬ. И никто не понимает. Зато оригинально.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Куда я попал!
СГАНАРЕЛЬ. В Испанию, почтенный сеньор.
В Мадрид... Условно, конечно.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. То есть как так условно?
СГАНАРЕЛЬ. Да так. Здесь всё условно. Такова специфика театра. Но в отличие от других мы не пытаемся это скрыть. Так что тут Испания весьма сомнительная. Может быть, это даже и не Испания вовсе, а, например, Китай. Ведь в сущности, между ними действительно никакой разницы — это открыл один мудрец в девятнадцатом веке... Правда, пока он ещё не родился.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Как же он мог чего-то открыть, если он ещё не родился?
СГАНАРЕЛЬ (на мгновение задумывается). Да, действительно, как-то странно... Но всё-таки это великое открытие. И доказательство гениально просто. Напишите, говорит, одно, а выйдет совсем другое. Так и получается: одни пишут — Испания, а другие читают — Китай. Но всё же приходится изображать Испанию. Пьеса-то про Дон Жуана, а он, как известно, испанец. Подобрали несколько якобы испанских имён — вот и всё. Такова условность. Здраво поразмыслить — сущая бессмыслица. Однако ничего, мы уже привыкли. Да и какой со всего этого спрос: комедия. Комедия да и только.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Ну, пусть будет так. Но что это творится здесь в городе?
СГАНАРЕЛЬ. Праздник. День победы короля Луиса Первого Алонсо Второго, он же Александр Македонский, над своими врагами.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но разве такой король был в Испании?
СГАНАРЕЛЬ. А нам что за дело! Главное, тут он есть. И если вы сомневаетесь, что он настоящий король, вас сожгут на костре как злостного еретика. Средние века всё-таки.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Нет-нет! Не сомневаюсь!.. Но постой, ты как будто назвал два имени, и с разными номерами. У вас что, два короля?
СГАНАРЕЛЬ. Один. Оппозиции мы бы не потерпели. Просто у всех наших королей двойное имя. У этого, например, Луис Алонсо. А прежде уже был один Алонсо — Родриго Алонсо. Так что этот Луис пока что только первый, но Алонсо он уже второй. Правда, теперь решено сменить эту нумерацию.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Как так сменить?
СГАНАРЕЛЬ. Согласно расчётам исторической математики. Раз уже так было. Полвека назад. Тогдашний король Мигель Третий Карлос Тридцать Девятый высчитал, что он самый первый, а его предшественники должны нумероваться уже после него. Так его и стали называть: Мигель Первый и Карлос тоже Первый. Хотя все знали, что прежде были-таки и другие Мигели и Карлосы. Потом следующие короли тоже стали так же делать, и все были первые. Такая путаница вышла.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И никто не возмутился?
СГАНАРЕЛЬ. А чего ради? Ведь всё равно всё условно.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И что же, нынешний хочет теперь взять первые номера себе?
СГАНАРЕЛЬ. Вовсе нет. Он наоборот хочет снова расставить всех по своим местам и первыми объявить тех, кто были на самом деле. Себе он решил взять другую цифру. Ноль. Или даже минус единицу.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. ???
СГАНАРЕЛЬ. Великое дело — знать математику. А математику, и прежде всего историческую, у нас почитают превыше всего. Поэтому-то для нас подобные вещи просты и понятны, хотя кому-то это и может показаться в диковинку. Но вникни: ведь сначала идут отрицательные числи от минус очень много до нуля, а уж потом — раз, два, три. Значит, нулевой первее первого. А минус первый и подавно. То, что логично и научно, с тем не поспоришь. И тут уж никаких условностей.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И кто же до этого додумался?
СГАНАРЕЛЬ. Сам король, разумеется. Ведь он же у нас самый умный. Как и самый великий, самый правдивый, самый справедливый, самый честный во всём мире. И самый совестливый. Можешь спросить у любого — каждый подтвердит.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А почему вы так решили?
СГАНАРЕЛЬ. А мы ничего не решали. Это сказал нам сам король. А так как он умнее всех, то можно ли в этом сомневаться?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Значит, он сам объявил себя умнее всех. А может, он ошибся.
СГАНАРЕЛЬ. Как же он может ошибиться, если он умнее всех?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Так ведь это он сам так говорит.
СГАНАРЕЛЬ. Это все говорят.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но первым-то он сказал...
СГАНАРЕЛЬ. Надо же было кому-то начинать.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но вначале-то и могла быть ошибка!
СГАНАРЕЛЬ. Не могла.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Почему?
СГАНАРЕЛЬ. Потому что он умнее всех.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но это ещё надо доказать!
СГАНАРЕЛЬ. Не надо.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Почему?!!
СГАНАРЕЛЬ. Потому что это несомненно.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но почему же несомненно?!!
СГАНАРЕЛЬ. Потому что никто не сомневается.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Да почему же никто не сомневается?
СГАНАРЕЛЬ. А потому что все тоже не дураки.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А-а-а...
СГАНАРЕЛЬ. Да-а-а... от него и набрались. Здраво-то поразмыслить, мы все здесь испанские короли.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Хоть бы глазком взглянуть на вашего короля...
СГАНАРЕЛЬ. Не выйдет. В этой пьесе он не появится. Нельзя его отвлекать ради таких пустяков: он весь в делах и заботах.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. О чём?
СГАНАРЕЛЬ. О нашем благе, разумеется. О чём же ещё заботиться королям?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И как же он о вас заботится?
СГАНАРЕЛЬ. А вот это тайна Мадридского двора. Главное — верить в это, а остальное неважно.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А кто-нибудь эту тайну всё-таки знает?
СГАНАРЕЛЬ. Слушай, чего ты ко мне привязался? Ты хоть и условная в этой пьесе фигура, а всё-таки личность подозрительная.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. То есть как это я условная фигура!
СГАНАРЕЛЬ. То есть так и условная. Чтоб было кому задавать всякие дурацкие вопросы. По-научному это называется: для экспозиции. Люблю, знаешь, разные непонятные научные слова: как скажешь, так всем сразу всё ясно и становится. Надо ведь с кем-то разговаривать, пока я тут жду моего господина. Не торчать же на сцене столько времени одному. Однако что-то его долго нет. Болтаем мы тут с тобой, а действие-то не движется. В пьесе важно, чтобы действие на месте не стояло. И где его носит? Не понимает простых вещей.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Подожди, придёт.
СГАНАРЕЛЬ. Нет, ждать уже нельзя. Экспозиция кончилась. Надо что-то придумывать. Ладно, раз нет моего господина Дон Жуана, то пусть придёт хотя бы его друг Дон Карлос. Когда действие не движется, его надо подталкивать всеми средствами.
Входит Дон Карлос.
Ну, что я говорил! Вот и он. У нас это просто.
ДОН КАРЛОС. Сганарель, а где Жуан? Я обыскался.
СГАНАРЕЛЬ. Скорее всего, под балконом у доньи Изабеллы. А о собственной пьесе и думать забыл.
ДОН КАРЛОС. Пойти напомнить...
СГАНАРЕЛЬ. Да надо бы. А впрочем, вот и он сам.
Вбегает Дон Жуан.
ДОН ЖУАН. Карлос! Они жгут книги на площади в честь праздника!
ДОН КАРЛОС. Не кричи так громко. И не волнуйся: книги жгут условно. Там и огня-то настоящего нет.
ДОН ЖУАН. Значит, они не сгорят?
ДОН КАРЛОС. Разумеется.
ДОН ЖУАН. И их снова можно будет читать?
ДОН КАРЛОС. Нет. Вот читать уже нельзя.
ДОН ЖУАН. Но почему же?
ДОН КАРЛОС. Потому что их предают сожжению.
ДОН ЖУАН. Но это же условно.
ДОН КАРЛОС. Неважно. Тут тебе всё-таки не в игрушки играют, а книги жгут.
ДОН ЖУАН. Трудно понять всё это.
ДОН КАРЛОС. Ты всегда был слишком наивен. Это-то тебя и погубит.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. (Сганарелю ). Ну что ж, мне тут, как вижу, делать уже нечего. Пойду. Прощай, любезный.
СГАНАРЕЛЬ. Да-да, прощай. Теперь и без тебя обойдёмся. Сходи на рыцарский турнир. Сегодня интересная встреча: финальный поединок.
Путешественник уходит.
ДОН КАРЛОС. Да не отчаивайся ты так, Жуан. Твоих-то стихов не сожгли. Твои серенады распевают на всех перекрёстках. Мог бы ещё больше преуспеть. При дворе уже намекали, что хотели бы услышать от тебя оду в честь короля.
ДОН ЖУАН. Этот предмет меня не вдохновляет.
ДОН КАРЛОС. Как будто оды пишутся по вдохновению. Возьми любую: так и разит холодными потугами, ночной зевотой и проклятиями осточертелому долгу. Однако пишут.
ДОН ЖУАН. Не могу.
ДОН КАРЛОС. Не можешь подобрать пару рифм к слову — великий. Что-нибудь этакое: Наш король великий...
ДОН ЖУАН. ...Был дурак безликий. Вот уже одна рифма есть.
ДОН КАРЛОС. А почему — был? Он ведь и сейчас есть.
ДОН ЖУАН. Вот и ты подтверждаешь, что он дураком и остался.
ДОН КАРЛОС. Тебе всё смех. А право, стоило бы задуматься серьёзно.
ДОН ЖУАН. Да не могу я врать.
ДОН КАРЛОС. Ну и глупо. И вообще: правда и неправда весьма условны. Главное — с какой стороны взглянуть. Впрочем, как знаешь. Пиши про любовь. Ты, кстати, всё ещё распеваешь под балконом Изабеллы, дочери Командора? Или нашёл другой объект страсти?
ДОН ЖУАН. Зачем же мне искать кого-то? Я её люблю.
ДОН КАРЛОС. Мне кажется, напрасно ты это. У Изабеллы есть жених, а Командор не такой человек, чтобы смотреть на всё это сквозь пальцы. Тебе надо вообще подальше держаться от Командора, с ним у тебя добром не кончится.
ДОН ЖУАН. Командор — почтенный и уважаемый человек. Я не собираюсь с ним ссориться, чего же мне бояться?
ДОН КАРЛОС. Но ведь тут какой жених! Дон Родриго — воспитанник самого герцога, второго человека в государстве после короля. Лучше не шутить.
ДОН ЖУАН. А я и не шучу. Я люблю её.
ДОН КАРЛОС. Послушай, я же не Изабелла, чтобы морочить мне голову разговорами о любви. Полюбишь другую.
ДОН ЖУАН. Но ведь я правда люблю её.
ДОН КАРЛОС. Ты уже стольких перелюбил, что литературоведы со счёту сбились.
ДОН ЖУАН. Никого я не любил. Меня оклеветали драматурги и поэты, создали какую-то дурацкую легенду...
ДОН КАРЛОС. Зато красиво вышло. Да и чего возражать: это же условность. Ты просто под руку подвернулся.
ДОН ЖУАН. Для чего этот обман условностей?
ДОН КАРЛОС. В сущности, мы только и делаем, что обманываем других и себя тоже. Весь мир стоит на лжи.
ДОН ЖУАН. Помню, мой дядя говорил часто: ложь никогда не просочится сквозь фильтр нашей совести. Себя обмануть нельзя.
ДОН КАРЛОС. Он всегда был склонен к пошлой цветистости выражений.
ДОН ЖУАН. Тем не менее он был прав. Себя не обманешь, как ни старайся.
ДОН КАРЛОС. Ты, однако, и в этом преуспел. Обманываешь себя какой-то необыкновенной любовью. И к лучшему: иногда, чтобы твои слова были убедительны для других, надо хорошенько поверить в них самому. Ты так проникновенно говоришь о любви к Изабелле, что она не почувствует обмана. А я, так даже готов тебе помочь. Попробуем заставить Командора и Родриго немножко иначе взглянуть на это сватовство. Надо придумать, чтобы они сами отказались бы от своей затеи. И пока они станут выяснять отношения, мы воспользуемся моментом.
ДОН ЖУАН. Но что придумать?
ДОН КАРЛОС. Это пусть будет моей заботой. Ты иди сочиняй свои серенады, а я тем временем побеседую с Командором... Да, кстати! А что такое — командор?
ДОН ЖУАН. Как что?
ДОН КАРЛОС. Ну да, что это такое? Что он делает? Вот мы все говорим: командор, командор. Во всех пьесах — командор. А кто он такой? Это что — звание, чин или должность?
ДОН ЖУАН. Как-то не задумывался никогда. Какой-нибудь начальник военный. Надо будет посмотреть в словаре.
ДОН КАРЛОС. Ладно, не важно. Вон он сам идёт. Как это ловко устраивают в пьесах: человек появляется в тот момент, когда в нём возникает необходимость. Ты иди, не мешай. Встретимся завтра на балу у короля.
Дон Жуан и Сганарель уходят.
Входит Командор.
ДОН КАРЛОС. Рад видеть вас, доблестный Командор! Слыхали новость: герцог не был на большом приёме у короля.
КОМАНДОР. Добрый день. Что вы этим хотите сказать?
ДОН КАРЛОС. Только то, что герцог не был вчера на большом приёме у короля.
КОМАНДОР. Я знаю.
ДОН КАРЛОС. Значит, я напрасно надеялся, что сообщу вам новость.
КОМАНДОР. К тому же говорят, что он и вправду болен.
ДОН КАРЛОС. Касательно болезни судить не берусь, я не лекарь. Но мне передавали также, что когда герцог был в последний раз во дворце, ну, перед этой самой слишком внезапной своей болезнью... нет, я ничего не хочу сказать, может, он и в самом деле нездоров... так вот один старый лакей как будто герцогу не поклонился. И если сопоставить оные факты... Некоторые даже предполагают, что возможно оттого-то герцог и слёг. Хотя король, как уверяют, был отменно любезен. Даже более обычного: наговорил кучу любезностей. И с чего бы это? Тоже, знаете ли, подозрительно.
КОМАНДОР. Неужели так?
ДОН КАРЛОС. Я только повторяю за другими.
КОМАНДОР. Гм! Лакеи всегда всё чувствуют заранее...
ДОН КАРЛОС. Да вздор, вероятно. Я вот вам что хотел сказать. Дон Родриго, воспитанник герцога и жених вашей дочери...
КОМАНДОР. Жених ещё не муж. И не впутывайте меня в это родство раньше времени.
ДОН КАРЛОС. Неужели вы будете способны отказать Дону Родриго! Да ведь и с герцогом ничего пока определённого. Так, предположения, пустые слухи.
КОМАНДОР. При чём тут герцог! Я думаю лишь о счастье дочери. Будет ли она счастлива, если в результате всей этой истории её отца подвергнут опале?
ДОН КАРЛОС. Прямо-таки и подвергнут!
КОМАНДОР. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорит мой камердинер.
ДОН КАРЛОС. Но вы же дали слово Дону Родриго.
КОМАНДОР. Слова — лишь внешняя оболочка. Условность, не более.
ДОН КАРЛОС. Но Родриго так любит донью Изабеллу.
КОМАНДОР. Важнее, любит ли она его. Я что-то не замечал в ней большой радости, когда заходила речь о будущей свадьбе. Я уверен: она любит другого.
ДОН КАРЛОС. Да ну! И кого же?
КОМАНДОР. Дон Жуана. Теперь я думаю, что напрасно пытался препятствовать их встречам. Ведь главное — любовь.
ДОН КАРЛОС. Но Дон Жуан небогат.
КОМАНДОР. Деньги и любовь — какое недостойное сочетание!
ДОН КАРЛОС. Ну что ж! Вам виднее... Прошу прощения, Командор, но мне нужно идти, зовут дела и заботы. Столько дел! Столько забот!
Дон Карлос уходит.
КОМАНДОР. Кем сегодня начинают пренебрегать лакеи, тому завтра король может отрубить голову. Да, тут надо смотреть в оба. В суматохе-то и меня задеть могут. Припишут компрометирующие связи — что тогда?.. Не составить ли на герцога, пока не поздно, донос святой Инквизиции? Говорил, мол, безбожные речи... Бедному герцогу это не повредит: не всё ли равно, за сколько преступлений тебе отрубят голову? Два ведь раза отрубить не смогут... Но если всё это одни лишь вымыслы? Дон Карлос ничего же определённого не сказал... Вот ещё беда. Попробуй тут заснуть спокойно... Какое это великое счастье — спать спокойно.
Сцена вторая
Королевский дворец. Бал.
Дон Карлос и Дон Родриго.
ДОН КАРЛОС. Пользуясь случаем, дорогой Родриго, хочу спросить вас о здоровье герцога.
ДОН РОДРИГО. Врачи сказали, что потребуется долгое лечение.
ДОН КАРЛОС. Будем надеяться, что всё закончится благополучно.
ДОН РОДРИГО. Будем надеяться. Но вы в последнее время совсем перестали у нас бывать. Я вас везде искал, мне надо поговорить с вами.
ДОН КАРЛОС. Ах, Родриго, всё дела, заботы. До того закрутился, что и времени никак не выберу.
ДОН РОДРИГО. Полно, Карлос! Ссылка на дела и время чаще всего означает лишь отсутствие желания. Сам так делаю.
ДОН КАРЛОС (в сторону). Вот болван! И зачем называть всё своими именами!
ДОН РОДРИГО. Дон Карлос! Неужели вы думаете, будто я не слышу, что вы говорите?
ДОН КАРЛОС. Я говорю, как в ремарке написано: в сторону. Это значит, что вы ничего не слышите, не должны слышать. Понимаете, такая условность.
ДОН РОДРИГО. А-а-а! Ну, если условность, то пусть так. Я ссориться не хочу. Я вообще миролюбивый человек. Поэтому я и желал бы поговорить прежде с вами. Знаете, поведение Дон Жуана выходит за рамки... Уже все заметили его ухаживания за доньей Изабеллой. На этом балу он танцует только с нею. Я, конечно, ничего... пусть танцует. Но ведь есть же некоторые условности, которые нельзя нарушать: все-таки я её жених. Вы друг Дон Жуана, поэтому я и говорю вам всё это. Боюсь, если бы я обратился прямо к нему, мы могли бы погорячиться, чего доброго и до дуэли бы дошло. Я этого вовсе не хочу. Может быть, вы как посредник уладите это дело миром?
ДОН КАРЛОС. Миром, дорогой Родриго! Только миром. Мы же не хотим неприятностей.
ДОН РОДРИГО. Вот-вот!
ДОН КАРЛОС. Ну, а если вы не хотите неприятностей, то я советую вам не спешить породниться с Командором.
ДОН РОДРИГО. Но почему?
ДОН КАРЛОС. А потому. Есть сведения, что под Командора копает одна влиятельная особа. Возможно, готовится опала, а то и похуже. Связываясь с Командором, вы ставите под удар не только себя, но и герцога. Вы знаете, что на такой высоте удержаться вообще трудно, а тут враги не преминут воспользоваться удобным случаем и за спиной начнут строить козни. А герцог болен, ответить не сможет. Тут и вам не поздоровится. Пострадаете как член семьи, да ещё в родстве с врагом народа, то бишь короля.
ДОН РОДРИГО. Но Карлос! Вы же знаете, я ничего не понимаю в политике. Я человек искусства. Я пишу оду в честь короля.
ДОН КАРЛОС . Вот и занимайтесь своим искусством. Пишите, потейте. А впрочем, ведь вы уже жених.
ДОН РОДРИГО. Жених ещё не муж, и не впутывайте меня в это родство раньше времени!
ДОН КАРЛОС. Неужели вы будете способны отказаться от доньи Изабеллы? Да ведь и с Командором ещё ничего не решено. Так, предположения...
ДОН РОДРИГО . Но при чём тут Командор! Я думаю лишь о счастье будущей супруги. Будет ли она счастлива, если в результате всей этой истории её мужа подвергнут опале?
ДОН КАРЛОС. Но вы дали слово.
ДОН РОДРИГО. Слова — лишь внешняя оболочка. Условность, не более.
ДОН КАРЛОС. Но ведь вы так любите донью Изабеллу.
ДОН РОДРИГО. Важнее, любит ли она меня. Я не замечал в ней большой радости, когда мы заговаривали о будущей свадьбе. Я уверен: она любит другого.
ДОН КАРЛОС. Да ну! И кого же?
ДОН РОДРИГО . Дон Жуана. Теперь я думаю, что напрасно намеревался препятствовать их встречам. Ведь главное — любовь.
ДОН КАРЛОС. Но Командор даёт за Изабеллой огромное приданое.
ДОН РОДРИГО. Любовь и деньги — какое недостойное сочетание!
ДОН КАРЛОС. Нет, Родриго! Раньше надо было думать. Ведь вы же знали, что она вас не любит.
ДОН РОДРИГО. Да, но условия были другие.
ДОН КАРЛОС. А что люди скажут? Да и девушку вы скомпрометируете своим отказом. Командор вам этого не простит, и уже не Дон Жуана, а именно вас утащит в преисподнюю. Поздно, дорогой Родриго.
ДОН РОДРИГО. И уже ничего нельзя изменить? Помогите, Карлос! Ведь вы такой опытный во всех этих делах.
ДОН КАРЛОС. Изменить всегда всё можно. Всё и всем. Нужно просто придумать хороший повод для отказа.
ДОН РОДРИГО. Может, сказать, что я разлюбил?
ДОН КАРЛОС. Полноте, Родриго! Это не убедительно. Кто же в наше просвещённое время серьёзно верит в любовь? Вас просто засмеют.
ДОН РОДРИГО. Тогда скажу, что приданое не устраивает.
ДОН КАРЛОС. А все скажут: любовь и деньги — какое недостойное сочетание, да ещё для человека искусства. Впрочем, такое приданое способно удовлетворить даже человека искусства.
ДОН РОДРИГО. Но как же тогда быть?
ДОН КАРЛОС. Тут надо придумать какую-нибудь удобную для развязки условность. Так всегда делается в пьесах, когда требуется выйти из положения. Можно даже не придумывать, а просто вспомнить, как было у других авторов... и позаимствовать.
ДОН РОДРИГО. Но это же будет плагиат!
ДОН КАРЛОС. Ну, если вы такой щепетильный, оставим всё как есть. Пусть король рубит вам голову или тащит за собою статуя Командора. Это будет очень оригинально: такого ещё никогда прежде не бывало в пьесах о Дон Жуане. И совесть будет спокойна.
ДОН РОДРИГО. К чёрту совесть. Обворуйте хоть всю мировую драматургию, но помогите мне.
ДОН КАРЛОС. Дайте подумать... Вот если бы вы... принадлежали бы... к какому-нибудь семейству бы... которое враждовало бы... с семейством Командора бы... тут было бы за что уцепиться... Сослались бы на прецедент. Вспомните Ромео и Джульетту. Тоже два семейства враждовали, а потом все поубивали друг друга. А у нас не трагедия, а комедия, и подобный финал нам не подойдёт. Тут была бы уважительная причина: законы жанра нарушать нельзя.
ДОН РОДРИГО. Вы?
ДОН КАРЛОС. И думать нечего.
ДОН РОДРИГО. Но род герцога не враждует с Командором.
ДОН КАРЛОС. Но вы же только воспитанник герцога.
ДОН РОДРИГО. Да, в младенчестве меня похитили разбойники. Потом разбойников поймали, и по пелёнкам из дорогого полотна, в которые я был завёрнут, установили, что я из богатого и знатного рода.
ДОН КАРЛОС. Какая чепуха! Это вовсе не доказательство. Но ничего, нам как раз сгодится: ведь нам нужны знатные родители. С незнатными Командор и враждовать не захочет.
ДОН РОДРИГО. Но родителей отыскать не удалось. И тогда герцог, который был командиром того отряда, который поймал разбойников, взял меня на воспитание.
ДОН КАРЛОС. Превосходно! Теперь осталось подыскать вам родителей из рода, враждебного Командору.
ДОН РОДРИГО. Но мы можем их не найти, потом они могут и не враждовать с Командором.
ДОН КАРЛОС. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вы что думаете: вся эта дурацкая сцена вставлена в пьесу просто так? Поговорили, поговорили и разошлись? И всё кончилось ничем? Не стоило бы тогда огород городить. Законы драматургии тоже что-нибудь да значат. А здесь они посильнее королевской власти.
ДОН РОДРИГО. Вы так думаете?
ДОН КАРЛОС. И думать нечего. Давайте-ка лучше вспомним, кто враждует с Командором. По этой примете мы и найдём ваших родителей. Ищите! ищите!
ДОН РОДРИГО. Все эти сплетни об отношениях между семействами... это всё такие низкие материи... они меня никогда не занимали... Да! хотите, я расскажу вам, как поссорились...
ДОН КАРЛОС (в раздумье). …Иван Иваныч с Иваном Никифорычем? Нет, эту историю мы не сможем здесь использовать. Это уж совсем из другой оперы... Но постойте! Недавно в Мадрид притащилась герцогиня де Мендоза. Кажется, это то, что нам нужно. Правда, я мало её знаю, она редко здесь объявляется, постоянно живёт в провинции. От кого-то я слыхал, будто с нею приключилось нечто подобное: то ли у неё ребёнка украли, то ли она где-то что-то спёрла... Погодите! Стойте здесь. Я сейчас разыщу герцогиню и приволоку её сюда. И мы утрясём этот вопрос.
ДОН РОДРИГО. Что бы я делал без вас, Карлос!
ДОН КАРЛОС (в сторону). Даже представить себе трудно, до чего у нас все запуганы. Однажды у короля защекотало в носу и он случайно чихнул на Дона Мердарио. А все решили, что он это нарочно, и съели Дона живьём. А его лучший друг со страху повесился. Вот смеху-то было! На душах людей можно играть, как на флейтах. (Обернувшись к Дону Родриго) Дон Родриго, вы ничего не слышали!
ДОН РОДРИГО. Конечно, конечно! Я понимаю: это вы — в сторону.
ДОН КАРЛОС. Ну то-то же!
Дон Карлос уходит.
ДОН РОДРИГО. Попробуй не испугаться! Я сам тогда... Ах, да! Я же ничего не слышал. Молчу. Голова пойдёт кругом от всего этого... И главное, я так далёк от всей этой суеты. Я сочиняю кантату в честь короля, а меня втягивают в какие-то интриги. Хорошо, что есть такие люди, как Дон Карлос: всегда можно опереться в трудную минуту... Но что же его так долго нет?.. Пойти поискать что ... Один вид его успокаивает.
Дон Родриго уходит.
Входят Дон Жуан и Изабелла.
ДОН ЖУАН. Порою и самому смешно: чем больше я вас знаю, тем больше робею в вашем присутствии.
ИЗАБЕЛЛА. Вы хотите моего несчастья, моего позора. Вы думаете, я не знаю, кто такой — Дон Жуан? Теперь вы избрали меня своей жертвой. Если в вас есть хоть что-то от того чувства, о котором вы распеваете в своих серенадах, пожалейте меня. Вы знаете, как трудно противиться вам... Видите, я ничего не могу скрыть... Но пожалейте меня. Или вы уж и вправду безжалостное чудовище, как вас изображают во всей литературе?
ДОН ЖУАН. Я не стану оправдываться перед вами, Изабелла. Я виноват, так уж мне положено. Я сам жертва, жертва устойчивого мнения, пошлого шаблона. Но мне так хочется освободиться от этой зависимости. Я хочу сломать свою несвободу. Я ведь был так одинок. Глупая условность, навязавшая мне дурное поведение, сделала меня несвободным. Я молил Создателя даровать мне любовь. Я уже отчаивался, но судьба указала мне на вас. И я благословляю её за это. Если мне будет трудно, тягостно на душе и жизнь померкнет в глазах — любовь к вам всё же не даст угаснуть любви к жизни. Я счастлив, что на свете есть вы и что я люблю вас.
ИЗАБЕЛЛА. У меня есть жених, и уже назначена свадьба.
ДОН ЖУАН. Я хочу только одного: вашего счастья. Ведь любовь не ищет своего. Подлинно любящий не завидует никому, потому что он любит, а любовь есть блаженство. Я готов терпеть, я не ищу зла, я не раздражаюсь, видя чужую удачу. Я радуюсь правде и не хочу лжи. Я перенесу любые испытания. Я хочу только одного: вашего счастья.
ИЗАБЕЛЛА. Счастья нет, меня вынуждают. Нет, я умолю отца, ведь он не хочет же моего несчастья.
ДОН ЖУАН. Любовь даёт мне веру и надежду.
Дон Жуан и Изабелла уходят.
Возвращается Дон Родриго.
ДОН РОДРИГО. Где же этот Карлос? Нигде не нашёл. Не мог же он покинуть меня в трудную минуту.
Входят Дон Карлос и герцогиня де Мендоза.
ДОН КАРЛОС. Сколько лет должно быть вашему сыну, герцогиня?
ГЕРЦОГИНЯ. Двадцать два года. Его похитили, когда ему исполнилось всего шесть месяцев. (Плачет)
ДОН КАРЛОС. А сколько вам лет, Родриго?
ДОН РОДРИГО. Меня нашли двадцать один год и пять месяцев назад.
ДОН КАРЛОС. Пока всё сходится.
ГЕРЦОГИНЯ. Неужели это мой сын! (Устремляется с объятиями к Дону Родриго)
ДОН КАРЛОС (бесцеремонно отстраняя её). Да погодите вы, герцогиня! Успеете! Остались еще некоторые формальности. Дон Родриго! Обычно в таких ситуациях обнаруживаются случайно — совершенно случайно!— некоторые вещи, по которым родители и узнают своих детей. Такова главная условность, без неё нельзя. Медальон, например. Знаете, на шею ребёнку надевают. Или пелёнки. Вы вот о пелёнках что-то говорили. У вас их нет при себе?
ДОН РОДРИГО. Пелёнки... при себе?..
ДОН КАРЛОС (внушительно). Случайно!
ДОН РОДРИГО. Ах, случайно! Ну, конечно! Я всегда ношу их при себе случайно. На всякий случай.
ДОН КАРЛОС. Вот случай как раз и представился. Давайте их сюда.
ДОН РОДРИГО. Сейчас. Вот они.
ДОН КАРЛОС (брезгливо берёт пелёнки двумя пальцами). Ну, вот теперь всё как положено. Герцогиня! Вам осталось лишь опознать эти вещественные доказательства — и дело в шляпе.
ГЕРЦОГИНЯ. Да! Я узнаю их! (Выхватывает пелёнки). Это они! Это он! Сын мой!!! (Обнимает Дона Родриго)
ДОН КАРЛОС. Вот теперь можно. (Отходит в сторону) По правде говоря, эти драматурги используют подчас такие дешёвые приёмы, которые в другом месте ни за что бы не прошли. А тут не придерёшься: традиционная условность, хоть и шито всё белыми нитками. Впрочем, этот трюк вообще сворован у Бомарше. Но верно, тот тоже у кого-нибудь... позаимствовал.
ГЕРЦОГИНЯ. О дорогой мой сын! Как я счастлива! Жаль, что твой отец уже не сможет никогда обнять тебя. Он умер год назад. Почему ты не отыскался раньше!
ДОН КАРЛОС (назидательно). Потому что раньше этого не требовалось для развития действия.
ДОН РОДРИГО. О матушка! Значит, я теперь сам герцог? Герцог де Мендоза!
ГЕРЦОГИНЯ. Конечно! Ведь ты был единственным нашим сыном. Единственным наследником.
ДОН КАРЛОС (в сторону). Да ведь пелёнки-то к делу не подошьёшь. Ты попробуй документы нужные выправить. По инстанциям затаскают. Будем надеяться, что Командор не бюрократ и никаких справок не потребует, а то всё впустую.
ДОН РОДРИГО. Ах, Дон Карлос! И это всё вы! Что бы мы без вас!
ДОН КАРЛОС. Да, неплохо сработано. Но ведь ещё не всё кончено. Раз уж мы пустились во все тяжкие, надо довести дело до конца. Сейчас я позову Командора.
ГЕРЦОГИНЯ. Но Командор — наш смертельный враг!
ДОН КАРЛОС. Ваше счастье.
ДОН РОДРИГО. Смотрите, он как раз направляется сюда.
ДОН КАРЛОС. А что ему ещё остаётся? Раз уж в нём возникла необходимость, то самое умное с его стороны — это явиться самому. И так будет всегда.
Входит Командор.
Командор! У нас есть одно для вас важное известие.
КОМАНДОР. Готов выслушать вас.
ДОН РОДРИГО. Любезный Командор! У меня радостное событие: я нашёл свою мать... вернее, она меня... вернее, Дон Карлос... Ну, в общем, оказалось... теперь оказалось, что я принадлежу к роду Мендоза и поэтому... вот и Дон Карлос говорит... теперь я не могу быть вашим женихом... то есть вашей дочери... вы понимаете... вы уж извините… законы жанра... Дон Карлос... я так сожалею, что моя мать нашлась... то есть я рад, что не могу жениться... то есть...
КОМАНДОР. Как! Значит, мы теперь смертельные враги?
ДОН РОДРИГО. Ну... законы жанра... (Что-то мямлит).
КОМАНДОР. Какая радость! Дорогой Родриго! Позвольте мне обнять вас! Надеюсь, мы и впредь останемся добрыми друзьями.
ДОН РОДРИГО. Но мы же враги...
КОМАНДОР. Разумеется. И до самой смерти. Изабеллы вам теперь, конечно, не видать. Но неужели из-за такой ерунды мы станем портить наши отношения? Это же условность.
ДОН РОДРИГО. Ну, раз условность, то конечно...
ДОН КАРЛОС. Сплошная комедия условностей!
ГЕРЦОГИНЯ. Простите, Дон Карлос, но нам нужно идти. Вы воскресили меня к новой жизни.
ДОН РОДРИГО. Дон Карлос! Я ваш слуга навеки! Прощайте, Командор!
Герцогиня и Дон Родриго уходят.
ДОН КАРЛОС. Счастливо! ...Что ж, Командор, видите, как всё прекрасно обернулось.
КОМАНДОР. Дон Карлос! Что бы мы без вас! Но надо пойти обрадовать Дон Жуана и Изабеллу. Да и домой пора, гости уже начинают разъезжаться. Завтра же объявим о новой помолвке.
Командор уходит.
ДОН КАРЛОС. Радуйся, радуйся, старый хрен. Дон Жуан не такой дурак, чтобы надевать хомут... Однако и пришлось же мне сегодня потрудиться. Даже голова кругом. Но главное, все счастливы. Матери я вернул сына. Сыну подарил герцогский титул. Дон Жуану я устранил соперника. Изабелла вместо зануды-мужа получит весёлого любовника. Командор сможет спать спокойно... И только я один не получил ровным счётом ничего... Зато ничего и не потеряю — что может быть лучше?
Входит Пожилой придворный.
Кого я вижу!
ПРИДВОРНЫЙ. Слышали важную новость?
ДОН КАРЛОС. Жажду услышать её от вас. Интересная новость порою приятна, как чашечка кофе поутру, а от важной новости подчас ударяет в голову, как от стакана хорошего вина. Я весь внимание.
ПРИДВОРНЫМ. Король решил жениться и этот бал устраивал с тайной целью сделать окончательный выбор.
ДОН КАРЛОС. И кого же он решил осчастливить?
ПРИДВОРНЫЙ. Дочь Командора, донью Изабеллу. Кстати, намекните Дон Жуану, что его ухаживания за избранницей короля не очень приличны. А теперь позвольте откланяться. Дела.
Придворный уходит.
ДОН КАРЛОС. Проклятье! И этот мерзавец автор не мог заранее всё предвидеть! Заставил меня стараться, из кожи лезть! Нет, он, скотина, конечно, всё знал заранее и нарочно решил надо мной посмеяться. Все труды псу под хвост! Проклятье! ... А впрочем, чего мне-то убиваться? Я хотел развлечься и своё получил. Теперь моё дело сторона. Подумаем лучше о своих делах. Вот кстати — здесь всё всегда кстати — идёт Эльвира. Наверстаем упущенное. И уж тут-то автор мне должен помочь, чтобы загладить свою вину.
Входит Эльвира.
Очаровательная донья Эльвира! Несказанно счастлив вновь видеть перед собою вашу несравненную красоту.
ЭЛЬВИРА . Вечно вы, Дон Карлос, со своими банальными комплиментами.
ДОН КАРЛОС. Можете считать их банальными, но тогда главная банальность — ваша красота. Вы с каждым днём становитесь всё прекраснее, и это уже избитая истина и явление совершенно неоригинальное. Вы так прекрасны, что в вашем присутствии хочется говорить стихами. Только стихами. Как жаль, что эта пьеса написана прозой.
ЭЛЬВИРА. А вы сделайте исключение.
ДОН КАРЛОС. Охотно бы! Но сие от меня не зависит: наш автор не умеет сочинять стихи. Такая досада! Но если бы он увидел вас, он непременно сочинил бы для меня какой-нибудь романс или серенаду. Вы не можете не пробудить поэта даже в самом прозаическом человеке. Но вас он только воображает, а никакое воображение не может дать полного представления о том, как вы прекрасны. И я даже рад, что он вас не видит: он сам влюбился бы в вас, а меня бы тут же убил: натравил бы на меня какую-нибудь статую. В своей пьесе он может делать всё что угодно, а мы в его власти. Нет, пусть он лучше вас не видит, а я уж как-нибудь обойдусь прозой.
ЭЛЬВИРА. Вот Дон Жуан никогда не прячется за автора.
ДОН КАРЛОС. Не заставляйте меня ревновать. Не упоминайте при мне Жуана. При чём здесь вообще Дон Жуан? Это вы вдохновили его на создание сонетов, которые принесли ему некоторую, весьма сомнительную известность. Без вас он был бы ничто.
ЭЛЬВИРА. Это всё сплетни.
ДОН КАРЛОС. Не важно. Любой факт, о котором начинают говорить, обрастает плотью и становится реальностью. Пройдёт время, и никто уже не будет в состоянии узнать, как оно было на самом деле. Это всё условности. Реальность есть вообще комедия условностей. Поэтому в историю вы войдёте как подлинная муза Дон Жуана.
ЭЛЬВИРА. Предшественница Изабеллы? Он преуспел в своих ухаживаниях?
ДОН КАРЛОС. Тут всё вышло несколько иначе. Я только что узнал от верного человека, что на неё обратил внимание сам король. Дон Жуан в этот сюжет никак не вписывается.
ЭЛЬВИРА. Король выбрал Изабеллу?
ДОН КАРЛОС. Вы огорчены? Ревнуете? Завидуете?
ЭЛЬВИРА. Сказать по правде, Дон Карлос: какая же девушка не мечтает стать королевой?
ДОН КАРЛОС. Эльвира, вы прекраснее любой королевы. Да Изабеллы всего мира вам в подмётки не годятся. Дон Жуан изменил вам только по природной изменчивости характера, а король не заметил... от большого ума. Я несказанно рад тому. А то чего доброго, ждала бы меня участь Дон Жуана.
ЭЛЬВИРА. А какая участь ждёт меня?
ДОН КАРЛОС. Зачем думать, что станет с нами потом? Не будем занудами. Знаете, вообще несчастье большинства людей в том, что они слишком много думают. Чересчур умны! А уж женщине это совсем не к лицу. Слишком умная женщина — непременно дура. Вспомните старую басню про сороконожку, у которой спросили, как она не перепутает ноги и узнаёт, в какой момент и какой именно ногой нужно сделать шаг. Она задумалась и не смогла стронуться с места... Не думайте о завтрашнем дне, живите настоящим. И не спрашивайте меня ни о чём. Люди придумали разного рода дурацкие условности и с умным видом притворяются, будто это важно — выполнять их. Верность в любви, клятвы, уверения — тоже не более чем условность. Таков ритуал. Давайте хоть на время забудем обо всём, станем свободны и перестанем ломать эту комедию условностей. Будем просто любить. А впрочем, и сама любовь — тоже условность. Одни говорят, что она есть, другие — что нет. Это с какой стороны взглянуть. Сегодня я люблю вас — значит, любовь есть.
ЭЛЬВИРА. А завтра?
ДОН КАРЛОС. А завтра видно будет. Видите, я ничего не скрываю. Это лишнее доказательство моей любви.
ЭЛЬВИРА. Перед таким натиском трудно устоять. Но я капризна, мне трудно уступать, я всегда хочу взять верх.
ДОН КАРЛОС. Удивительная Эльвира! Чтобы проявить свою силу, женщине нужно прежде всего показать свою слабость. Чтобы подчинить себе мужчину, нужно уметь ему подчиняться.
ЭЛЬВИРА. И в этом весь секрет?
ДОН КАРЛОС. Да разве это секрет? Я думаю, это у вас в крови. В этом суть женственности. Я только напомнил вам, чтобы вы не отступали от своей природы. Мужчину можно держать в жестоком рабстве, но необходимо создавать иллюзию, будто он совершенно свободен. Глупая условность, но без неё не обойтись.
ЭЛЬВИРА. Как вы, мужчины, любите свободу. Трудно сказать, что больше: её или нас, женщин.
ДОН КАРЛОС. Одного рыцаря спросили: что он больше любит: вино или водку. Он ответил: и пиво. Мы любим и свободу, и женщин, и жизнь вообще. И чем меньше мы нагромождаем вокруг всяких условностей, чем откровеннее стремимся к наслаждению, тем, значит, мы мудрее. Восхитительная Эльвира! Что может быть прекраснее любви! Что может быть прекраснее этой ренессансной радости бытия! Я ваш раб навеки! Стихов, правда не могу сочинять. Зато могу рассказать новый анекдот. (Идёт к выходу, увлекая её за собой.) Встречаются два приятеля. Один говорит: ты знаешь, наша соседка родила двойню. А другой отвечает: да, я своего уже забрал... Что, не новый? Ну знаете! Для средневековой Испании он ещё довольно свежий анекдот.
Сцена третья
Сад перед домом Командора.
Командор, Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Говорят, король был пленён красотою доньи Изабеллы.
КОМАНДОР. Вы думаете, это окончательное его решение?
ДОН КАРЛОС. Об этом пусть думает сам король. У меня хватает своих забот.
КОМАНДОР. Ну и попали мы в переплёт! Что же теперь делать?
ДОН КАРЛОС. Прежде всего, вы должны отказать Дон Жуану. Он мне друг, и я не могу оставаться равнодушным к его судьбе. Даже если король и не думает об Изабелле серьёзно, Дон Жуан для него всё равно соперник. А соперников король, как известно, не жалует. Но сам Дон Жуан малость упрям. Я боюсь, что образумится, когда будет уже поздно. Так что отказать ему должны будете вы, не дожидаясь, пока он сам до этого додумается. А кроме того, отказ жениха всегда компрометирует невесту, какими бы обстоятельствами он ни был вызван. Так что действуйте, и чем скорее, тем лучше.
КОМАНДОР. Да я же сам назвал его вчера женихом своей дочери.
ДОН КАРЛОС. Жених ещё не муж. И не впутывайтесь в это родство раньше времени.
КОМАНДОР. Но как отказать Дон Жуану? Ведь и с королём ещё ничего не решено. Так, предположения...
ДОН КАРЛОС. При чём здесь вообще король! Отец должен думать прежде всего о счастье дочери. Будет ли она счастлива, если в результате всей этой истории подвергнут опале близких ей людей?
КОМАНДОР. Но я дал слово.
ДОН КАРЛОС. Слова — лишь внешняя оболочка. Условность, не более.
КОМАНДОР. Право, мне жалко Жуана. Он так любит Изабеллу.
ДОН КАРЛОС. Важнее, так ли уж любит она его. Не знаю, будет ли она рада Дон Жуану, когда узнает о решении короля. Какая же девушка не мечтает стать королевой?
КОМАНДОР. Да, теперь я и сам думаю, что напрасно поторопился с этой помолвкой. И вообще напрасно допускал их встречи. Любовь не самое главное.
ДОН КАРЛОС. Самое главное — помешать ему встретиться с Изабеллой.
КОМАНДОР. Прежде вы помогали ему в этом.
ДОН КАРЛОС. Прежде я думал так, но условия переменились, и я думаю этак. Теперь для него эта любовь помеха всеобщему благополучию.
КОМАНДОР. Вы правы.
ДОН КАРЛОС. Я пойду разузнаю всё точнее и поговорю с Жуаном. А вы приготовьте Изабеллу. Она ведь ничего не знает?
КОМАНДОР. Пока нет. Но сейчас я её обрадую.
Дон Карлос уходит.
Появляется Изабелла.
Дочь моя! Нас постигла великая радость. Ходят слухи, что король пожелал видеть тебя своей женой.
ИЗАБЕЛЛА. Нет, это невозможно.
КОМАНДОР. Возможно, всё возможно. Возможно, за нами подглядывают. Ну, убери эти слёзы. А впрочем, издалека их могут принять за слёзы радости.
ИЗАБЕЛЛА. Нет, я скажу королю, что я люблю другого.
КОМАНДОР. Если ты начнёшь делать подобные глупости, всё кончится худо и для тебя, и для меня, и для твоего Жуана. Объясни ему, что ты счастлива от предложения короля, а его разлюбила. Ну пойми ты сама: какая же девушка не мечтает стать королевой? Даже если ты скажешь, что это не так, я всё равно тебе не поверю. Дон Жуан, может быть, и привлекательнее, но я, право, не понимаю, как можно чувствовать симпатию к такому бабнику и развратнику. Он и жениться-то не собирался, скорее всего. Ты молода, наивна и жизни не знаешь, а мне-то известно, чего нужно молодым людям, сам такой был.
ИЗАБЕЛЛА. Но разве...
КОМАНДОР. Никаких но! Пойдём всё обсудим. И главное: радуйся сватовству короля!
Изабелла уходит.
Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом! (Спохватывается) Ах, это же из другой пьесы! Ну да всё равно, зато верно. Свихнёшься тут с этими заботами.
Командор уходит.
Входят Дон Карлос и Дон Жуан.
ДОН КАРЛОС. ...и кроме того, король собирается пожаловать тебе обсыпанную бриллиантами табакерку со своим портретом.
ДОН ЖУАН. Бриллианты он имеет обыкновение выковыривать перед тем, как сделать подношение. Это все знают.
ДОН КАРЛОС. Ты приверед. Дарёному коню в зубы не смотрят.
ДОН ЖУАН. Дарёному-то коню и надо смотреть особенно пристально: ведь дарящий хочет получить от нас нечто более ценное, чем деньги: нашу благодарность.
ДОН КАРЛОС. Из благодарности шубы не сошьёшь.
ДОН ЖУАН. Всегда у тебя наготове какая-нибудь пошлая мудрость. Однако в обмен на мою благодарность он хочет отнять у меня Изабеллу.
ДОН КАРЛОС. Он отнимет её у тебя и не дожидаясь твоей благодарности. А тебя посадит за решётку, если не перестанешь артачиться.
ДОН ЖУАН. Нет, даже король не посмеет нарушить справедливость.
ДОН КАРЛОС. Какую ещё справедливость? Придумал тоже. Это вещь весьма условная, как и всё тут вообще. Для тебя справедливо, чтобы Изабелла досталась тебе, а для короля — чтобы она тебе не досталась.
ДОН ЖУАН. Но справедливо было бы узнать и её желание.
ДОН КАРЛОС. А уж тут твоя карта бита. Рассуди сам: какая же девушка не мечтает стать королевой? Или ты считаешь, что ей лучше таскаться по свету с таким странствующим рыцарем, как ты? Можешь ревновать или завидовать королю, но его преимущества безусловны.
ДОН ЖУАН. Это я должен услышать от неё самой. Пусть будет так, как она хочет. Мне нужно одно: чтобы она была счастлива. Горько, конечно, если она выберет не меня, но жалеть мне не о чем, моё останется со мною: кто же сможет отнять у меня это счастье — любить? Любовь — всегда счастье, счастье, что есть на свете другой человек, и благодарность ему за это. Любовь не может требовать никаких жертв, она способна лишь жертвовать сама.
ДОН КАРЛОС. Вот и прекрасно. Я согласен с тобою, Жуан, что жалеть тут не о чем: ведь кому повезёт — это ещё бабушка надвое сказала. Помнишь ту известную историю, как два достойных идальго соревновались во внимании некой прекрасной дамы? Один остался с носом, зато другой — без носа: сгнил от дурной болезни, которую наградила его та дама... Однако вот и Изабелла. Не буду мешать.
Дон Карлос удаляется.
Входят Изабелла и Дуэнья.
ИЗАБЕЛЛА. Я должна вам сказать, Дон Жуан, что нам уже нельзя больше встречаться.
ДОН ЖУАН. Король? Это правда?
ИЗАБЕЛЛА. Какая же девушка не мечтает стать королевой?
ДОН ЖУАН. И вы будете счастливы?
ИЗАБЕЛЛА. Да, конечно.
ДОН ЖУАН. Что ж, тогда простимся... И всё же я люблю вас. Я готов благословлять тот день, когда увидел вас впервые.
ДУЭНЬЯ. Простите, сеньор, мы не можем долее задерживаться.
Дуэнья уводит Изабеллу.
Появляется Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Вот видишь, с какой вертихвосткой ты связался. Чуть поманил другой — и она уже бежит прочь. А всё потому, что он король. Карьеристка! Разве теперь ты не станешь презирать её?
ДОН ЖУАН. Презирать? Да за что? Какая же девушка не мечтает стать королевой? Мог ли я дать ей это? Чего же мне требовать? Пусть будет так, как она хочет. Видеть счастье любимого человека — что ещё нужно тому кто любит?
ДОН КАРЛОС. Некоторым нужно кое-что ещё. Однако я рад, что ты уже утешился. Идём же на поиски новой любви, новых приключений! Чтобы любви было много, её нужно всё время делать.
ДОН ЖУАН. Это будет уже не любовь, а измена любви.
ДОН КАРЛОС. Во-первых, само понятие измены — глупая условность. Во-вторых, ведь мы станем изменять первыми, а это существенно меняет дело. В-третьих же, мне кажется, ты начал заговариваться. Ты не свихнулся?
Дон Карлос уводит Дон Жуана.
Вбегает Изабелла, за нею Командор.
ИЗАБЕЛЛА. Зачем вы хотите моего несчастья? Я не хочу быть королевой! Я хочу любить, а не притворяться.
КОМАНДОР. Нет никакой любви, и нечего дурью мучиться. Я запрещаю тебе говорить об этом.
Командор уводит Изабеллу.
Вбегает Дон Жуан, за ним Дон Карлос.
ДОН ЖУАН. Так меня подло обманули? Её заставляют...
ДОН КАРЛОС. Постой, постой! Не горячись. Может, и обманули, не знаю. Но ведь всё равно ничего не изменишь. Её выбрал сам король. Мы ничтожны перед ним. Если бы это был простой дворянин, я бы сам помог тебе проткнуть его шпагой или обмануть, как Дона Родриго. И мы были бы правы. Но тут... Тут правда не на нашей стороне. Тут сам король!
ДОН ЖУАН. Да сдался тебе этот король. Ведь её же делают несчастной.
ДОН КАРЛОС. Ну и что! Ты-то ведь в этом не виноват.
ДОН ЖУАН. Если я никак не помогу ей, не смогу или не захочу, значит, и я виноват во всём.
ДОН КАРЛОС. Это уж сущая чепуха. Так можно обвинить себя невесть в чём. Мало ли вокруг несчастных. От злобы людской, от болезней, от королевского произвола... да мало ли ещё от чего. И во всех несчастьях винить себя только потому, что ничем не можешь помочь?
ДОН ЖУАН. Но есть же в нас чувство сострадания. И разве мы так уж ни в чём не виноваты?
ДОН КАРЛОС. Всё должно быть в разумных пределах. В разумных! Конечно, если ты причинил кому-то неприятность, ты должен слегка упрекнуть себя и даже немного пожалеть этого человека, что вполне понятно. Но когда ты ни в чём не виноват, нечего страдать и сострадать понапрасну. Нечего дурью маяться. Так и с Изабеллой. Жаль, конечно, что она досталась не тебе, но ведь не ты виноват в том, а король. Вот пусть его и мучит совесть. А мы свободны и счастливы. Разумеется, сожаление некоторое время ещё будет посещать тебя, но совесть пусть будет спокойна, ты ни в чём не виноват.
ДОН ЖУАН. Нет, каждому сытому должно быть стыдно, если рядом голодный, даже если ты не украл чужого куска. Моя совесть не может быть спокойна. Как можно безучастно смотреть на чужие страдания?
ДОН КАРЛОС. Страдания эти весьма условны. Да и что можешь ты сделать? Поднять бунт против короля? Тебя схватят, заточат в темницу, а потом казнят. В конце концов, всё будет ещё печальнее. Изабелла начнёт страдать из-за тебя, упрекать себя, что она во всём виновата. Ты сделаешь несчастными всех своих родственников, потому что из-за твоей глупости и они безвинно пострадают. Твои друзья, и я в том числе, лишатся прекрасного товарища. Девушки Испании потеряют достойного рыцаря, который мог бы стать их мужем или любовником. Вот видишь, сколько несчастий может произойти. Да твоя совесть должна просто ликовать, что ты не принесёшь миру стольких бед.
ДОН ЖУАН. По-моему, ты сам знаешь, что твои слова лукавы.
ДОН КАРЛОС. Я много чего знаю. Но наши знания вообще относительны, а абсолютная правда абсолютно непостижима. Даже дважды два и то, говорят, уже не четыре. Приходится поневоле согласиться, что всё условно. И ты бессилен что-либо изменить... Кроме того, Командор может выделить тебе часть приданого в качестве компенсации. Это утешит тебя?
ДОН ЖУАН. Остроумно. Делать любовь с деньгами? Чтобы они размножались.
ДОН КАРЛОС. Конечно, не в деньгах счастье, но ведь и счастью они никогда ещё не мешали. Впрочем, как хочешь, можно и отказаться. Жизнь прекрасна и без денег. Дураки, кто этого не понимает. Жизнь прекрасна! Посмотри, сколько привлекательных девушек вокруг, они ведь тоже имеют право на твою любовь. Справедливо ли лишать их этого? Делать их несчастными? Подумай и об их счастье. Ведь ты хочешь сделать всех счастливыми. Зачем же ограничивать себя. Это называется: ренессансная радость бытия. Тем самым ты будешь способствовать историческому прогрессу. Долой мрачное средневековье! Видишь, какая великая роль на тебя возложена.
ДОН ЖУАН. А я не кобель, который лезет на любую сучку во всякой подворотне.
ДОН КАРЛОС. Стоп, стоп! Испанские гранды так не выражались.
ДОН ЖУАН. А кто их знает, как они там выражались. Всё равно ведь всё условно. До тонкостей ли теперь... Я пойду... Надо собраться с мыслями.
ДОН КАРЛОС. Только без глупостей.
Дон Жуан уходит.
И из-за чего расшумелся! Как это любят некоторые навертеть вокруг всякой ерунды столько красивых слов. А всё из-за чего? Как сказал мне один знакомый иезуит: не об удовольствии помышляя, а токмо рода человеческого продолжения для. Хорошо сказано.
Входит Командор.
Ну и заварили вы тут кашу! Зачем надо было выпускать её? Теперь Дон Жуан знает всё.
КОМАНДОР. Он слышал?
ДОН КАРЛОС. Ещё бы! Она кричала так, что, наверно, в фойе было слышно, а мы стояли тут рядом, за кулисами. Потом-то он, я думаю, успокоится, но вообще характер у Жуана горячий. Не натворил бы глупостей.
КОМАНДОР. Что же делать?
ДОН КАРЛОС. Пойду догоню его, прослежу. Как бы и впрямь чего не вышло.
КОМАНДОР. Уж постарайтесь.
Дон Карлос уходит.
Эх, молодость да глупость. Как влюбишься, бывало, так всё и кажется, что в богиню. А она самая обычная баба. И сколько мир стоит, ничего не меняется.
Появляется Дон Жуан.
ДОН ЖУАН. Вы здесь? А я к вам.
КОМАНДОР. Знаю, знаю. И догадываюсь, что ты хочешь мне сказать. Но чем я могу помочь? Пойми, Жуан, я в положении не менее, а даже в более тяжком. Ты теряешь только Изабеллу, а я же могу потерять всё. Я рискую в обоих случаях: и если я отклоню сватовство короля, и если я приму его.
ДОН ЖУАН. Не понимаю.
КОМАНДОР. Да чего тут понимать! Говорю с тобой откровенно. Ты знаешь, конечно, что наш король самый умный, великий и справедливый. И все, кто рядом с ним, тоже умные и справедливые. Ну, не такие, как он, разумеется, но всё-таки. Однако! Ведь это же условно. Свергнет кто-нибудь завтра короля — и все узнают, какой он был мерзавец.
ДОН ЖУАН. Это и сегодня все знают.
КОМАНДОР. Сегодня нам этого знать ещё не положено. Сегодня он велик. И вот меня он хочет возвысить, приблизив к себе. И я тоже стану умным и справедливым. Но если с ним что-нибудь случится, то ведь и мне не поздоровится. Я тоже стану негодяем, хотя бы и условно. Кто я был до сих пор? Простой и честный командор. Я пережил трёх королей и с десяток первых министров. Я надеялся, что так будет и дальше. И вот теперь король хочет вознести меня на высоту, а падать с неё будет так больно. Теперь посуди сам, в каком я положении: не соглашусь с королём — худо будет, соглашусь — сиди потом и дрожи. А я хочу только одного: спать спокойно. Это моя маленькая слабость. Я не хочу быть умным и справедливым. С дураков спрос меньше. Так чьё же положение плачевнее? Ты что-то там болтал про любовь, так поверь мне, старику, вздор всё это, всё весьма условно: сегодня любишь одну, завтра другую...
ДОН ЖУАН. Но если всё равно всё так плохо, не лучше ли отказать королю?
КОМАНДОР. Э, нет! Тут уж наверняка каюк. А там мы ещё поборемся. Я же не стану сидеть сложа руки. Справедливость потребует от меня уничтожать злодеев. Враги короля станут уже безусловно и моими врагами. А как хорошо было прежде! Мне не нужны лишние враги. Что мне до этих достойных людей? А теперь придётся рубить им головы.
ДОН ЖУАН. Условно?
КОМАНДОР. Где-то условно, а где-то и нет. Голову снять и взаправду могут. А ведь мне немного надо: только спать спокойно... Ох, не могу я спорить с королём! Не суди меня строго.
Командор уходит.
ДОН ЖУАН. Что ж! Спи спокойно, наш дорогой друг. И пусть не потревожат тебя отныне земные горести и радости наши. Спи спокойно.
Появляется прохожий.
ПРОХОЖИЙ. О ком это вы тут? Кто-нибудь умер?
ДОН ЖУАН. Условно.
ПРОХОЖИЙ. Разумеется, условно. Артисты, вон они, все за кулисами — живы и здоровы. Я пьесу имею в виду. О ком вы тут говорили? Кто будет спать спокойно?
ДОН ЖУАН. Командор.
ПРОХОЖИЙ. Вы уверены в этом?
ДОН ЖУАН. Безусловно.
Дон Жуан уходит.
Сцена постепенно наполняется людьми.
РАЗГОВОРЫ В ТОЛПЕ:
— Слышали новость? Командор, говорят, умер.
— Кто бы мог подумать! Я только недавно его видел. Он был свеж и полон сил.
— И вот представьте.
— Тут что-то не так.
— Да ведь полон сил был.
— А кто это сказал?
— Дон Жуан.
— Командора кто-то убил.
— Что? Дон Жуан? Убил?
— Дон Жуан убил Командора?
— Дон Жуан убил Командора!
— Это он мстил ему за дочь.
— Да я сам был свидетель: шпагой в самое сердце.
— Дон Жуан убил Командора!
Входит Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Дон Жуан убил Командора? Быть не может! ...А впрочем, всё может быть.
В ТОЛПЕ:
— Всё может быть?
— Всё может быть!
— Всё может быть...
— Дон Жуан убил Командора!
— Надо сообщить куда следует...
Сцена четвёртая
Городская площадь.
Толпа. Выходит глашатай.
ГЛАШАТАЙ. Слушайте королевский указ! Королевский указ! (Читает) Именем короля! Первое. Безбожный Дон Жуан, гнусный убийца Командора, приговаривается к изгнанию за пределы Испанского королевства. Второе. Учитывая выдающиеся заслуги Командора, повелеваем соорудить его каменную статую и установить её на родине потерпевшего. Третье. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Четвёртое. Всё!
Глашатай удаляется.
РАЗГОВОРЫ В ТОЛПЕ:
— А почему его не казнили?
— Побоялись общественного мнения.
— Но ведь его можно было организовать.
— Вы читали стихи, которые он написал против короля?
— Стану я читать всякие безобразия!
— И так ясно, что клевета, без всякого чтения.
— Я бы прочитал, но где достать?
— Его высылают? Так ему и надо, нечего соблазнять наших жён!
— Самому-то не очень понравилось, когда король отобрал у него невесту.
— Пусть узнает, каково там.
— Говорят, он поехал во Францию. Их Людовик Четырнадцатый Каторз Первый насчёт женского пола тоже не промах.
— А то всё на нашего наговаривал. Там ему тоже спуску не дадут.
— (В сторону) Наш-то, положим, хорош, да ведь всё-таки он наш!
— Этот Дон Жуан, говорят, теперь зол на весь свет.
— Нечего на других злиться, если сам виноват.
— А почему я должен сочувствовать его личной обиде?
— С ним поступили не совсем справедливо, но это же не типично.
— А сколько сделал для нас его величество!
— Не сделал, а сделало, потому что величество — оно.
— К тому же, говорят, там была какая-то тёмная история.
— Он был просто развратник.
— Конечно, а когда ему помешали развратничать, он сделал вид, будто пострадал за справедливость.
— А в сущности, ему это всё просто на пользу. Прекрасная реклама! Да все девицы теперь сойдут с ума и начнут бросаться ему на шею.
— Если бы только на шею...
— Каков хитрец! Для своих развратных целей убил человека!
— Уметь надо.
Толпа расходится, площадь пустеет.
Выходят Дон Жуан, Сганарель, Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Ну, и чего ты добился? Говорил ведь тебе: без глупостей!
ДОН ЖУАН. Но я, право, совсем не виноват. Сначала это была маленькая сплетня, потом её подхватили, она обросла подробностями, и в конце концов, в неё все поверили. И вот теперь она превратилась в реальность. Я сам узнал обо всём в последнюю очередь.
СГАНАРЕЛЬ. Бывает.
ДОН КАРЛОС. Тем не менее, преступник — ты! Хоронись теперь от всякого шороха, прячься, как мышь в щели, чтобы не заметили. Теперь и надеяться не на что. А виноват во всём именно ты: не надо было давать повода к сплетням.
СГАНАРЕЛЬ. Над семейством Командора милостиво учреждена королевская опека, и теперь король непосредственно распоряжается судьбой доньи Изабеллы. И руки её он будет просить у самого себя.
ДОН КАРЛОС. Думаю, он навряд услышит отказ при данных обстоятельствах.
ДОН ЖУАН. И мы уже не властны над своей судьбой...
ДОН КАРЛОС. Не властны! А когда вообще мы были властны? Неужели ты до сих пор не догадался, что мы играем роли в уже написанной пьесе, переделать которую нам не дано? И на площади скоро поставят статую Командора.
СГАНАРЕЛЬ. Всякую пьесу можно переписать.
ДОН КАРЛОС. Наш автор очень ленив и переделывать ничего не любит.
ДОН ЖУАН. Почему он так жесток ко мне?
ДОН КАРЛОС. А что автор? Он не всевластен. Он тоже связан всякими условностями и традициями. К тому же мудрец сказал, что вся наша жизнь — театр, где каждый играет заранее уготованную ему роль. Так что успокойся: не мы одни в этом дурацком положении. И мы хоть знаем, а ведь другие порой даже не догадываются. Поразмысли здраво: человек вообще не властен в своих действиях. Прошлое для нас неизменно и недоступно, будущее неуловимо и таинственно, а настоящего отпущен только миг. Много ли мы сможем в это короткое мгновение? Да в довершение ко всему это настоящее постоянно превращается в застывшее навеки прошлое. Вот и покрутись тут. Это не я придумал, это старая как мир истина. И ничего ты с этим не поделаешь.
ДОН ЖУАН. Тяжко. Но я не могу оставаться спокойным, когда вижу, что творится.
ДОН КАРЛОС. Хорошо. Тогда скажи, чего ты хочешь.
ДОН ЖУАН. Для начала — справедливости. Хотя бы чуть-чуть.
ДОН КАРЛОС. Что ты заладил одно и то же! Твердит как попугай: справедливости, справедливости... Все хотят справедливости. Я тоже хочу справедливости. И король хочет справедливости. И несчастный Командор тоже жаждал её. Попробуй найти хоть одного человека, который не хотел бы справедливости. Но ты мне лучше скажи, что делать. Вот весь мир, который взыскует справедливости, пришёл к тебе и вопрошает: Дон Жуан, скажи, что нам делать?
ДОН ЖУАН. Не знаю. Может сесть для начала и подумать обо всём хорошенько. Просто подумать. Вот зло. Откуда оно? Когда я не пытаюсь себя обмануть, я ощущаю: оно во мне, в тёмных глубинах души. Но как оно там обрелось? Где мы ошиблись, допустив его в себя? И если оно во мне, то в себе его надо и одолевать. Не размахивать дубиной и не бросаться с копьём на злодеев-великанов: рискуешь сразиться с ветряными мельницами. Знаешь, что я понял, когда поговорил с Дон Кихотом? Что его путь ведёт в тупик. Что это путь самого примитивного тщеславия человека, возомнившего, будто в его силах переделать мир, когда в самом человеке ничего не меняется. Подлинная любовь не превозносится, не знает тщеславия... Надо просто сесть и подумать...
ДОН КАРЛОС. Программа богатая! Но я всё же о деле спрашиваю. Ты учти: в любом драматическом произведении должно развиваться сценическое действие. Действие! Понимаешь? Делать, делать-то что? Мы тут всё толчёмся на месте и в этой дрянной пьеске не можем организовать даже самого паршивенького сюжета. Так не годится. Думать в другом месте будешь. А то все зрители разбегутся. Укажи лучше какое-нибудь дело. Пусть даже рискованное: кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Но чтоб и цель была ясна, и определённые выгоды. Реальное дело с ясной и привлекательной целью. А почему оно справедливо — это мы в крайнем случае и потом придумать сможем.
СГАНАРЕЛЬ. Ум человеческий всегда сумеет извернуться в свою пользу.
ДОН ЖУАН. Но никакого дела я не знаю. Может быть, просто отказаться от условностей, которыми мы заморочили себе голову.
ДОН КАРЛОС. Тебе что, больше всех надо?
ДОН ЖУАН. Мне надо того же, чего и всем: ясности. Если я знаю, что наш король мерзавец и дурак, то почему меня хотят заставить поверить, что условно он всё же самый умный и справедливый?
ДОН КАРЛОС. Да кто же тебя заставляет верить в это? Можешь думать всё что угодно. Только молчи.
ДОН ЖУАН. Или молчать, или лицемерить.
ДОН КАРЛОС. Нет, просто признать, что всё условно. Или ты желаешь чистеньким остаться? Не получится. Уж если ты так любишь думать, я дам тебе тему для размышления. Допустим, ты отменишь условности. Но ведь и справедливость, как я тебе уже сто раз твердил, понятие тоже условное. Ты, значит, хочешь и справедливость отменить тоже? Справедливо ли это? Да что справедливость! Пустяк. Ведь рухнут все устои, на которых пусть кое-как, но держится наша комедия, комедия условностей. Да, мы иногда лицемерим. Но это помогает каждому прикрыть и собственные грехи— а у кого их нет? Чем же мы их станем прикрывать? Вот ты недоволен королём. Положим, король — дрянь. Но как бы там ни было, а он печётся о нашем счастье, за это мы должны прощать ему его маленькие слабости. Сейчас люди хоть во что-то верят, хотя бы в неизменность условностей, а ты хочешь всё разрушить, ничего, как мы выяснили, не давая взамен. Слова останутся словами, а человеку нужно есть, пить, ходить на рыцарские турниры, вопить от восторга во время боя быков, спать с бабами — и знать, главное: знать, что этот мир устойчив, ибо держится на условностях, и поэтому и дети его, и дети его детей смогут быть счастливыми, то есть делать то же самое. И все хотят играть хоть маленькую, но роль. Хоть прохожего в толпе, но чтоб со словами. Мысль же изреченная, как скажет потом поэт, есть ложь. Куда от этого денешься? Так что вся наша устойчивость связана только с условностями: отмени условности — и что вообще останется от нашей пьесы, от нашей милой и такой уютной комедии? А не будет комедии, и для нас это уже трагедия. Ты останешься без роли. Зачем же менять условности жанра?
ДОН ЖУАН. Так что же делать?
ДОН КАРЛОС. Молчи. Вот свергнут ежели нашего родного короля, тогда можно будет говорить о нём всё что угодно. А пока потерпи.
СГАНАРЕЛЬ. Вы тогда тоже станете ругать короля?
ДОН КАРЛОС. Что я — хуже других? Тогда уж оттянусь по полной.
ДОН ЖУАН. А мне тогда станет стыдно ругать его.
ДОН КАРЛОС. У тебя, Жуан, всё не как у людей, всё шиворот-навыворот. Нет, мне с тобой не по пути. Какой-то ты беспокойный, всё чего-то требуешь...
ДОН ЖУАН. Тоже хочешь спать спокойно?
ДОН КАРЛОС. Но-но-но! Со мной этот номер не пройдёт. Я не Командор. Да и спать я вовсе не хочу. Но и на костёр святой Инквизиции вслед за тобой идти тоже желания не испытываю.
СГАНАРЕЛЬ. Так ведь король отменил же костры. Теперь жечь можно только книги, а не людей.
ДОН КАРЛОС. Вот видишь, Жуан, а ты ругал наши порядки. А тут исторический прогресс налицо. Смотри, как всё стало хорошо. Справедливо ли поносить такого милосердного короля? Впрочем, если нужно будет, тебя сожгут в виде исключения. Организуют представителей народа, и те на коленях умолят короля — разрешить палачу поджарить тебя на медленном огне на потеху почтеннейшей публики. Хотя вряд ли ради тебя станут затевать столь дорогостоящую постановку. Тебя просто объявят сумасшедшим, как того же Дон Кихота. Времена благородных рыцарей прошли. Нет, Жуан, брось свои затеи. Если же хочешь нарушать установленные правила игры, то, знаешь... Платон мне друг, но обстоятельства превыше всего. Честь имею!
Дон Карлос удаляется.
СГАНАРЕЛЬ. Вот мы и остались одни. Что прикажете делать?
ДОН ЖУАН. Не знаю, право. Я вдруг потерял путеводный огонь впереди. Знаешь, как в шахматах: когда есть план, то все ходы становятся осмысленными, но когда плана нет — двигаешь фигуры, а зачем, и сам не знаешь. Вот так и сейчас. Я знаю лишь одно: всё, что он тут наговорил, это обман. Но порою подобная логика начинает казаться такой убедительной и ясной. Мир пошатнулся и теряет устойчивость: справедливости нет, истина — всего лишь результат какого-то лукавого условия между людьми. Сегодня одно, но завтра можно изменить правила игры, и всё станет иначе. Человек хорош или плох не сам по себе, а только в зависимости от обстоятельств. В такие минуты меня начинает одолевать лютая безысходность. Вот так и сейчас. Как будто бы мы разыгрываем друг перед другом какую-то отвратительную комедию.
СГАНАРЕЛЬ. Комедию условностей. Так и в афише написано.
ДОН ЖУАН. Я перестал понимать, зачем мне нужно жить на свете.
СГАНАРЕЛЬ. А может, лучше не задумываться над этим? Не будет счастья тому, кто решил узнать, зачем он живёт на земле. Люди стараются обойти этот вопрос стороной.
Появляется прохожий.
Эй, парень! Зачем ты живёшь на белом свете?
ПРОХОЖИЙ. Зачем?.. Затем. Зачем все, затем и я.
Прохожий уходит.
СГАНАРЕЛЬ. Вот как всё просто и ясно.
ДОН ЖУАН. Но кто уж ступил на этот путь, на путь поисков и вопросов, тому не повернуть обратно. Я во много раз несчастнее, когда на какое-то мгновение начинаю сомневаться в самом существовании истины... Вот как сейчас... Когда-то давно один мой товарищ написал так:
Зачем живём мы на земле?
Кто может дать ответ...
Развеет время всё равно
Твоей могилы след.
И он поверил в это.
СГАНАРЕЛЬ. Он что, умер? Я его не знаю.
ДОН ЖУАН. Это было давно. И он не умер. Хуже. Ему стало всё безразлично. Он жив и сейчас. Но все считают его сумасшедшим и держат под замком. Он и к этому равнодушен.
СГАНАРЕЛЬ. Но причина та же: он задумался.
ДОН ЖУАН. Я тогда попробовал опровергнуть его и сочинил ещё четыре строчки:
Зачем живём мы на земле?
Кто лучше даст ответ?
— Затем, чтоб гимны петь весне
И славить солнца свет.
СГАНАРЕЛЬ. На том бы и успокоиться.
ДОН ЖУАН. Нет. В этом тоже какая-то фальшь. Да и стихи неважные.
Идёт старик.
Вот старик. Спросим у него... Отец! Ты долго жил. Ответь: в чём истина?
СТАРИК. Когда-то один самоуверенный скептик тоже задавал этот вопрос, глядя в упор на Истину... Истина ведь всем известна. Мы всё ищем её, потому что нам хочется сделать вид, будто её нет. И это оттого, что нам страшно поставить себя рядом с нею. Тогда придётся увидеть ад в своей душе. Легче всю жизнь искать.
Старик уходит.
СГАНАРЕЛЬ. Однако становится людно, вас могут схватить.
ДОН ЖУАН . Тогда хоть появится ясная цель: бежать.
СГАНАРЕЛЬ. Или ещё яснее: костёр.
ДОН ЖУАН. Поразмыслить, так и в этом что-то есть. У людей ценится то, что редко. А согласись: испытать чувства умирающего в пламени костра — многие ли прошли через это?
СГАНАРЕЛЬ. Да уж...
ДОН ЖУАН. И будет возможность заглянуть туда . Иные бы дорого дали, чтоб только узнать, что — там . А между тем, сделать это так просто. Этот и тот мир разделяет такая тонкая завеса...
СГАНАРЕЛЬ (в сторону). Уж не рехнулся ли он на самом деле?
ДОН ЖУАН. Успокойся, я в здравом уме. Но ведь подумай: так легко преодолеть ту завесу... Но нет. Раз мы живём, то ведь есть же в этом какой-то смысл. Иначе не нужно было бы впускать нас в этот мир, обрекая на страдания.
СГАНАРЕЛЬ. Лучше идёмте-ка отсюда, ваша милость.
Тем временем на краю сцены возникает статуя Командора.
ДОН ЖУАН. Смотри-ка! Вот уже и статую поставили. Быстро же они!
СГАНАРЕЛЬ. Идёмте же скорее!
ДОН ЖУАН. Погоди. Вот кто мог бы рассказать, что он обрёл там , за завесой. Может, спросить его?
СГАНАРЕЛЬ. Не связывайтесь вы со статуей Командора! Это всегда плохо кончалось.
ДОН ЖУАН. Ничего. Может, и обойдётся на этот раз. Должен же я знать, действительно ли в этой пьесе всё заранее определено и мы не властны в своей судьбе... И жутко, и весело. Эй!
СГАНАРЕЛЬ. Давайте лучше я. Мне-то он ничего не сделает: это не его амплуа. Что, как всегда позвать на ужин?
ДОН ЖУАН. Зови.
СГАНАРЕЛЬ (явно робея). Сейчас... Гм... О преславная статуя великого Командора!.. Кха, кха... Кажется, так... Прямо все слова со страху забыл... Мой барин, Дон Жуан, просит вас пожаловать к нему в гости сегодня вечером...
ДОН ЖУАН. На ужин.
СГАНАРЕЛЬ. Да-да, на ужин.
СТАТУЯ. Но мною пока ещё не получено никаких указаний насчёт этого из администрации короля.
СГАНАРЕЛЬ. Послушайте, чего он мелет! Какие указания?! Ты же статуя!!!
СТАТУЯ. Но меня поставили здесь по указу короля, значит, мне необходимо слушаться его распоряжений.
СГАНАРЕЛЬ. Во даёт!
ДОН ЖУАН. Вы отказываетесь посетить меня?
СТАТУЯ. Всё будет зависеть от решения наверху.
ДОН ЖУАН. Но меня изгоняют. Наша встреча может не состояться. Завтра я буду, вероятно, уже далеко.
СТАТУЯ. Я тебя везде найду.
СГАНАРЕЛЬ. Такого оборота я не ожидал.
Входит монах.
МОНАХ. Скажите, благородный сеньор, не вы ли будете доблестный рыцарь Дон Жуан?
ДОН ЖУАН. Он самый.
МОНАХ. В таком случае, не угодно ли вам будет последовать за мною для выяснения некоторых незначительных обстоятельств?
Монах и Дон Жуан уходят.
СГАНАРЕЛЬ (статуе). Тебя опередили, приятель.
Статуя пожимает плечами.
Входит Путешественник.
А! Заблудший в пространстве.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. И ищущий.
СГАНАРЕЛЬ. Как! Ты тоже ищешь истину?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Отчасти. Я ищу то, что содержит истину. Ты не подскажешь, где тут можно купить “Столичную”?
СГАНАРЕЛЬ. Слушай, парень, тебя все время куда-то не туда заносит. Какая тут тебе “Столичная”? Ты ведь в средневековой Испании!
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А что, у вас разве нет столицы?
СГАНАРЕЛЬ (недоумённо). Есть... Вот она — Мадрид.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Раз есть столица, найдётся и столичная. Мадридская особая.
СГАНАРЕЛЬ. А ты и впрямь мудрец. Пойдём поищем... Только и остаётся... Третьим будешь?
Статуя делает неопределённый жест.
Сцена пятая
Подвал инквизиции.
Инквизитор. Входит монах.
МОНАХ. Дон Жуан доставлен, ваше преподобие.
ИНКВИЗИТОР. Давай его сюда.
Монах выходит. Входит Дон Жуан.
Рад вас видеть, благородный Дон Жуан. Только не уверяйте меня в том же самом. Здесь лицемерие не обязательно.
ДОН ЖУАН. Очевидно, вы недовольны, что я ещё здесь, в Испании. Но я уже собирался в путь, и если бы не ваш человек...
ИНКВИЗИТОР (перебивает). Не надо забивать голову такими пустяками. Мы можем уладить этот вопрос. Подайте прошение о помиловании, мы поддержим.
ДОН ЖУАН. Но приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
ИНКВИЗИТОР. Пустая формальность.
ДОН ЖУАН. Тоже условность?
ИНКВИЗИТОР. А как же! Условности для того и придуманы, чтобы легче было жить. Будь, например, ваше наказание безусловным, и вам бы его ни за что не избежать. А так можно всё поправить. Разве плохо? Разумеется, оставить дело без последствий было нельзя: иначе все примутся убивать друг друга. Согласитесь, что в данном случае всё справедливо.
ДОН ЖУАН. Меня пригласили сюда поговорить о справедливости?
ИНКВИЗИТОР. Прежде всего о ней.
ДОН ЖУАН. Знаю, что вы мне скажете. Что справедливостей вообще очень много и все они условны.
ИНКВИЗИТОР. Знаете, чего вам не хватает, Дон Жуан? Игры воображения, хоть вы и поэт. Посмотрите на детей. Ангельски невинные создания. Наберут камешков на дороге и вообразят, что это золото. Играют себе. Вот и вам бы так. Легче жить-то будет. Если бы настоящее золото, то ведь только и думай, как бы не потерять да как бы не украли, а камушков вон сколько валяется. Вы каких-то себе всё безусловных ценностей понапридумали. Истины там непреложные, справедливость та же пресловутая, любовь... Даже смешно: Дон Жуан и любовь. Всё равно никто не поверит: начнут обман подозревать и притворство... Сиди вот и трясись над своими истинами: как бы не оболгали. Всё-таки играть-то лучше бы, чем всерьёз. Возьми любой вздор и объяви за истину. Над тем вздором посмеются, а тебе хоть бы хны: у тебя уж тем временем другой бред в истины произведён. Играйте, играйте, глупый вы человек. По-серьёзному-то если жить, так отвечать за всё придётся — вот что хуже всего.
ДОН ЖУАН. Так сколько уж играл. А тут вдруг задумался: ведь не может быть выигрыша в той игре. Пусто слишком в условном этом мире. Всё не настоящее. Это уж не жизнь вовсе, а смерть. Вот и подумал: может всерьёз надо? Может, так оно лучше?
ИНКВИЗИТОР. А вы сообразите-ка, что лучше-то: всерьёз гореть или условно?
ДОН ЖУАН. Так вы сами-то за горло всерьёз берёте. Не играете.
ИНКВИЗИТОР. А что вы от нас хотите? Мы всего лишь актёры в пьесе о вполне конкретной исторической эпохе. Что мы можем поделать? Мы — мрачное средневековье. Знаете, что это такое? Я вот недавно один роман про наше время читал — так поверите: самому жутко стало. Костры, мракобесие, фанатизм, произвол, убийства... Всего и не перечислишь.
ДОН ЖУАН. Так что же вас заставляет во всё это ввязываться?
ИНКВИЗИТОР. Историческая необходимость.
ДОН ЖУАН. Необходимость лупить дубиной по головам?
ИНКВИЗИТОР. Ну, это уж слишком сильный образ. Так сказать, художественная гипербола. Ты пойми: Всевышний создал человека несовершенным, и поэтому мы не можем обойтись без условностей. Охранять эти условности — святая задача святой нашей Инквизиции.
ДОН ЖУАН. Нет, Творец создал нас совершенными, а мы сами всё испортили, и именно тогда, когда поверили лукавой истинке, что слово Создателя условно и ему можно не следовать. И всё потеряли.
ИНКВИЗИТОР. Ну, это просто другая гипотеза, такая же условная.
ДОН ЖУАН. Не гипотеза. Истина. И я выбираю её.
ИНКВИЗИТОР. Дон Жуан! Статуя Командора уже стоит на площади, а вы всё рассуждаете о каком-то свободном выборе. Далась вам эта свобода! Что вы в ней понимаете? Да если хотите знать, люди всегда рады отказаться от неё добровольно.
ДОН ЖУАН. Ради куска хлеба что ли?
ИНКВИЗИТОР. Я никогда не утверждал подобной банальности. Не хлебом единым... и так далее... Просто свобода — очень тяжкое бремя, неужто вы об этом всё ещё не догадались? Если человек свободен, он сам отвечает за свои действия, а если свободы нет, то и отвечать не за что. Тебе велят — ты делаешь. А там, где свобода, там отвечать-то придётся не перед нами, а перед совестью. Её же, как вы знаете, не обманешь. А когда всё условно, тогда она бессильна. Ей не на что опереться. Вот за что человек отдаст всё на свете. За свободу от ответственности, от греха, а значит и от наказания. От адских мук. Вот эту свободу мы ему и даём. И он даже не замечает подмены. Именно... А кусок хлеба — это даже слишком примитивно. Кусок хлеба — это не достойно человека, это его оскорбляет. А человек, как всем известно, звучит гордо. Вот и пусть себе звучит, не надо ему мешать. Люди хотят прежде всего звучать гордо и спать спокойно.
ДОН ЖУАН. Я это уже слышал от Командора.
ИНКВИЗИТОР. Вот вы не захотели дать ему покоя, и чем всё кончилось? Вместо слабого Командора на площади стоит его статуя. Вас это радует?
ДОН ЖУАН. Но и статую я выберу свободно.
ИНКВИЗИТОР. Ну, взаимоотношения со статуей — это ваша проблема. А людей не трогайте. Люди слабы. Они согласились с тем, что всё условно, а вы хотите их разубедить.
ДОН ЖУАН. Блестящая комедия условностей!
ИНКВИЗИТОР. Во всяком случае, комедия лучше трагедии. И посмеяться можно. Я за комедию.
ДОН ЖУАН. Но комедии что-то не получается.
ИНКВИЗИТОР. И всё по вашей милости. Зачем навязывать людям трагедию? Мы за чистоту жанра. Затем и вас сюда вызвали. Вот вы против условностей. Однако весь театр — это одна большая условность. Такова его специфика. Зачем же рубить сук, на котором сидишь? Вы главный герой, и поэтому ваше мнение для пьесы небезразлично. Из-за вашего упрямства всё полетит вверх тормашками. На себя наплевать, так хоть о других подумайте: для них это станет потрясением. Мы о людях печёмся. Вы хотите добиться своей цели, заставляя страдать других? Ведь без условностей никто и шагу на сцене сделать не сможет: не о чем спектакль играть будет. Мы же не о себе думаем: нам-то как раз всегда место найдётся. Не здесь, так в другой комедии.
ДОН ЖУАН. Конечно, не всё ли равно, где ломать комедию.
ИНКВИЗИТОР. Это вы комедию ломаете, а не мы. И скоро доломаете её окончательно. Примите условности как необходимость, большего от вас никто не требует. Можете даже развлекаться своими стихами против короля: наши подданные слишком благонамеренны, чтобы воспринимать их всерьёз. Хотя, если взглянуть здраво, вы проявляете тут вздорную мелочность. Ну что вы придираетесь к какой-то одной незначительной личности? Глубже надо истину-то постигать. Ведь в любом учебнике истории сказано — вам любой школьник это растолкует,— что укрепление абсолютной монархии для нашего времени есть исторический прогресс. Вы же, нападая на короля, являетесь представителем исторической реакции. Вы мракобес. Политический мракобес.
ДОН ЖУАН. В политику-то меня зачем тянете?
ИНКВИЗИТОР. Вот и мы говорим вам то же: не ввязывайтесь в политику. Вы поэт, и политика не ваше дело. Там вам лишь надают тумаков, и пребольных, заметьте. Дилетантов политика не любит. Лучше подумать о том, как бы получить от жизни побольше благ, удовольствий.
ДОН ЖУАН. Я ещё не настолько поддался позорному благоразумию, чтобы думать только об этом.
ИНКВИЗИТОР. Как это вы любите цветисто выражаться! А любовь? Она вам тоже безразлична?!
ДОН ЖУАН. К чему вы это?
ИНКВИЗИТОР. К тому, что хотел бы вам помочь. Хотя, по правде говоря, в вашу любовь, Дон Жуан, я не очень-то верю. Что это за любовь: будьте счастливы, моя дорогая, оставляю вас сопернику и испытываю оттого великую радость. Разве это любовь? Но пусть всё остаётся делом вашей совести, слишком уж свободной, как мне кажется.
ДОН ЖУАН. Всё-то вы знаете.
ИНКВИЗИТОР. Да, мы знаем немало. Но сейчас речь не о том. Как я уже сказал, ваше мнение и поведение, поскольку вы главный герой, для этой пьесы небезразличны. С второстепенным было бы проще, никто бы и не заметил, но убрать вас просто так, без шума, мы не можем. К тому же рвётся сюжетная линия. Всем хочется знать, чем закончится эта ваша так называемая любовь. А всё просто повисает в воздухе. В связи с этим мы тщательно проанализировали события и пришли к выводу, что главная причина вашего недовольства — сам факт сватовства короля. Стало быть, логика проста: устраним причину — исчезнет и следствие, то есть ваше строптивое поведение. Что ж! Мы готовы признать, что означенный факт королевского сватовства — всего лишь условность, оказавшаяся лишней и даже вредной для развития сюжета данной комедии. Да и сам король — фигура тут весьма сомнительная. Такого короля и в Испании-то никогда не было. Поэтому сию условность мы готовы устранить. Но обращаю ваше внимание: означенный факт мы сможем официально признать условностью и устранить только в том случае, если и вы со своей стороны также согласитесь со всей вообще системой наших условностей. В противном случае, мы окажемся бессильны как юридически, так и эстетико-теоретически. А также и фактически. Ваш отказ свяжет нам руки. Так что ваша судьба в ваших же руках.
ДОН ЖУАН. И будет перечёркнуто и изменено всё, что произошло после этого сватовства?
ИНКВИЗИТОР. Ну нет, так далеко наша власть не простирается. Командора, к примеру, нам уже не воскресить. Но статую мы, разумеется, уберём, признав, что заслуги его были весьма условны. Пусть в запасниках валяется. На всякий случай. А вас мы поженим на Изабелле, и все останутся довольны, и счастливые разойдутся по домам. Однако без вашего согласия с нашей системой условностей и добровольного включения в нашу игру мы этого сделать не в силах. А! Какова логика!
ДОН ЖУАН (после некоторой паузы). Вы победили меня. Вы убедили мой разум: ваша логика неопровержима. Вы смутили моё сердце новой надеждой.
ИНКВИЗИТОР. Так будем считать, что мы уладили все формальности?
Сцена шестая
Городская площадь.
Статуя Командора. Входит Путешественник.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Здравствуйте. Ещё раз.
СТАТУЯ. А, это опять вы. А кто вы, собственно, такой?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Странник. Блуждаю по свету.
СТАТУЯ. А здесь чего делаете?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А здесь я как рояль в кустах: на всякий случай. Мною дырки затыкают.
СТАТУЯ. Какие ещё дырки?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Дырки в сценическом действии. Чтобы не создавались ненужные паузы. Когда основные герои заняты в другом месте, а сцену пустую оставлять нельзя, тогда вот меня выпускают. Там, видите ли, один из друзей автора, чтоб ему пусто было, решил, будто между предыдущей сценой и той, которая дальше будет, чего-то не хватает. У самого у него не хватает. И вот я теперь должен отдуваться, затеять с вами какую-нибудь глупую беседу минут на десять.
СТАТУЯ. Ну почему же обязательно глупую? Мы с вами можем очень даже прекрасно поговорить. Обсудим новости. А то мне тут так скучно. Торчишь на площади как истукан, словом не с кем перемолвиться. Все боятся: думают, что я их уволоку в ад. Делать мне больше нечего! Это в мои обязанности не входит — всех в ад тащить. Моя забота — Дон Жуан. Вы меня не бойтесь, давайте поболтаем дружески.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Для того меня и выпустили. Ну, как поживаете?
СТАТУЯ. Я уже не поживаю. Я уже статуя, как видите. Очень, знаете ли, неудобно. Стоишь, стоишь. Ноги затекли. А отдохнуть нельзя. Хоть бы в сидячем положении догадались изваять. Есть, знаете, такие памятники, которые не стоят, а сидят. Куда как удобнее. Ещё бы лучше, конечно, в лежачем виде, но таких, кажется, не делают. Смелости воображения не хватает.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А вы сами возьмите да сядьте.
СТАТУЯ. Нельзя. Ну как кто увидит. Я, по правде, когда нет никого, пробую отдохнуть, но ведь на этой тумбе и не посидишь как следует. (Слезает с пьедестала и пинает его ногой.) О красоте заботятся, а удобств никаких. (Садится на землю, прислонившись к пьедесталу.) Я с вашего разрешения вот тут присяду. Только вы уж никому!
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Что вы, что вы!
СТАТУЯ. Тоже мне, награда за заслуги перед королём! Памятник, понимаешь, поставили. Стой тут неизвестно за что.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Так уж и неизвестно?
СТАТУЯ. Это с какой стороны взглянуть. Стою-то я, вообще, за то, что был Командором. Но что это такое: командор — скажу вам по секрету, я и сам не знаю. Правда, уважение, почёт — это всё так. Выйдешь, бывало, так со всех сторон и шепчут: Командор идёт! Оно, конечно, лестно. А вот что это за должность такая — убей не знаю. Думаю, что и никто не знает.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но дело-то у вас было какое-нибудь?
СТАТУЯ. Никаких. Всю жизнь ничего не делал.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Что, вообще никаких обязанностей?
СТАТУЯ. Обязанность у меня только одна: утащить Дон Жуана в ад. Но это уже в самом конце.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А без вас нельзя?
СТАТУЯ. Никак нельзя. Такие, знаете ли, тут правила игры. Нужно, чтобы под конец Дон Жуана утащила бы в ад статуя Командора.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А как это — в ад? Вы туда дорогу знаете?
СТАТУЯ. Да это только так говорится, что в ад. Просто со сцены нужно исчезнуть. Раньше это всё эффектно обставлялось. Мы под пол проваливались.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Под пол? Так и шею сломать недолго.
СТАТУЯ. Да нет. Тут техника безопасности, специальный человек отвечает. Там вон люк есть с краю, пол опускается особым механизмом. А тут ещё дыму напустят, световые эффекты всякие разные, за кулисами по жестяному корыту палкой бьют — гром, значит. Красиво! Теперь же решили — режиссёры, знаете ли, такие появились, новаторы,— что всё это трюки и ни к чему. Это, мол, дешёвые театральные эффекты. Теперь моё дело просто выйти и увести его за кулисы. И представьте себе, без всякого удовольствия.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Только и всего?
СТАТУЯ. Только и всего. Выйти и увести. И вот ради этого-то столько хлопот. Даже обидно. Поверьте, делаешь, но вот без всякого удовольствия.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А если он спрячется?
СТАТУЯ. Кто?
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Дон Жуан. Сбежит куда-нибудь. Тоже вот вроде меня странствовать начнёт. Вам же его тогда искать придётся.
СТАТУЯ. Ну, это просто. Он хоть бы на край света сбежал, так ведь всё равно на сцене останется. В ремарке напишут: сцена такая-то, край света, на сцене Дон Жуан, из-за кулис выходит статуя Командора. Никаких забот: выходи — хватай — уводи. Ну, без всякого удовольствия.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. А если он не захочет?
СТАТУЯ. Как это не захочет! Будто мы тут делаем что хотим. Автор опять же напишет в ремарке: Дон Жуан уходит вслед за статуей Командора. Пойдёт как миленький.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. По-моему, сейчас автор напишет в ремарке, что и мне пора уходить.
СТАТУЯ. Уже? Жаль.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Ничего не поделаешь.
СТАТУЯ. А я тут стой и скучай. (Взбирается на пьедестал.)
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Да уж достаточно поговорили.
СТАТУЯ. Скажите какой-нибудь монолог на прощание. А я послушаю.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Какой ещё монолог?
СТАТУЯ. Что-нибудь назидательное. Для юношества.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Не моё амплуа.
СТАТУЯ. Да что же это за жизнь за такая! Всё только амплуа да амплуа. Да по ремарке. А без амплуа и слова лишнего не скажи.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Что поделаешь...
СТАТУЯ. Да, видно, уж нечего.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Так я пошёл.
СТАТУЯ. Голубчик, у меня к вам просьба. Зайдите там, ну, куда следует, напомните обо мне. Может, они уж и забыли про меня. Мне, может, его, Дон Жуана то есть, давно пора уводить было. Или они там какое новаторство придумали, что без статуи решили обойтись. Теперь всё могут. Даже модно стало — новаторства всякие изобретать. Они, может, там уж и без меня всё покончили. Так меня-то бы хоть уволили.
Входит монах.
МОНАХ. Отец Инквизитор как раз и уполномочил меня объявить вам, доблестный Командор, что надобность в ваших услугах отпала.
СТАТУЯ. И чего же теперь со мной будет?
МОНАХ. Положим в запаснике на случай необходимости, буде она возникнет.
СТАТУЯ (радостно). Положите?
МОНАХ. Положим.
СТАТУЯ. Слава королю!
Сцена седьмая
Сад возле дома Командора.
Дон Жуан, Изабелла.
ДОН ЖУАН. Ну вот, теперь ничто не может помешать нам. Мы свободны.
ИЗАБЕЛЛА. А как же отец?
ДОН ЖУАН. Его не вернёшь. Они так решили.
ИЗАБЕЛЛА. И даже статую убрали.
ДОН ЖУАН. Их условности всё-таки сильны. Но наша любовь не должна им подчиниться. Пусть они там делают что хотят. А у нас останется своё маленькое убежище, куда для них ход закрыт. Над нами они будут невластны.
Входит Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Поздравляю! Тебе присвоено звание поэта-лауреата! Пожизненная пенсия и всё такое. А после смерти каменная статуя. Счастливчик.
ДОН ЖУАН. Статуя-то ещё зачем?
ДОН КАРЛОС. А чтоб место не пустовало. Командора-то убрали.
ДОН ЖУАН. Бедный Командор. Зазря пострадал.
ДОН КАРЛОС. Радоваться должен. Кстати: твою оду королю опубликуют завтра все газеты.
ДОН ЖУАН. Но я же не писал никакой оды!
ДОН КАРЛОС. Да это та самая, которую сочинил Родриго.
ДОН ЖУАН. Это же его ода! Я-то здесь причём?
ДОН КАРЛОС. Да какая разница! Ты сам согласился считать всё условным. Так что автор ты.
ДОН ЖУАН. А Родриго?
ДОН КАРЛОС. Он получит гонорар. Ты же у нас безсребреник. Ему деньги, тебе слава. Яркая заплата на ветхом рубище певца, как сказал один поэт, уж не помню кто.
ДОН ЖУАН. Какая слава! Такие дерьмовые стихи способны погубить любую поэтическую репутацию.
ДОН КАРЛОС. Ода в честь короля не может быть дерьмовой. Пусть попробует кто-нибудь обругать хоть одну рифму! Но это вообще дело десятое. Слава зарабатывается нынче не поэтическими достоинствами и прочим вздором. Нужен, знаешь ли, скандальчик. Хотя бы маленький такой скандальчик. Теперь это модно.
ДОН ЖУАН. Какой ещё скандальчик? Чего ты городишь?
ДОН КАРЛОС. Ну например, пустим слух что ты этот... ну который сексуальные меньшинства... Будет очень эффектно.
ДОН ЖУАН. Ты что несёшь!!!
ДОН КАРЛОС. Не хочешь — не надо. Хотя это открыло бы безграничные возможности. Зря отказываешься.
ДОН ЖУАН. Ты говори да не заговаривайся!
ДОН КАРЛОС. И чего ты взбеленился! Какой-то ты отсталый и несовременный. Нынче этим даже гордятся. Это придаёт особое своеобразие индивидуальности. А твои эмоции — сплошное мракобесие.
ДОН ЖУАН. Какой есть, но только не такой.
ДОН КАРЛОС. Пускай. Мальчиков любить не хочешь, люби девочек. Я не против. Только чтоб побольше. Ты же Дон Жуан! А известность Дон Жуана только на том и основана. И всё описывай, и чтоб подробности всякие.
ИЗАБЕЛЛА. Дон Карлос! Вы говорите всё это в моём присутствии?
ДОН КАРЛОС. Донья Изабелла! Не возникайте! Причём здесь вы? Ваше амплуа — любящая подруга и верная жена. Готовьтесь к свадьбе, а остальное не ваше дело. Идите, идите.
ДОН ЖУАН. Ну знаешь!
ДОН КАРЛОС. Знаю. Я-то знаю. А вот ты — нет. Мне поручено создать твой имидж. Поэт-лауреат не может быть серой личностью. Нужно что-то яркое. Кстати, вспомнил, это Пушкин сказал. Ты что, Пушкину не веришь? Понимаешь: быть верным мужем-однолюбом — это пошло. Серо. Заведёшь с дюжину любовниц, а потом обо всём об этом ещё и книжицу напишешь. И чтоб побольше такого-этакого. Сейчас многие так делают. Это украшает человека. Парочку извращений не мешало бы.
ДОН ЖУАН. Извращений?!
ДОН КАРЛОС. А что? Что в этом такого? Да и само понятие — условное. То, что вчера считалось извращением, сегодня стало добродетелью. Садомазохизм, к примеру, придаёт неповторимое своеобразие образу литературного героя. Об этом нынче критики и ведущие эстеты в один голос твердят. Ты что, и ведущим эстетам тоже не веришь? Ну это, знаешь ли, ретроградно. Да ты просто фашист.
ИЗАБЕЛЛА. Дон Жуан! Что же это!
ДОН КАРЛОС. Ничего. И вы, уважаемая Изабелла, должны будете ему всё прощать. Во-первых, это ради дела. А во-вторых, такие условия игры. Что делать, время обязывает. Вон даже американский президент был прощён.
ДОН ЖУАН. Какой ещё американский президент?
ДОН КАРЛОС. Какой-какой! Условный. А супруге изменил за милую душу. И только популярности прибавилось. Хотели даже на новый срок выбрать, но что-то там с законом не увязалось. Не успели поправку внести. А девка стала прямо-таки национальной героиней. И не только у себя, а и во всём мире.
ДОН ЖУАН. Успокойтесь, Изабелла. Я не собираюсь вам изменять, я люблю вас.
ДОН КАРЛОС. Но ты же сам согласился, что всё условно. Так что никто теперь с тобой церемониться не станет. Теперь уж назад дороги нет. Раскрутим всё на полную катушку. Главное — побольше цинизма!
Сцена восьмая
Городская площадь. Толпа. Действующие лица приходят, уходят, вновь возвращаются.
Основные разговоры и диалоги всё время прерываются обрывками разговоров в толпе.
На сцене — постоянное движение.
Всё действие — в очень быстром темпе.
Два приятеля.
ПЕРВЫЙ. Ну как?
ВТОРОЙ. Да как-то не так.
ПЕРВЫЙ. То есть как?
ВТОРОЙ. А никак.
ПЕРВЫЙ. А как надо?
ВТОРОЙ. Хоть как-нибудь.
Сганарель, Жуан.
СГАНАРЕЛЬ. Как по-вашему: что самое удивительное в человеке?
ДОН ЖУАН. То, что он может поступать вопреки обстоятельствам.
Дон Карлос, Эльвира.
ДОН КАРЛОС. Вы это сегодня нарочно?
ЭЛЬВИРА. Что нарочно?
ДОН КАРЛОС. Так очаровательны.
ЭЛЬВИРА. Опять льстите?
ДОН КАРЛОС. Вы хотите к своим прочим достоинствам прибавить ещё одно украшение — скромность. Но слишком уж украшать себя — тоже нескромно.
ЭЛЬВИРА. Дон Жуан всё-таки женится на Изабелле?
ДОН КАРЛОС. Дешевле обойдётся. Понимаете, для жены деньги мужа всё-таки как бы общие, их жалко тратить слишком много. А любовнице чего жалеть? Ей бы побольше выжать из возлюбленного.
ЭЛЬВИРА. Вы просто циник.
ДОН КАРЛОС. Я просто трезво мыслящий. Что и вам советую. Вы-то, кстати, от всего от этого остаётесь в выигрыше.
ЭЛЬВИРА. Я-то здесь причём?
ДОН КАРЛОС. Вас решено назначить одной из официальных любовниц Дон Жуана.
ЭЛЬВИРА. Назначить? Даже меня не спросивши?
ДОН КАРЛОС. Как будто нас здесь о чём-то спрашивают! Дон Жуану нужно создать определённую репутацию. А раз надо, значит надо.
ЭЛЬВИРА. И для чего ему такая репутация?
ДОН КАРЛОС. Ему не для чего. Это для пользы дела. Его повязать надо.
ЭЛЬВИРА. И вы так легко готовы уступить меня?
Два приятеля.
ПЕРВЫЙ. И как ты ко всему этому относишься?
ВТОРОЙ. Ещё не знаю. Надо посмотреть по обстоятельствам.
Дон Жуан, Изабелла.
ИЗАБЕЛЛА. Неужели мы полностью в их власти?
ДОН ЖУАН. Мне начинает казаться, что только после смерти станем для них недоступны.
ИЗАБЕЛЛА. А если после смерти ничего нет?
ДОН ЖУАН. Тогда и впрямь всё условно.
Два приятеля.
ПЕРВЫЙ. Что мне делать? Последнее время я постоянно чувствую какой-то ужас.
ВТОРОЙ. Отчего?
ПЕРВЫЙ. Я вдруг понял, что не знаю, как жить. Как жить? Как жить!
ВТОРОЙ. Да живи как все.
ПЕРВЫЙ. Но мне кажется, что весь мир охвачен каким-то одурманивающим безумием. Великие истины отвергаются ради сущего вздора.
ВТОРОЙ. Надо же чем-то отплатить этим истинам за наше несовершенство.
Сганарель, Дон Жуан.
СГАНАРЕЛЬ. Главное, берегитесь Дон Карлоса: он очень хитёр.
ДОН ЖУАН. Если хитёр, значит, слаб. Стыдно бояться слабого.
Дон Карлос, Эльвира.
ДОН КАРЛОС. Но между нами-то всё останется по-прежнему?
ЭЛЬВИРА. Вы в этом уверены?
ДОН КАРЛОС. Не сменилась же ваша любовь ко мне на ненависть? Это было бы глупо.
ЭЛЬВИРА. Вы очень высоко себя ставите. Вы полагаете, что достойны чьей-то ненависти? Я даже не презираю вас. Я к вам просто равнодушна.
Инквизитор, Монах.
МОНАХ. Дон Жуан, кажется, о чём-то помышляет. Подозрительно.
ИНКВИЗИТОР. А мы возьмём его за горло, чтоб он и пикнуть не смог, а скажем, что ему нечего возразить.
МОНАХ. Но это как будто не очень честный приём.
ИНКВИЗИТОР. Наоборот, всё будет очень честно. Мы ведь скажем правду: что он ничего не может сказать против нас. А он и впрямь не сможет. Ха-ха-ха!
Дон Жуан, Дон Карлос.
ДОН ЖУАН. Родриго опять собирается написать за меня какую-нибудь гадость?
ДОН КАРЛОС. Нет, он переквалифицировался.
ДОН ЖУАН. Чем же он теперь занят?
ДОН КАРЛОС. Делает деньги.
ДОН ЖУАН. Если ни на что другое не способен, тогда и это занятие.
ДОН КАРЛОС. А на что мы вообще способны?
ДОН ЖУАН. Главное, не утратить бы способность к любви.
ДОН КАРЛОС. А не думал ли ты, Жуан, вот над чем: не иллюзия ли любовь вообще? Не стремится ли каждый из нас не к другому человеку, а лишь к тому образу, какой создал в воображении и спроецировал затем на того, кто подвернулся под руку? И что же выходит? Мы любим собственную фантазию. То есть, выходит, самих себя. Оказывается, что любовь — всё тот же эгоизм. Так не станем изменять себе. Мы должны любить в себе всё, и добродетели, и пороки. Главное, пороки. Ведь они тоже часть нашей личности. Ты вот свободы жаждешь? А свобода в том и состоит, чтобы уметь раскрепоститься.
Одинокий подвыпивший прохожий.
ПРОХОЖИЙ (рассуждая сам с собою). Что есть жизнь? Суета сует и коловращение человеков...
Кавалер, дама.
ОНА. Тоска от этих непреложных так называемых истин. Как, например, скучно, что параллельные линии никогда не могут пересечься. А где же свобода?
ОН. Кстати, они пересекаются.
ОНА (радостно). Правда? А где?
ОН. В бесконечности.
ОНА. А можно как-нибудь добраться до этой бесконечности, чтобы посмотреть, как они там пересеклись?
ОН. Нет. Бесконечность недостижима.
ОНА. Значит, и они не смогут достигнуть её. Как же они тогда пересекутся?
Дон Жуан, Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Знание есть лишь видимость знания. Прав был мудрец, сказавший: я знаю, что ничего не знаю. Наша претензия на знание от гордыни ума. Ему ведь трудно признаться, что он ни на что не способен.
ДОН ЖУАН. По твоей логике, истины быть просто не может.
ДОН КАРЛОС. А зачем она нужна, и, главное, кому?
Две дамы.
ПЕРВАЯ. Эта Изабелла слишком много о себе понимает.
ВТОРАЯ (ехидно). По-моему, она понятлива сверх меры.
ПЕРВАЯ. А Дон Жуан начал изменять ей уже до свадьбы.
ВТОРАЯ. Можно представить, что потом будет.
ПЕРВАЯ. Известно: дальше — больше.
ВТОРАЯ. И вообще говорят, что он не только к женщинам неравнодушен. Вы понимаете?
ПЕРВАЯ. Неужели! Как это пикантно!
Дон Жуан, Дон Карлос, Дон Родриго.
ДОН КАРЛОС. Знаешь, Жуан, женщинами нужно восхищаться, преклоняться перед ними, во всём с ними соглашаться. А большего они и не достойны. Вот и Дон Родриго подтвердит... Чем так опечалены, Родриго?
ДОН РОДРИГО. Да одолжил тут одному, боюсь, не отдаст.
ДОН КАРЛОС. Неужто вы были так безрассудны, что не взяли расписки?
ДОН РОДРИГО. Взял, но куда-то задевал, вот беда. А он знает, что я потерял.
ДОН КАРЛОС. Надо, чтоб при свидетелях подтвердил, что должен.
ДОН РОДРИГО. Как же! Он не такой дурак.
ДОН КАРЛОС. А сколько?
ДОН РОДРИГО. Сто золотых.
ДОН КАРЛОС. И кто он?
ДОН РОДРИГО. Вон с той дамой в голубом.
ДОН КАРЛОС (громко). Милостивый государь! Вы, вы! Подите-ка сюда! (Должник подходит.) Вы когда отдадите моему другу двести золотых? Я тоже хотел бы занять, а он говорит, что у него нет больше, ждёт, когда вы отдадите.
ДОЛЖНИК (смутившись под обращёнными на него взглядами). И вовсе не двести, а всего сто.
ДОН КАРЛОС. Вы при свидетелях настаиваете, что именно сто?
ДОЛЖНИК. Настаиваю.
ДОН КАРЛОС. Тогда прошу прощения, я очевидно ошибся. (Должник отходит.) Вы довольны, Родриго?
ДОН РОДРИГО. Дон Карлос! Что бы мы без вас? (Уходит.)
ПОДВЫПИВШИЙ ПРОХОЖИЙ (подходя). Суета и коловращение человеков. (Уходит.)
ДОН ЖУАН. Ужасно всё это.
ДОН КАРЛОС. Что ужасно?
ДОН ЖУАН. Да всё, что тут творится.
ДОН КАРЛОС. С такими мыслями впору самоубийством кончать.
ДОН ЖУАН. Наоборот.
ДОН КАРЛОС. Почему же наоборот, если ты так страшишься жизни?
ДОН ЖУАН. Потому что самоубийство — это боязнь смерти, а вовсе не жизни, как все думают. А смерти, мне кажется, я уже не боюсь.
ДОН КАРЛОС. Что за вздор!
Изабелла, Эльвира.
ИЗАБЕЛЛА. Ждала, ждала, всё дождаться не могла. Вот, думала, счастье. А теперь всё не то.
ЭЛЬВИРА. Так и должно было быть.
ИЗАБЕЛЛА. Но почему?
ЭЛЬВИРА. Никогда не следует загадывать и предвкушать заранее. Воображение всегда сильнее реальности, вот жизнь и разочаровывает.
ИЗАБЕЛЛА. Да нет, не то. Просто как-то всё не так. Все ходят, одни многозначительно молчат, вздыхают, сочувствуют, другие прямо намекают. И Дон Карлос говорил, что Жуану предписано изменить мне. Всё, мол, условно.
ЭЛЬВИРА. А что он сам?
ИЗАБЕЛЛА. Клянётся, что не так.
ЭЛЬВИРА. На это они все мастера. Дон Жуан он и есть Дон Жуан. А мужики все обманщики.
Подвыпивший прохожий.
ПОДВЫПИВШИЙ. Как посмотришь вокруг: чёрт побери! А подумаешь: ну и чёрт с ним!
Сцена девятая
Подвал инквизиции. Инквизитор.
Вбегает Дон Жуан.
ДОН ЖУАН. Но не могу я больше!!! Я схожу с ума. Я не могу лгать. Я не верю вашим условностям. Глупая совесть не позволяет мне этого. Иначе я потеряю себя.
ИНКВИЗИТОР. Да к чёрту совесть! Плюнь ты на неё! Зачем она тебе нужна?
ДОН ЖУАН. Без совести человек не способен к подлинной любви. И что же тогда останется от меня?.. Я догадался! В вашей системе просто нет любви.
ИНКВИЗИТОР. По-моему, в нашей системе как раз все условия, чтобы заниматься любовью. Хотя, правда, до сексуальной революции ещё далеко.
ДОН ЖУАН. На разных языках мы с вами говорим... Любовью нельзя заниматься. Для того имеется другой термин. А для подлинной любви потребна чистая совесть.
ИНКВИЗИТОР. Но ты же сам согласился со мною. И потом не будь эгоистом, раз уж хочешь поступать по совести. Что ты всё о себе да о себе? Речь идёт о благе всех людей. Подчини свои интересы интересам общества. Людям нужна свобода. А свобода — лишь субъективное ощущение. Нужно верить, что король берёт на себя всю ответственность за наши грехи — и совесть будет свободна. Пусть это условность, но в этом вся тайна Мадридского двора.
ДОН ЖУАН. Ваша логика неоспорима. Но ведь это всего лишь логика. Все эти ваши рассуждения — сплошная ложь. На чужую совесть своего греха не спихнёшь. Обман и обман.
ИНКВИЗИТОР (в раздумье, как бы самому себе). Но какой обольстительный обман. Обворожительный обман. Упоительный обман. Утешительный обман. Нас возвышающий обман! И несёт он только радость и счастье. Что же ты, Дон Жуан, так легко отказываешься от счастья?
ДОН ЖУАН. Да я и сам кляну себя, поверьте. Но я не могу иначе. Я вижу: на моём пути одни лишь невзгоды. И выбора нет. Вы загнали меня в безвыходное положение. В вашей системе нет любви, одна выгода. А меня с моею верою вы к себе не хотите впустить.
ИНКВИЗИТОР. Выходит, и ты лишён выбора?
ДОН ЖУАН. Уже лишён.
ИНКВИЗИТОР. Так чем же твоё положение лучше? Ты тоже несвободен. А мы щедры: предоставляем тебе возможность выбора. Пусть между двумя несвободами, твоей и нашей,— но всё же выбор. Хоть какой, но выбор. Хоть какая, но свобода. Всё лучше, чем ничего.
ДОН ЖУАН. Человек свободен тогда, когда у него свободна совесть. Свободна от лжи.
ИНКВИЗИТОР. Значит, свободу выбора ты отвергаешь, но считаешь себя свободным? Абсурд! Ещё одно нарушение чистоты жанра: у нас же не театр абсурда. Мы вполне реалистическая комедия.
ДОН ЖУАН. Может быть. Но вот что я понял... В Бога вы не верите, вот и весь ваш секрет. Поэтому вы вовлекаете человека в измышленное бытие. Где всё ненастоящее, всё условное — радость, любовь, правда, боль...
ИНКВИЗИТОР. Настоящей боли захотелось?
ДОН ЖУАН. А там, где всё ненастоящее, там небытие. И в это небытие вы тянете всех прочих. Вот и вся тайна Мадридского двора.
ИНКВИЗИТОР. Со временем это назовут виртуальной реальностью.
ДОН ЖУАН. Обычная пустота. Ничто. Nihil. В вас самих пустота, и вы хотите, чтобы и все поверили в эту пустоту. Чтобы поверили: нет ничего, кроме пустоты. Вы жаждете всеобщей гибели. Как всё просто. Собственною тягою к небытию вы стремитесь заразить весь мир.
ИНКВИЗИТОР. В опасные ты дебри забрёл. Жаль, очень жаль. Жаль, что тебя всё время заносит куда-то не туда.
ДОН ЖУАН. Но выбора-то нет.
ИНКВИЗИТОР. Ладно. Мы даже ещё более облегчим твоё положение, сделаем твою совесть ещё свободнее. Я уже говорил тебе, что со второстепенными персонажами у нас никаких проблем. Так вот мы вычеркиваем Изабеллу из списка действующих лиц. (Берёт какой-то лист бумаги и черкает в нём.) Ну, вот! Видишь, как просто. Её больше нет. Так и нам спокойнее. А то она начнёт там трагедию изображать, ты — сострадание, чего доброго, бунтовать станешь. Тебе лишние заботы. Нам лишние хлопоты... А теперь можешь быть свободным... Эй, выпустите его!
Дон Жуан выбегает.
И смерть мы тебе устроим безусловную. Теперь не страшно: комедию-то мы уже успели разыграть.
Сцена десятая
Городская площадь. Сганарель.
СГАНАРЕЛЬ. Что же теперь будет? Честное слово, как подумаешь, что я могу уже никогда не увидеть моего господина... Нет, лучше не думать об этом. Мне с ним почему-то всегда было спокойно на душе. Хотя он был такой неспокойный. Без таких людей в жизни становится сумрачно. Когда знаешь, что живёт человек, который любит, борется, радуется жизни, сомневается, упорно ищет истину, то начинаешь думать, что, наверно, и впрямь есть в этой жизни какой-то смысл и что дана она тебе не совсем напрасно, что и ты тоже для чего-то нужен на этом свете.
Шумно входит компания молодых дворян, среди них Дон Карлос и Дон Родриго.
ДОН РОДРИГО. Правду сказал мудрец, что жизнь борьба: до обеда с голодом, после обеда со сном.
ДОН КАРЛОС. Сганарель! Ты что тут делаешь?
СГАНАРЕЛЬ. Жду, чем всё это кончится.
ДОН КАРЛОС. Я слышал, что Жуан опять в Инквизиции.
СГАНАРЕЛЬ. И откуда вы узнаёте всё раньше всех?
ДОН КАРЛОС. Из верных источников.
КТО-ТО ИЗ ТОЛПЫ. А я не понимаю, чем это Дон Жуан был так недоволен. Всё прекрасно! Мы просто обязаны быть счастливыми.
СГАНАРЕЛЬ. Очевидно, мой господин думал о счастье несколько иначе.
ИЗ ТОЛПЫ. О нашем счастье думает король. Зачем же нам думать самим? Мы что, умнее короля?
ДОН КАРЛОС. И не нашего ума дело его судить. Твой господин был просто ненормальный.
СГАНАРЕЛЬ. Он был в здравом уме.
ДОН КАРЛОС. С некоторых пор он стал ненормальным. Понимаешь: не нормальным. Есть такое понятие: норма. Ну, то есть чтобы быть как все. Понятие условное в принципе: при иных обстоятельствах ненормальными можно было бы назвать и нас.
СГАНАРЕЛЬ. Значит, это тоже всего лишь нелепая условность?
ДОН КАРЛОС. Что ты там ни говори, а они-то как раз чаще всего и сильны в нашей жизни.
ИЗ ТОЛПЫ. И поэтому мы всегда нормальные...
ДОН КАРЛОС. ...если не нарушаем условности нормы. Для каждого человека они безусловны: раз уж сложилась такая норма, так будь добр не нарушать её. А Дон Жуан хотел всё по-своему, и значит, он и не годится для нашей комедии. Хотя сам по себе он прекрасный человек.
СГАНАРЕЛЬ. Да, таких, как вы, пожалуй, легче пасти. Только приятно ли чувствовать себя скотом?
ДОН КАРЛОС. Сганарель! Ты что-то стал слишком смел на язык.
СГАНАРЕЛЬ. А чего мне бояться? В пьесах о Дон Жуане Сганарель всегда остаётся цел — это всем известно. Такова условность. А условности ведь для того и созданы, чтобы облегчать жизнь,— это ведь ваши слова. Надо уметь использовать их.
ДОН КАРЛОС. Научил на свою голову.
Появляется Дон Жуан.
СГАНАРЕЛЬ. Ваша милость! Вас отпустили?
ДОН ЖУАН. Сганарель, они подвергли меня тяжкой пытке.
ДОН КАРЛОС. Но на тебе что-то не видно никаких следов.
ДОН ЖУАН. Как больно!
ДОН КАРЛОС. Тебя прижигали калёным железом? Рвали ногти? Подвешивали за рёбра? С тобой, очевидно, просто дружески поговорили. Некоторые почему-то любят называть это условно пытками, но пора оставить эти поэтические фигуры.
ДОН ЖУАН. Рана в душе. Как больно!
ИЗ ТОЛПЫ. С тобой поступили милосердно. Тебя даже отпустили.
ИЗ ТОЛПЫ. Пойми, Жуан, ты выглядишь просто смешно. Из-за чего вся эта буря в стакане воды? Вообще-то люди всегда чем-нибудь недовольны, но это же не принципиально.
ИЗ ТОЛПЫ. И нетипично.
ДОН КАРЛОС. Сперва ты взбесился оттого, что у тебя отобрали невесту. Тут тебя ещё можно понять. Но перебесился бы малость — и хватит. Тем более что тебе её вернули. Потом тебе вдруг понадобилась справедливость. Потом ты вдруг обнаружил у себя совесть. Очень интересная новость! Только зачем она, эта твоя совесть, кому она нужна?.. Изабеллу вот из-за неё погубил... Когда ты просто сочинял стихи о любви, тебе никто слова не говорил. Но ты свихнулся на этом в жизни — это уже глупо. Всё это хорошо для рыцарских романов, но с жизнью-то они не имеют ничего общего.
ДОН РОДРИГО. И что тебе далась эта Изабелла? Я же отказался от неё в своё время ради короля.
ИЗ ТОЛПЫ. Давай компромисс, Жуан: ты веришь в свою любовь, значит, она есть для тебя, а мы не верим, и значит, её нет.
ДОН ЖУАН. Любовь не зависит ни от нашей веры, ни от желания. Она просто есть. Но вы налгали на себя. Мы часто лжём на себя, лжём самим же себе. Мы привыкли смеяться над тем, что сами же в глубине души считаем святым. Мы не замечаем, что плюём при этом лишь в собственную душу. Мы без устали оплёвываем сами себя, и наша ленивая совесть не препятствует этому.
ДОН КАРЛОС. Оставь в покое нашу совесть. В покое и на свободе. Мы вольны делать что хотим. Всякий по-своему прав.
СГАНАРЕЛЬ. Потому-то все и несчастны, как заметил один мудрый человек.
ДОН РОДРИГО. Нет, счастливы. Каждый выбирает себе истину по вкусу, в зависимости от обстоятельств. А послушать тебя, Жуан, так мы, выходит, должны быть связаны по рукам и ногам. Нет, я свободен только тогда, когда я знаю, что всё условно. Сегодня так, завтра иначе. Выбирай! А по-твоему, хочешь — не хочешь, но держись чего-то одного. Где же свобода?
ДОН КАРЛОС. Всё течёт, всё изменяется.
ДОН ЖУАН. И всё-таки истина неизменна. Она нужна человеку — я-то знаю это.
ДОН КАРЛОС. Так что же есть истина?
ДОН ЖУАН. Она известна всем. Но каждый должен обрести её своим трудом, в поте лица своего. Никто не сможет пройти за тебя этот путь. Делай со мною первый шаг: перестань играть в жизнь.
Входит Командор.
КОМАНДОР. Ну, хватит, Дон Жуан. Вот и я. Ты ведь звал меня.
В ТОЛПЕ:
— Командор!
— Но он же умер.
КОМАНДОР. Всего лишь условно. А теперь явился.
СГАНАРЕЛЬ. Всё-таки явился.
КОМАНДОР (как бы оправдываясь). До сих пор всегда было так. Ты ведь сам это выбрал, Дон Жуан.
ДОН ЖУАН. Всё прогнило в Датском королевстве...
ДОН КАРЛОС. Именно в Датском, ты не оговорился. А в Испанском — всё превосходно!
ДОН ЖУАН (Командору). Ну так и пошли отсюда!
КОМАНДОР. И то правда, пойдём.
ДОН ЖУАН. Не тужи, Сганарель!
СГАНАРЕЛЬ. Я с вами!
ДОН ЖУАН. Тебе нельзя. Ты должен оставаться здесь.
СГАНАРЕЛЬ. Но куда же вы?
КОМАНДОР (недоуменно). Я и сам теперь не знаю. Как-то всё перепуталось.
Дон Жуан уходит, уводя за собой Командора.
СГАНАРЕЛЬ. Но как же это? И все молчат? Остановите их!
ДОН КАРЛОС. Чего останавливать! Твой проклятый господин всё испортил! Он всё вывернул наизнанку, и как мы теперь будем жить? Это Командор должен был утаскивать его, а он сам увёл Командора! Всё рухнуло!
СГАНАРЕЛЬ. Но можно же всё изменить! Пусть явится какой-нибудь ангел и всех спасёт! А? По-учёному это называется: деус экс махина.
ДОН КАРЛОС. Какой ещё ангел! Теперь бы под обломками не погибнуть! Нет, Дон Жуан виноват, и наказать его было необходимо. Его нельзя спасать. Кто бы кого ни уводил, их возвращать нельзя. А уж мы как-нибудь тут разберёмся.
СГАНАРЕЛЬ. Но в чём же его вина? Он просто любил и хотел справедливости.
ДОН КАРЛОС. Вот-вот! Он, видите ли, любил! Но зачем было так громко кричать об этом? Мы тоже любили. И даже не раз. И мы тоже вовсе не против справедливости. Но во-первых, и так всё справедливо, а во-вторых, справедливости всё равно не добьёшься. Ему же хотелось выделиться. Как будто он лучше других!
В ТОЛПЕ:
— Да чем же он был лучше-то?
— Хотел присвоить себе одному наши добродетели.
— А мы отдадим ему наши пороки!
— Развратник и себялюбец!
— Безбожник!
— И убийца!
— Слышите, что говорит народ? Это глас истины!
ДОН КАРЛОС. Да, Дон Жуан виновен во многих грехах. Будем считать, что Командор всё-таки утащил его в ад.
Дон Карлос удаляется с чувством исполненного долга.
СГАНАРЕЛЬ. О мой господин! Мой господин!
В ТОЛПЕ:
— Из-за чего так убивается этот человек?
— Это его слуга. Не успел получить жалование.
— И много ему недоплатили?
— Говорят, за целый год.
— А, ну тогда есть о чём пожалеть.
СГАНАРЕЛЬ. О мой господин!
Вновь выходит Дон Карлос.
ДОН КАРЛОС. Ну ладно, хватит. Погоревал и довольно. Ничего с твоим господином не случилось. Вон за кулисами стоит. Спектакль подошёл к концу. Пора на поклоны выходить... Дон Жуан! Иди сюда, кланяйся почтеннейшей публике. Столько она тут твоих глупостей терпела... Да где он там? Дон Жуан!.. Командор, куда вы его дели?
Выходят Командор, Инквизитор, другие персонажи, среди которых Путешественник.
КОМАНДОР. Не знаю, вместе выходили. Вон там...
ДОН КАРЛОС. Так ищите же! Нельзя же, чтобы главный герой не вышел на поклоны. Скандал.
Начинаются поиски Дон Жуана, но безуспешно.
ДОН КАРЛОС. И впрямь что ли провалился?
КОМАНДОР. Да нет, тут и люк давно заколотили.
ИНКВИЗИТОР. И к чему эта суета? (Замечает Путешественника.) Иди-ка сюда, любезный. Будешь вместо Дон Жуана выходить.
ПУТЕШЕСТВЕННИК. Но я же...
ИНКВИЗИТОР. Да какая разница! Тут всё равно всё условно. Незаменимых людей нет. Ты для чего тут? На всякий случай. Теперь случай подоспел: ты будешь Дон Жуаном. Возьми там в подсобке запасной костюм главного героя и возвращайся. Как раз успеешь...
Путешественник уходит.
ДОН КАРЛОС. И Изабелла куда-то запропастилась...
ИНКВИЗИТОР. Так мы же её вычеркнули.
ДОН КАРЛОС. Ах да! Забыл совсем в этой суматохе.
Начинаются поклоны.
Под конец выходит Путешественник в костюме, который ему явно
с чужого плеча.
ПУТЕШЕСТВЕННИК (смущённо). Ну вот...
ИНКВИЗИТОР. Да кланяйся же!
ДОН КАРЛОС. Дон Жуан! Поприветствуем!!!
Путешественник раскланивается.
Все окружающие аплодируют.
СГАНАРЕЛЬ. О мой господин!
День пройдёт, настанет вечер…
Несколько обыденных эпизодов из современной жизни
Действующие лица
Нина Васильевна Назарова, 55 лет
Дарья Васильевна, её сестра, 60 лет
Дети Назаровой:
Тамара, 30 лет
Саша, 25 лет
Женя, 20 лет
Валентин, муж Тамары, 35 лет
Лена, жена Саши, 25 лет
Дед Серёжа, родственник Назаровых, 70 лет
Василий Павлович Денисов, 60 лет
Клавдия Петровна Денисова, его жена, 55 лет
Раиса Андреевна, мать Лены, 45 лет
Владимир, приятель и сослуживец Саши, 30 лет
Вадим, 30 лет
Соседка, 45 лет
Женщина-администратор, неопределённого возраста
Часть первая
Квартира Назаровых
На сцене — современная трёхкомнатная квартира в разрезе. Справа — большая комната, левее, в один ряд с нею, две комнаты поменьше. Ещё левее кухня, через дверь которой просматривается входная дверь и часть прихожей.
Вечер. В большой комнате хлопочет, накрывая на стол, Дарья Васильевна. На кухне — Нина Васильевна и Тамара. В комнате, смежной с кухнею, у письменного стола сидит Женя, она что-то записывает, заглядывая в толстую книгу. В средней комнате — никого.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ну, почему ты так злишься?
ТАМАРА. Почему, почему... Всё потому. Потому что она относится к тем людям, которые я вовсе не хочу, чтобы они к нам приходили.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Совсем что ли не знаться теперь? Так тоже нельзя. Куда же теперь денешься. Она ведь жена твоего брата. Родня.
ТАМАРА. Жаль, мне эта родня тогда не попалась. Леночка эта твоя любимая. Я бы её так разгуляла, дорогу бы сюда забыла.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. А что тогда ? Она же ничего была.
ТАМАРА. Да уж, ничего! Такая “чего”, что дальше ехать некуда.
На кухню входит Дарья Васильевна, что-то забирает и снова уходит.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (на ходу). А у тебя всё всегда не слава Богу.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА (ей вслед). Даша, а куда большая миска делась?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Найди, я укажу. (Уходит.)
Звонок в дверь. Нина Васильевна бежит открывать. Входит дед Серёжа.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ой!
ДЕД. Незваный гость хуже татарина.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (заглядывая в прихожую). Кого это Бог нанёс?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Дед Серёжа. (Деду.) Здравствуй, дед, здравствуй. (Целуются.) Скажешь тоже — татарин! Ты же знаешь, как мы тебе рады всегда.
ДЕД. Добрый вечер. Здравствуй, Дашенька. Давно тут? Сто лет не виделись. (Целуется с подошедшей Дарьей Васильевной.)
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вчера приехала. Ну раздевайся же.
ДЕД. Долго пробудешь? А то я сейчас на минутку всего. Вот лекарство занести хотел, о котором тогда говорили. (Отдаёт лекарство.)
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет, ну вы подумайте. Мы не знаем, как тебя благодарить, а он думает, что мы его просто так отпустим. И с Дашей в кои-то веки встречаешься. Раздевайся. (Стаскивает с деда пальто.)
ДЕД. Да мне ещё в одно место. Приду на днях. (Дарье Васильевне) Ты-то надолго?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Подождёт твоё место.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Денисовы сейчас придут. Саша с Леночкой обещались.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Посиди, погрейся. Куда как лучше будет, чем по городу шастать.
ДЕД (отдавая пальто). Да, мороз сегодня.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Хоть зиму настоящую ещё раз увидели. А то всё какие-то сиротские.
Дарья Васильевна уходит в большую комнату, некоторое время хлопочет у стола. Дед и Нина Васильевна проходят на кухню.
ДЕД. Здравствуй, Томочка. Чем заняты?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ругаемся. Ты уж, Томочка, не надо. Мне, может, тоже не всё по душе. Но ведь он же её любит.
ТАМАРА. Любит! Просто она себя под него подложила — вот и вся любовь. А вот зачем ей это понадобилось, тут ещё как сказать.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Как так можно говорить! Как будто ты уверена, что она была непорядочная девушка.
ТАМАРА. Я не уверена, что она вообще была когда-нибудь девушка. Как родилась, так на всё сквозь сигаретный дым и смотрит с тех пор. А теперь из твоего сына верёвки вьёт. Повесить бы её на тех верёвках. Как была потаскуха, так и осталась.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет!
ТАМАРА. Не нет, а очень даже да.
Звонок в дверь.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Уже они, а мы ещё не готовы.
Нина Васильевна бежит к двери, открывает.
Входит соседка.
СОСЕДКА. Простите ради всего святого. Мне так неловко. Но я в совершенно безвыходном положении.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да ничего. А что случилось?
СОСЕДКА. Здравствуйте.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Здравствуйте. Мы тут на кухне сидим, извините, что так, проходите сюда.
СОСЕДКА. Да что вы, что вы, ничего. (Идёт вслед за Ниной Васильевной на кухню.)
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вот познакомьтесь. Это дядя моего покойного мужа. Мы его дед Серёжа зовём. Томочка, когда была маленькая совсем, так его называла. Ну, и мы теперь все тоже. (Деду, который встал навстречу гостье.) А это соседка наша.
ДЕД (целуя руку соседке). Очень приятно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да вы присаживайтесь.
СОСЕДКА. Да не беспокойтесь, не беспокойтесь. А я к вам с огромной просьбой. С огромнейшей. Понимаете, Боре дали сочинение про Базарова. На повторение. А я совершенно не знаю, что писать. И тема как-то странно сформулирована. Новая учительница. Вот (читает по бумажке) : “Базаров — лицо трагическое”. Я в совершеннейшей растерянности. В совершеннейшей. Это вообще у нас в прошлом году было. Я уж всё позабыть успела. Ну, абсолютно всё успела забыть.
ТАМАРА. А мы-то чем можем помочь?
СОСЕДКА. Да вот я подумала. У вас ведь дочь по этой части как будто учится. Может быть, у неё есть какая-нибудь литература соответствующая. Хоть почитаю.
ТАМАРА. Так Боре писать-то или вам?
СОСЕДКА. А! Боря! Боря вообще ничего не знает.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Сейчас спрошу. (Идёт к двери комнаты, где сидит Женя. Стучится. ) Женечка, на минутку.
СОСЕДКА. Это же ещё дети. Чего они могут?
ТАМАРА. Хорошо дитя. Женить пора. Аттестат через полгода.
СОСЕДКА. А! Они же все сейчас какие-то... Даже не знаю, как сказать... До тридцати лет всё дети.
ТАМАРА. Инфантилы.
Тем временем Женя вместе с матерью уже пришла и, стоя в дверях, слушает разговор.
ЖЕНЯ. А ещё пишут: акселераты.
ТАМАРА. Они акселераты, когда за стол садятся или у папы с мамой денег требуют.
СОСЕДКА. Ой, не говорите, не говорите! Но ума вот ни на столечко.
ДЕД. Да откуда же им ума набраться, если вы всё за них сами думать норовите?
СОСЕДКА. А что делать? Он же сам больше двойки не получит.
ДЕД. За битого двух небитых дают.
СОСЕДКА. А аттестат портить? Не шутка. (Жене.) Вы уж простите меня, но я подумала: может, у вас что по Базарову есть. Литература.
ЖЕНЯ. Пойду посмотрю. Есть как будто.
СОСЕДКА. Будьте так добры.
Женя уходит в свою комнату, некоторое время роется в книгах.
ДЕД. Так ведь придёт время — хочешь не хочешь, а придётся и своей головушкой поработать. Хвать — а не приучен.
СОСЕДКА. Ну, это ещё когда!
ДЕД. Да вот на экзамене выпускном хотя бы. Скоро уж.
СОСЕДКА. На экзамены я давно уже на сочинение записалась.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. То есть как?
СОСЕДКА. У нас родительский актив дежурства организует. Завтраки горячие, чай. Они же там полдня, а то и больше будут.
ТАМАРА. С голоду, бедненькие, перемрут.
СОСЕДКА. Ну, и по программе. Мы уже разделили всё. Подсказать если что.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. А учителя?
СОСЕДКА. Учителям тоже успеваемость нужна. Показатели-то портить не хочется.
ЖЕНЯ (входя). Вот тут про Базарова есть. (Подаёт книгу.) Ну и вообще. (Уходит.)
СОСЕДКА. Ой, как я вам признательна, как признательна. И какие всё книги толстые пишут. Когда я всё это прочитать успею?
Соседка идёт к выходу,
в дверях сталкивается с Валентином,
только что вошедшим.
ТАМАРА (вслед соседке, негромко). Раскудахталась. Курица.
СОСЕДКА (Валентину). Вот, литературу попросить. Боре сочинение, а я не знаю.
ВАЛЕНТИН (несколько небрежно, с явным желанием отделаться). Хорошо, хорошо. Идите. (Проходит на кухню.) А, дед Серёжа. Здравствуйте.
ДЕД . Вечер добрый. Со службы?
ВАЛЕНТИН (снимая пальто, шапку, которые подхватывает Тамара и несёт в прихожую). Откуда же ещё? Мороз, однако!
ДЕД. Мороз, а деньги тают...
ВАЛЕНТИН. Именно. Особенно у женщин. И главное: куда они их девают — для них и для самих секрет. Вот моя (указывает на вернувшуюся Тамару) — перед командировкой неделю назад премиальные ей отдал. Поминай как звали. Я говорю сегодня утром: ты хоть вспомни, так, для интересу, куда деньги-то ушли. Но так толку и не добился.
ТАМАРА. Как будто сам не транжирит.
ВАЛЕНТИН. Я бы, может, тоже все деньги просадил, если б не сдерживал себя.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА (чуть заискивая). Вот что значит — мужчина. Мы, бабы, ни за что порою не удержимся. Захочется иной раз чего — вот вынь да положь.
ТАМАРА. На это Леночка твоя любимая горазда. Пошла детям шубы покупать, вернулась — себе какие-то немыслимые юбки принесла. Два дня поносила — разонравились, бросила. А дети мёрзнут. Девчонка простудилась, с воспалением.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (входя). Ей бы и говорила, а то только попросту языком мелешь.
ТАМАРА. А то я не говорила. Зато, говорит, это обаятельно, это женственно!
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (Валентину). Это ты что ли пришёл? А то слышу шум, думала, гости уже.
ВАЛЕНТИН. Что за гости?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Денисовы должны. И Саша с Леночкой обещались.
ВАЛЕНТИН. И это по какому же поводу?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Это у таких как ты без повода ни шагу.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да просто так, навестить, давно не были.
ВАЛЕНТИН. Ну-ну!
Звонок в дверь. Нина Васильевна бежит открывать. Шумно входят Денисовы.
Дарья Васильевна, дед Тамара выходят в прихожую. Охи, ахи, приветствия, поцелуи, раздевание. Валентин, на которого никто не обращает внимания, усмехаясь на эту сцену, проходит в свою комнату. Зажигает свет.
За ним — Тамара.
ТАМАРА. Валь, надо к столу.
ВАЛЕНТИН. О Господи!
ТАМАРА. Мать обидится.
ВАЛЕНТИН. За что такие муки! Принесла бы сюда чего-нибудь рубануть.
ТАМАРА. Ну, потерпи. Мне что ли хочется?
ВАЛЕНТИН. Хоть при параде-то не обязательно быть?
ТАМАРА. Но только не в пижаме.
Валентин начинает переодеваться.
Суета в прихожей тем временем стихает.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Может, прямо к столу?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. А Саша?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да подойдут сейчас.
ДЕНИСОВА. Ниночка, ничего я сюда? Руки сполоснуть.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Конечно, конечно.
Денисова скрывается в ванной.
ДЕД (Денисову). Ну, как ты, Василий Палыч?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. В плуг уж не годится, а в борону ещё можно. (Идёт на кухню за какой-то надобностью.)
ДЕД. Ничего, старый конь борозды не испортит.
ДЕНИСОВ. Да ведь и глубоко уж не вспашет.
ДЕНИСОВА (выходя из ванной). Вася, зайди.
Денисов идёт в ванную, в этот же момент Дарья Васильевна выходит из кухни.
Вы, Дарья Васильевна, надолго в наши края?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Как Бог даст. Насчёт пенсии точнее разузнать. А то наши или не знают ничего, или скрывают. Говорят, какие-то надбавки положены. И к врачам заодно. (Деду) На вот лучше, неси на стол, чем столбом тут стоять. (Протягивает ему какую-то кастрюлю, оба идут в большую комнату.)
ДЕНИСОВА. Ниночка, может чего помочь?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да не беспокойся ты, пожалуйста. Вот, наверно, только стульчик с кухни надо ещё захватить. (Обе идут на кухню.)
ДЕНИСОВА. Ну, а Александр как?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да как! По-всякому. Аспирантуру вот кончить должен скоро. На кафедре прикреплён. Преподаёт.
ДЕНИСОВА. Профессор уже!
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Не говори!
ДЕНИСОВА. Живут-то всё там же?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. А где же ещё. У Леночки с матерью её.
ДЕНИСОВА. Молодым-то, наверно, не очень удобно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да кое-что как будто намечается. Но не хочу раньше времени говорить. Боюсь сглазить. Твои-то как?
ДЕНИСОВА. Лучше не спрашивай. Потом как-нибудь.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да, много с ними переживаний... Ой, а что я тут вынесла недавно. Семён, братец Романа моего...
ДЕНИСОВА. Что такое?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да умер, вот уже две недели.
ДЕНИСОВА. Господи, какой ужас.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. И перед смертью, представь себе, завещал похоронить себя в одной могиле с братом. В Щербинку не захотелось ехать. Ну, а мы при чём? Это нашей семьи участок. Там у меня и мама, и папа. Роман, ладно, мой муж. А этого с какой стати? Я там и памятник, и гранитом обложила. Сколько денег. А этот задарма подхорониться захотел.
ДЕНИСОВА. Действительно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Когда у нас дети ещё маленькие были — вот поверишь ли: конфетки ерундовой не купил никогда. А когда Роман умер! Он хоть чем-нибудь помог, когда я в таком состоянии?
ДЕНИСОВА. Да не принимай ты так близко к сердцу!
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Я им так и сказала: везите в Щербинку, а тут ему делать нечего.
ДЕНИСОВА. Ну, и правильно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. А переживаний-то сколько! А, да ладно... Слушай, пойдём я тебе покажу, какой мы костюмчик Женечке купили... Ой, а зачем мы сюда-то приходили?
ДЕНИСОВА. За стулом. Ничего, мужиков кого-нибудь пошлём.
Обе выходят в прихожую, где сталкиваются с Денисовым, вышедшим из ванной.
ДЕНИСОВ (Нине Васильевне). Ну как, начинающая пенсионерка? Ощутила уже прелесть заслуженного отдыха?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Тут не до того. Хочу вот подработать устроиться. Денег-то, сам знаешь, сколько назначают.
ДЕНИСОВ. Ничего, выправится. Зато вот хочу сказать: тепло-то у вас как! А у нас!
ДЕНИСОВА. Ой, не говори! Прямо северный полюс.
ДЕНИСОВ. Я бы этого начальника... как они там теперь называются... ЖЭК... ДЭЗ... только названия менять не устают, запомнить не успеваешь...
ДЕНИСОВА. Иди лучше на кухню, захвати там стул и неси в столовую.
ДЕНИСОВ. Слушаюсь! (Отправляется на кухню.)
НИНА ВАСИЛЬЕВНА (стучится в среднюю комнату). Валентин, Томочка!
ТАМАРА. Сейчас.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА (стучится к Жене, потом входит вместе с Денисовой). Женечка! Пора. Я тут хочу вот Клавдии Петровне твой костюмчик показать новый. Поздоровайся только.
ЖЕНЯ. Очень интересно! (Встаёт, направляется к двери.) Здравствуйте, Клавдия Петровна.
ДЕНИСОВА. Здравствуй, милая. Ну как ты?
ЖЕНЯ. Нормально.
Женя выходит, идёт в большую комнату.
Нина Васильевна достаёт костюм, показывает его Денисовой. Обе его рассматривают, обсуждают и т.д.
ДЕНИСОВ (входя в большую комнату со стулом). Куда садиться прикажете?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Гость как чирий: где захочет, там и сядет.
ДЕНИСОВ. Тогда я вот к деду.
ДЕД. От деда слышу.
ДЕНИСОВ. Я вот и говорю: прошлой весной, да и осенью этой — на улице жарища. А они топят — не продыхнёшь.
Входят Валентин и Тамара.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Жар костей не ломит.
ДЕНИСОВ. Да это же форменное вредительство. И концов не найдёшь.
ВАЛЕНТИН. А вы чем недовольны? Жарко — откройте форточку.
ДЕНИСОВ. Да это же фактически улицу отапливать.
ВАЛЕНТИН. А вам-то что?
ДЕНИСОВ. Вот оттого и профукали всё, что так рассуждаем. Государству же вред. А тот, кто должен соблюдать его интересы,— ни хрена не делает, чтобы этого безобразия не было. Гнать таких к чёртовой матери!
ВАЛЕНТИН. Почему это?
ДЕНИСОВ. Не на своём месте сидят.
ВАЛЕНТИН. Ваша ошибка в том, что вы навязываете людям абстрактную логику. А они как раз на своём месте, но только с точки зрения их собственной — не абстрактной, а жизненной логики.
ДЕНИСОВ. Какой такой собственной?
ВАЛЕНТИН. Да такой. По вашей логике эти должностные лица посажены на своё место, чтобы блюсти интересы государства. А у них своя логика. С точки зрения этой логики, они занимают свои должности, чтобы иметь себе как можно больше материальных выгод и поменьше хлопот и беспокойства. Что их логика именно такова, видно из их же действий: для материальных выгод они воруют кто сколько может и берут взятки, а для сведения коэффициента беспокойства к нулю — ни хрена, как вы изволили выразиться, не делают. По-моему, всё очень логично.
ДЕНИСОВ. Нет, тут логика может быть только одна: если ты сидишь на государственной должности, то должен соблюдать государственные интересы.
ВАЛЕНТИН. А что такое, это ваше государство?
ДЕНИСОВ. Как что? Ты дурачком-то не прикидывайся. Государство — это все мы.
ВАЛЕНТИН. Должностные лица, следовательно, тоже частица государства?
ДЕНИСОВ. Ну?
ВАЛЕНТИН. Значит, их личные интересы это тоже частичка общих государственных интересов. Необъятного не обнимешь. Вот они и пекутся о той частичке, которая к ним ближе. Вы ведь тоже о своём: чтобы вам лично хорошо топили.
ДЕНИСОВ. У нас во всём доме не топят.
ВАЛЕНТИН. Да если бы во всём доме топили, а у вас нет, вы бы точно так же были бы недовольны.
ДЕНИСОВ. Да, но...
ВАЛЕНТИН. Вот именно: но! Каждый только о себе думает. Вот у меня новый зав лабораторией. С вашей точки зрения, его должность состоит в том, чтобы науку двигать. А у него свой взгляд на вещи. Он это место выцарапал, чтобы докторскую сляпать легче было. С точки зрения этой логики, он действует безупречно. Вся лаборатория на него работает. Хотя к науке его тема, может быть, и не имеет никакого отношения. А настоящие и стоящие темы он зарубил, чтобы не было конкурентов. Но я его очень понимаю.
ЖЕНЯ (иронично). А он тебя?
ВАЛЕНТИН (в тон ей). И он меня.
Входят Нина Васильевна и Денисова.
ДЕНИСОВ. Оттого вот так и идёт у нас всё наперекосяк, что очень много мы все понимаем. А я вот...
ДЕНИСОВА. Да сиди уж ты. Тоже государственный деятель нашёлся.
ДЕНИСОВ. Так и не ной тогда, что холодно. Чего ж ты жалуешься? А всё оттого, что они, может, тот уголь, которым сейчас топить бы надо, они его в жару сожгли.
ДЕНИСОВА. А я что? От меня что ли зависит?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ладно вам! В кои-то веки придут, и тут же ругаться.
Звонок в дверь.
Ну, вот и Сашенька. Рассаживайтесь. Томочка, ухаживай. А вы все тоже не стесняйтесь. Берите кому что...
Нина Васильевна бежит к двери, открывает.
Входит Лена.
ЛЕНА. Здравствуйте, Нина Васильевна.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Здравствуй. Одна? А Саша?
ЛЕНА. Да мы договорились уже здесь встретиться. А его ещё нет? (Начинает раздеваться.)
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет пока. (Берёт у неё одежду, размещает на вешалке.) Как мама?
ЛЕНА. Нормально. (Вместе с Ниной Васильевной входит в общую комнату.) Здравствуйте.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. А Сашка где же?
ЛЕНА. Он предупреждал, что может задержаться.
Все здороваются с Леной. Дед даже встаёт. Тамара молчит. Нина Васильевна мимикой и жестами просит её сдерживаться. Начинается обычная застольная процедура. Разливают, пьют “со свиданьицем”. Хозяева ухаживают за гостями, раскладывают, советуют попробовать и т.д.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (Лене). Где же ты Сашку-то потеряла?
ЛЕНА. Нигде я его не теряла. Сам потерялся. В церковь пошёл. Какой-то там праздник церковный.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Просто не знаю, что и делать. Как можно себя так истязать!
ДЕНИСОВА. Что такое?
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да представь себе: каждую неделю в церковь, и не один раз.
ЛЕНА. В субботу вечером и в воскресенье утром как минимум.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. А сколько там праздников, оказывается, в церкви в этой — не сочтёшь. И ничего не пропускает. Даже занятия иной раз отменяет. Понравится такое начальству? Сейчас, конечно, либерально на это смотрят, не то что прежде. Но уже тоже косятся.
ДЕНИСОВА. Мы в прошлом году на Крестный ход ходили. Красиво.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет, ну иногда можно. Крестный ход... или там свечку поставить. Я сама хожу иногда записочку подать. За здравие и за упокой. Но ведь не так же, как он! Вот когда он венчаться настоял, так даже Леночка согласилась.
ЛЕНА. Торжественно так. Мне понравилось.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вот. И детей окрестили. Когда на самом деле нужно, пожалуйста.
ДЕНИСОВА. И ведь ничего там не поймёшь. Я как-то зашла... на заутреню что ли... ну как там это называется? Это утром которая... Ничего не поняла. Чего-то поют, читают — так, что не разберёшь. Хоть бы по-русски что ли... А то всё по-церковному там по-своему. И бабки какие все злые. Всё оговаривают, шпыняют. Я уж старалась всё как другие делать. Посмотрю, и сама так же. Так что-то всё-таки не так сделала. Так она ко мне подошла специально и обругала: не так, мол, сделала. Так ты покажи, если не так, я же не нарочно. Покажи: как. А она такая злыдня. Не пойду теперь в церковь эту никогда.
ДЕНИСОВ. И как это теперь можно в какого-то Боженьку верить, когда уже известно, что есть космос!
ДЕНИСОВА. А ты не оговаривай. Он верит, значит, для него Бог есть. А у тебя нет. И успокойся.
ДЕД. Ну, уж если Бог есть, то не зависит, верят в Него или нет.
ДЕНИСОВ. Нас воспитывали на антирелигиозной пропаганде.
ДЕД. Так воспитали, что теперь всё прахом скоро пойдёт.
ЛЕНА. Наоборот, теперь ничто не должно мешать прогрессу. Надо верить не в Бога, а в человека. Там, где цивилизация, там от религии уже отказались. Теперь постхристианская эпоха. Эпоха Водолея. А всем управляет информативное поле.
ДЕД. Подумать только, каким вздором вас понапичкали.
ЛЕНА. Просто вы принадлежите к ушедшему времени.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да, уползло время. И хоть ты теперь за ним вскачь пускайся — не догнать.
ЛЕНА. А нашего времени вам не понять.
ДЕД. Да где уж нам дуракам чай пить.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да подожди, скоро поставим. Даша вон специально пирог испекла.
ЛЕНА. Теперь новый ритм жизни.
ДЕД. Да чего нового-то? Суеты больше, да спешки всеобщей.
ВАЛЕНТИН. Всё намного проще. С вашими отсталыми понятиями со скуки помереть можно.
ЖЕНЯ. Ну и пусть спешка. Мы просто хотим многое успеть.
ЛЕНА. Неужели вы не видите, какая скучная и серая, эта ваша неторопливая и размеренная жизнь?
ДЕД. По молодости лет вам это можно простить, такое мнение. Но бойтесь оставаться в таком заблуждении и дальше. Незрелость мысли нужно преодолевать.
ДЕНИСОВ. Ну, дед, ты тоже не прав. Вот я помню, по телевизору один писатель выступал. Вот, говорит, у меня выписки чуть ли не с первобытных времён, и всегда, оказывается, старики молодёжь ругали. Смеялся он.
ЖЕНЯ. Вот именно. Это же естественно: старикам мило своё, старое. А новое им часто не по вкусу. Но жизнь-то движется вперёд именно молодыми.
ДЕД. Эх, Вася, знаю я эти выписки. Мне мой приятель, профессор истории университетский, по поводу этому знаешь что сказал: все эти изречения относятся к периодам кризисных ситуаций. Вот так-то. Так что твоему писателю задуматься бы прежде, чем зубоскалить-то.
ЖЕНЯ. Что же, у нас кризисная ситуация что ли?
ВАЛЕНТИН . Просто старым — старое, молодым — новое.
ДЕНИСОВ. У нас отец, если хлеб кто уронит, лупил всех за это. И объяснял: хлеб из земли. Мы на земле работаем, пот льём. Из-за земли воюют, кровь льют, землю делят. Это они хлеб делят. Неграмотный был, а всё понимал. Если кто штаны порвал — ничего. А за хлеб лупил.
ЛЕНА. Вам волю дай, вы бы всех лупили.
ДЕНИСОВ. Прежде — не поздоровался со старшим, тебе подзатыльник. В следующий раз заметишь. И приучили.
ВАЛЕНТИН. Каждый должен жить так, как ему хочется.
ДЕНИСОВ. А теперь я вон смотрю: в школе перемена, вот такие сопляки вместе с учителями на крыльцо выходят курить. И к бутылке...
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да что к бутылке! Ещё и хуже того, говорят.
ЛЕНА. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт.
ДЕД. Я бы тех дуралеев, кто эту глупость повторяет, я бы их в принудительном порядке хоть раз заставил посмотреть, как умирают не здоровенькие. У меня друг так умирал. Услышать бы вам его крик.
ЖЕНЯ. А что с ним было?
ДЕД. Всё нутро прокурил. Рак.
ЛЕНА. Как будто у всех обязательно и рак.
ДЕНИСОВА. Ой, не дай Бог.
ДЕД. Вот мой друг тоже так думал, очевидно. Все мы оптимисты до поры до времени: с нами-то ничего никогда не случится. Это всё только с другими.
ВАЛЕНТИН. А надо думать, что с нами обязательно только плохое будет?
ЛЕНА. Хорошенькая жизнь настанет.
ДЕД. Просто хотя бы глупостей чужих не повторять.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
ДЕНИСОВ. Чему суждено случиться, то случится непременно.
ВАЛЕНТИН. Вот и я говорю: кому суждено случиться, те случатся обязательно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ну как вы так, Валентин!
ТАМАРА. Гадостей хотя бы не говорил.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Выросли, а ума не вынесли.
ЛЕНА. А вы о нас не печальтесь.
ДЕД. Да о ком же печалиться-то? Неужто о себе? Так если что нищему пожар не страшен: шапку в охапку и айда в другую деревню. Нам-то уж помирать.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Помрём — закопают. Поверх земли не останемся.
ДЕД. Один только среди всех умный отыскался, как я посмотрю. Стоит там в Божьем храме, может, и за нас молится. (Дарье Васильевне) Ты вот часто в церковь ходишь?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. У нас ближняя церковь — тридцать вёрст. И доехать не на чем.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да времени ведь не выберешь. То то, то это. А там долго ведь стоять.
ДЕНИСОВА. Ой, да все ноги отвалятся, пока стоишь.
ДЕД. Вот чему я всё удивляюсь. Я не про других, а про себя прежде всего. На всё время выбираем, на любую суету. А чтоб о душе подумать — и минуты не найдётся. О том, что здесь — обо всём заботимся, а чтобы подумать, что там нас ожидает...
(Машет рукой.)
ЛЕНА. Бабушкины сказки всё это, ничего там нет.
ДЕНИСОВ. А то ещё заявляет: купите мотоцикл, буду учиться. Я б его выдрал как следует, чтоб знал. Идёт дитя с усиками и деньгами швыряется, а сам в институте еле учится, куда его отец за деньги устроил. Что ему деньги, когда отец в мафии. И сам такой будет. Вот и тратит в день немерено. А если б у него этого не было, разве вёл бы себя так? Сами тунеядцев расплодили. Всё дерьмократы.
ДЕД. Я вот чего боюсь: одиночество вы себе готовите. Любви в вас настоящей мало.
ВАЛЕНТИН. Это почему же? Вот у меня приятель недавно по любви женился: к деньгам. Деньги очень любит.
ДЕНИСОВА. Что говорить! Только и думают, чего бы такое от нас взять. А болеть и не думай, ухаживать не станут. Хоть ты тут мать сдохни.
ТАМАРА. Каждый любит для себя. Бескорыстной любви не бывает.
ДЕНИСОВА. Бескорыстная любовь только у матерей. Святая любовь.
ТАМАРА. По части святости — это особенно у нашей Леночки.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Томочка!
ЛЕНА. А что же я, в пелёнках должна зарыться? Самое настоящее мещанство.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Ребёнку мать нужна.
ЛЕНА. Ничего. Поменьше видеть будут, больше любить станут. Нечего их баловать.
ТАМАРА. Вот-вот. А Леночка в это время... (выразительно замолкает).
ЛЕНА. Что Леночка?!! Что ты всё — Леночка?! Я тебе в щах что ли попалась, что ты меня всё словом поминаешь?
ТАМАРА. То-то взъерепенилась. Правда глаза колет.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Томочка! Леночка!
ЛЕНА. Какая ещё правда! Ну, какая?
ТАМАРА. Такая. Сказала бы, да мараться не хочется. (Пауза .) Он тебе чужой, потому тебе и плевать. А мне он брат.
ЛЕНА. А мне муж.
ТАМАРА. Что-то ты забываешь об этом порою.
Лена вскакивает с места, бежит к двери.
На пороге останавливается.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да что вы как с цепи сорвались!
ЛЕНА. На себя посмотри!
ТАМАРА. А чего мне на себя смотреть. Я не как некоторые.
ЛЕНА. Тебе до меня ещё семь вёрст дерьмом плыть, и то не доплыть.
ТАМАРА. А я и не поплыву. Я к тебе вон на метро за две остановки никогда не ездила, не то что плыть.
Лена выбегает, торопливо одевается.
Нина Васильевна — за ней.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Леночка!
ЛЕНА. Нина Васильевна! У меня к вам никаких претензий. Но пока ваша дочь здесь, ноги моей тут не будет. Всего хорошего.
Лены выбегает, хлопнув дверью.
Нина Васильевна возвращается к столу.
Плачет.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Просила ведь. Неужели трудно было сдержаться?
ТАМАРА. Очень надо.
ДЕНИСОВА. Ну не бери так близко к сердцу. Это ещё не самое страшное.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Бесимся мы тут всё, бесимся, а Господь Бог сверху смотрит и, небось, думает: и дураки же вы все.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Просила ведь.
ТАМАРА. Туда ей и дорога.
ДЕД. Несчастный ты человек, Тамара.
ТАМАРА. Почему это?
ДЕД. Злобы в тебе много. А какое в том счастье?
ТАМАРА. А с чего мне не злой-то быть?
ДЕНИСОВ. Мне в 18 лет подарок сделали: ремень со стены убрали.
Валентин молча встаёт и идёт в свою комнату.
ДЕД. Ну, ладно. И мне пора.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. И ты уходишь? Что же это! Посидел бы.
ДЕД. И так засиделся. Ты это близко к сердцу не принимай. Вы тут продолжайте, провожать меня не надо. Дорогу до двери найду как-нибудь.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Скажешь тоже! (Поднимается.)
ЖЕНЯ. Ты, мама, сиди, я провожу.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Проводи, Женечка.
Дед прощается со всеми. Нина Васильевна садится и тихо плачет, вытирая глаза. Денисова её утешает. Тамара угрюмо молчит. Денисов наполняет рюмку и пьёт. Дед и Женя выходят в прихожую. Дед одевается, Женя ему помогает.
ЖЕНЯ. Дед Серёжа. Ты вот такой умный. Я спросить хотела.
ДЕД. Это точно: ума палата, да вся дыровата.
ЖЕНЯ. Почему у нас так разводов много?
ДЕД. Что-то ты рано об том заговорила. Сначала замуж надо выйти.
ЖЕНЯ. Насмотрелась на этих... Вон у наших хотя бы. У Томки с Валентином вооружённый мир. Леночку эту распрекрасную сам видел только что. Сашку жалко... Так что: готовь сани летом.
ДЕД. Да такие сани лучше не готовить.
ЖЕНЯ. А ещё говорят: любишь кататься, люби и саночки возить. Народная мудрость.
ДЕД. Да ты умнее меня.
ЖЕНЯ. Ну, правда, мне нужно.
ДЕД. Я тебе расскажу один анекдот. Не совсем, правда, приличный, ну, да по нашим скороспешным временам я тебе, почитай, в прадеды гожусь, так что ничего. Так вот, стало быть, в медицинском институте дело было. На экзамене. Пришла студентка сдавать, вот вроде тебя, такая же молоденькая, а профессор, такой из старых ещё профессоров, из старомосковских интеллигентов коренных, так вот он ей, этак игриво отчасти, и говорит: А вы, голубушка, расскажите мне всё про орган любви. Ну, она, очевидно, всё знала, рассказала ему. Он выслушал и грустно так говорит: Всё вы, милая барышня, хорошо знаете. Не знаете только одного: органом любви у людей с давних времён сердце называлось... Вот тебе и ответ. Вы плохо знаете, что такое любовь. Томление юных тел за любовь принимаете. Вот и поразмышляй над этим на досуге. А я, как у нас нынче говорится, — побежал.
Женя провожает деда, но затем не возвращается ко всем, а уходит в свою комнату.
ДЕНИСОВА. Какая-то эта молодёжь изнутри вся измученная.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Жареный петух ещё не клевал как следует.
ДЕНИСОВ. Да... Вот, например, банка консервная. Я читал, их за границей собирают в специальные баки. А мы выбрасываем. А тут ценный металл. Это тоже что ли особая логика?
ДЕНИСОВА. Надоел ты со своими банками. (Замечая, что муж собирается налить себе рюмку, отбирает у него водку.) Куда! И так уж на втором взводе.
В это время из своей комнаты выходит Валентин, закрывается в туалете.
ДЕНИСОВ. Тогда “День да ночь споём”.
ТАМАРА. И как вам только не надоест.
ДЕНИСОВА. Мы, помню, однажды два часа пели без остановки. Тут тоже своё искусство.
ТАМАРА. Да уж, искусство.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ладно, такова, видно, наша доля... Запевай, Клава.
Денисова начинает, другие подхватывают, через какое-то время даже Тамара.
Начальные слова становятся своего рода канвой, по которым составляется весь последующий нехитрый текст. Это своего рода импровизация, текст может варьироваться как угодно долго. Дальнейшее действие идёт на фоне этой песни. Порою первую строчку начинает кто-то один, остальные продолжают. Поют самозабвенно, негромко.
День пройдёт, настанет вечер,
Пройдёт вечер, будет ночь,
Ночь пройдёт, настанет утро,
Пройдёт утро, будет день.
После дня настанет вечер,
Вслед за вечером и ночь,
После ночи снова утро,
А за утром новый день.
День пройдёт, и солнце сядет,
Вечер звёзды вновь зажжёт,
И опять на небе месяц
Будет ночку напролёт.
Пройдёт ночь, настанет утро,
На работу мы пойдём,
День пройдёт, настанет вечер,
И опять домой придём.
Пройдёт вечер, будет ночка,
Станем все мы отдыхать,
А проснёмся снова утром,
Поработаем опять.
День пройдёт, настанет вечер,
А потом и снова ночь,
Ночь пройдёт и снова утро,
Вот и снова сутки прочь.
День пройдёт, и солнце сядет,
И придётся лечь нам спать,
А потом настанет утро,
Надо будет всем вставать.
Если новый день — воскресный,
Мы пойдём тогда гулять,
Ну а если ж это будни,
Днём работаем опять.
После дня работы будем
Вечер дома мы сидеть,
Выпьем чаю и до ночи
Телевизор всё глядеть.
Ночь пройдёт, и снова утро
Вслед за ночью к нам придёт,
А за утром день и вечер
Вновь настанут в свой черёд.
Днём должны мы все обедать,
Ужин вечером нас ждёт,
На ночь много есть не нужно,
Кто фигуру бережёт.
Поутру за стол мы сядем,
Завтрак сами весь съедим,
С другом мы обед поделим,
Врагу ужин отдадим.
После ужина мы ляжем,
И всю ночь мы будем спать,
А потом настанет утро,
А за утром день опять.
Пройдёт день, настанет вечер,
Пройдёт вечер, будет ночь,
Ночь минует, будет утро,
Вот и снова сутки прочь.
После утра день настанет,
Солнце землю напечёт,
Но придёт к нам снова вечер,
Он прохладу принесёт.
Пройдёт вечер, ночка будет,
Ночью спать мы будем вновь,
Но зачем, зачем нас мучит
Эта самая любовь?
После ночи утро снова
День на землю приведёт,
Пройдёт день и снова вечер
Нам покой и мир несёт...
И т.д.
В момент начала песни в квартиру входит Саша, открывший дверь своим ключом. Когда он вешает пальто , открывается дверь туалета, слышен звук спускаемой воды. Появляется Валентин.
ВАЛЕНТИН. Привет.
САША . Здравствуй. Уже вернулся?
ВАЛЕНТИН. Вчера.
САША. Лёля тут?
ВАЛЕНТИН. Только что ушла.
САША. Как! Мы же договаривались...
ВАЛЕНТИН. Да бабы! Чего-то не поделили моя с твоей. Пособачились.
САША. Но что случилось-то?
ВАЛЕНТИН. Я у себя был. Слышал только, что лаялись.
САША (берётся за пальто). Тогда я пойду.
ВАЛЕНТИН. Мать обидится. Хоть покажись.
САША. Да, только загляну... (Хочет идти в общую комнату.)
ВАЛЕНТИН. Не ходи пока, пусть попоют, успокоятся. А то опять начнётся. Слёзы, то да сё.
САША . Но Лёля...
ВАЛЕНТИН. Ничего с ней не случится. Пусть и она отойдёт. А то только подхлестнёшь. Если бабе вожжа под хвост попадёт...
Валентин открывает дверь в свою комнату,
жестом приглашает Сашу. Оба входят, устраиваются.
ВАЛЕНТИН. Распустил ты её. А баба, знаешь, как лошадь: не умеешь на ней ездить — сбросит. Пока ты там по своим богомольям ходишь...
САША. Ты где был-то?
ВАЛЕНТИН. Да в Уральский филиал ездил.
САША. И чего там делал?
ВАЛЕНТИН. Только и делал, что ничего не делал. Главным образом, пользовался успехом у женщин. Надеюсь, мужская солидарность для тебя выше, чем родственные связи, и твоя сестрица...
САША. Ты же знаешь: я считаю, что нельзя вмешиваться. Кроме вреда — ничего. Сами разбирайтесь.
ВАЛЕНТИН. Главное: не пускать круги по воде, а остальное никого не должно касаться.
САША. И тебе ещё не надоело это?
ВАЛЕНТИН. Это никогда не надоест. Я только во вкус вошёл. Сам попробуй — за уши не оттащишь.
САША. Ты так уверен?
ВАЛЕНТИН. Ах, да! Ты у нас известный чистоплюй. Как одна девка у нас в лаборатории. Я её тут хотел прижать однажды, а она говорит: без любви это пошло.
САША. Я тоже так думаю.
ВАЛЕНТИН. Я и говорю. Подобные ископаемые ещё встречаются... Но только вы не правы. Что значит — без любви? Может быть, сперва её и нет, но потом (подмигивает) мы её делаем. Без любви нельзя. Знаешь анекдот? Маленькая девочка спрашивает: мама, а что такое любовь? А мама отвечает: не говори никогда этого нехорошего слова, его придумали мужчины, чтобы не платить женщинам. Вот так. Ты знаешь: очень мудро. Без любви, действительно, я тебе скажу, дороже обходится.
САША. Я недавно прочитал у Ларошфуко: в любовных похождениях есть всё что угодно, кроме любви.
ВАЛЕНТИН. Один дурак сказал, а другие повторяют.
САША. Слушай, зачем ты женился?
ВАЛЕНТИН. Если бы так у нас в лаборатории сказанул, тебя бы оборжали.
САША. Смешно — пусть смеются. Для здоровья полезно.
ВАЛЕНТИН. Пацан ты ещё.
САША. Так я по-детски и спрашиваю: ты ведь Томку не любишь?
ВАЛЕНТИН. Мужику надо, чтобы его кто-то обхаживал. К месту надо пристроиться. А потом нужна регулярность. Бабы на стороне — это хорошо. Это прекрасно. Но ведь это от случая к случаю. А жена всегда под боком — в прямом смысле. Постоянно с чужими бабами хороводиться — хлопотно, да и накладно. Что тоже немаловажно. Такова, как говорится, се ля ви.
САША. Достаточно цинично.
ВАЛЕНТИН. Не то. Трезво. На жизнь надо глядеть без иллюзий. Только тогда в ней всё и поймёшь.
САША. Ты всё уже понял?
ВАЛЕНТИН. Вот у Томки шеф. Он хорошо сказал. Мы когда его защиту обмывали. С Томкой я ходил. Так вот он сказал. Жизнь, говорит, есть мордобой: если не ты, то тебя. Ростислав Аркадьевич Баранников. У него раньше парень был один, они вместе работали. То есть работал больше тот, а этот при нём был. Сам-то он не очень волокёт. А когда работа к концу, он, шеф томкин нынешний, того под суд, а результаты себе, и доктором стал. А тот сидит. Вот так.
САША. Постой. Как это он его под суд? За что?
ВАЛЕНТИН. Ну, положим, было за что. Тот парень умный. Пожить любил. Бабы, то да сё. Ну, и химичил кое-чего. Наркотики синтезировал. Я в подробности не вникал. Так Ростислав знал и даже как-то там ему подыгрывал. А когда время пришло, сообщил куда следует. А из себя невинность изобразил. Я, мол, знать ничего не знал. А теперь возмущён. Честь советского учёного. Это ещё при сов. власти было. Ну и так далее. Общий привет. И теперь академиком будет. Одного какого-то там тоже гения до самоубийства довёл, чтобы конкурентом не был.
САША. Ты этим как будто восхищён.
ВАЛЕНТИН. Так уж жизнь устроена. Как говорит один мой знакомый: кому в Ниццу, кому в Винницу, а кому в задницу.
САША. Тебе в Ниццу?
ВАЛЕНТИН. Мне пока что в Сочи. А потом, надеюсь, на Канары.
САША. Слушай, а почему вы ребёнка не заведёте?
ВАЛЕНТИН. Дети, как говорится, цветы жизни, но мне не нравится, как они пахнут.
САША. Я вчера Севку спрашиваю, он тихий такой сидит. Я говорю: ты что так сидишь? А он: я в своей голове думаю. Надо же так сказать!
ВАЛЕНТИН. Сколько ему уже?
САША. Пятый пошёл. А Машке два.
ВАЛЕНТИН. Лет через пятнадцать они тебе на голову сядут.
САША. Почему обязательно сядут?
ВАЛЕНТИН. А ты на других посмотри.
САША. Послушай, ну зачем ты везде одни только гадости хочешь видеть?
ВАЛЕНТИН. Затем, что я жизнь знаю.
В соседней комнате Тамара вдруг спрашивает, ни к кому не обращаясь:
Куда Валентин-то делся? Выходит в коридор, заглядывает на кухню, гасит свет.
САША. Разве знание жизни в том, чтобы кроме грязи ничего не замечать? Только себя этим пачкать.
ВАЛЕНТИН. Не пысай в компот: там ягодки.
САША. Мне неприятен этот разговор. Я пойду.
ВАЛЕНТИН. Лучше всех хочешь быть! Правильно Ленка тебе... Учить таких надо!
САША. Что?!
ВАЛЕНТИН (с неожиданным озлоблением). А то. Ты думаешь, Машка — твоя? А она вот моя!
Открывается дверь, на пороге — Тамара, но Валентин не замечает её.
Это был краткий эпизод в нашей общей автобиографии. А с твоей женой мы решили не устраивать трагедий и остаться просто друзьями. А! Вот так-то, чистенький! Нюхай свои цветочки.
ТАМАРА (злобно). Я знала. Чувствовала ведь, чувствовала...
За столом поют:
День пройдёт, настанет вечер,
Пройдёт вечер, будет ночь,
Вслед за ночью снова утро,
А потом и новый день...
Часть вторая
Эпизод первый
Комната Саши.
Саша, Тамара.
ТАМАРА. Ну, и что теперь?
САША. Ничего.
ТАМАРА. Ну, как так ничего, как ничего! Всё так и останется?
САША. Валентин был в явном раздражении. Чего со зла не скажешь. Он тоже говорит теперь, что наврал.
ТАМАРА. А что ему ещё остаётся? Видеть его не могу.
САША. По-моему, вы давно друг друга едва терпели.
ТАМАРА. Он последнее время всё время меня раздражал. Еле сдерживалась.
САША. Это в тебе мира не было.
ТАМАРА. А ты её что, ни о чём не спрашивал?
САША. Зачем?
ТАМАРА. Я на развод подаю.
САША. Он не из тех, кто благородно уходит, не хлопнув дверью.
ТАМАРА. Пускай. (Начинает кричать.) А что же, теперь всё так и оставить, как будто ничего не произошло?!
САША. Не кричи. Машка спит.
ТАМАРА. Машка! Тебе чужого ребёнка подкинули, а ты как идиот. Нет гарантий, что и первого не нагуляла. На тебя же смотреть — сердце кровью обливается.
САША. А что ты предлагаешь?
ТАМАРА. Слушай, ты же красивый парень. На тебя девки украдкой косятся. Ты что, себе бабу хорошую найти не сможешь! Швырнуть ей её выблядков, и пусть сама расхлёбывает.
САША. Как тебя твоё несчастье покорёжило.
ТАМАРА. Ты, видать, очень счастливый.
САША. Мы сегодня с Машкой гуляли, а домой пошли — лифт не работает. Я её тащил, тащил, потом остановился передохнуть, поставил. Ох, говорю, Маша, устал. А она сама начала по лестнице карабкаться — лезет, пыхтит: Утяй папа, утяй. Устал, значит.
ТАМАРА. Блаженный ты что ли?
САША. Да не я блаженный, а вы все чокнутые.
ТАМАРА. Кто это — мы?
САША. Да ты хотя бы. И Валентин твой.
ТАМАРА. Он теперь такой же мой, как и твой.
САША. Давай договоримся: дети ни в чём не виноваты, а если взрослые куролесят, то эти-то почему страдать должны? Если мы и ошиблись в чём, то нам и расхлёбывать.
ТАМАРА. Мало ли на свете чужих детей. Всех не приветишь.
САША. Эти не чужие. Они мои.
ТАМАРА. Смотри, она тебе таких “твоих” ещё в подоле принесёт. Долго ли умеючи!
САША. Я же просил: не кричи. Когда я женился, меня никто к тому не принуждал. Мне и отвечать.
ТАМАРА. Его окрутили, дурака...
САША. Я не стану дискутировать по поводу правомерности твоей терминологии. Пусть бы ты была и права, теперь говорить об том бессмысленно. Это мой крест. Я за них теперь отвечаю.
ТАМАРА. Перед кем!
САША. Перед Богом.
ТАМАРА. Нужен ты своему Богу! Где Он, этот твой Бог! И чего же Он терпит, когда всё так устроено.
САША. Да, терпит вот нас. Это мы всё так устроили, потому что отвечать ни за что не хотим. Ну, хорошо, пусть ты в Бога не веришь. Но перед совестью-то хотя бы отвечать придётся.
ТАМАРА. Кому нужна эта твоя совесть!
САША. Она мне нужна.
ТАМАРА. Нашёл себе Бога! И всё какие-то Ему жертвы приносишь.
САША. Или действительно, время такое, что мозги у всех набекрень? Что ты говоришь? Какие жертвы? Вот что ужасно: ты не можешь понять, что нет никаких жертв.
ТАМАРА. Прям зла на тебя не хватает.
САША. Это хорошо, что не хватает: чем меньше зла, тем лучше... Тебе бы ребёнка надо было завести.
ТАМАРА. Этого мне только и не хватало.
САША. Я в газете сегодня прочитал. Прямо как нарочно. Вот тут. (Берёт газету.) Один старик в Грузии. Смотри, как сказал. (Читает.) Когда ты слышишь первый крик ребёнка, когда видишь его первый шаг, когда ты говоришь ему первые добрые слова наставления — знай, что ты — счастливейший человек, и выше этого счастья нет ничего на свете.
ТАМАРА. Сказать-то всё, что хочешь, можно.
Эпизод второй
Квартира деда Серёжи.
Дед , Женя.
ЖЕНЯ. А что же, ты не признаёшь этого, как ты называешь, томления юных тел?
ДЕД. Не признавать того, что существует, просто глупо. Только ведь оно, томление это, имеет одно препакостное свойство: если нет подлинной любви, то со временем оно сменяется пресыщением, пустотой, взаимным раздражением, поисками развлечений на стороне. Нередко это и называется: не сошлись характерами.
ЖЕНЯ. А любовь-то эта есть на самом деле? Кого ни спросишь, все только усмехаются.
ДЕД. Чтобы в неё поверить, требуется только одно: полюбить. А усмехаются те, кто не любил. Но зачем свою собственную ущербность возводить в ранг закона жизни?
ЖЕНЯ. А как узнать, настоящая это любовь или одно томление?
ДЕД. Когда почувствуешь ответственность за свою любовь.
ЖЕНЯ. Ой, тоска! Ой, тоска! Дед Серёжа, надоело. Правильно Ленка говорит: шоры у вас у всех на глазах. Кроме ответственности, обязанностей, долга — и говорить ни о чём не можете. Скука серая. И Сашка такой же.
Эпизоды третий, четвёртый и пятый.
Квартира Саши.
Саша, Лена.
ЛЕНА. Ну, что мне теперь, к дому, к детям себя что ли привязать? Ты не хочешь, ну и не ходи. Сиди тут с ними, сопли вытирай. У нас, к счастью, домострой не в чести.
САША. При чём здесь домострой?
ЛЕНА. А зато какие Владик записи достал последние! Там-бум-пам-ра-ра... (Начинает двигаться и извиваться в ритм с пением.)
САША. Ну, чего ты кривляешься.
ЛЕНА. А тебе ничего стоящее не нравится. Не понимаешь, так и молчи в тряпочку. Мракобесие какое-то.
САША. Да чего тут понимать! Эта твоя музыка говорит мне открытым текстом: ты скот. А мне обидно.
ЛЕНА. Да брось ты! Завёл своё. Зато весело. А ты как старик.
САША. Да не весело вам. Видел я это. Вы только пытаетесь изобразить веселье.
ЛЕНА. Мы балдеем.
САША. Вот-вот. Превращаетесь в балду. В полных дебилов. И трясётесь в трансе под свой грохот каждый сам по себе. У вас не веселье, а извращённая форма одиночества.
ЛЕНА. Ну, занудил, занудил... Чего ты понимаешь! Это расковывает, раскрепощает.
САША. Раскрепощает самое дурное, что есть в человеке. Попросту — грех.
ЛЕНА. Да замолчи! Противно слушать.
САША. Да примитивно же всё это.
ЛЕНА. Ах, да! Я и забыла, что это только ты один у нас такой сложный. Такой многосторонний, что тебе только на горшки не надоедает сажать да сопли вытирать.
САША. Не то ты говоришь. И сама знаешь, что не то.
ЛЕНА. Конечно, только ты всё то говоришь.
САША. А ты попробуй с ними хоть раз по-настоящему заняться. Не просто на горшки, а поговори. Пообщайся по-настоящему.
ЛЕНА. Ах-ах! Сложное интеллектуальное общение.
САША. Знаешь, я с ними сейчас порою как заново мир открываю. Иные вещи вроде бы примелькались, обыденными кажутся. А начнёшь с ними смотреть, и как будто их глазами что ли видишь. Я многое, кажется, только теперь и понял-то по-настоящему.
ЛЕНА. Ну и на здоровье. Я рада за тебя. Я же тебе не мешаю, и ты мне не мешай. Ты ведь сам всё детей хотел. Вспомни, я против была. Что хотел, то и получил. А мне это чего стоило! Хоть бы один мужик сам хоть бы раз попробовал родить — посмотрела бы я на вас. А вам только одно удовольствие.
Звонок в дверь. Саша идёт открывать.
Входит Владимир. Приятели здороваются.
Владимир вешает куртку. Саша приглашает его к себе.
САША. Заходи, заходи.
ВЛАДИМИР (входя вместе с Сашей в комнату). Здравствуйте.
ЛЕНА (раздражённо, почти злобно). Здравствуйте. (Выходит в соседнюю комнату.)
ВЛАДИМИР (глядя ей вслед). Распустил бабу.
САША. Чайку поставить?
ВЛАДИМИР. Некогда чаи распивать.
САША. Тогда сразу к делу.
ВЛАДИМИР. Так тоже нельзя. Пришёл — и сразу говори. Быстрота нужна при ловле блох.
САША. Тогда для политесу — о погоде.
ВЛАДИМИР. А что погода! Погода ничего. Весна вот.
САША. Весна! Выставляется первая рама... Да.
ВЛАДИМИР. Читал новый учебник, который шеф написал?
САША. Если бы мне так на экзамене кто отвечал, я бы больше тройки не поставил. Да и то не всегда.
ВЛАДИМИР. Мне тут Гришка рассказал. Его шеф к себе завёл и говорит. Ты, говорит, секретарь Совета, и ты должен добиться, чтобы мне дали заслуженного деятеля науки. Совсем уж обнаглел. Я у него тут на лекции был. Такую хрень нёс!
САША. И все молчат.
ВЛАДИМИР. Кто ж против рожна попрёт? Все хотят есть свою булку с маслом.
САША. Ну, хорошо. Ладно наши. Эти понятно. А другие-то что? Питерские хотя бы.
ВЛАДИМИР. Что они, себе что ли враги. Он же в ВАКе сидит.
САША. Со всех сторон мужик обложил.
ВЛАДИМИР. Так вот, голубчик, рецензию надо писать.
САША. На кого?
ВЛАДИМИР. На шефа. На учебник, который тебе так понравился.
САША. Поругать, конечно, можно.
ВЛАДИМИР. Ты это серьёзно? Вот так голову прямо под топор? Не ругать — хвалить требуется.
САША. Платон мне друг, но истина дороже. Сказать, как это по-латыни звучит?
ВЛАДИМИР. Давай серьёзно. Твоё положение и так... де очень. Ты в опасной зоне, и сам знаешь.
САША. У меня дед есть, он в таких ситуациях говорит: нищему пожар не страшен... Выгонит — свет клином не сошёлся.
ВЛАДИМИР. Он тебя везде достанет. Защититься захочешь в другом месте, он тебе все ходы перекроет. Он — сила.
САША. А я вообще решил не защищаться.
ВЛАДИМИР. Ты что!
САША. Да то. Не хочу. Как-то всё противно это стало.
ВЛАДИМИР. Ну, ладно. Хватит. С рецензией всё договорено. Шеф мне сначала одному хотел дать. Я уговорил его, чтобы и ты тоже участвовал. Что я ему теперь скажу?
САША. Так и скажи: Василий Иванович, Назаров отказался лизать ваш сиятельный зад. Он полагает, что его другие и так уже до блеска вылизали.
ВЛАДИМИР. Ты на что рассчитываешь?
САША. Бог не выдаст, свинья не съест.
ВЛАДИМИР. Сожрёт. Зарежет и сожрёт. И не подавится — вот что характерно.
САША. А у меня профессия хорошая есть в запасе.
ВЛАДИМИР. Какая ещё профессия?
САША. Грузчик широкого профиля.
ВЛАДИМИР. Слушай, ну хватит, может быть? Давай действительно серьёзно. У меня времени мало. Обсудим детали...
САША. Я серьёзно.
ВЛАДИМИР. Ну а если я сам всё напишу, а тебе только подписать?
САША. Понимаешь, Володя, мне надоело участвовать во вранье и во всеобщем мордобое. Можешь называть это хоть глупостью, хоть умностью...
ВЛАДИМИР. Умности тут мало.
САША. Возможно. Но мне противно.
ВЛАДИМИР. Как будто мне это очень приятно.
САША. Я ведь тебя не неволю.
ВЛАДИМИР. Удобненькая позиция. Самоустраниться хочешь? Быть пассивным наблюдателем? Мало чем это порядочнее прямого соучастия.
САША. Я не буду с тобой спорить. Скорее всего, ты прав. Но писать и даже просто подписывать тоже не стану... Есть такая заповедь: не лжесвидетельствуй.
ВЛАДИМИР. Ага! Все в дерьме, а наверху он, и весь в белом. Заповеди блаженства ему, видите ли, покоя не дают. Блаженный тоже нашёлся. И с этакой высоты нас судить будет.
САША. Никого я не сужу. Я тоже не праведник. Я всё понимаю.
ВЛАДИМИР. Смотри, тебе виднее.
Звонок в дверь.
Саша открывает. Входит Вадим.
ВАДИМ. Здравствуйте. Простите, здесь живёт Раиса Андревна? Она позавчера стенографировала мою защиту.
САША. Да, сюда. Лёля!
Появляется Лена.
Вот к Раисе Андреевне...
ВАДИМ. Добрый день.
ЛЕНА. Да, мама предупреждала. Она просила, если чуть задержится, чтобы вы обождали.
ВАДИМ. Хорошо. Где прикажете?
ЛЕНА. Сюда пройдите. Можете раздеться.
Вадим снимает плащ, вешает его, затем проходит в комнату, из которой выходит Владимир.
ВЛАДИМИР. А я пойду.
ЛЕНА. Саша, у нас хлеба нет. Сходи.
САША. Хорошо. Сейчас.
Владимир и Саша одеваются.
ВЛАДИМИР. Окончательно?
САША. На твою же булку больше масла достанется.
ВЛАДИМИР. Больше дерьма, хочешь сказать? (Лене.) Всего доброго.
ЛЕНА. Счастливо.
Владимир и Саша выходят.
Лена входит в комнату, где сидит Вадим.
А вы кто?
ВАДИМ. Человек.
ЛЕНА. Это я догадалась. Я про специальность.
ВАДИМ. Психолог.
ЛЕНА. Страшный человек.
Вадим молча пожимает плечами. Молчание.
Лена ходит по комнате, создавая видимость, будто занята делом.
А что вы всё молчите? Говорите о чём-нибудь.
ВАДИМ. О чём?
ЛЕНА. Да о чём угодно. Если не хватает воображения, говорят о погоде.
ВАДИМ. Зачем?
ЛЕНА. Неужели вам не хочется со мною познакомиться?
ВАДИМ. Зачем?
ЛЕНА. Вот заладил: зачем, зачем... Так просто. Я вам не нравлюсь?
ВАДИМ. Нет.
ЛЕНА. Не очень любезно. Чем же я вам не нравлюсь?
ВАДИМ. Назойливостью.
ЛЕНА. Ого!
ВАДИМ. Очевидно, вы рассчитываете на то, что вам, как весьма привлекательной женщине, всё простится. Красивым обычно легко всё прощают. Вот вы и привыкли.
ЛЕНА. А вы не прощаете.
ВАДИМ. Вы ничем передо мной не провинились, не за что и прощать.
ЛЕНА. За назойливость. Но мне захотелось с вами поговорить.
ВАДИМ. Зачем?
ЛЕНА. Какой вы нудный. Зачем, зачем! Ни за чем. Вот хочется и всё. Просто так. Из спортивного интереса.
ВАДИМ. Тогда вы неудачно начинаете.
ЛЕНА. Почему?
ВАДИМ. Если хотите, чтобы человек обратил на вас внимание, его надо чем-то заинтересовать, расположить к себе.
ЛЕНА. А как?
ВАДИМ. Способов много. Лучше всего чем-то польстить.
ЛЕНА. Так вот вы зачем сказали, что я красивая: чтобы польстить мне и привлечь внимание.
ВАДИМ. Ваше внимание мне не нужно.
ЛЕНА. Зачем же вы льстили?
ВАДИМ. И не думал. Лесть — это всегда небольшая ложь. А то, что вы красивая женщина, — это просто констатация факта. Чтобы убедиться в этом, вам не нужно, чтобы кто-то что-то говорил. Вам это говорит каждый день ваше зеркало.
ЛЕНА. Занятно вы говорите. Но я-то чем могу вам польстить. Я вас совсем не знаю. Вот вы тоже очень красивый молодой человек.
ВАДИМ. Мне польстить нельзя.
ЛЕНА. Почему?
ВАДИМ. Я слишком хорошо знаю свои качества. Если вы их преувеличите, меня это не порадует. Если преуменьшите — не огорчит.
ЛЕНА. А если в точку?
ВАДИМ. А если в точку — тем более. Что за радость от обыденного факта? Допустим, вы скажете, что мой рост метр восемьдесят. Ну и что? Вы говорите, что я красивый. Моей заслуги в том нет, такой уродился. Чем же гордиться?
ЛЕНА. А мне всё-таки приятно, если кто-то даже верно отмечает мои достоинства.
ВАДИМ. Женщины всегда отличаются нелогичностью поведения. Если это в умеренных дозах, это их даже украшает.
ЛЕНА. А у меня в умеренных?
ВАДИМ. Вполне.
Звонок в дверь. Лена идёт открывать.
Входит Раиса Андреевна.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Элен, прости, забыла свой ключ.
ЛЕНА. Тебя уже ждут.
Раиса Андреевна снимает пальто.
Вадим выходит в прихожую.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Вы уже тут? Здравствуйте. Простите, что заставила ждать. Спешила как могла.
ВАДИМ (прикладываясь к её руке). Помилуйте, о чём речь! Надеюсь, вы в добром здравии? Глядя на вас, мне особенно понятно, почему у вас такая красивая дочь.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Ну уж!.. Проходите. Я уже всё набрала. Знаете, я, конечно, мало понимаю, но ваша защита прошла блестяще. Особенно остроумно вы отвечали тому лысому.
ВАДИМ. Он просто старый болван, хоть и профессор.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Проходите, проходите.
Раиса Андреевна и Вадим проходят в комнату.
Лена закуривает. Вадим оборачивается.
ВАДИМ. А вот это — нет! (Возвращается, отбирает сигарету, гасит. Лена не сопротивляется.) Курящая женщина — это вульгарно! (Уходит. Лена смотрит ему вслед.)
Эпизод шестой
Квартира деда Серёжи.
Дед. Женя.
ЖЕНЯ. И за что же я должна отвечать?
ДЕД. На первых порах хотя бы за себя. Чтобы не давать дурному в тебе верх брать.
ЖЕНЯ. А что же во мне такого дурного?
ДЕД. Есть такая молитва церковная. И там есть такие слова: Господи, даруй мне зреть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Понимаешь, видеть в себе дурное, себя самого строго судить — это дар Божий.
ЖЕНЯ. Вот-вот. Ты меня ещё в церковь заставь ходить. Только и осталось. Вроде нашего Сашки.
ДЕД. Не стану заставлять. Я сам в неё не хожу, потому что маловер. А вот Александру завидую. Никто его туда не гнал, сам ведь пошёл. Все только отговаривают. Значит, есть у него что-то, чего даже у меня нет. Вера, вот что.
ЖЕНЯ. Только что-то не вижу у него большого счастья от этой его веры.
ДЕД. А кто сказал, что мы в этом мире для счастья? Сколько живу, всё больше убеждаюсь: для чего-то другого.
ЖЕНЯ. Человек создан для счастья, как птица для полёта.
ДЕД. Читал я этот рассказ. Там эту фразу написал какой-то урод. Мне кажется, тут просто насмешка над людьми.
ЖЕНЯ. А для чего же тогда вообще эта наша жизнь, если не для счастья? Так вообще всё бессмысленно.
ДЕД. Вот для чего вера нужна. На этот вопрос знает ответ только тот, в ком вера есть.
Эпизод седьмой
Квартира Саши.
Саша, входит Лена со свёртком в руках.
ЛЕНА. Смотри, какую я тебе куртку отхватила. На меху. (Разворачивает.)
САША. Да вроде уж лето.
ЛЕНА. Ты что, последний день живёшь?
САША. Где это ты такую?
ЛЕНА. В комиссионке. Представляешь, они ещё, оказывается, существуют. Мы с Зинкой случайно мимо шли. Она говорит: давай зайдём. Просто так. Я и не думала. И вдруг вот. У Зинки занять пришлось. Так всё равно же дешевле вышло.
САША. А размер-то мой?
ЛЕНА. Размер на размер не приходится. Примерь.
САША (надевая куртку). А что! Ничего.
ЛЕНА. Подожди. Вроде узковато вот здесь.
САША. Да ничего.
ЛЕНА. Не торопись. Ну-ка плечами подвигай. Руки подыми. Так. Конечно, надо бы с тобой вместе идти. Да кто знал. Просто мимо шли. Ты не знаешь, в комиссионном обратно принимают?
САША. Да сойдёт.
ЛЕНА. Тут вот где-то чек в кармане, не потерять. (Лезет в карман куртки.) Вот. Ой, смотри. Это что? (Достаёт какую-то бумагу, вертит её, читает.) Облигация. Это старая какая-нибудь. Сейчас вроде нет облигаций.
САША. Ну-ка дай. Нет, вот год обозначен. Наше время. Я тоже думал, что теперь уж не выпускают.
ЛЕНА. А вдруг выиграли? Ты возьми, пойди в сберкассу и узнай.
САША. Как же, дожидайся. Миллион выиграем.
ЛЕНА. Да хоть бы рубль — и тот наш.
САША. Ну, разве что рубль. (Снимает куртку, отдаёт Лене, облигацию небрежно кладёт в карман рубашки.)
ЛЕНА. Ох, я с таким человеком интересным познакомилась! Всё знает, обо всём может поговорить.
САША. Наверняка скучнейший тип.
ЛЕНА. Это почему это?
САША. Обо всём о чём угодно может говорить только верхогляд. А что может быть скучнее поверхностной болтовни?
ЛЕНА. До чего ты зануда. Ведь завидуешь. Сам потому что так не можешь.
САША. Пусть так. Только мне надо идти.
ЛЕНА. Облигацию проверь.
САША. Жарко на улице?
ЛЕНА. Терпимо.
Эпизод восьмой
Кухня в квартире Назаровых.
Нина Васильевна, Дарья Васильевна,
Саша, Женя пьют чай.
САША. Я уже почти договорился. По утрам приходить.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Много делать-то?
САША. Да ерунда.
ЖЕНЯ. Преподаватель университета, без пяти минут кандидат наук — и в уборщицы подался. Сказать кому — не поверят.
САША. Надо же кому-то убирать. Вы-то как тут?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Обыкновенно: день да ночь — сутки прочь.
САША. Чего это с тобой? Болит что?
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да так. Зубы что-то затосковали.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Мы как в аду. Томочка ни в какую. Валентин куражится. Женщину уже какую-то раз приводил. Требует, чтобы ему отдельная непременно была, а денег давать отказывается. Считает, что мы ему обязаны. Поди попробуй нашу на две отдельные. Нам же двухкомнатную надо. Сколько денег ещё надо собрать! Эта-то немного стоит. Да даже если и разменяем. Как потом? В тесноте да не в обиде? Вон Томочка к Жене перебралась, так эта губы надула.
ЖЕНЯ. А что же: она не может с мужем уладить, а я страдать должна. У меня своя жизнь. А если я замуж выйду?
САША (усмешливо). Ищи мужа с жилплощадью.
ЖЕНЯ. Очень остроумно.
САША. Ну, поставь ей раскладушку вот здесь на кухне.
ЖЕНЯ. Пусть мирятся.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. У вас-то как?
САША. Нормально.
ЖЕНЯ. Как ты так можешь! Нормально! И как будто ничего не случилось.
САША. На тебя не угодишь. Томка разводится — ты недовольна. Я не развожусь — ты тоже что ли недовольна?
ЖЕНЯ. Да если бы не эта жилплощадь, я бы руками и ногами, чтоб только его не видеть.
САША. Эгоистка ты, выходит.
ЖЕНЯ. Какая есть.
САША. Надо освобождаться от недостатков.
ЖЕНЯ. Вас с дедом Серёжей, вон как тётя Даша говорит, связать по ноге да пустить по воде. Он тоже мне всё о самосовершенствании толкует.
САША. Он старик правильный.
ЖЕНЯ. Все вокруг правильные. Просто тоска. Куда только неправильным деваться?
САША. Я тебе тоже, как тётя Даша скажу: бормота ты бессмысленная. Мелешь языком что ни попадя.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Платить-то много станут?
САША. Средне.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Отдать и рубль много, а взять и сто — всё равно мало.
ЖЕНЯ. Всё равно Леночка всё прикарманит.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Эта когда надо куда хочешь без мыла влезет.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Хитрости в тебе, Сашенька, мало. Теперь без этого нельзя.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да уж куда хитрее: на полу спит и не падает.
ЖЕНЯ. Ну, ты тёть Даш, сказанёшь иногда.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. А нам брехать не пахать: брехнём и отдохнём. Только вот ум уж не поймёшь какой стал.
САША. Ладно, я пойду.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ой, Сашенька, что же дальше-то будет? Как жить!
САША. Да проживём как-нибудь.
ЖЕНЯ. Блажен кто верует.
Эпизод девятый
Квартира Вадима.
Вадим, Лена.
ЛЕНА. Нет, ты представляешь, мы выиграли пять тысяч!
ВАДИМ. А такое ещё бывает нынче?
ЛЕНА. Нет, но в чём юмор-то! Облигацию нашли в кармане куртки, которую я купила Сашке в комиссионном.
ВАДИМ (морщится). В комиссионном?
ЛЕНА. А что?
ВАДИМ. Это же плебейство. Надевать вещь после кого-то...
ЛЕНА. Во-первых, я не для себя.
ВАДИМ. И он носит! (Брезгливо морщится.) Н-да.
ЛЕНА. Да ну тебя! Вечно ты...
ВАДИМ. А мне-то что. Это ваши проблемы.
ЛЕНА. Уж я ему напоминала, напоминала, чтоб проверил. С лета ведь тянулось. Наконец собрался. Вдруг бац — пять тысяч. А это сто пятьдесят баксов, даже больше.
ВАДИМ. У вас что, большие материальные затруднения?
ЛЕНА. С моим разве развернёшься? Нет, ну ты подумай: он ещё отказывается диссертацию защищать. Говорит, что не видит в том никакого смысла. И что он что-то там из-за этого потеряет. Мне, говорит, этого не надо.
ВАДИМ. Подобную басню я уже много раз слыхал. В классическом варианте она называется “Лиса и виноград”. Все неудачники и бездари обычно так и поют. Не очень-то, мол, и хотелось.
ЛЕНА. Мой муж не бездарь. Зачем говоришь, если не знаешь.
ВАДИМ. За любимого мужа оскорбилась?
ЛЕНА. При чём тут оскорбилась. Он просто всегда постоянно во всём сомневается. Всё хочет во всём смысл отыскать. Зануда жуткий. Тоска с ним зелёная.
ВАДИМ. О! Это тоже не оригинально. Тип Гамлета. По сути, весьма ничтожная личность. Но ему ещё долго будут сочувствовать и оправдывать — в меру своей собственной неполноценности.
ЛЕНА. Почему — неполноценности?
ВАДИМ. Как бы тебе сказать... Современный тип личности характеризуется целенаправленной энергией при достижении цели. И отсутствием соплей. Вот не обращала внимание: поток боевиков на экране. Явная целевая установка — видно невооружённым глазом. На экране убивают, избивают, а зрителя это должно радовать, или рассмешить, или, по меньшей мере, оставить равнодушным. Всё направлено на закрепление рефлекса. Смерть и страдания вызывают эмоциональную реакцию, совершенно нетрадиционную для прежнего типа культуры. А это в принципе исключает психологический комплекс гамлетовского типа.
ЛЕНА. Слушай, какой ты умный. Просто гений.
ВАДИМ. Я в этом давно не сомневаюсь.
ЛЕНА. От скромности ты не умрёшь.
ВАДИМ. Это очень полезно знать — от чего ты не умрёшь. Скромность ниже моего достоинства.
ЛЕНА. И ещё ты нахал.
ВАДИМ. Итак, по отношению к себе я услышал две дефиниции: гений и нахал. И если с первым я, по зрелом размышлении, не могу не согласиться, то второе приходит с ним в логическое противоречие. Ведь что скрывается под этим термином — нахал? Индивидуум, у которого уровень претензий значительно выше уровня возможностей. А что обозначает термин — гений? Личность с неограниченно высоким уровнем возможностей. Эрго: назвать меня одновременно гением и нахалом есть несомненный логический нонсенс.
ЛЕНА. Так ты думаешь, эти фильмы специально снимаются?
ВАДИМ. И не только они. Тут целый комплекс воздействующих компонентов. Музыка, например, явно физиологическая по природе. Собственно, даже не музыка, а искусственный набор ритмизированных шумов.
ЛЕНА. То есть?
ВАДИМ. Ну, рок там всякий, диско, поп...— как там это называется?
ЛЕНА. А ты что. Чайковского предпочитаешь?
ВАДИМ. Это для плебеев. Слушать надо Вивальди, не позднее. Старинные духовные сочинения.
ЛЕНА. А современная музыка не нужна?
ВАДИМ. Просто необходима. Ведь что бы там ни говорили, но цель разумной человеческой деятельности — достижение счастья. Если болвану, толпе навязывать Вивальди, люди будут испытывать внутренний дискомфорт. Они слишком примитивны для утончённых эстетических восприятий. Так пусть имеют то, от чего они счастливы.
ЛЕНА. Гамлет тоже примитивен?
ВАДИМ. Но это уже из другой оперы. Гамлет — это тип страдальца. А зачем проповедовать страдания, если они стоят на пути к радостям жизни? Вот именно поэтому надо воспитывать иной, чем прежде, стереотип восприятия смерти. Страдать от боли можно только от своей — зачем навязывать ещё и чужую? Сострадание уже морально изжило себя. Система воздействующих компонентов должна быть в высшей степени рациональна. К тому же наше время показало несостоятельность концепции, например, Достоевского. Двадцатый век повидал столько смертей, что эмоциональный аппарат человека поневоле адаптировался к изменившимся условиям. Теперь уже просто нелепыми становятся чрезмерные психологические потрясения из-за смерти какой-нибудь ничтожной старушенции.
ЛЕНА. Я не понимаю только: ты говоришь, что всё это, рок-музыка например, что всё это хорошо. А для себя всё это отрицаешь.
ВАДИМ. Просто я из другой координатной системы ценностных ориентаций. А человека со стадными инстинктами просто необходимо оглуплять: способность к размышлениям сделает его несчастным. Быдлу нужна быдловая музыка. Вообще скотские развлечения. Пусть их себе.
ЛЕНА. Но рок тоже разный бывает. Гребенщиков.
ВАДИМ. А это для тех недоумков, кому требуется тешить себя иллюзией глубокого интеллектуализма. Я его слышал однажды. Жуткий кретин.
ЛЕНА. У нас однажды спорили об этом. Тебя бы туда.
ВАДИМ. Я не спорю никогда ни с кем.
ЛЕНА. Почему?
ВАДИМ. Видишь ли, люди спорят по трём причинам. Во-первых, кто-то хочет, согласно известному стереотипному заблуждению, отыскать в споре истину. Во-вторых, некоторые стремятся завербовать остальных в свою веру, приобщить, так сказать, к собственной истине. А третьи желают просто покрасоваться, умом блеснуть, чтоб о них лучше думали. Так вот. Истину я знаю и без глупых дискуссий. Убеждать других — да пусть они остаются при своём убогом мнении — мне-то что! А похваляться умом — цель вообще ничтожная. И мне в высшей степени наплевать, что обо мне думает толпа дураков.
ЛЕНА. Слушай, с тобой просто страшно разговаривать.
ВАДИМ. А ты и не разговаривай. Ты слушай. А впрочем, можешь и не слушать. Я говорю для себя. Ты ведь в большей части мало что и поняла.
ЛЕНА. Что я — совсем дура, по-твоему?
ВАДИМ. Ты женщина. Красивая женщина. И больше от тебя ничего не требуется.
ЛЕНА. Зачем же ты так много выступаешь передо мной?
ВАДИМ. Для меня это способ аутостимуляции.
ЛЕНА. Не понимаю.
ВАДИМ. Ладно, хватит дискуссий. Иди сюда.
Лена подходит к нему.
Он обнимает её и валит на диван.
Эпизод десятый
Кабинет женщины администратора.
Администратор. Входит Саша.
АДМ. Вы всё оформили?
САША. Да, всё.
АДМ. И Сергей Иванович визировал?
САША. Да, подписал.
АДМ. Следовательно, завтра с утра вы можете приступать к исполнению своих обязанностей.
САША. Хорошо.
АДМ. Значит, напоминаю. Влажная обработка вестибюля, лестницы. Потом гардероб, коридор.
САША. Я не забыл.
АДМ. В девять ноль-ноль у нас начало рабочего дня. Следовательно, к этому времени всё должно быть завершено.
САША. Хорошо.
АДМ. До вас здесь сотрудничала одна девушка, студентка. Свои функции она выполняла добросовестно. Она затрачивала на всё два часа. Значит, не позднее семи ноль-ноль вы должны приступать.
САША. А если с шести до восьми?
АДМ. Индифферентно.
САША. А мне откроют так рано?
АДМ. Я поставлю в известность представителей охраны.
САША. Спасибо.
АДМ. Надеюсь, вы всегда будете во всеоружии.
Эпизод одиннадцатый
Комната Раисы Андреевны.
Раиса Андреевна и Нина Васильевна.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вы уж только не говорите, что я у вас была. Но ведь сердце же кровью обливается, как на него посмотришь. Всё куда-то бегает. Издёргался весь.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Что же поделаешь. Жизнь наша такая. Я вот от хорошей жизни что ли по защитам таскаюсь стенографирую? Голова гудит. Глаза от этого компьютера устают. Давление уж и не знаю — выше не бывает.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да я разве что говорю.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Наше дело вдовье, мы своё отжили, нам много не надо. А молодым как? Нынче, знаете, как говорится, даже прыщ на заднице, извините за выражение, даром не вскочит.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Но всё-таки. Вы бы как мать сказали бы Леночке. Нельзя же так. Она тратится порою слишком бездумно. Не задумываясь.
РАИСА АНДРЕЕВНА. Я вас, Нина Васильевна, понимаю, прекрасно понимаю. Но вы смотрите ограниченно, со своей, так сказать, колокольни. Это, как бы лучше выразиться, главная функция мужа — добывать средства. Вот я о себе скажу. У меня супруг, Царство ему Небесное, был совершенный дохляк. Во всех случаях, извиняюсь за откровенность, за спинку кровати держался. Но я ему всё прощала. Я всё терпела. Потому что было главное: он умел нас с Еленой содержать. После стало, конечно, намного труднее. Так что вы хотите? Мужик к этому предназначен. Конечно, он, разумеется, ваш сын. Но взгляните шире.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ой, не знаю. Не знаю, не знаю.
Эпизод двенадцатый
Комната Саши.
Саша. Входит Лена в новой дублёнке.
ЛЕНА. Каково!
САША. Ты в ней удивительно хороша.
ЛЕНА. По улице шла, все мужики на меня внимание обращали.
САША. А не жарко было? До морозов ещё далеко.
ЛЕНА. Пришлось потерпеть.
САША. Терпение — великая добродетель.
ЛЕНА . Вот только не хватило мне его дождаться, пока ты деньги получишь по облигации, занять пришлось.
САША . По какой облигации? Я же её отдал, ведь тебе говорил, что отдам.
ЛЕНА . Кого отдал? Облигацию? Ты что несёшь!
САША. Ничего я не несу. Я уже отнёс. Пошёл комиссионный, там нашли квитанцию. К счастью, у них копии сохраняют. В квитанции адрес. Я пошёл по этому адресу и отдал.
ЛЕНА . Ты что!
САША . Это чужие деньги.
ЛЕНА (тихо, злобно). Ты это серьёзно?
САША . Лёлечка, ну что за радость от чужого?
ЛЕНА. Сволочь! Идиот! Чтобы я... (Издаёт звуки — нечто среднее между хохотом и рыданиями.) Я не хочу тебя видеть! Я тебя ненавижу!
САША. Ну, заработаю я эти деньги. Что случилось!
ЛЕНА. Причём здесь деньги! Гори они огнём! Я не могу жить с мужем-идиотом! Понимаешь? Не могу. Я ухожу от тебя. Прощай! Кретин несчастный. Идиот! Я уйду!
САША. Ну что ты говоришь!
ЛЕНА. А вот то! Уйду! Да! У меня есть любовник! Он меня давно звал к себе! Он говорил, чтобы я ушла от тебя! А я тебя всё жалела. Дура потому что.
Эпизод тринадцатый
Квартира Назаровых.
Нина Васильевна, Дарья Васильевна, дед Серёжа.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Вот и жизнь. Думаешь, что она так, а она вовсе даже этак.
ДЕД. Я всё думаю, что же за время, когда мы живём. С одной стороны — страшно. С другой — интересно. И выходит: страшно интересно.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Мне всё больше страшно. Вон чего творится.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Да чего ж! Везде люди. А где люди, там и грех.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вот и ты, Дашенька нас оставляешь.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Ты чего как на похоронах разохалась!
ДЕД. Да свидимся ли ещё, вот что.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА. Железная дорога теперь вон какая дорогая. На твою пенсию не разъездишься.
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. А это уж как Бог даст.
Эпизод четырнадцатый
Комната Саши.
Саша, Владимир.
САША. Проходи.
ВЛАДИМИР. Что это ты как будто в миноре? Случилось чего?
САША. Да нет, ничего. Просто устал.
ВЛАДИМИР. Делом вот только не занимаешься.
САША. Что есть дело?
ВЛАДИМИР. Ты вправду где-то швейцаром нанялся?
САША. Каким швейцаром! Просто убираюсь по утрам в одной фирме.
ВЛАДИМИР. Уборщицей?
САША. Вроде того.
ВЛАДИМИР. Сказали бы — не поверил. Ну, если тебе деньги нужны, займись каким-нибудь бизнесом. Теперь это просто. Ты же всё-таки не безграмотный, кому только полы мыть.
САША. Да звал меня один знакомый. И место предлагал очень выгодное. Маркетинг, менеджмент... Клиринг, толлинг, блюминг... Так мне от всего этого тяжко вдруг стало.
ВЛАДИМИР. Сортиры чистить лучше!
САША. В каком-то смысле — да. Тут тебя никто не обманет. Не кинет, как теперь говорят. Тут никто не позавидует. Никакие килеры не страшны.
ВЛАДИМИР. Другие-то занимаются — и ничего.
САША. Да я только про себя говорю. Если кому нравится — на здоровье. У меня к этим делам что-то вроде душевной аллергии что ли. Вот такой я идиот.
ВЛАДИМИР. Но без денег же нельзя.
САША. Я их зарабатываю без всяких затей и обмана. Прихожу — грязно. Ухожу — чисто. Чего может быть лучше?
ВЛАДИМИР. Ладно, твоё дело. Я к тебе за другим пришёл. Ты ещё не забыл из-за своей уборочной страды, что ты преподаватель университета?
САША. Что-то такое смутно припоминаю.
ВЛАДИМИР. Завтра на кафедре твой вопрос решается.
САША. Знаю.
ВЛАДИМИР. Валентин Борисыч сказал, что он тебя поддержит. Он всё-таки хочет нашего Васю спихнуть, и сторонников вербует. Но ты для начала должен у него поплакаться в жилетку. В общем, чернуху раскинуть. Хочу, мол, посоветоваться, я в сложном положении... Наболтай там чего-нибудь. Главное, помощи попроси, он это любит.
САША. Не стану я с ним говорить.
ВЛАДИМИР. Слушай, давай серьёзно. Не будь идиотом.
САША. Если я идиот по натуре, как я могу перестать им быть? Это всё равно что велеть человеку изменить свой рост. Или цвет волос. Я не женщина, чтобы перекрашиваться.
ВЛАДИМИР. Слушай, если ты хочешь бороться — ну борись. Тебя, разумеется, побьют, но ты хотя бы сам сможешь себя уважать. Ты же в кусты прячешься и изображаешь из себя оскорблённое благородство.
САША. С чем бороться-то? Всё нормально и обыкновенно. То, что ты именуешь борьбой, — это просто мелкие и будничные интриги. Мне это и без того не интересно, а теперь у меня и нервной энергии нет ни на что.
ВЛАДИМИР. Так что же: со злом и бороться не надо?
САША. Что есть зло?
ВЛАДИМИР. Ну вот Вася наш хотя бы. Любимый твой шеф, который тебя со свету сживает.
САША. Какое он зло! Зло — это вот то, что сидит в нас и заставляет или лизать ему зад, или устраивать подковёрные интриги. Вот с этим и надо бороться. Тогда никакой Вася не будет страшен. То есть в себе бороться надо. А вне нас зла, если хочешь знать, вообще нет как такового.
ВЛАДИМИР. Как так нет!
САША. Зло как тень, тьма. У тьмы нет собственной природы, она там, где или свет далеко, или что-то заслоняет его. Вот вся эта ложь, в которой мы с таким удовольствием живём, вот она и заслоняет свет для нас. Отбросим её, и многое другое, конечно, и зла не будет. Надо стремиться к источнику света — ведь как просто.
ВЛАДИМИР. И где он, этот источник?
САША. Бог есть свет, и нет никакой тьмы в Нём.
ВЛАДИМИР. Это ты сам придумал?
САША. Нет, апостол Иоанн Богослов.
ВЛАДИМИР. Ну, хоть апостол. А то я тут как-то читал одного библейского мудреца, по фамилии Екклесиаст, так такую он на меня тоску навёл...
САША. Он просто предупреждал, что без Бога всё плохо и бессмысленно.
ВЛАДИМИР. А с Богом всегда хорошо.
САША. Всегда. Всё, что Бог делает для человека — идёт к его благу.
ВЛАДИМИР. Да сама Библия говорит, что не так. Я вот читал тоже про Иова. Всё было у него отнято, и вся семья перемёрла. И сам заживо гнить начал. Это тоже благо?
САША. Когда Бог лишил Иова всех благ, он дал ему взамен — свободу: смириться или проклясть. То есть Он дал человеку высшее благо. Вера ведь не может существовать вне свободы. Иов свободно выбрал веру — и ему было возвращено более утраченного.
ВЛАДИМИР. Но те-то умерли. Их-то никто не вернул. Это тоже благо?
САША. Твоё рассуждение неверно, потому что неверна мера отсчёта. Мы всё рассчитываем до смерти, всё отмеряем земным временем. Как будто вне этого уже и нет ничего. Но те, кто умерли, они же не были уничтожены, они просто были взяты в мир иной. Из времени в вечность.
ВЛАДИМИР. А если нет этой вечности?
САША. Тогда вообще всё бессмысленно.
ВЛАДИМИР. Хорошо. Но я всё-таки человек земной. Я в земной жизни хочу чтоб тоже всё было как надо. Сколько всяких мерзостей! И перечислять не буду, ты и без меня знаешь. Почему твой Бог это всё терпит? Не может или не хочет?
САША. Я же сказал: зло в нас. Мы или не хотим идти к Свету, или заслоняемся от Него своей земной корыстью. Поэтому чтобы уничтожить зло, Бог должен или уничтожить нас всех, новый всемирный потоп устроить, или жёстко запрограммировать, чтобы и шагу лишнего не ступили. Ты что предпочитаешь: быть утопленным или превратиться в робота? Бог и впрямь терпит нас, не уничтожает, даёт высшее благо — свободу. А мы ещё и недовольны.
ВЛАДИМИР. Это всё абстрактные рассуждения. А вот Вася наш сидит на своём маленьком троне и тебе завтра экзекуцию устроит.
САША . Видишь ли, прав ли я, виноват ли, но давно на всё на это уже как будто со стороны смотрю. Даже любопытно: чем всё это кончится.
ВЛАДИМИР. Ты просто равнодушный наблюдатель и тебе на всех плевать.
САША. Хорошо. Обещаю тебе: завтра я встану и скажу: наш завкафедрой беспринципный человек и нечистоплотный учёный. Мне неприятно считать себя его коллегой и подчинённым. В сложившейся ситуации я вынужден на такую постановку вопроса: здесь остаётся или он, или я.
ВЛАДИМИР. И все, конечно, начнут мучительно размышлять: кого предпочесть? Даже не смешно.
САША. Я и не смеюсь. Этот вопрос я давно поставил, не для других, а для себя. Или он, или я. Разумеется, уходить придётся мне. Но после этого уже никто не будет иметь права жаловаться: они сами выберут свою участь — всё так же самозабвенно лизать этот зад.
ВЛАДИМИР. Нет никакого Бога. Один хаос и бессмыслица.
САША. Хаос во тьме. Но когда светит издалека... издалека: мы ведь далеко от Него ушли... когда светит и указывает дорогу этот Источник — какой же тут хаос? Он светит, зовёт, помогает идти, но идти-то должны мы всё-таки сами, а мы не хотим. Вся наша история — это или шаги туда, к Свету, или, чаще, во тьму, в бессмыслицу. Я хочу уйти от хаоса.
ВЛАДИМИР. Ну, а если серьёзно, зачем тебе это? Плюнь ты. Зачем на всё так остро реагировать? Мало ли дерьма.
САША. Бывший муж моей сестры сказал мне однажды: на жизнь нужно смотреть трезво, без иллюзий, только тогда сможешь в ней что-то понять.
ВЛАДИМИР. И что же ты понял?
САША. Да я же сказал. Надо сменить точку отсчёта. Если думать только о времени, то да, очень важно, получу ли я степень, сколько денег заработаю, сколько урвать у других смогу. А ведь для вечности это такой вздор! Чего ж мы о ней-то не думаем?
ВЛАДИМИР. О вечности заботиться? А ей, этой вечности на нас ровным счётом наплевать.
САША. А вот это самый тяжкий грех. Хула на Духа. Вечность только и делает, что помогает нам приблизиться к Себе. Только всё же не превращает нас в роботов, оставляет свободными. Это называется Промыслом Божиим.
ВЛАДИМИР. Значит, променяешь кафедру на свои сортиры.
САША. Сортиры это временно, конечно, первое, что попалось. Найду что-то другое. Знаешь, меня сейчас не то мучит. Как это говорят... идеал, мол, хорош, но неосуществим. Вдруг они правы? Вот что важно: настолько ли я слаб, чтобы озлобиться?
Пауза.
ВЛАДИМИР. Я вдруг заметил за собою: когда-то я был очень жалостливый, а теперь как будто потерял способность к тому, и вместо жалости у меня к чужим бедам часто только злорадное раздражение. К чему бы это?
Отчуждённое молчание.
Владимир встаёт, выходит.
Саша провожает его. Закрывает дверь. Возвращается в комнату, подходит под икону, становится на колени.
САША. Господи! Прости меня. Помоги мне. Ты видишь: мне трудно. Даруй мне радоваться о Тебе. А что мне потребно для того, то Тебе более моего ведомо. Дай мне только сил не озлобиться и всё перетерпеть.
Эпизод пятнадцатый
Квартира Вадима.
Вадим.
Звонок в дверь. Вадим открывает.
Вбегает Лена.
ВАДИМ (явно недовольный). А, это ты. Я же говорил: эту неделю я занят.
ЛЕНА (немного робея). Мне важно. Мне нужно поговорить. Ты можешь хотя бы минуту...
ВАДИМ. Ты же знаешь: для тебя хоть целую вечность. Но сейчас у меня совершенно нет времени.
ЛЕНА. Скажи, ты меня любишь?
ВАДИМ. Давай потом выясним отношения.
ЛЕНА. Нет, ты скажи сейчас.
ВАДИМ. Хорошо. Да, я тебя люблю. А если ты меня любишь, то не забывай, что любовь связана с жертвами. Я требую от тебя немногого: не отрывать меня от дел. У меня срочный заказ. Времени ни минуты. В конце концов, это и в твоих интересах: назойливость вызывает у меня раздражение, и это ухудшает отношение к тебе же. Это я тебе как психолог говорю.
ЛЕНА. Мой муж идиот!
ВАДИМ. Сочувствую, но ничем помочь не могу.
ЛЕНА. Я решила уйти от него.
ВАДИМ . Это твоё личное дело. В моих правилах ни во что подобное не вмешиваться.
ЛЕНА. По-моему, ты всё-таки достаточно вмешался в мою личную жизнь.
ВАДИМ. Ты сама, по-моему, говорила, что понятие супружеской верности пропахло нафталином.
ЛЕНА. Он идиот.
ВАДИМ. Передай ему мои соболезнования. Но меня не волнуют интеллектуальные качества какого-то там мердёра.
ЛЕНА. Кого?
ВАДИМ. Неважно.
ЛЕНА (плачет). Возьми меня к себе.
ВАДИМ. Как к себе?
ЛЕНА. Ну так. Ты не беспокойся, квартиру мы обменяем. Мать будет отдельно. А он пусть к своим перебирается. Пусть идёт, откуда пришёл.
ВАДИМ. Э! Вот оно как. Я вижу, мадам, у вас это серьёзно. Подобный нюанс меняет дело. Я вынужден отказать вам, сударыня.
ЛЕНА (плохо ещё сознавая его слова). Почему?
ВАДИМ. Да как сказать... Я предпочитаю не приобретать в постоянное пользование вещей, бывших в потреблении у посторонних.
Эпизод шестнадцатый
Квартира деда Серёжи.
Дед, Женя.
ЖЕНЯ. Правильно Ленка говорит: если всё только умно делать — со скуки помрёшь.
ДЕД. Всё время только умно делать,— не получается у нас дураков. Оттого-то все так и веселимся. Да дело и не в уме одном.
ЖЕНЯ. А в чём же?
ДЕД. Наговорим порою громких слов, и думаем, что от нас теперь какие-то высокие подвиги требуются. Ждём чего-то необыкновенного. А всё обыкновенно. Оказывается, что нужно долго преодолевать бытовые неурядицы, житейские дрязги, рутину повседневности. Будни. Перед нами стоит вечная задача одолевать власть обыдённости. Что может быть труднее?
Эпизод семнадцатый
Квартира Назаровых.
Несколько человек сидят за столом и поют:
День пройдёт, настанет вечер.
Пройдёт вечер, будет ночь,
После ночи снова утро,
Вслед за утром новый день...
И т.д.
Следующий эпизод идёт под это пение.
Эпизод восемнадцатый
Комната Саши.
Саша. Входит Лена.
ЛЕНА. Я хотела за хлебом зайти, а булочная уже закрыта. Ты не будешь ругаться?
САША. Так у нас только хлеба нет, а начнём ругаться — ещё и мира не будет. Перебьёмся.
Звучит пение:
День пройдёт, настанет вечер...
Фиктивный брак
Пьеса неопределённого жанра
Действующие лица
Нилов, субъект невнятной наружности, 30 лет
Людмила, его жена, 30 лет
Алексей Боков, брат Людмилы, 35 лет
Оксана Лашкова, невзрачная девица, 30 лет
Анна Алексеевна, мать Оксаны, 60 лет
Владислав Покровский, 30 лет
Виктор Чуваев, 35 лет
Александр Назаров, 25 лет
Сергей Князев, непризнанный поэт, 40 лет
Иван Иванович Иванов, 50 лет
Мария Ивановна Петрова, 50 лет
Алла, эффектная молодая особа
Гости в доме Ниловых, люди большей частью нестарые
Действие первое
Комната средних размеров в современной квартире. На стоящей у стены тахте навалено в некотором беспорядке несколько пальто. Рядом с тахтой трюмо, напротив кресло, на одной из стен полка с книгами.
В кресле сидит Назаров, читающий книгу.
Из соседней комнаты доносятся звуки веселья: крики, музыка, смех и т.п.
Входит Людмила.
ЛЮДМИЛА. Как всегда в своём репертуаре. Ты не танцуешь, Ленский?
НАЗАРОВ. Что делать, не люблю шумных сборищ. И ещё у меня такое впечатление, что и всем не вполне весело. Как будто по обязанности что-то изображают: уж раз собрались, вроде и надо.
ЛЮДМИЛА. Какой ты зануда!
НАЗАРОВ. Да я что? Я же никому не мешаю. Может, я и не прав. Сижу вот тихо-смирно...
ЛЮДМИЛА. Сам себе во всём нагадил, а теперь и свет не мил. (Подходит к зеркалу, некоторое время всматривается в своё отражение.) Смотрю я вот так иногда и думаю: что это за взрослая баба на меня оттуда выглядывает? Всё мне кажется, что я ещё маленькая. Никак не привыкну к возрасту. И вроде бы не я эти годы прожила, а вон она (показывает на отражение), а я ещё и жить-то не начинала по-настоящему.
НАЗАРОВ. Так начинай. Пора бы. А то пропрыгаешь.
ЛЮДМИЛА. Нудный ты всё-таки. Вот не понимаешь ты женщин и не умеешь с ними обращаться. Оттого и тут сидишь бирюком. Всё читаешь. Ты на жизнь оглянись. Что это у тебя?
НАЗАРОВ. А вот послушай.
Мчит, несёт меня без пути-следа мой Мерани.
Вслед доносится злое карканье, окрик враний.
Мчись, Мерани мой, несдержим твой скач и упрям.
Размечи мою думу чёрную всем ветрам!
Во время чтения входит Чуваев.
ЧУВАЕВ. Стишатами увлеклись?
ЛЮДМИЛА. А! Вся поэзия сводится к тому, что мужик хочет переспать с бабой.
ЧУВАЕВ. И читают бабам стихи тоже с этой целью? Это у нас Саша такой прыткий? (Пытается обнять Людмилу.)
ЛЮДМИЛА (уклоняясь от объятий). Нет, наш Сашуля приверженец строгих моральных правил.
ЧУВАЕВ (Назарову). По твоим гримасам вижу, что тебя шокирует наша откровенность. Что за стишата?
НАЗАРОВ. Неважно.
ЛЮДМИЛА. Сказать трудно? И что такое Мерани? С чем его едят?
НАЗАРОВ. Мерани это легендарный крылатый конь. В Грузии.
ЛЮДМИЛА. Какая ерунда!
НАЗАРОВ. А книги хотя бы в своём собственном доме знать надо.
ЛЮДМИЛА. Это не мои, а моего благоверного. Да и он их больше для интерьера держит.
ЧУВАЕВ. Такое впечатление, что Александр наш за поэзию оскорбился.
НАЗАРОВ. За поэзию оскорбляться глупо. Тужить надо тому, кому недодано в её понимании.
ЛЮДМИЛА. Витечка, не обижайся на Сашулю. Он у нас такой безобидный.
ЧУВАЕВ. На обиженных Богом не обижаются.
Назаров молча выходит.
ЛЮДМИЛА. Ладно тебе. А чего тут-то надо?
ЧУВАЕВ. Я за хозяйкой. Почему, говорят, ты покинула гостей?
ЛЮДМИЛА. Надоели вы мне все. А потом хозяйка не я, а виновница торжества. А я просто предоставила помещение.
ЧУВАЕВ. Бедная девочка. Подумаешь — защитилась!
ЛЮДМИЛА. Это что — мало?
ЧУВАЕВ. Так больше-то ничего не светит. Тащись теперь в свою тьмутаракань. Сплошная тьма и тараканы.
ЛЮДМИЛА. Как будто там люди не живут. Это всё предрассудки.
ЧУВАЕВ. Помню вот, в студенческие годы, ещё при советской власти, нас на картошку посылали. И была там такая учительница молоденькая в деревне.
ЛЮДМИЛА. Да уж ты жеребец известный.
ЧУВАЕВ. Людочка, как можно! Я её проигнорировал, и даже не раз. Ты же меня знаешь (подмигивает).
ЛЮДМИЛА. Балбес.
ЧУВАЕВ. Но не в этом дело. Она эдак мило шепелявила. Доззик, мясик... Мы её с Владом Сюсей прозвали.
ЛЮДМИЛА. И без этого кобеля не обошлось.
ЧУВАЕВ. И вот уж вернулись, помню. В ноябре как-то, холод, дождь, а мы у Влада как раз сидели. Что-то, говорю, Сюся наша теперь делает? Посмотрел он в окно, а там мерзко. И говорит вдруг: пласет! Вот и с Ксюшей нашей — теперь отмечаем, а то посмотрим в окошко: пласет — только-то и всего!
ЛЮДМИЛА. Безчувственные.
ЧУВАЕВ. Наоборот, очень даже чувственные (пытается её обнять).
ЛЮДМИЛА (отталкивая его). Да пошёл ты!
Звонок в дверь.
Кого там ещё несёт?
Людмила выходит. Чуваев подходит к зеркалу, смотрится в него, явно довольный собою.
Входят Людмила и Покровский.
ЧУВАЕВ. Влад! Лёгок на помине. Категорически вас приветствую, мсьё!
ПОКРОВСКИЙ. Обоюдно.
ЛЮДМИЛА. Тут раздевайся, там уже места нет. Чего это у тебя с носом?
Покровский снимает пальто, кладёт в общую кучу, подходит к зеркалу.
ПОКРОВСКИЙ. Да дура одна в автобусе. Представляете, давка ужасная, стиснули, сил нет. А тут ещё одна баба рядом, давит на меня и при том верещит: ах, молодой человек, вы на меня совсем легли! Мадам, говорю, я бы этого не сделал даже и при более благоприятных обстоятельствах. Так она мне своими когтями по физиономии. А я даже руки не могу поднять, чтобы защититься, так стиснули.
ЧУВАЕВ. Идиот! Что ещё сказать? Оскорбил девушку. Надо было так: сожалею, мадмуазель, что ваши слова не соответствуют реальному положению вещей. Глядишь бы и сговорились.
ПОКРОВСКИЙ. Посмотрел бы ты на её морду. Как будто на ней посидели да ещё потёрлись при этом.
ЧУВАЕВ. Хотя бы своя фотокарточка чистой осталась. Женщинам такие предложения всегда нравятся, даже если они собираются отказать. Правда, Людочка?
ПОКРОВСКИЙ (смотрится в зеркало, трогая царапину). Идиотка!
ЧУВАЕВ. Вот никак не хочет понять, что идиот именно он. А она потерпевшая сторона.
ПОКРОВСКИЙ. Нет, если бы это наша Людочка была (хлопает её по заду).
ЛЮДМИЛА. Так вот и врежу сейчас!
ПОКРОВСКИЙ. Радость моя, я уже пострадал. Хватит.
ЧУВАЕВ. Смотря как хватит, а то и не встанешь.
ЛЮДМИЛА. Чего на защите-то не был? Поди хоть поздравь.
ПОКРОВСКИЙ. А ну её. Подумаешь, защита. Я сегодня более крупное дельце провернул.
ЧУВАЕВ. Интригуешь.
ПОКРОВСКИЙ. У нас там рядом с нашими дачами какое-то строительство затеяли. Пансионат что ли... ну ладно, не важно. Какая-то контора строит.
ЧУВАЕВ. А может, новый русский?
ПОКРОВСКИЙ. Нет, к тем не подступиться бы. А так вижу я: завезли кирпич. Лежит, подлец, а мне фундамент под дом подвести надо.
ЧУВАЕВ. Спёр что ли?
ПОКРОВСКИЙ. Всё чисто. Я там заприметил, который из них всем распоряжается, и к себе его. Выпили, разумеется, то да сё. И так нам стало душевно. Вася, говорю я ему... а может, Петя?.. Забыл... ну да ладно, не важно. Петя, говорю, там у тебя, говорю, кирпич лежит, а вот если бы он у меня бы в сарае лежал, мне бы это было очень приятно.
ЧУВАЕВ. Изячно сформулировал.
ПОКРОВСКИЙ. А он и говорит. У вас, говорит, Владислав Сергеич, в кармане деньги лежат. А вот если бы они в моём кармане лежали, мне бы было ещё приятнее.
ЧУВАЕВ. Шельмец этакий.
ПОКРОВСКИЙ. Ну почему не сделать приятное хорошему человеку? С нашим, говорю, удовольствием. И стало нам оттого ещё душевнее.
ЛЮДМИЛА. Какая ерунда.
ПОКРОВСКИЙ. Какая же ерунда, если мне тот кирпич вдвое дешевле достался?
ЛЮДМИЛА. Воровской сговор. С кем мы имеем дело? Жулик, преступник!
ПОКРОВСКИЙ. Категорически не согласен с подобной дефиницией моих юридических деяний. Преступник это когда кому-нибудь вред. Кому я причинил вред?
ЛЮДМИЛА. Государству.
ПОКРОВСКИЙ. Государство, радость моя, суть чистейшая абстракция. Категория, годная лишь для теоретических построений. А в реальной действительности — всюду люди. И каждому что-то надо. И если это “надо” удовлетворяется, то всем от этого только хорошо. И причём здесь государство? От моей операции всем только хорошо, и никому не плохо. Я теперь могу соорудить фундамент. Мне приятно. У моего приятеля Васи лишние баксы в кармане завелись. Ему, как он признался, ещё приятнее. А пансионат всё равно построят. Не хватит кирпича — ещё завезут.
ЧУВАЕВ. Плевако! Суд присяжных тебя бы непременно оправдал.
ЛЮДМИЛА. И всё равно государству ущерб.
ПОКРОВСКИЙ. Тоже мне ущерб. Тут целые промышленные комбинаты уворовывают, океанские корабли и космические ракеты налево уходят, а ты про какой-то жалкий кирпич! И потом ведь всё же в этом государстве и останется. Вот если бы я в Америку вывез или в какую оффшорную зону. А так всё в своём колхозе.
ЛЮДМИЛА. А ну тебя! Надоел со своим кирпичом, сил нет.
ПОКРОВСКИЙ. Мерси вас ужасно, как выражается один мой старорежимный знакомый. Но я пришёл к вам вовсе не затем, чтобы выслушивать обличения и тому подобные общественные порицания. Мы не на собрании. А вот какую я вам новость скажу, так это дело серьёзное.
ЧУВАЕВ. Так чего ты тогда своим кирпичом мозги нам пудришь?
ПОКРОВСКИЙ. Будешь грубить, я тебе этот кирпич в тёмном переулке на башку твою уроню. У меня его теперь много. С самого утра сегодня то погружали, то разгружали. Весь организм теперь в совершеннейшем изумлении пребывает.
Открывается дверь, входит Лашкова.
Видно, она не ожидала, что в комнате кто-то есть, на мгновение застывает от неожиданности.
ЛАШКОВА. Ой, Владислав Сергеевич! Вы чего тут скрываетесь?
ПОКРОВСКИЙ. Милейшая Оксана Петровна! С поцарапанной мордой не осмеливался являться пред ваши светлые очи.
ЛАШКОВА. Ой, где это вас так? Кто вас?
ЧУВАЕВ. Это он за правду пострадал.
ПОКРОВСКИЙ. Ну да ладно, не важно. Я вас от всей души поздравляю. Исключительной важности обстоятельства не позволили мне присутствовать на вашей защите, но мысленно я всё время был с вами. Вы не могли этого не ощущать в самые ответственные моменты.
ЛАШКОВА. Конечно, конечно.
ЧУВАЕВ. Ведь это ж надо, а! Так вы — как это называется?— экстра-секс?
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы такое говорите!
ЛЮДМИЛА. Не надо обращать внимание. У него давно наметилась тенденция к отупению на эротической почве. О чём бы ни говорили, всё у него секс да секс.
ЧУВАЕВ. А без него род человеческий вовсе бы вывелся. Какой отсюда вывод?
ПОКРОВСКИЙ (Лашковой). И чем теперь заняться думаете?
ЛАШКОВА. Не знаю. Поеду в свою губернию. Мне место обещали в областном педуниверситете. Лекции буду читать.
ПОКРОВСКИЙ. И охота вам это?
ЛАШКОВА. Ну а что же! Я это люблю. (Явно смущена и говорит нарочито бойко.) Я девушка непосредственная. Знаете, когда я читаю лекцию, я иногда вот прямо отдаюсь всей аудитории.
ЧУВАЕВ. Всем сразу нехорошо. У нас групповой секс пока ещё не поощряется.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы такое говорите!
ПОКРОВСКИЙ. А почему бы вам замуж не выйти?
ЛАШКОВА. Ну что вы, мне это совсем не нужно. И времени не было.
ПОКРОВСКИЙ. И не за кого?
ЛАШКОВА. Ну-у-у...
ПОКРОВСКИЙ. Понятно. У нас в секторе, разумеется, подходящей кандидатуры нет. Да и вообще в аспирантуре. Но есть же сейчас какие-то клубы знакомств.
ЛАШКОВА. Ой что вы! Я там была однажды. Нет, вы не думайте, мне это совершенно не нужно, меня просто подруга уговорила, ей одной неудобно было. Ну я из интереса. Там одни девушки разных возрастов. Чем старше, тем юбка короче. Ну там, значит, танцы-обжиманцы. И всё шерочка о машерочкой. Пришли потом несколько мужиков. Вот так подходят. Тебя со всех сторон просто откровенно раздевают. Вот так, так (делает жесты рукой). Вдоль и поперёк. Нет, что вы, мне это совсем не нужно... А вы там никогда не бывали?
ЧУВАЕВ. Он у нас юноша скромный. По злачным местам не ходит.
ПОКРОВСКИЙ. Язык у тебя острый. Жопу мне побрей.
ЛЮДМИЛА. Хоть бы при Ксюше постеснялись.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы, я ничего... А что же вы тут? Пойдёмте к столу.
ПОКРОВСКИЙ. Непременно, дорогая Оксана Петровна. И выпьем за ваш успех. Вот только одно небольшое дельце утрясём. (Берёт её за плечи и направляет к двери.)
ЛАШКОВА. Ну обязательно приходите! (Выходит.)
ПОКРОВСКИЙ (вслед ей). Сей секунд!
ЛЮДМИЛА. Ну что ты пристал к девушке? Хоть бы вот на столько деликатности. Праздное любопытство, знаешь...
ПОКРОВСКИЙ. И не праздное, и не любопытство. Я из-за этого и сюда-то припёрся, несмотря на всё охватившее мой организм изумление.
ЧУВАЕВ. Га-га-га! Жениться захотел!
ПОКРОВСКИЙ. Я бы женился только на одной женщине. Но она — увы!— не свободна. Людмила! Ты разбила моё сердце! Мне теперь свет не мил.
ЛЮДМИЛА. Как ты мне надоел!
ПОКРОВСКИЙ. Ничего не было, а уже надоел. Представляю, каково вашему мужу, мадам.
ЧУВАЕВ. Ты к делу давай.
ПОКРОВСКИЙ. А дело такое. Закончивши торгово-снабженческую операцию...
ЧУВАЕВ. Воровскую.
ПОКРОВСКИМ. Людочка! Скажи, чтоб он замолчал, а то я за себя не ручаюсь.
ЛЮДМИЛА. Скажешь ты, в конце концов, что-нибудь путное!
ПОКРОВСКИЙ. Беспутное говорит только вот этот тип, а я только по делу. Возвращаюсь, значит, домой, организм в изумлении. Вдруг звоночек от одного осведомлённого человечка. Такая новость, что не утерпел, к вам примчался. В пути получил телесные повреждения. А тут оскорбляют, да ещё зазря.
ЛЮДМИЛА. Ну хватит паясничать.
ПОКРОВСКИЙ. Семёныч-то ведь, дражайший наш коллега, на пенсию идёт.
ЛЮДМИЛА. Тоже новость! Стоило ради этого обрекать на страдания собственный нос.
ПОКРОВСКИЙ. А на вакантное место знаешь кто?
ЛЮДМИЛА. Ну?
ПОКРОВСКИЙ. Сафонова из агафоновского сектора.
ЛЮДМИЛА. Да ну!
ПОКРОВСКИЙ. Вот те и ну.
ЧУВАЕВ. Ребяты, куды бечь!
ПОКРОВСКИЙ. Нет, вот если как Липатова, таким всё равно, она как тянула своё, так и будет тянуть. А мне не всё равно. Нет, вы подумайте, жили тихо и мирно, никому не мешали, кирпич заготавливали...
ЛЮДМИЛА. Они там от неё стонали, теперь к нам решили спихнуть.
ПОКРОВСКИЙ. Я к ним два дня заскочил по одному делу. А у них собрание, как раз она там выступает. Какие-то там нагрузки от начальства, мужики ропщут, бабы тоже. А она... всё никак, стерва, со своими партийными замашками расстаться не может... Как можно, говорит, где наша гражданская совесть! Мы должны идти, куда нас пошлют. Я бы тебя, думаю, послал, так ведь не пойдёшь.
ЧУВАЕВ. Вот когда она к нам придёт, я посмотрю, как ты её пошлёшь.
ПОКРОВСКИЙ. Так она к тому же не на нижнюю ступеньку встанет. И уж шажок вверх никому не светит сделать.
ЧУВАЕВ. Да это всё ещё, может быть, лажа?
ПОКРОВСКИЙ. У тебя в мозгах лажа. А я вот, хотя и чуть не сдох на заготовке кирпича, а не поленился — к шефу заскочил.
ЛЮДМИЛА. И что?
Дверь с шумом распахивается, в комнату заглядывает кто-то из гостей. Слышен смех.
ГОСТЬ. Вы чего тут уединяетесь?
ДРУГОЙ. Мы к вам хотим.
Гости пытаются войти. Людмила выталкивает их, с трудом закрывает дверь, запирает её.
ЛЮДМИЛА. Сюда нельзя, здесь служебное помещение! (Покровскому.) И что шеф?
ПОКРОВСКИЙ. А что — шеф! Он тоже не в восторге.
ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Эй, выходи! Леопольд, выходи, жалкий трус!
Слышен стук, шум за дверью.
ЛЮДМИЛА. Да погодите, сейчас идём!
Шум за дверью стихает.
ЧУВАЕВ. Своими бы руками давил, кто не даёт людям покоя. Ну казалось бы: сектор тихий. Работа — не бей лежачего. Теоретическая наука, никакой сиюминутной отдачи никто не требует. Чего ещё надо людям? У нас уникальное положение. И в наше-то суматошное время.
ПОКРОВСКИЙ. Счастья своего не понимают, Я тоже когда-то такой был. Так хоть могу сказать в оправдание: молод был и глуп. После школы сразу. Устроили меня в одну контору. И мне сначала всё стыдно было: ну делать совершенно нечего. А мы с начальником в одной комнате сидели. Смотрю, и он ни черта не делает. Карандаши сидит чинит! Таблицу футбольную чертит. А мне что делать?
ЧУВАЕВ. Ничего.
ПОКРОВСКИЙ. Вот я так и делал. И с тех пор поумнел. А на жизнь я себе одним репетиторством кусок хлеба с маслом обеспечиваю. А эта стерва теперь всё вверх дном перевернёт.
ЛЮДМИЛА. Ой, ребята, а чего ж нам теперь делать?
ПОКРОВСКИЙ. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
ЧУВАЕВ. Да обломаем.
ЛЮДМИЛА. Ты сходи к агафоновцам, а лучше вон у моего братца поинтересуйся, кто кого обломал!
ПОКРОВСКИЙ. Вот пока вы тут пировали, я уже кое-что предпринял. Разведку боем. Собственно, я выполняю негласное поручение начальства.
ЛЮДМИЛА. Да ну!
ЧУВАЕВ. Медаль тебе за трудовые успехи. И откуда что берётся! Горы свернёт, чтобы только ничего не делать.
ЛЮДМИЛА. И что?
ПОКРОВСКИЙ. Нужно заделать образовавшуюся брешь. Шеф будет отнюдь не против кандидатуры Лашковой. Но сие пока строго конфиденциально.
ЛЮДМИЛА. Это ты про Ксюшу нашу?
ПОКРОВСКИЙ. Именно. Про новоиспечённую кандидатку наук, виновницу нынешних торжеств. Для шефа это лучший вариант. И убедительно: воспитали собственный кадр. В общем, у них, у начальства то есть, какая-то там своя высшая политика, свои контры — шут их разберёт, не наше дело. При том Агафонов откровенно хочет избавиться от Сафонихи. А это уже и нас задевает.
ЛЮДМИЛА. Шеф, видно, уже в маразме. А ты-то! Вроде бы рано.
ПОКРОВСКИЙ. А я что?
ЛЮДМИЛА. Ей же жить негде.
ПОКРОВСКИЙ. Снимать будет.
ЛЮДМИЛА. А прописка? Это тоже важно.
ЧУВАЕВ. Сейчас прописка отменена как нарушение прав человека. За что мы у Белого дома на баррикадах сражались?
ЛЮДМИЛА. Ну теперь это регистрацией называется, не один хрен?
ПОКРОВСКИЙ. А с пропиской и с жилплощадью нет никого подходящих. Как назло: то стоят ждут с высунутыми языками, когда не надо, а как надо — хоть шаром покати.
ЛЮДМИЛА. Слушай, а может, Сашку Назарова? Прекрасная кандидатура.
ЧУВАЕВ . Я бы этого идиота даже к дому своему близко бы не подпустил. Зачем ты его сюда позвала?
ЛЮДМИЛА. Мы учились вместе. И вообще он хороший парень.
ПОКРОВСКИЙ. Чего у него там стряслось-то? Я как-то за этой коммерческой суетой отвлёкся от общественной жизни.
ЛЮДМИЛА. Значит, так. Заседание кафедры. Это мне Семёнов рассказывал. Встаёт Назаров и держит речь. Наш, говорит, завкафедрой — человек без чести и совести. Предлагаю поставить вопрос о его несоответствии своей должности. Я же под его началом работать не хочу.
ПОКРОВСКИЙ. Га-га-га!
ЧУВАЕВ. Мне дед оставил мудрый совет на всю жизнь: опасайся дружбы с идиотами.
ПОКРОВСКИЙ. Ты-то, Людочка, сама не в маразме, что предлагаешь такую кандидатуру?
ЛЮДМИЛА. Но ведь наш-то шеф с тем на ножах. Он рад будет тому насолить.
ПОКРОВСКИЙ. При чём тут ножи? У Витюши дед правильно говорил. Твой Саша хуже Сафонихи будет. Я вот сейчас в отчётах туфту гоню, и шеф покрывает, потому что ему эта туфта выгодна. А Сашенька встанет и скажет: это против совести. И мы все в говне, а он наверху и весь в белом.
ЛЮДМИЛА. А тот мудрый дед насчёт прописки никаких советов не оставлял?
ПОКРОВСКИЙ. Да чего ты заладила как попугай: прописка, прописка! Прописку можно организовать, нет ничего проще.
Стук в дверь, крики.
ЛЮДМИЛА. Сейчас идём! Подождите минутку!.. Как это — организовать?
ПОКРОВСКИЙ. Вот спроси у этого тамбовского мужика, как он в столице оказался.
ЧУВАЕВ. Я законным путём.
ПОКРОВСКИЙ. Женился, мерзавец. Вот и спасительница наша посредством точно такого же законного, я бы даже сказал: наизаконнейшего брака.
ЧУВАЕВ. Насмешил.
ЛЮДМИЛА. Нет, ну мужики... Тут же время, как я понимаю, не терпит...
ЧУВАЕВ. Ради такого дела Влад готов на любые жертвы. Влад, в первую брачную ночь я буду мысленно с тобой. Ты сможешь ощутить мою моральную поддержку в самый ответственный момент.
ПОКРОВСКИЙ. И ведь ещё воображает, что всё это остроумно.
ЧУВАЕВ. А что! В ней кое-что всё-таки есть.
ПОКРОВСКИЙ. Скорее кое, чем что. Но мне нельзя. У меня кирпич.
ЛЮДМИЛА. Хватит вам дурака-то валять. Дело серьёзное.
ПОКРОВСКИЙ. А коли серьёзно, то всё элементарно, Ватсон, как дважды два. Нужен дешёвый фраер, с которым Оксана Петровна на днях подаст заявление в загс.
ЧУВАЕВ. Да, это ты тонко подметил. Чтобы поставить клизму, нужно иметь как минимум задницу. А для свадьбы нужен жених.
ЛЮДМИЛА. Да его же нет.
ЧУВАЕВ. Даже в доме свиданий, как мы только что слышали, никто не решился покуситься на её, как бы это поделикатнее при даме выразиться... скажем так: на её статус, извините за выражение, кво.
ПОКРОВСКИЙ. Её статус, как ты выражаешься, кво не имеет значения ни в прямом, ни в переносном смысле. Нужен заурядный фиктивный брак. А это нынче сплошь и рядом. Не бесплатно, конечно.
ЛЮДМИЛА. Ну а где этого-то, фиктивного-то найти?
ПОКРОВСКИЙ. Не хочешь с Сафонихой дела иметь — найдёшь. Неужто никто не захочет энную сумму на халяву получить?
ЛЮДМИЛА. И какой же ему от того навар?
ПОКРОВСКИЙ. Ну, я с этим никогда впрямую не сталкивался. Думаю, тысячи три. Сторгуемся.
ЛЮДМИЛА. И кто платить будет?
ПОКРОВСКИЙ. Она, разумеется. Не я же.
ЧУВАЕВ. Ему нельзя. Он на кирпич потратился.
ПОКРОВСКИЙ. Да. И прекрасный, доложу вам, батенька, кирпич. У моего друга Пети какое-то там спецснабжение. А то вот у нас сосед, привёз с базы, а на него смотреть страшно: от одного взгляда рассыпается.
ЛЮДМИЛА. Да погоди ты! Где же она возьмёт такие деньги?
ПОКРОВСКИЙ. А сие, матушка, не наша печаль. Где хочет. У неё мать вроде бы в деревне? Я вот по художественной литературе знаю: когда крестьянину нужны были деньги позарез, он корову продавал. Пусть продадут корову. В конце концов, такое место на дороге не валяется. Тут уникальный случай, совпадение совершенно непредвиденных обстоятельств.
ЧУВАЕВ. И вообще. Это не наше дело.
ПОКРОВСКИЙ. Именно. Твоё дело — показать Сафонихе то место, которое у тебя так жаждет клизмы.
Громкий стук в дверь.
У твоего, Людочка, братца Алексиса пол-Москвы знакомых. Он нам непременно что-нибудь подыщет. Я сейчас же с ним переговорю.
Покровский подходит к двери и отпирает её.
В комнату с шумом вваливается человек
пять-шесть гостей. Среди них — Алла.
Вслед за другими входит Назаров.
АЛЛА. Всё! Мы образуем собственную фракцию и отделяемся от большинства!
ПОКРОВСКИЙ (с нарочитой картавостью). Оппогтунистическая деятельность, напгавленная на гаскол наших гядов.
АЛЛА. Просто я устала блистать... Владислав, почему вас не было на защите?.. Понимаете, я устала блистать. Я жажду покоя! (Кричит кому-то за дверью) Алёша, идите сюда!
Входит Боков.
ПОКРОВСКИЙ . Во, кстати! Мне с тобой надо о деле переговорить.
АЛЛА . Какие ещё дела! Не будьте занудой, Владислав.
ЧУВАЕВ (Покровскому). Слушай, а правда, пойдём выпьем что ли! Не то мы тут слишком увлеклись. Надеюсь, там ещё не всё вылакали.
АЛЛА. Выпейте за Алёшу Бокова, за самого лучшего человека в мире!
ПОКРОВСКИЙ. Непременно, Аллочка, очаровательница вы наша!
Покровский и Чуваев выходят.
В комнату как-то несмело и с неприкаянным видом входит Нилов, жмётся у стены.
Все рассаживаются, кто на тахте, сдвинув пальто, кто в кресле, сразу вдвоём.
Назаров и Людмила остаются стоять.
ЛЮДМИЛА (заметив вошедшего мужа). Когда я тебя приучу стул мне подавать!
Нилов выходит, через некоторое время приносит стул. Людмила садится.
Нилов остаётся стоять, он выглядит явно посторонним в этой компании, никто не обращает на него внимания.
АЛЛА. У нас такой интересный разговор, но разве эти дадут поговорить о чём-нибудь серьёзном! Ваш брат, Людмила, рассказывает интересные вещи про обезьян. Нет, правда, они оказываются очень умные.
ЛЮДМИЛА . Ну и что?
БОКОВ. Как что! Животные — представляешь!— проявляют способность к абстрактному мышлению! Это подтверждено многочисленными экспериментами.
ЛЮДМИЛА . Какая ерунда!
БОКОВ. Вовсе не ерунда. Это же отнимает у человека преимущество именоваться “гомо сапиенс”. Человек лишается своей абсолютной монополии на разум! Различие между нами и животными становится, с точки зрения этого критерия, уже не качественное, но лишь количественное.
АЛЛА. А мы все скоты! И отличаемся от других скотов только количеством скотства.
БОКОВ. Мне рассказывали об одном эксперименте с обезьянами, и поразительный результат.
КТО-ТО. И что же за эксперимент?
БОКОВ. Этим обезьянам положили банан, накрыв его тяжёлой металлической плитой, так что поодиночке они поднять её не могли, но только все вместе.
КТО-ТО. И подняли?
БОКОВ. В том-то и дело, что сообща они и не пытались. То есть представляете, как это важно, какой существенный вывод можно сделать? Животные не способны к коллективным, то есть к количественным действиям.
АЛЛА. Ах, Алексей, какой вы умный!
НАЗАРОВ. И вовсе всё не так.
БОКОВ (не совсем довольный вмешательством). А почему не так?
НАЗАРОВ. То, что у животных стадный инстинкт силён — это очевидно, и неспособность к совместным действиям тут ни при чём.
БОКОВ. А что же тогда?
НАЗАРОВ. У этих обезьян полностью отсутствовали зачатки совести, вот они и не доверяли друг другу.
Большинство смеётся.
КТО-ТО. Эк хватил!
БОКОВ. А при чём тут совесть?
НАЗАРОВ. Почему люди способны к сознательному сотрудничеству? Потому что надеются на совесть и предполагают, что результаты не будут присвоены кем-то одним. Обезьяны же заранее знают, что бананом завладеет тот, кто сильнее. Поэтому каждая старается достать банан в одиночку.
Пауза. Нилов вдруг начинает смеяться.
Все смотрят на него.
НИЛОВ. Я один анекдот вспомнил. Турист упал в пропасть, а ему туда кричат: как там на дне?! А он отвечает: я ещё не долетел.
Кто-то смеётся.
Входят Покровский, Чуваев и Лашкова.
ЧУВАЕВ . ...и вообще все эти так называемые тончайшие лирики, они ведь в жизни были сплошь развратники и похабники. Или, если деликатнее выразиться: женолюбы. Кого ни назови.
ЛАШКОВА. Почему вы в этом так уверены?
ЧУВАЕВ. Да уж вот уверен.
Входит молодая женщина.
ВОШЕДШАЯ (давясь от смеха). Игорю налили в фужер воды из вазы с цветами, тухлятина уже, а он отхлебнул: опять рислинг!
Все смеются.
ЛАШКОВА. Ой, неужели всё позади! Прямо не верится. Четыре года ушло.
НИЛОВ (неожиданно обращается к Лашковой). А вы не боитесь, что на вас донесут?
ЛАШКОВА (растерявшись). За что?
НИЛОВ . А банкеты после защиты запрещены. Могут не утвердить.
КТО-ТО. Это когда было! Теперь уже всё по-другому.
НИЛОВ. Всё равно. Запрета никто не отменял.
ЛАШКОВА. Но мы же так... неофициально...
НИЛОВ. Всё равно. Доказывай потом, что ты не верблюд. Я-то не донесу, конечно, но разные ведь люди бывают.
Все в некотором недоумении.
ЛЮДМИЛА. Молчал бы!
ПОКРОВСКИЙ (ни к кому не обращаясь). Кирпич заготовить это не ешака купить. А ещё мне мой друг Вася цементу обещал.
АЛЛА (как бы про себя). Вот сидим мы, шумим, а что с нами будет через сколько-то там лет? Кем мы станем?
ПОКРОВСКИЙ. Кем мы станем, я знаю точно.
ЛЮДМИЛА. И кем же?
ПОКРОВСКИЙ. Покойниками.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы такое говорите!
ПОКРОВСКИЙ. Ладно, пошли, мужики. И бабы тоже. Допьём всё, да и по домам. Время уже.
Все начинают не торопясь выходить.
ПОКРОВСКИЙ (Людмиле). Я с Алексисом переговорю, а ты Ксюшу подготовь.
ЛЮДМИЛА . Она останется мне с уборкой поможет.
ПОКРОВСКИЙ. Действуй. Только ему потом про Сафониху не проговорись ненароком. (Уходит.)
ЛЮДМИЛА . Влюбиться бы в кого-нибудь что ли! (смотрит на мужа.) Ну чего ты здесь толчёшься? Чайник бы поставил.
Людмила и Нилов выходят. В комнате остаются Назаров и Лашкова.
ЛАШКОВА. Я на днях в Третьяковской галерее была. (Как бы оправдываясь ): Сама не знаю, почему захотела пойти, давно не была. На некоторые картины смотрела, просто плакать хочется, так жалко чего-то... ну и вообще. И ведь во всё это, в каждую картину художник столько труда вложил. Сколько сил, вдохновения, мук! Может быть, ночами порою не спал. А тут проходят. Иные взглядом лениво скользнут — и дальше. А кто и вообще мимо... И я вот. Четыре года свою диссертацию писала. Тоже мучилась, не спала. И ревела, бывало, от отчаяния, что не выходит. А кто её читать станет? Кому это нужно?
НАЗАРОВ (в некоторой растерянности). Кто-нибудь да прочтёт.
ЛАШКОВА . Кто-нибудь... Я же понимаю: я не великий учёный, никаких открытий, никаких интересных мыслей.
НАЗАРОВ . Я не знаю, что вам сказать в утешение. Простите.
ЛАШКОВА. Что вы! Утешать не надо. Всё хорошо. Не обращайте внимания. Это я так. От одиночества.
Из соседней комнаты доносятся звуки веселья.
Входят Покровский и Боков.
ПОКРОВСКИЙ. Оксана Петровна! Вы здесь? А там все с ног сбились, вас искамши. Все глаза проглядели: где, говорят, наша юбилярша? Мы не можем без неё.
ЛАШКОВА. Ну что вы такое говорите! Какая юбилярша?
ПОКРОВСКИЙ. Как какая!.. А впрочем, не важно. Одним словом, виновница торжества. Именно виновница. Вы не чувствуете себя виноватой?
ЛАШКОВА (растерянно). Не знаю... В чём?
ПОКРОВСКИЙ. В том, что покинули общество. Идите! Вас там устали ждать. Идите, идите.
ЛАШКОВА. Да, конечно. (Выходит.)
ПОКРОВСКИЙ. Алексис! Этой милой даме нужно помочь. Ты можешь составить счастье всей её жизни.
БОКОВ. Редкостное ты трепло.
ПОКРОВСКИЙ. Весь день сегодня терплю одни оскорбления.
БОКОВ . А что с тобой ещё остаётся?
ПОКРОВСКИЙ. Хорошо! Я прощаю. Я всем прощаю. Только после моей смерти вы поймёте, кого потеряли. (Вдруг как бы замечает Назарова.) Но вот чего я не пойму, так это его. (Подходит к Назарову.) Если тебе хочется сидеть одному — зачем пришёл сюда? Если пришёл сюда, зачем сидишь... как это в песне поётся... в стороне от весёлых подруг?
НАЗАРОВ. И сам не знаю. Какая-то с утра хандра нашла. На люди потянуло. Пришёл — тоже не весело.
БОКОВ . Позавидовал чужому успеху, Сашуля?
ПОКРОВСКИЙ (совершенно серьёзно, без тени прежнего шутовства). Ладно. Это бывает. Но что ты там натворил-то на кафедре?
НАЗАРОВ. Я сказал то, что все знают и так. Что думали давно и без меня.
ПОКРОВСКИЙ. Погоди. Пусть мой вопрос банален, но что: это на самом деле обязательно всегда говорить именно то, что думаешь?
НАЗАРОВ . Конечно, я не праведник. Сам долго варился в этой каше. И как-то вдруг сам себе противен стал. И всё это вообще... Да и зачем? Я, разумеется, не питал никаких иллюзий и знал, чем всё кончится. Не знаю, понятно ли... Просто захотелось напоследок повеселиться и посмотреть, как все прореагируют.
ПОКРОВСКИЙ. И повеселился?
НАЗАРОВ. Они искренне возмутились. И теперь я никак не могу понять, кто сошёл с ума: я или они?
ПОКРОВСКИЙ (снова принимая шутовской тон ). Философски рассуждая, критерием разумности, а следовательно, и безумия являются нормы, определяемые умонастроением большинства. Отсюда примитивный логический вывод: безумен ты!
БОКОВ (поучающе). Всегда мы так. Как это прекрасно получается, что некоторые присваивают себе право судить. Один себя благороднее всех признаёт, другой на большинство ссылается. Да, все мы усвоили себе тот пошлый шаблон, что в ногу может шагать только большинство, а если один, по-своему, то он всегда сбивается. Все думали, что земля плоская и солнце крутится вокруг неё, один Коперник полагал иначе. Так кто же шагал в ногу?
ПОКРОВСКИЙ. В ногу всегда шагает господин поручик.
БОКОВ. И нечего из себя этого поручика корчить.
ПОКРОВСКИЙ. Ничего не пойму, куда ты гнёшь. И причём здесь вообще Коперник? Мы тут не законы мироздания открываем. Случай довольно обыденный. Критерий истины — практика. Я, допустим, тоже думаю, что его шеф — редкостный болван. Но вот перед нами сидит озвучивший эту мысль... Только не надо мне говорить красивых слов. Когда потребуется, я ещё красивее сказать могу... Но кто он теперь? Я не понимаю, чего мы тут спорим. Выеденного яйца не стоит. Это банально, как... Даже сравнения не подберу.
НАЗАРОВ. Конечно, банально. И признаюсь: у меня вовсе не было желания бороться за правду. Просто мне всё надоело.
ПОКРОВСКИЙ. Бывает... А я вот кирпич сегодня заготовил.
БОКОВ. Ты, собственно, чего от меня-то хотел?
ПОКРОВСКИЙ. Да, именно от тебя. Впрочем, и ты, Александр, слушай. Может, и ты поможешь. Излагаю предельно коротко. В нашем секторе освобождается место. Его может получить Ксюша, сегодня защитившаяся. Но для этого ей нужна прописка. Для прописки нужно вступить в законный брак. А для этого нужен жених. Какой угодно. Можно и настоящего. Думаю, она не откажется. Но всё дело в том, что жених должен быть найден максимум в недельный срок. А вообще, чем раньше, тем лучше. У тебя, Алексис, полно знакомых. Найди благородного идальго, непременно бедного, который нуждался бы в улучшении своего материального положения. Предполагаю, что сумма где-то в районе трёх тысяч. Впрочем, я уточню. Есть вопросы? нет вопросов. Принято единогласно. Сверим часы. Начинаю отсчёт времени.
Все трое направляются к выходу. Уже у дверей Покровский останавливает Бокова.
Они остаются вдвоём.
ПОКРОВСКИЙ. Слушай, я ведь знаю, что ты любишь давать обещания, но никогда не выполняешь.
БОКОВ. А что с такими, как ты, ещё остаётся? Не пообещаешь, так и не отвяжетесь.
ПОКРОВСКИЙ. Ну так вот, поскольку это дело вообще имеет несколько коммерческий характер, то ты за труды можешь иметь некоторую компенсацию.
БОКОВ. Комиссионные предлагаешь?
ПОКРОВСКИЙ. Я же знаю, что ты выше этого. Но дело ещё в том, что я являюсь у нас в секторе составителем сборника, ты знаешь. Твоя публикация обеспечена. Но это мелочь. У нас создаётся своё издательство, в котором я многое буду решать. Имей в виду.
БОКОВ. Ты мне — я тебе? Деловухин.
ПОКРОВСКИЙ. А что с такими, как ты, ещё остаётся?
Действие второе
Картина первая
Квартира Бокова.
Боков, Князев.
КНЯЗЕВ. Ты знаешь, вот если хоть зубную щётку бабе позволишь принести, то уж потом её не выживешь.
БОКОВ. Женщины одолели?
КНЯЗЕВ. Алексей, ну а что делать? Куда от того денешься?
БОКОВ. В известном смысле, Серёжа, вся тончайшая лирика есть не что иное, как отражение утончённости — что поделаешь!— эротической безудержности поэта. Сублимация и всё прочее. На то ты и поэт.
КНЯЗЕВ. Да, поэт. Вон видишь, как живу. Уж давно за тридцать мужику, а чего добился? Хоть бы что-нибудь напечатано было.
БОКОВ. А вы всё только о результатах думаете! Болезнь нашего времени: не внутренняя суть, а внешний результат — только это вас волнует. Сплошные деловухины. Поэты!
КНЯЗЕВ. Но ведь я же хочу тоже чего-то добиться.
БОКОВ. Пачку зелёных бумажек, Серёжа? (Подмигивает.)
КНЯЗЕВ. Один в редакции сказал: Серёжа родился с пером в руке. А что толку!
БОКОВ. Всё сторожем?
КНЯЗЕВ. По подвалам через две ночи на третью сижу.
БОКОВ. И хватает?
КНЯЗЕВ. Тётка у меня часто приговаривала: думай — не думай, сто рублей не деньги.
БОКОВ . Значит, двести рублей не деньги вдвойне.
КНЯЗЕВ. Ага. А триста втройне.
БОКОВ. Хочешь заработать сразу много и ничего при этом не делать?
КНЯЗЕВ. Сколько много?
БОКОВ. Три тысячи.
КНЯЗЕВ. Деревянных?
БОКОВ. Обижаешь.
КНЯЗЕВ. И как это?
БОКОВ. В общем, я это специально для тебя устроил. Если бы ты знал, чего мне это стоило.
КНЯЗЕВ. Но ты хоть скажи, в чём дело.
БОКОВ. Я тебе устроил возможность вступить в фиктивный брак.
КНЯЗЕВ . Какой ещё фиктивный брак?
БОКОВ. Законный. Надо пойти и расписаться: в загсе.
КНЯЗЕВ. Не хватало мне ещё жениться.
БОКОВ. Ну вот, вместо благодарности. Тебе не жениться, а только оформиться. Всей работы на десять минут, и за это тебе дают три тысячи. Хочешь баксов, хочешь в еврах. Я бы евры предпочёл.
КНЯЗЕВ. Ну, а что... а эта... ну которая...
БОКОВ. Серёжа! какая баба! Ты даже пару раз переспать с ней можешь. Мужу (подмигивает) это разрешается. А! Серёжа! Ну!
КНЯЗЕВ. Так она что...
БОКОВ. Ей прописка нужна.
КНЯЗЕВ. Так что, я и прописать к себе должен?
БОКОВ. Да, это, Серёжа, обязательно.
КНЯЗЕВ. И она сюда ко мне жить приедет что ли?
БОКОВ. Да нет, жить она будет в другом месте. Да чего ты волнуешься! Через полгодика разведётесь. Она останется с пропиской, ты с той часть гонорара, которую ещё не успеешь пропить.
КНЯЗЕВ. Так она скажет: я имею право на жилплощадь.
БОКОВ. Договоритесь. Поставишь предварительное условие, что она ни на что претендовать не будет.
КНЯЗЕВ. А как я договорюсь?
БОКОВ. Ты как дитя. Встретитесь на нейтральной территории. У моей сестры можно. Я тебя отведу туда. Вот хоть завтра.
КНЯЗЕВ. Как-то всё это неожиданно. Я подумаю.
БОКОВ. Он подумает! Так говорит, как будто умеет это делать. Это, Серёжа, занятие не для всех.
КНЯЗЕВ. Почему это ты так уверен?
БОКОВ. У-тю-тю! Обиделся мальчик! Не надо, Серёжа, не надо. Я знаю, о чём говорю. Да я опускался в такие бездны, о которых ты и понятия не имеешь. Вы все только воображаете, что это просто.
КНЯЗЕВ. Почему?
БОКОВ. А потому, что мне это слишком большой ценой досталось... Ладно. Мы не об том с тобой говорим. Времени нельзя терять. Пока ты будешь думать, окажется, что поезд ушёл. Желающих и так выше крыши.
КНЯЗЕВ. А разводиться когда?
БОКОВ. Ты можешь вообще не разводиться. Болтаешься по бабам. Остепениться пора.
КНЯЗЕВ. Я серьёзно.
БОКОВ. Серьёзно! Знал бы ты хоть, что это такое: серьёзно. О сроках договоритесь.
КНЯЗЕВ. Что хоть за баба?
БОКОВ. А тебе какое дело?
КНЯЗЕВ. Жениться всё-таки.
БОКОВ. В нашем институте недавно защитилась. Ей место дают, а прописка нужна. Приедешь, увидишь.
КНЯЗЕВ . А когда?
БОКОВ. Я позвоню. Ты только учти, шанс терять нельзя. Я специально ради тебя их на эту мысль навёл.
КНЯЗЕВ. Нет, ну Алексей, спасибо тебе, конечно, большое. Ты, конечно, редкий человек.
БОКОВ. Не в этом дело, Серёжа. Я тебе хотел помочь. Я о друзьях всегда думаю.
КНЯЗЕВ. У тебя у самого-то как? Сам когда защищаться будешь?
БОКОВ. Э, Серёжа! Знал бы ты! Представляешь, уже всё готово было. А там (указывает пальцем на потолок) вдруг решили, что это не совсем... удобная — скажем так — тема.
КНЯЗЕВ. И что?
БОКОВ. Что! Запретили.
КНЯЗЕВ. А что же ты? Взял бы какую-нибудь удобную.
БОКОВ. Я, Серёжа, какую-нибудь не стану. На это современных деловухиных хватает. Да ладно! Я бы тебе много чего рассказать мог. Не стоит. Так я тебе позвоню, может быть, даже сегодня вечером. Не теряй шанс.
Картина вторая
Большая комната в квартире Ниловых. Обстановка весьма обычная. Посредине — раздвинутый, но не накрытый стол. У стола за шахматной доской сидит Нилов. Входит Покровский, за ним в дверях показывается Людмила .
ЛЮДМИЛА. Посиди, я сейчас. (Исчезает.)
НИЛОВ. Добрый день.
ПОКРОВСКИЙ. А он действительно добрый?
НИЛОВ. Не знаю. В шахматы не желаете?
ПОКРОВСКИЙ. По моим силам только с Каспаровым играть.
НИЛОВ. Так сильно играете!
ПОКРОВСКИЙ. Наоборот, считай, что совсем не умею.
НИЛОВ. Так как же с Каспаровым хотите?
ПОКРОВСКИЙ. Вот если я продую новичку-пятиразряднику, все скажут, что совсем я болван. А чемпиону проигрывать не зазорно, ему все проигрывают.
НИЛОВ. Но ведь он-то с вами не станет играть.
ПОКРОВСКИЙ (возмущённо). Это почему же!
НИЛОВ. Интересно играть с равным по силе противником. По себе знаю.
ПОКРОВСКИЙ. А вы сильно играете?
НИЛОВ. Недавно у мастера выиграл.
ПОКРОВСКИЙ. По плаванию.
НИЛОВ. Что — по плаванию?
ПОКРОВСКИЙ. Мастер по плаванию был.
НИЛОВ. Нет, по шахматам.
ПОКРОВСКИЙ. А играли в домино.
НИЛОВ (догадываясь). Вы смеётесь.
Входит Людмила.
ЛЮДМИЛА. Опять со своими шахматами пристаёшь! Не знаю, куда от них деваться. Убирай давай.
НИЛОВ (собирая шахматы). А я вот не знаю, куда от твоих гостей деваться.
ЛЮДМИЛА. Ты только о себе. О людях бы подумал.
ПОКРОВСКИЙ. Граждане! Мы боремся за мир. Нужно ликвидировать очаги напряжённости.
ЛЮДМИЛА. Эгоист каких мало.
НИЛОВ. Ну и пускай. А эта тётка мне здесь ни к чему.
ПОКРОВСКИЙ. Мать её что ли?
ЛЮДМИЛА. Ну да. Но что, если такое дело. Естественно, пришлось вызывать. Да она всего на два дня. Завтра уедет. Она мне, может, и самой здесь мешается, но тут и наши интересы. Мог бы понять и потерпеть.
ПОКРОВСКИЙ. Ничего, сегодня окончательный сговор.
НИЛОВ. Вот пусть бы её к себе твой братец забрал. Один живёт.
ЛЮДМИЛА. Он и так много сделал. Попробовал бы сам жениха сыскать. А ему в том вообще никакой корысти нет.
ПОКРОВСКИЙ. Так где же они все? Я пришёл, пора начинать.
ЛЮДМИЛА. Да мать эта куда-то по магазинам побежала. По старой привычке: если в Москву, так чего-то купить надо. Знаешь же этих провинциалов. Теперь и там всего навалом. Ксюша с нею. Да уж придти давно должны.
ПОКРОВСКИЙ. А трепетный жених?
ЛЮДМИЛА . Алексей должен привести, но ты же знаешь, что он всегда опаздывает.
Слышен звонок в дверь.
ПОКРОВСКИЙ. Кто-то из них.
ЛЮДМИЛА. Наконец-то.
Людмила выходит.
ПОКРОВСКИЙ. Сговорятся, и всё войдёт в свою колею.
НИЛОВ. Жду, не дождусь.
ПОКРОВСКИЙ. Дождётесь, дождётесь. Вот Светлана Алексеевна говорила... Да, кстати, вы её не знаете? Ну, Светлану Алексеевну.
НИЛОВ. Нет. А кто она такая?
ПОКРОВСКИЙ. Ну как же! Это же жена самого Петра Семёновича!
НИЛОВ. А он чем знаменит?
ПОКРОВСКИЙ. Что за вопрос! Тем, что он муж Светланы Алексеевны.
НИЛОВ. Постойте, но это же явно порочная логика. Она знаменита тем, что жена мужа, знаменитого, что он её муж.
ПОКРОВСКИЙ. Да, это, действительно, как-то странно. Чего только в жизни не бывает!
Входят Людмила и Лашкова.
ЛАШКОВА. Ой, ну вы же знаете, такая торговля, глаза разбегаются. А мама — и то нужно, и это.
ЛЮДМИЛА . Да ладно. Алексей с этим всё равно ещё не пришли.
ПОКРОВСКИЙ. С помолвкой вас, Оксана Петровна! Медовый месяц на Канарах собираетесь провести, или попросту, без затей — в Сочах? На правах шафера интересуюсь.
ЛАШКОВА (смеётся). Ой, ну что вы такое говорите!
ПОКРОВСКИЙ. А что! Чем, как говорится, лукавый не шутит? Может, тут и судьба? Знаете, как в анекдоте: был бы человек хороший.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы, мне это совсем не нужно.
ПОКРОВСКИЙ . Смотрите, от своего счастья грех отказываться.
Пауза.
НИЛОВ (Лашковой). Ну как, никто на вас не донёс за банкет после защиты?
ЛЮДМИЛА (раздражённо). А тебе-то вообще что здесь нужно? Шёл бы ты отсюда!
Нилов выходит.
ЛАШКОВА. Зачем вы так! Это же всё-таки муж ваш.
ЛЮДМИЛА. Муж... объелся груш... хуже горькой редьки...
ЛАШКОВА. Нет, так нельзя. Я бы на вашем месте...
ПОКРОВСКИЙ. Ничего, у вас скоро своё такое же место будет.
Входит мать Лашковой.
МАТЬ . Здравствуйте, кого не видела.
ПОКРОВСКИЙ. Милости просим. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома.
МАТЬ. Да я чего...
ЛЮДМИЛА. Да вы правда не церемоньтесь. У нас ведь всё просто. Отдохните. Я пойду чай поставлю.
ПОКРОВСКИЙ. Чай! Такое событие, а она чай! Пошарь там по своим погребам.
ЛЮДМИЛА. Обойдёшься.
Людмила выходит.
ЛАШКОВА (смотря ей вслед). Какие всё-таки хорошие люди.
ПОКРОВСКИЙ (матери). Как вас, извините, величать прикажете?
МАТЬ. Да все тётей Нюрой кличут.
ПОКРОВСКИЙ. Я так не могу. Вы мне имя-отчество.
МАТЬ. Анна Алексевна.
ПОКРОВСКИЙ. И прекрасно. А я Владислав. Вот и познакомились. Ну что, Анна Алексеевна, как живёте?
МАТЬ. Да вашими молитвами как столбами подпираемся.
ПОКРОВСКИЙ. Тогда всё в порядке. Подпорки надёжные. А у вас что, и хозяйство есть?
МАТЬ. Да чего ж ему не быть?
ПОКРОВСКИЙ. И корова какая имеется? Ну и ещё всякие там звери разные?
МАТЬ. Скотину держим.
ПОКРОВСКИЙ. Слушайте, это же прекрасно! И ведь всё бесплатно выходит.
МАТЬ. Как так бесплатно?
ПОКРОВСКИЙ . Ну как же: ходит там корова, щиплет травку, а вам молоко.
МАТЬ. Так трава-то, она не круглый год растёт.
ПОКРОВСКИЙ. Да, конечно. Зимой сложнее. Но летом-то хотя бы трава же совсем задарма. Да ведь сено накосите, тоже денег никому не платите?
МАТЬ. Ишь ты какой быстрый. С травы одной да сена больно много надоишь! И свеклы кормовой добавить надо, и картошки когда. А уж идёшь доить, так буханку хлеба уж обязательно наломаешь.
ПОКРОВСКИЙ. Как хлеба? Это когда-то ведь запрещали даже.
МАТЬ. А что делать? Я бы вот тоже комбикормом-то хотела бы. Неужель плохо? А где взять? И в прежние поры за директором ходишь, ходишь, раз в год уговоришь: привезут. На два месяца, бывало, хватало. А мне до конторы одиннадцать километров — попробуй походи, да ещё не всегда застанешь. А теперь и вообще всё развалилось. У соседа моего сын где-то он там работает в городе, ворует. А нам и своровать негде. И хлеб-то, он дороже комбикорма обходится, да потаскай его тоже на горбу. В ноше и иголка тянет. А что поделаешь?
ПОКРОВСКИЙ. Но ведь должна же как-то власть вам помогать.
МАТЬ. Должна да не обязана.
ПОКРОВСКИЙ. Но это же государству вред. Продовольственная зависимость от Запада и всё такое. Надо требовать.
МАТЬ. Вот и пойди распорядись, коли ты такой умный.
ЛАШКОВА. Я помогу там, на кухне.
Лашкова выходит.
МАТЬ (смотря ей вслед). Хоть бы пристроилась здесь. Всё легче. А что, вправду у вас тут много берут, чтоб жениться?
ПОКРОВСКИЙ. Кто же бесплатно на это пойдёт?
МАТЬ. Чего не увидишь, пока живёшь. А может, и вправду сойдутся? Что ж так-то: расписались и разошлись?
ПОКРОВСКИЙ. У вас ещё-то дети есть?
МАТЬ. А то нет! Это у вас новая мода теперь, что детей не хотят. Я вон по телевизору смотрела… ой, и как же я ревела! Про детский дом показывали, от которых матери отказались. А они все придумывают. Девочку вот, четыре года, спрашивают: у тебя мама есть? Есть, говорит, мы с ней в цирк ходили. А сама свою мать вовсе и не знает. И как же это можно? Ведь от своего! Нет, я своих уж как любила, особенно Кольку! Вот он маленький был, уж кажется, всегда со мной, а мне прямо вот хоть грудь разрезать и туда его, чтобы вообще не отпускать никогда. Вот как любила. Девок не так.
ПОКРОВСКИЙ. А у вас их много?
МАТЬ. Да двое. И Колька, сын. Была ещё одна, померла маленькая. И сколь же я проплакала тогда! Прямо думалось, тоже умру. А эти отказываются. Одна даже кормить не захотела. И его показывают, он орёт. А она... Я бы прямо таких вот тут же вышвыривала из больницы. А её ведь держат. А за что же её держать-то? Вот ни минуты бы не держала. ...А ведь тоже так подумать: сколь же мы через детей переносим! И ведь вот им плохо, а я как виноватая.
ПОКРОВСКИЙ. Чем же это вы-то виноваты?
МАТЬ. Да ведь я же их родила. Они ведь меня не просили об том. Родила, а от беды не защитишь. Так вот и думаешь иногда: сейчас скажут: зачем нас рожала, не знаешь что ли жизнь какая! Вон Оксана моя. Мается и мается. И всё по чужим людям.
ПОКРОВСКИЙ. Почему по чужим?
МАТЬ. Да так. Школу у нас закрыли — в интернате жила. Только что на каникулах домой. Потом в институт. Потом дальше. Небось, забыла, как и дома-то.
ПОКРОВСКИЙ. Ну, она у вас не пропадёт. Девка неглупая.
МАТЬ. Может, и так. Только вот умом своим ещё руководить не умеет.
ПОКРОВСКИЙ. Вы знаете, ей сейчас такой шанс выпал, никаких денег жалеть не надо.
МАТЬ. Дай то Бог! Только где же их взять?
ПОКРОВСКИЙ. Уж постарайтесь.
Слышен звонок, шум за дверью.
МАТЬ. Никак этот пришёл?
ПОКРОВСКИЙ . Посмотрю.
Покровский выходит. Входит Людмила, вносит чайник, затем выходит, возвращается, приносит ещё что-то для чаепития, затем ещё раз.
Ей помогает Покровский, который, поставив что-то на стол, остаётся в комнате.
Людмила выходит.
ПОКРОВСКИЙ. Вот сейчас всё и решится.
Входят Лашкова, Боков и Князев, затем
Людмила. Всеобщая неловкость. Пауза.
ЛЮДМИЛА. Вы рассаживайтесь. Сейчас вот чаю.
КНЯЗЕВ. Нет, вы знаете, не нужно. Я не буду.
ЛЮДМИЛА. Так всё-таки нельзя. (Начинает разливать чай, к которому, однако, в дальнейшем почти никто так и не притрагивается.)
КНЯЗЕВ. Нет, давайте не отвлекаться. (Лашковой) Так я вас слушаю.
ЛАШКОВА. Но вам же сказали.
КНЯЗЕВ. Сказали, это одно. Но ваши условия, и вообще.
ЛАШКОВА. Ну что сказать? Мне важно только, чтобы скорее получить прописку. Правда, я с шефом ещё не говорила, но место освобождается и...
КНЯЗЕВ (перебивает). Это меня не касается. Понимаете, у меня жилплощадь, и мне нужны гарантии, что никаких претензий у вас на неё не будет.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы, какие претензии! Мне только прописка нужна, а где жить — я снимать буду. Ну потом, может быть, от института дадут.
КНЯЗЕВ . В нынешние времена никто ничего за так не даёт. Да и жилплощадь дают только после известного срока проживания.
ЛАШКОВА. Всё равно, это не должно вас беспокоить.
КНЯЗЕВ. Понимаете, я ведь вас совсем не знаю.
ПОКРОВСКИЙ. Послушайте, чего темнить: ясно, что у нас всё держится на честном слове. Но в конце концов, ты ведь всегда можешь объявить этот брак недействительным, в случае если заметишь посягательства на свои права.
КНЯЗЕВ. Это ведь лишнее беспокойство. Потом: зачем мне лишние судебные хлопоты? (Бокову) Как тут быть?
БОКОВ. Серёжа, решай сам. Мы с тобой обо всём говорили. (Выходит.)
КНЯЗЕВ. Да, но понимаете, что получается? Тут некоторая степень риска.
ПОКРОВСКИЙ. Да через полгода разведётесь, и никаких забот.
ЛЮДМИЛА. Так быстро, наверно, нельзя. Это будет слишком уж явно всё. Да и оставят ли прописку в таком случае?
ПОКРОВСКИЙ. Надо узнать у юриста.
КНЯЗЕВ. Вот видите, а если это вообще надолго? А потом, если всё обнаружится? Может, это подсудное дело?
ПОКРОВСКИЙ. Да кто узнает? Если ты только сам на себя не настучишь.
КНЯЗЕВ. Я же не один тут.
ПОКРОВСКИЙ. А нам-то что за резон? Если дело подсудное, то мы все однодельцы. На себя что ли стучать? Да и нет тут ничего подсудного.
КНЯЗЕВ. Узнаётся же как-то что-то.
ПОКРОВСКИЙ. Так тебе что, подписку надо о недонесении?
КНЯЗЕВ. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что я...
ЛАШКОВА. Нет, ну честное слово, у меня к вам никаких претензий, ничего.
ПОКРОВСКИЙ. Давайте только не будем резину тянуть. Я предлагаю вот что: не теряя времени подать заявление в загс. Это никого ни к чему не обязывает. Там дают срок. (Людмиле) Сколько теперь?
ЛЮДМИЛА. Кажется, три месяца.
ПОКРОВСКИЙ. Ну вот. За это время вы ещё успеете сто раз всё обсудить, обдумать, обговорить. Утрясти материальную сторону. Собрать нужную сумму. (Матери) Как я понял, у вас ещё денег нет?
МАТЬ. Да ещё не знаю, как мужику сказать.
ПОКРОВСКИЙ. Вот за три месяца как-нибудь и скажете. (Князеву) Тебя ведь прежде всего деньги интересуют?
КНЯЗЕВ. Нет, но вообще...
ПОКРОВСКИЙ. Вообще это вообще. А в частности, сколько ты хочешь? Только давай не будем девушку из себя изображать. У нас дело откровенное, так сказать, коммерческое. Ты нам прописку — мы тебе деньги. Так вот — сколько?
КНЯЗЕВ. Я просто хотел сказать, что если бы был просто обмен одного на другое, как вы говорите. Но ведь я потом минимум год не смогу быть спокойным вполне.
ПОКРОВСКИЙ. Ясно. Беспокойство идёт по особому тарифу. Так?
КНЯЗЕВ. Не знаю, но мне кажется, что та сумма, о которой шла речь...
ПОКРОВСКИЙ (перебивает). Мало?
МАТЬ. Да мы этих-то не знаем, где взять.
ЛАШКОВА. Да, мы хотели спросить, нельзя ли хоть немножко сбавить?
КНЯЗЕВ. Нет, ну а зачем мне тогда всё это нужно? Я потом должен целый год думать.
ПОКРОВСКИЙ. Да, некоторым это вредно. А ты не думай! Смотри хоккей по телевизору. Очень помогает.
МАТЬ. У нас ведь и так нет ничего. И мужик мой, вон её отец, уж которую неделю в больнице. Я бы рада и десять отдать, да кабы они были. Ума не приложу.
ЛЮДМИЛА. Но у вас же ещё дети. Разве не помогут?
МАТЬ. А что дети? Колька вон кредит взял в банке — теперь выплачивает.
ЛЮДМИЛА. А дочь, зять?
МАТЬ. Зять. Зять — он только бы взять. Зять!
КНЯЗЕВ. Ну а какой же мне тогда резон?
ПОКРОВСКИЙ (матери). Вы что, за три месяца не сможете собрать разве?
МАТЬ. Так ведь он же больше хочет.
КНЯЗЕВ. Нет, я просто хочу сказать, что это не просто разовое соглашение, но отношения на длительный срок.
ПОКРОВСКИЙ. Ты только сопли не жуй. Говори определённо.
МАТЬ. Думаете, если бабка из деревни, так ничего не понимает? А бабка на одном сидела, а десять вывела.
ПОКРОВСКИЙ. Слушайте, мы так ни до чего не договоримся. Давайте всё-таки так: подаёте заявления. Людочка, когда там?
ЛЮДМИЛА. Да прямо завтра можно. Я узнавала. С десяти.
ПОКРОВСКИЙ. Вот. В десять встречаемся у дверей загса. Паспорта не забудьте. А потом ещё три месяца можно дипломатию разводить. Глядишь — до чего-нибудь и договоримся. (Князеву) Ты что-нибудь против имеешь?
КНЯЗЕВ. Заявление, конечно, можно подать. Но сумма всё-таки...
ПОКРОВСКИЙ. Потом, потом. Это ещё будет время обсудить. Я думаю, в конце концов в цене сойдётесь.
КНЯЗЕВ (встаёт). Хорошо. Значит, завтра в десять. А где это?
ЛЮДМИЛА. Да приходите сюда к половине десятого. Отсюда прямо и пойдём. Это недалеко от нас.
КНЯЗЕВ. Хорошо. До свидания.
ЛЮДМИЛА. Я провожу.
Князев и Людмила выходят.
ЛАШКОВА. А я ведь... и вправду... знаете... подумала: а вдруг...
МАТЬ. Да его сразу видно: ни с чем пирог.
Лашкова и мать выходят. Покровский некоторое время сидит один. Входит Людмила, начинает убирать со стола.
ПОКРОВСКИЙ (вдруг как бы встряхнувшись). Слушай, а что это мы все делаем? Может, и впрямь все чокнулись?
ЛЮДМИЛА. А чего мы такого делаем?
ПОКРОВСКИЙ. Какие-то мы все предсказуемые. Вот я сидел, и ведь всё знаю: и что этот ханурик скажет, заранее знаю. И что я ему скажу. И что ему надо. И что мне надо. Всё знаю. А вот что нам всем надо — это-то мне и не ведомо.
ЛЮДМИЛА. Да ну тебя! Тоже мне! Это всё твоё глубокомыслие — мнимое. И слушать противно. Сашуля Назаров тут тоже такую меланхолию разводил. Ну он ладно — он вообще со странностями. А тебе не идёт. Не надо.
ПОКРОВСКИЙ. Вот говорят: со странностями. Может, просто себя оправдываем? Чем он странный? Не странный, а просто вдруг честнее нас оказался. Нечего с собою хитрить. Это мы себя утешаем: ничего, просто у него странности.
Входит Боков.
БОКОВ. Ну как тут?
ЛЮДМИЛА. А ты бы не сбегал. Надо было как-то повлиять. А то сразу в кусты.
Людмила выходит с посудой.
БОКОВ. А что тут стряслось?
ПОКРОВСКИЙ. Ничего особенного. Хахаль цену себе набивал... Слушай, с тобой не бывает, что вдруг начинаешь чувствовать вздорность всего, что делаешь? Ничтожность какую-то, мизерность всей этой суеты? Кого-то женим на ком-то. Кирпич заготовляем. И зачем всё это? Какие мы все всё-таки...
БОКОВ. А! Совесть проснулась! Вот больше всего мне это в таких, как ты, нравится. Деловухины. Делишки свои обделывают, а потом руки потирают и ноют при этом: ах, какие мы безнравственные! ах, какие гадкие! Ну-ну! Давай-давай! У-тю-тю! Совесть у детки проснулась.
ПОКРОВСКИЙ. А у тебя не бывает?
БОКОВ. Да что подобные тебе вообще могут знать о совести? Я в таких безднах побывал, каких ты себе и представить не можешь. Поэтому не надо, не трогай.
ПОКРОВСКИЙ. И тебе не кажется, что мы сейчас делаем что-то... ну, не совсем...
БОКОВ. А что мы делаем? Просто корректируем сложившуюся практику. Почему, собственно, человек не может занять достойное ему место? Потому что у него нет соответствующего штампа в паспорте?
ПОКРОВСКИЙ. А место так уж важно?
БОКОВ. Только не надо тужиться и изображать глубокомыслие. Сам сидишь на местечке тёпленьком. Конечно, так удобно рассуждать: мол, не в месте счастье, не место красит человека!
Пауза. Входит Людмила, продолжает убирать со стола.
ЛЮДМИЛА. Что-то мне не нравится этот Ceрёжа, жених который. Может, другого поискать?
БОКОВ. А чего метаться? Я его уговорю, не беспокойся.
ЛЮДМИЛА. Смотри.
Действие третье
Картина первая
Квартира Ниловых. Людмила. Лашкова.
ЛЮДМИЛА (записывая на бумаге). Так. Значит, на эти пятьсот тоже можно рассчитывать. А сколько всего?
ЛАШКОВА. Если дядя Паша успеет выслать, то пока две тысячи сто. Не знаю, как мама. Она там что-то продать хочет. Поросёнка режут. Да маленький ещё, подождать бы.
ЛЮДМИЛА. Куда ждать-то?
ЛАШКОВА. Пока вырастет.
ЛЮДМИЛА. Понятно. Все замрут в ожидании.
ЛАШКОВА. Ой, ну прямо не знаю.
ЛЮДМИЛА. Завтра к твоему нареченному пойдём с Алексеем. Поторгуемся.
ЛАШКОВА. Может, мне тоже?
ЛЮДМИЛА. Да нет, ты только помешаешь. Мы как люди посторонние, материально незаинтересованные — нам легче. Ну что же, совсем он что ли обнаглел? Трёх тысяч ему мало.
ЛАШКОВА. Боюсь, не уступит. Он ведь вон как говорил.
ЛЮДМИЛА. Нажмём. В конце концов, ему такой шанс тоже не каждый день выпадает. На фу-фу три тысячи! Двух с половиной за глаза хватит.
ЛАШКОВА. Две с половиной ещё бы куда ни шло.
ЛЮДМИЛА. А ты с шефом вообще ни о чём не успела поговорить?
ЛАШКОВА. Да где же? Он сразу ведь уехал. Может быть, с Татьяной Александровной попробовать?
ЛЮДМИЛА. Влад говорит, с Татьяной пока не надо. Опасно. У неё там какие-то свои виды. У неё Сафониха в подругах.
ЛАШКОВА. Так может, зря всё это?
ЛЮДМИЛА. Влад против неё с шефом разыграет.
ЛАШКОВА. Трудно.
ЛЮДМИЛА. А кто говорит, что легко? В конце концов, не получится, так не получится. Но попытаться надо. Время ещё много, за тот срок, что у нас есть, всё прояснится. И шеф вернётся, и вообще.
ЛАШКОВА. Но мне же со своим педуниверситетом определиться нужно, согласна или нет.
ЛЮДМИЛА. Потяни резину. К тому же если Татьяна узнает, она начнёт против тебя активно действовать. А так пока бдительность усыплена.
ЛАШКОВА. Ой, как всё сложно.
ЛЮДМИЛА. А ты что хотела? Жизнь есть борьба.
Картина вторая
Жилище Князева. Обстановка более чем скромная.
Князев, Боков, Людмила.
ЛЮДМИЛА. Но всё-таки вы же должны понять, что она не миллионерша. Она и так последнее отдаёт.
КНЯЗЕВ. Но и вы меня тоже поймите. Я же рискую.
ЛЮДМИЛА. Господи, да чем же?
КНЯЗЕВ. Ну-у... Это же не совсем чистое дело.
БОКОВ. Что, Серёженька, хочется и капитал приобрести, и невинность соблюсти?
ЛЮДМИЛА. Она тоже рискует в таком случае.
КНЯЗЕВ. Она рискует ради определённых выгод.
ЛЮДМИЛА. А вам две с половиной тысячи получить разве не выгодно?
КНЯЗЕВ. Тут, знаете, себе дороже получается.
БОКОВ. Я как человек в общем-то посторонний должен объективно признать определённую правоту Серёжи. Всё-таки беспокойство тоже чего-то стоит.
ЛЮДМИЛА. Ты теперь ещё будешь выступать.
КНЯЗЕВ. Кроме того: а если это больше года протянется?
ЛЮДМИЛА. А вам бы хотелось: сегодня расписались, завтра развелись? Это уж слишком откровенно.
КНЯЗЕВ. Хорошо, я согласен, что так нельзя. Но мне-то оттого...
БОКОВ. В общем, беспокойство имеет определённую стоимость.
КНЯЗЕВ. Ну-у-у... в общем-то...
ЛЮДМИЛА. Но сроков ведь мы ещё не знаем. Тут же всё по обстоятельствам. Допустим, пройдёт год — и станет видно, можно ли на развод подавать. Кто сейчас скажет? Может, будет большой срок, может, маленький.
БОКОВ. Тут тоже есть свой резон, Серёжа. Плата за страх должна быть пропорциональной.
КНЯЗЕВ. А как же, если мы не знаем?
БОКОВ. Тогда можно так: какая-то сумма единовременно, а при необходимости — новые взносы.
КНЯЗЕВ. Ну, в общем-то так.
ЛЮДМИЛА. Хорошо, но...
БОКОВ. Но нужно определить теперь сумму первоначальной и последующих выплат. Вот, собственно, для этого мы и собрались.
ЛЮДМИЛА. А как мы за Ксюшу можем решать? Мы скажем, что согласны, а она откажется. Ведь речь-то шла о единовременной выплате.
БОКОВ. Выработаем предварительные условия. Потом, если заинтересованные стороны ратифицируют договор, он вступит в силу.
КНЯЗЕВ. Хорошо, давайте так.
ЛЮДМИЛА. Но ваши каковы условия?
КНЯЗЕВ. Три тысячи и по тысяче в год.
ЛЮДМИЛА. Три тысячи много. У неё просто нет.
КНЯЗЕВ. Скажите, вы когда приходите в магазин и у вас не хватает денег, вы же не уговариваете продать вам дешевле. Нет денег — не покупаете.
ЛЮДМИЛА. Мы не в магазине, а на свободном рынке.
БОКОВ. Серж, может, уступишь?
ЛЮДМИЛА. Давайте тогда так: первый взнос уменьшим, а последующие увеличим. В сумме будет примерно то же самое. Допустим, две с половиной и по тысяче сто.
КНЯЗЕВ. Две восемьсот и по тысяче двести.
ЛЮДМИЛА. Как я безумно устала от всего этого!
БОКОВ. Когда ты умно уставать научишься?
ЛЮДМИЛА. Как же с тобой тяжело!
БОКОВ. Всё лёгкой жизни ищете.
Картина третья
Квартира Ниловых.
Людмила, Покровский, Лашкова.
ПОКРОВСКИЙ. Девки, надо ускорить сбор средств. Я договорился с кем надо, венчание через две недели.
ЛЮДМИЛА. Какое ещё венчание?
ПОКРОВСКИЙ. Не пугайся: не в церкви. Хотя это теперь модно. Но ваша атеистическая совесть не пострадает. Вместо молитвы депутат скажет прочувствованное слово. Все прослезятся.
ЛЮДМИЛА. Вечно ты паясничаешь.
ПОКРОВСКИЙ. А что ещё остаётся? Но это смех сквозь слёзы.
ЛАШКОВА. Значит, через две недели уже?
ПОКРОВСКИЙ. Даже чуть меньше. А вы против?
ЛЮДМИЛА. Как тебе это удалось?
ПОКРОВСКИЙ. Радость моя, как ты наивна! Дал кому надо.
ЛЮДМИЛА. И как же ты это сделал?
ПОКРОВСКИЙ. Не всё ли равно? Я умею — и этого достаточно.
ЛАШКОВА. Ой, но вы же потратились?
ПОКРОВСКИЙ. Оксана Петровна! Чтобы вас не мучил комплекс неоплатного долга, я представлю соответствующий счёт.
ЛЮДМИЛА. Хоть бы научил, как это делается.
ПОКРОВСКИЙ. Людочка! Женщина не должна касаться сей житейской грязи. Нужно хранить свою душу в чистоте и непорочности.
ЛЮДМИЛА. Хорошо, когда надо будет кому-нибудь дать, я позову тебя.
ПОКРОВСКИЙ. Солнышко, смотря что дать. В определённой ситуации я не смогу заменить тебя при всём желании.
ЛЮДМИЛА. Что ты несёшь! Совершенно уж ни стыда ни совести.
ПОКРОВСКИЙ (грустно). Ваша правда, мадам. Именно так. Последние остатки стыда растерял. И это печально.
ЛЮДМИЛА. Да ну тебя!
ПОКРОВСКИЙ. Пусть будет так: ну меня. И это вместо благодарности.
ЛАШКОВА. Ой, ну что вы говорите!
ЛЮДМИЛА. С одной стороны, конечно, хорошо, что ты всё устроил. Но с другой стороны — это всё осложняет. Можем деньги не успеть собрать.
ПОКРОВСКИЙ. Так о чём вы там договорились с этим жлобом?
ЛЮДМИЛА. А ну его! Начал ныть, что у него единственные брюки и ему не в чем ходить. В общем, две семьсот при оформлении и по тысяче пятьсот каждый раз за продление на год.
ПОКРОВСКИЙ. Теперь надо говорить: для пролонгации. Есть такое культурное и очень заграничное слово... Да может, и годом обойдёмся. А то выходит, что ему будет выплачиваться брачная рента.
ЛАШКОВА. И вот ещё: шеф к тому времени не успеет вернуться.
ПОКРОВСКИЙ. И зачем он вам? Насколько я понимаю, свадебный генерал не требуется.
ЛЮДМИЛА. Да она себе в голову вбила, что нет полной ясности и всё сорвётся с её назначением.
ЛАШКОВА. Может быть, всё-таки с Татьяной Александровной?
ПОКРОВСКИЙ. Оксана Петровна! Запомните главное правило любой авантюры: никогда не торопитесь пускать круги по воде. Вас быстренько запеленгуют и накроют.
ЛАШКОВА. Ну а если...
ПОКРОВСКИЙ. Что если? Если не выйдет? Но у вас всё-таки останется прописка. Великое дело. Где-нибудь да зацепитесь.
ЛАШКОВА Легко сказать.
ПОКРОВСКИЙ. А вы уж хотите совсем чтоб без риска. Увы, жизнь сложна и полна неожиданностей. Жизнь прожить — не поле перейти. Ну и так далее.
ЛЮДМИЛА. Утешил.
ПОКРОВСКИЙ. А есть ещё одна мудрость эпохи застоя: берегите мужчин! Даже того жлоба, без штанов, который обдирает вас как липку. Его особенно: всё-таки будущий муж. А вот ты, Людочка, своего даже настоящего мужа совершенно не бережёшь и постоянно наносишь ему моральные травмы.
ЛЮДМИЛА. А почему это я должна его беречь?
ПОКРОВСКИЙ. Не знаю. Так в газетах писали. Ты должна верить прессе, она у нас прогрессивная и демократическая.
ЛЮДМИЛА. Я ему отдала всё, а он? Даже зарплаты нормальной принести не может.
ПОКРОВСКИЙ. Пошло. Требовать что-то за свою любовь? Так рассуждают только женщины лёгкого поведения.
ЛЮДМИЛА. Да пошёл ты!
ПОКРОВСКИЙ. Действительно, пора. Я пошёл.
ЛЮДМИЛА. Погоди, что-то хотела ещё сказать, забыла.
ПОКРОВСКИЙ. Стало быть, не очень хотела.
ЛЮДМИЛА. Да вот! Всё-таки надо без торжественных церемоний?
ПОКРОВСКИЙ. Как можно! Непременно с Мендельсоном и шампанским. Не забудьте купить фату. Впрочем, говорят, теперь напрокат дают.
ЛЮДМИЛА. Ты что, серьёзно?
ПОКРОВСКИЙ. Да успокойтесь вы. Всё будет весьма ненавязчиво, в присутствии узкого круга свидетелей. Но вот шампанское и прочее придётся оплатить: таков этот ненавязчивый сервис. Но потреблять эти блага необязательно. Да, вот ещё что хочу сказать: если уж совсем с деньгами туго будет, я пятьсот одолжить смогу. Больше нет, а в пределах этой суммы — располагайте.
ЛАШКОВА. Ой, какой вы всё-таки удивительный человек!
ПОКРОВСКИЙ. Уж такой удивительный — сам себе удивляюсь.
Картина четвертая
Служебное помещение.
Иванов, Петрова
ПЕТРОВА. Голубчик, этого так нельзя оставлять.
ИВАНОВ. Но ничего же определённого. Так, слухи.
ПЕТРОВА. Когда всё определится, будет уже поздно.
ИВАНОВ. А что вы предполагаете предпринять?
ПЕТРОВА. Если уж в кои-то веки появляется шанс избавиться от этой мегеры, так коврами ей дорожку выставить, не пожалеть.
ИВАНОВ. Какими ещё коврами, Мария Ивановна?
ПЕТРОВА. Персидскими. И все препятствия устранить.
ИВАНОВ. Но какие и как?
ПЕТРОВА. Если они там действительно возьмут эту Лашкову, то все мы будем иметь бледный вид, как выражается мой внук.
ИВАНОВ. Но мы же не отдел кадров. Возьмут и нас не спросят.
ПЕТРОВА. Надо, как нас ещё во время оно учили, найти слабейшее звено в этой цепи и за него ухватиться.
ИВАНОВ. Легко сказать.
ПЕТРОВА. И совсем нетрудно сделать. В их лагере наш человек, Алёша Боков. Зачем он им помогает? Необходимо, чтобы он и выражал наши интересы.
ИВАНОВ. Перевербовать — так, кажется, это теперь называется.
ПЕТРОВА. Придумайте что-нибудь. У вас с Алёшей неплохие отношения, он вам обязан, в конце концов. Нужно воздействовать на него. Оказать давление, наконец!
ИВАНОВ. Попытаюсь.
ПЕТРОВА. Попытайтесь, Иван Иваныч, попытайтесь, голубчик. Попытка, как говорится, не пытка.
Картина пятая
Квартира Покровского.
Покровский, Чуваев.
ПОКРОВСКИЙ. Давненько, давненько не захаживал. Чего это вдруг?
ЧУВАЕВ. Дело одно есть.
ПОКРОВСКИЙ. Деловухин, как любит обзываться Алексис Боков. Хоть бы для приличия не сразу о делах. Как говаривала когда-то моя бабушка: сядем рядком, поговорим ладком.
ЧУВАЕВ. Как жизнь-то?
ПОКРОВСКИЙ. На букву хэ.
ЧУВАЕВ. Хорошо, значит.
ПОКРОВСКИЙ. Именно.
ЧУВАЕВ. Ты мне скажи, что у нас происходит? Слухи какие-то, волнения. Ты, так сказать, ближе к эпицентру событий.
ПОКРОВСКИЙ. Обычные повседневные интриги. Ничего особенного.
ЧУВАЕВ. Так перейдёт к нам Сафонова или нет?
ПОКРОВСКИЙ (после некоторого молчания начинает говорить вяло, флегматично, в дальнейшем порою совершенно бесстрастно, временами как бы даже удивляясь своим словам, а порою с тоской в голосе). А она и не должна была переходить.
ЧУВАЕВ. Постой, ты же сам...
ПОКРОВСКИЙ. А я всё придумал.
ЧУВАЕВ. Ты чего?
ПОКРОВСКИЙ. Да ничего. Надоело мне всё и решил поиграть. В живые шахматы. Человеческими фигурами. Наверно, в детстве не наигрался.
ЧУВАЕВ. Нет, ты это серьёзно?
ПОКРОВСКИЙ. Вполне. Что наша жизнь? Игра! Все играют.
ЧУВАЕВ. Ты чего!
ПОКРОВСКИЙ. Вот шеф наш, к примеру, в настоящее время играет в заслуженного деятеля науки. Три года интриговал, звания добивался. Теперь от важности щёки надувает, как Киса Воробьянинов. А что на деле? Фикция, и это все знают, но подыгрывают. Или вот людмилин братец, Алексис приснопоминаемый. Как взыграл в материнском чреве, так до сих пор угомониться не может. Хронический игрун. Любимая роль — витийствующий обличитель людских пороков. Теперь по совместительству изображает жертву неведомо каких козней и распускает фиктивные слухи, будто его тему запретили. Хотя на самом деле просто бездарен, так что даже липовую диссертацию состряпать не в состоянии. В результате мучается комплексом неполноценности вкупе с манией величия, что, заметь, одно и тоже. Так за то на других отыгрывается. Или вот наше пугало, Сафонова, играет в честного и принципиального борца за справедливость.
ЧУВАЕВ. А может, не играет.
ПОКРОВСКИЙ. Какая же тут справедливость, если уже двух человек до инфаркта довела? Фикция сплошная. Да что мы, мелкие букашки! Сильные мира сего — сплошную комедию представляют. Или вон целая страна, Америка, — занимаясь государственным терроризмом в планетарном масштабе, борца с терроризмом из себя же и разыгрывает. Вот я и подумал: а на хрена мне эта самодеятельность? Привяжу-ка я к разным человекам ниточки и буду дёргать. Страх перед Сафонихой — одна из таких ниточек. Тут многие повязаны. Для Ксюши — местечко лакомое. Бокова я привязал тем, что обещал взять его статью в сборник.
ЧУВАЕВ. И этого обманул?
ПОКРОВСКИЙ. Отнюдь. Мне что жалко? Да мне наплевать десять раз, кто там в этом сборнике будет. Ну выйдут ещё одни никому не нужные учёные записки — велика важность. Хотя, конечно. Алексис зря рассчитывает: я-то включу, а шеф всё равно вычеркнет. Во-первых, чужак, а во-вторых, непременно ведь очередная ахинея будет. Алексис на иное не способен.
ЧУВАЕВ. Так что: весь этот фиктивный брак— зря?
ПОКРОВСКИЙ. А не будет никакого брака. Тут комбинация на большее число ходов.
ЧУВАЕВ. Чего же ещё-то?
ПОКРОВСКИЙ. Понимаешь, Людмила — баба, я её потому и привлёк. Ведь если баба что-то знает, то в ней аж дерьмо кипит, так ей рассказать хочется. Естественно, произошла утечка информации. На что я и рассчитывал.
ЧУВАЕВ. И что?
ПОКРОВСКИЙ. Дальше — больше. Поползли слухи. И поскольку никто ничего не знает, то тут-то фантазия особенно и разыгрывается. Ко мне уже кое-что рикошетом вернулось — обхохочешься. Ну, я всем намекаю в свою очередь, что тут важная политика начальства, что надо хранить молчание. Все, разумеется, хранят. В результате уже и в агафоновский сектор просочилось.
ЧУВАЕВ. А те что?
ПОКРОВСКИЙ. С одной стороны, наверняка рады, что от Сафонихи избавляются, но в то же время боятся, что сорвётся. Уже пронюхали про ксюшину аферу.
ЧУВАЕВ. Разоблачать станут?
ПОКРОВСКИЙ. А вот шиш! Слухи к делу не подошьёшь. Доказательства-то где? Что, баба замуж не может выйти? А если кто скажет, что брак фиктивный, то и за клевету можно привлечь.
ЧУВАЕВ. И как же?
ПОКРОВСКИЙ. У них один путь: действовать через Алексиса. Нажать на него, он же от них зависит. А он единственная связующая нить. Вот теперь с любопытством слежу, допрут они или нет. По сути, задачка элементарная. Вероятно, уже допёрли. Алексис всё ведь может расстроить. И дело в шляпе, шляпа на папе. При том ему ещё надо мне очки втереть, чтобы я ничего не заподозрил. Ну и в глазах сестрицы тоже. Как говорится, и рыбку съесть, и всё остальное. Вот где кайф-то ловится!
ЧУВАЕВ. А он-то как может расстроить?
ПОКРОВСКИЙ. В последний момент напугать того ханурика. Скажет, к примеру, что, мол, прописку потерять можно.
ЧУВАЕВ. А что и впрямь можно?
ПОКРОВСКИЙ. И ты туда же. У нас же абсолютная правовая неграмотность. Никто ничего не отберёт. Но тот жлоб наверняка в законах ни бельмеса. К тому же, у страха глаза велики. Он сразу в штаны наложит, а штаны у него всего одни, как он сам признался. Не идти же в таких обосранных штанах в загс. Всё и сорвётся.
ЧУВАЕВ. И тебе не жалко бедную девочку?
ПОКРОВСКИЙ. А чего её жалеть? Через задний проход пролезть захотела? Так нетрудно и в дерьме измазаться. На фикцию шла — фикцию нашла. Впрочем, чем она пострадает? Немножко лишних хлопот. Деньги вон они там собирают сейчас. Так никто ведь те деньги у неё не отберёт. Что заняла — обратно отдаст, а своё целее будет. Пусть посуетится. Знаешь анекдот, как мужик яйца покупал, варил и по той же цене продавал? Его спросили, зачем ему это нужно; а он ответил: во-первых, бульон остаётся, а главное — при деле нахожусь. Вот и Ксюше нашей: бульон и какое-никакое развлечение. Да и здоровый коллектив наш живёт бурной общественной жизнью. Самое забавное, что оба шефа — ни сном ни духом. Наш вообще в отъезде.
ЧУВАЕВ. Так слушай, придут те к своему Агафонову, а он отречётся.
ПОКРОВСКИЙ. Что лишь усилит подозрения. Ещё забавнее. Люди же хотят быть обманутыми.
ЧУВАЕВ. Ты как злобствуешь всё равно.
ПОКРОВСКИЙ. Злой я потому что, вот и злобствую.
ЧУВАЕВ. На что злишься-то?
ПОКРОВСКИЙ. На себя. А чтобы себе не слишком доставалось, переношу злобу на всех остальных. Я думал: жизнь, как шахматы: главное — из пешки в ферзи выскочить. А судьба меня и надула. Я всё надеялся, будто с нею счастливый союз заключаю.
ЧУВАЕВ. Во всяком случае, ты чего-то добился. И перспективы неплохие.
ПОКРОВСКИЙ. Очень утешительно. Перспективный фиктивный научный работник. Кандидат... не знаю только куда. Дурацкое, кстати, название. Ферзём-то я, допустим, стану. Дай вот только с кирпичом управиться, а там начну новые ходы делать. Только вот всё времени нет подумать: а зачем мне всё это нужно! Науку я уж, кажется, ненавидеть стал. Тоска.
ЧУВАЕВ. Вот управишься с кирпичом, и думай.
ПОКРОВСКИЙ. Я, может, и кирпичом занялся, чтобы времени на размышления не осталось. А то до чего страшного додуматься можно.
ЧУВАЕВ. До чего ещё до страшного?
ПОКРОВСКИЙ. Кто знает.
ЧУВАЕВ. Да ладно тебе.
ПОКРОВСКИЙ. Ладно. Хватит. Хватит играть в откровенность. Может, я всё тебе наврал. Пост фактум, так сказать, нафантазировал. Приписал себе то, что развивается по своим внутренним законам и естественным путём. А моя болтовня — сплошная фикция.
ЧУВАЕВ. Ну ты даёшь!
ПОКРОВСКИЙ. Дают бабы. Дело-то у тебя ко мне какое?
Картина шестая
Квартира Бокова.
Боков, Иванов.
БОКОВ. Я не знал. Нет, представляете! От меня скрыли.
ИВАНОВ. Так вы ничего не знали о Сафоновой?
БОКОВ. Я думал, просто...
ИВАНОВ. Просто! Вот вас на простачка и поймали. Знаете, когда паны дерутся, нашему брату лучше держаться в стороне. У них там своя высокая политика. Кроме того, все намечающиеся перемещения и для вас могут, так сказать... Да и вообще отношение к вам в секторе. Я понимаю, родственные связи. Но вы же наш человек. Интересы коллектива должны возобладать. Иначе коллектив вас съест.
БОКОВ. Иван Иваныч! Я вам очень благодарен.
ИВАНОВ. Лашкова должна уехать в свою провинцию. Это для вашего же блага.
Иванов выходит. Боков провожает его.
БОКОВ (в дверях). Большое вам спасибо. Я очень вам благодарен.
Боков скрывается за дверью, через некоторое время возвращается, подходит к телефону, набирает номер.
(По телефону) Серёжа? Ну как дела? Да, я знаю. Нет, просто поговорить надо. Нет, я к тебе сам заеду. Завтра утром удобно? Хорошо. Ну давай, пока. (Кладёт трубку.)
Картина седьмая
Квартира Назарова.
Назаров, Покровский.
ПОКРОВСКИЙ. Что делаешь-то теперь?
НАЗАРОВ. Да ничего особенного. Специальность универсальная: грузчик широкого профиля.
ПОКРОВСКИЙ. А что! Нынче всякий труд в почёте, где какой ни есть, человеку по работе воздаётся честь. На почётную доску тебя ещё не вывесили? Или таковые уже отменены повсеместно?
НАЗАРОВ. Балагурить ко мне пришёл?
ПОКРОВСКИЙ. Ты у меня как заноза. Никак тебя до конца понять не могу.
НАЗАРОВ. Ларчик просто открывается. Чего тут понимать? Надоело всё это коловращение. Захотелось просто остановиться и подумать на досуге.
ПОКРОВСКИЙ. А кто прежде мешал?
НАЗАРОВ. Да всё голова чем-то забита была. Вроде бы и делом, а посмотришь — сплошная имитация. И главное — постоянная какая-то раздвоенность. Всё какую-то роль играть нужно. (Усмехается) Один раз выразился откровенно — и каков результат?
ПОКРОВСКИЙ. Прямо скажем, плачевный.
НАЗАРОВ. А вот это как сказать. Я думаю: наоборот.
ПОКРОВСКИЙ. И на радостях — в грузчики.
НАЗАРОВ. Да это не навсегда. Мне место на подготовительных курсах обещали с сентября. А пока надо же на что-то жить.
ПОКРОВСКИЙ. И до чего же ты успел додуматься на досуге?
НАЗАРОВ (говорит мягко, тихо, с некоторой долей наивности в тоне, отчасти как бы извиняясь, и скорее более как будто спрашивая, чем утверждая). Да не додумался скорее, а почувствовал: равновесие нарушено: всё вовне, а внутри пустота. Я в других замечаю порой: как будто сознательно делают всё, чтобы этой пустоты не замечать. Чем угодно себя оглушают, лишь бы не думать. А если не хватает суеты, как будто ещё больше закручивают. И я так же делал. А сказано: не собирайте сокровищ на земле, то есть не суетитесь попусту. Собирайте сокровища на небе, в душе собирайте.
ПОКРОВСКИЙ. Кем же это сказано?
НАЗАРОВ. Богом.
ПОКРОВСКИЙ. Приехали. В попы не решил записаться?
НАЗАРОВ. Не по Сеньке шапка. Просто вдруг понял: настанет такой момент, когда важно станет только то, что собирал в душе. Не должность, ни степень какая или звание, ни, допустим, количество научных публикаций — ну это уж совсем вздор, — ни деньги, ни вещи — ничто не будет важно. А только одно: что у тебя в душе. И ответ держать надо. И весь мир всеми своими благами не поможет.
ПОКРОВСКИЙ. А есть ли этот Бог-то твой? Вдруг не перед кем ответ держать?
НАЗАРОВ. А тогда ни в чём вообще никакого смысла нет. Тогда — делай что хочешь. Всё позволено. Да ведь и это надоест. Внутри себя же опереться не на что будет. Хоть вой.
ПОКРОВСКИЙ. Нет, тут чего-то не то. Если что-то видишь плохое — борись, дерись...
НАЗАРОВ. ...и иди на штурм Зимнего? Это мы уже проходили, только почему-то всё никак урока не можём осмыслить. Вот я и говорю: прежде чем за оружие хвататься, подумать надо. Как бороться-то? Вот, допустим, жадный — я нарочно банальный пример беру для простоты — ему сколько ни дай, всё окажется мало. А завистливый — тому всегда чужой кусок слаще. Злой так и будет злиться и на других своё зло изливать. А бездарный своими комплексами изойдёт. И ничто внешнее не спасёт, никакое изобилие, никакой научный прогресс. Никакие социальные изменения. Да и на основании чего мир менять? На основе своего узкого понимания правды и справедливости? Так и есть: каждый своё навязывает, и всё никак не договорятся. Потому что каждый свою корысть в уме держит. А может, изнутри надо? Если я жаден, ты мне не поможешь: самому себя преодолевать нужно, с Божьей помощью. Вот Бог помочь может.
ПОКРОВСКИЙ. Вместо активного вмешательства в жизнь самоусовершенствование?
НАЗАРОВ. Самосовершенствование.
ПОКРОВСКИЙ. Что в лоб, что по лбу. Так ты толстовец что ли?
НАЗАРОВ. Толстовство ни при чём, не надо ярлыки вешать. Только что плохого, если и я и ты — внутренне лучше станем? Только как это сделать? Тут-то вот и нужен тяжкий внутренний труд, чтобы понять — как? Так неужто это можно в жертву внешнему принести? Надо сменить точку отсчёта, понять, что с концом земной жизни не всё уничтожится. Надо понять, что за земным временем следует вечность. И что же мы там-то будем делать, если только во времени суетились?
ПОКРОВСКИЙ. Вот и выходит, что ты эгоист. О себе думаешь, о какой-то там внутренней жизни, о собственной судьбе в вечности. А другим что? Только не сочти меня лицемером и демагогом. Я тебя не осуждаю вовсе, я просто факт констатирую.
НАЗАРОВ. Внутреннее неисповедимым и таинственным образом связано с внешним. Изменяя себя, человек тем хоть ненамного, но всегда меняет качество общественного бытия, в ту или иную сторону. К тому же как грузчик я тоже приношу пользу обществу. И уж, разумеется, большую, чем когда своим молчанием выражал поддержку всему, что творил наш уважаемый шеф.
ПОКРОВСКИЙ. Ну так и не молчал бы... Хотя да! пардон.
НАЗАРОВ. Или вот с другой стороны подойти. Я теперь почти всё время свободное — с детьми. И мне радость, и им. А то ведь почти одно везде: отстань, некогда, отстань. Откупаемся опять-таки чем-то внешним: игрушками, шмотками. А им общение нужно более всего. И вот вырастают одинокие несчастные люди. Несчастный же человек — он и другим несчастье несёт. Так увеличивается количество несчастья в мире. Вот тебе и опять — борьба за счастье общества.
ПОКРОВСКИЙ. А думать они тебе не мешают?
НАЗАРОВ. Что ты! Они даже помогают неожиданно, помогают понять многие вещи. С ними как заново мир открываешь. Только вот иногда смотришь на них, и так жалко вдруг становится.
ПОКРОВСКИЙ. Болеют что ли?
НАЗАРОВ. Да нет. Просто — в какой мир я их впустил? Впустил, значит, отвечаю теперь перед ними за все его несовершенства.
ПОКРОВСКИЙ. Ну это уж бред какой-то. Хотя, впрочем, я это уже слыхал от кого-то что-то подобное.
НАЗАРОВ. Бред не бред, а только я так чувствую. Чувствую свою вину — а что могу сделать?
ПОКРОВСКИЙ. Вот смотрю я на тебя и всё не решу: ты всё-таки чокнутый или я? Ты, во всяком случае, юродивый. Потому что каким-то образом заимел то, чего у меня нет. Ведь всё просто: вот в то, что ты тут наплёл, верить нужно. А если у меня веры нет?
НАЗАРОВ. Ищи.
ПОКРОВСКИЙ. Легко сказать.
НАЗАРОВ. Зато с верою жить легче.
ПОКРОВСКИЙ. Пусть так, но на нет и суда нет.
НАЗАРОВ. Суд потом будет.
ПОКРОВСКИЙ. Это Страшный Суд что ли?
НАЗАРОВ. Он самый.
ПОКРОВСКИЙ. Поговорим о чём-нибудь попроще.
НАЗАРОВ. Поговорим. Как там ваш фиктивный брак? Устроился?
ПОКРОВСКИЙ. Фиктивный — не фиктивный... всё, знаешь ли, относительно. Вон у сокурсницы твоей бывшей, у Людмилы у нашей,— не фиктивный разве? Посмотрю я на них и всё думаю: как же это они спят вместе после всего после этого? И как вообще с этим дегенератом жить можно?
НАЗАРОВ. Чем же он дегенерат? Просто всё такой же одинокий и несчастный, как многие.
ПОКРОВСКИЙ. Вот, например... да ты помнишь, при тебе вроде было. Пристал тогда к Лашковой: не боится ли она доноса? Чего это он?
НАЗАРОВ. Это он с отчаяния. Кричал нам: обратите на меня внимание, я хороший, я вот не донесу. Нелепо, конечно, получилось. Но никто и не услышал.
ПОКРОВСКИЙ. Это уж ты загнул.
НАЗАРОВ. Может быть. Только ты меня извини, мне на работу пора.
ПОКРОВСКИЙ. Что это средь бела дня?
НАЗАРОВ. Смена такая.
ПОКРОВСКИЙ. Фиктивные тяжести таскать?
НАЗАРОВ. Только спину после этого отнюдь не фиктивно ломит.
Жилище Князева.
Князев, Боков.
КНЯЗЕВ. Но я уж как-то рассчитывал на эти деньги.
БОКОВ. А вы меньше рассчитывайте, деловухины! Все только и делают, что рассчитывают. Всего не рассчитаешь, Серёжа! О душе бы, о душе подумали! Сейчас модно об экологии рассуждать, природа, мол, гибнет. Экологию души — вот что забыли. А это сейчас самое важное. “Не позволяй душе лениться! Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!” Стихи-то знаем, а задумывались ли над ними хоть раз? Вот ты, как ты понимаешь эти строки: “Душа рабыня и царица, она работница и дочь” — а?
КНЯЗЕВ. Ну-у... работать душа должна. Это же понятно.
БОКОВ. А почему — дочь?
КНЯЗЕВ. Ну-у... (пожимает плечами).
БОКОВ. Вот так все вы, поэты! Задуматься труда себе не дадут. Да потому что из твоей души вырастет то, что ты сам в неё вложишь. А вот что ты вложишь — ты должен подумать. И рассчитывать поменьше. И так у нас уже этих компьютеров счётных сверх меры. Искусственный-то разум можно создать. А вот искусственный стыд за свои дела...
КНЯЗЕВ. Но ты же сам это мне предлагал.
БОКОВ. Да, я ошибся. И не боюсь признать. Но сколь дорого мне обходятся мои ошибки, если бы ты знал, Серёжа! Но кто узнает! Сейчас всё больше на внешнее внимание обращают. Думают, если человек внешне спокоен, то и всё в порядке.
А внутри! А! (Машет рукой).
КНЯЗЕВ (явно подыгрывая). Самое страшное, это моё лицо, когда я абсолютно спокоен.
БОКОВ. Я ведь о тебе думаю, Серёжа. Кто же мог знать, что так выйдет? На это место многие зарятся. А ты же знаешь, какие у нас люди: ни перед чем не остановятся. Мне муж сестры прямо намекнул, что кто-то донести собирается. Я-то этого раньше не знал, так что и вины моей нет никакой. Я вовсе и не ошибался. Хорошо, он мне сказал. Тебя ведь за такие дела тоже прописки лишить могут.
КНЯЗЕВ. А эта... Оксана Петровна?
БОКОВ. Чем она лучше их? У этих людей сейчас самое главное — престиж. Конечно, престижнее в Москве, а не в провинции. Учить таких надо, учить. Нельзя гоняться за фиктивными ценностями. А впрочем, как знаешь. Просто я чувствую за тебя свою ответственность, поэтому и решил предупредить тебя.
КНЯЗЕВ. Так что мне теперь: позвонить и сказать, что не согласен?
БОКОВ. Лучше не надо. А то ведь привяжутся — не отвяжутся. Молчи, как будто ничего не случилось. За день до того лучше уехать куда-нибудь для спокойствия. А я им потом сам всё скажу.
КНЯЗЕВ. Хорошо. Я, конечно, уеду. Так, действительно, спокойнее будет.
БОКОВ. Не унывай, Серёжа. Всё это вздор.
КНЯЗЕВ. Да, всё вздор по сравнению с вечностью. Спасибо тебе. Ты редкий человек.
Картина девятая
Квартира Ниловых.
Покровский разговаривает по телефону.
ПОКРОВСКИЙ. В общем, видно, Алексис этого парня как-то там обработал, и тот смылся. Они его с утра сбились искамши. Потом решили, что он прямо в загс придёт. Отправились туда втроём, меня на всякий случай на телефоне посадили, если тот вдруг сюда надумает позвонить. Самый юмор-то в том, что Алексис суетился больше всех, весь аж в мыле. Вотще — как говорили в старину.
Слышен звук открываемой входной двери, шум.
Во, возвращаются. Финита ля комедия. Ну, пока (кладёт трубку).
Входит Людмила.
ЛЮДМИЛА. Нет, ну ты представляешь, подлец какой! У меня просто слов нет. Всё сорвалось! Всё!
Входят Боков и Лашкова.
БОКОВ (с надеждой в голосе). Ну что, он не звонил?
ПОКРОВСКИЙ. Нет, разумеется.
БОКОВ. До последнего ждали. Думали, вот-вот придёт.
ПОКРОВСКИЙ. Может, что случилось? Ещё ничего не потеряно. Объявится. Свадьба состоится в другой день.
БОКОВ. Да нет. Ты не знаешь этих людей. Я от таких много пострадал в своё время. Видно, уже всё. Поезд ушёл.
ПОКРОВСКИЙ. Ты так уверен?
БОКОВ. Ну а что, если исчез и не предупредил?
ПОКРОВСКИЙ. Придётся поверить твоему поразительному знанию людей.
БОКОВ. Тебе бы всё шуточки... А тут! А! (Машет рукой) И главное, я чувствую теперь себя обманщиком.
ПОКРОВСКИЙ. Но ведь это же не ты обманул, а он. Успокойся.
БОКОВ. Я сознаю свою ответственность. Впрочем, таким как ты такие вещи вряд ли понятны.
ПОКРОВСКИЙ. Где уж нам дуракам чай пить.
ЛАШКОВА (Бокову). Ну что вы, успокойтесь. Вы же не виноваты.
БОКОВ. Мне оттого не легче.
ПОКРОВСКИЙ (как бы про себя). Сыграно убедительно. Прямо по системе Станиславского.
(Вдруг с театральным пафосом) Верю! Верю!
ЛЮДМИЛА. Ты это чего?
ПОКРОВСКИЙ. Да ничего. Так.
ЛАШКОВА. Я уже у себя в областном университете отказалась.
ЛЮДМИЛА. Н-да! Не состоялся наш фиктивный брак.
Пауза.
ПОКРОВСКИЙ (негромко, флегматично). Состоялся. У всех у нас состоялся. Все мы в фиктивном браке с судьбой. Сволочи!
ЛЮДМИЛА. Говори о себе.
ПОКРОВСКИЙ. Конечно, конечно. Вы — ангелы.
БОКОВ. Вот это очень показательно. Характерный психологический феномен: перенос собственных пороков на окружающих для подавления внутреннего дискомфорта.
ПОКРОВСКИЙ. Единственное, что я за последнее время нефиктивного сделал, так это кирпич заготовил... На развод что ли подать?
ЛЮДМИЛА. Да хватит ныть! Без тебя тошно.
ПОКРОВСКИЙ. Ныть. Мне, может, завыть хочется.
ЛЮДМИЛА. Иди повой, только не здесь.
ПОКРОВСКИЙ. А какой мне с того навар?
Пауза. Вдруг дверь раскрывается и входит Нилов. Он в пальто, явно прямо с улицы.
НИЛОВ (Лашковой наигранно бодрым тоном). Ну как? Вас можно поздравить с законным браком? Не боитесь, что кто-нибудь донесёт?
Зачем?
Бессюжетная драма
Действующие лица
Павел Расторгуев — научный сотрудник, физик, 35 лет.
Софья Власьевна — мачеха Павла, весьма бодрая особа, 80 лет.
Марлен — племянник Софьи Власьевны, ответственный работник министерства, 50 лет.
Юрий Спицын, Алексей Боков: приятели и сверстники Павла
Галина — бывшая жена Павла, старается выглядеть моложе 30 лет.
Ирина — знакомая Павла, 30 лет.
Тётя Нюра — молочница, 65 лет.
Полковник — сосед по даче, 65 лет.
Максим — 6 лет.
Владимир Петрович Лысов — неопределённого возраста.
Валерий Семёнович Задорожный — 45 лет,
Михаил Зар — около 40 лет: сослуживцы Павла
Николай Смирягин — около 40 лет.
Наташа — 25 лет.
Другие сотрудники научного института.
Иванов, Петров, Сидоров: лица неопределённого возраста и неопределённых занятий
Действие первое
Просторная дачная веранда, с которой видна часть начинающего зеленеть сада. Небольшой стол, несколько плетёных кресел. У стола стоит Максим, разглядывая картинки в большой детской книжке. На веранду из внутренних помещений дома выходит Расторгуев.
РАСТОРГУЕВ. Ты уже встал?
МАКСИМ. Я уже давно.
РАСТОРГУЕВ. Знаешь, как раньше мужики в деревне вставали: вместе с солнцем. Вот так и ты.
МАКСИМ. Я всегда люблю, чтобы рано вставать.
РАСТОРГУЕВ. Счастливое это у тебя качество. А я вот всегда с таким трудом.
МАКСИМ. Соня ты законная.
РАСТОРГУЕВ. А красиво как всегда утром! Особенно когда солнце восходит. Вон там над лесом такая заря всегда. Конечно, если небо ясно.
МАКСИМ. А вечером разве некрасиво? Я вечер люблю. И утро тоже, конечно.
Появляется Лысов
ЛЫСОВ. Можно? Доброе утро.
РАСТОРГУЕВ. Владимир Петрович?!
ЛЫСОВ. Я на секунду пока. Хотел только узнать, здесь ли вы. Вас днём можно будет застать?
РАСТОРГУЕВ. Да... но...
ЛЫСОВ. Спешу по важному делу. Оттого и так рано. На обратном пути непременно зайду к вам. Назревают весьма серьёзные события.
РАСТОРГУЕВ. Но что?
ЛЫСОВ. Нам всем нужно будет серьёзно продумать свою позицию. (Взглянул на Максима.) Это ваш сын?
РАСТОРГУЕВ. Да.
ЛЫСОВ. Хороший мальчик... Ну, хорошо. Всего доброго.
Лысов исчезает. Расторгуев недоумённо смотрит ему вслед, пожимает плечами, затем подходит к Максиму, заглядывая в его книжку.
РАСТОРГУЕВ. Опять ты своих бабочек.
МАКСИМ. Ну папа, ну как же ты не понимаешь, они же такие интересные.
РАСТОРГУЕВ. Вон уж настоящие давно летают.
МАКСИМ. Но тут же не только наши, но ещё и заморские.
РАСТОРГУЕВ. Вот эта мне нравится (показывает на картинку).
МАКСИМ. Ага. А ещё вот эта. А вот эта у них самая главная.
РАСТОРГУЕВ. Главная?
МАКСИМ. Потому что я знаешь почему так считаю? Ну вот у неё такие линии и цвета всякие.
РАСТОРГУЕВ. Пожалуй... А вот какая странная...
МАКСИМ. Ага.
РАСТОРГУЕВ (оглянувшись на дверь во внутреннее помещение). Ну вот, бабушка тоже встала. Иди лучше в сад побегай.
Максим выбегает в сад.
Входит Софья Власьевна.
РАСТОРГУЕВ. Здравствуйте, матушка! С праздником! Со славной годовщиной славной Победы!
С.В. Доброе утро, Павел! И я тебя тоже поздравляю. А всё-таки ты опять начал называть меня этим дурацким словом. Что это такое: матушка? Я не какая-нибудь монахиня и не религиозная ханжа.
РАСТОРГУЕВ. Чего нет, того нет, глубокоуважаемая мачеха.
С.В. Всё бы тебе паясничать. (Подходит столу, берёт детскую книжку.) И что это такое: всюду у тебя эти детские книжки валяются.
РАСТОРГУЕВ. Восполняю то, что недополучил в детстве. Но что вы всем недовольны? Всё зудите. Взгляните лучше: весна! Пора любви.
С.В. Любовь? Во имя любви люди стремятся к великим целям. А что у тебя? Ты никогда не поднимался выше постельных страстей. Так что лучше помолчи.
РАСТОРГУЕВ. Вы отказываете мне в способности любить...
С.В. Кого ты любил? Свою жену, с которой развёлся, не прожив и двух лет? Или возможно любить ту девицу, которая не постыдилась предстать в чём мать родила даже передо мной?
РАСТОРГУЕВ. Вы женщина, чего же ей вас стесняться? Да и не девица она уже давно.
С.В. Мой покойный муж, твой отец, никогда не видел меня в голом виде.
РАСТОРГУЕВ. Я ему глубоко сочувствую. Но вас мне особенно жаль: вы многое потеряли.
С.В. Пошляк!
РАСТОРГУЕВ (сокрушённо). Видать, горбатого могила исправит. Но зато что есть, то есть, ничего не таю. Не то что некоторые.
С .В. Не смей говорить о Марлене в тоне грязных намёков!
РАСТОРГУЕВ. Почему именно о Марлене?
С.В. О ком же ещё? Марлен один из самых достойных людей, которых я знаю. И я говорю обо всём этом не потому, что он мой племянник. Кстати, хотя бы теперь воздержись от своей дурацкой иронии в его присутствии. У него неприятности по службе.
РАСТОРГУЕВ. Давно пора.
Входит Марлен.
С.В. (не замечая вошедшего). Зависть всегда уродует внутренний облик человека.
МАРЛЕН. Доброе утро, дорогие родственники! С праздником!
С.В. Спасибо, Марик! И я тебя тоже поздравляю.
МАРЛЕН. И кто же тут кому завидует?
РАСТОРГУЕВ. Очевидно, я — тебе.
МАРЛЕН. Тётя Софа, не верьте ему. Это же будущее научное светило. По сути ещё сопляк. А уже без пяти минут доктор наук.
РАСТОРГУЕВ (выглядывая в сад). О! Алёха с Юркой заявились. Сейчас придут мои друзья, я буду очень рада (повернувшись к С.В.). Это я цитирую слова кошки из той детской пластинки “Кошкин дом”.
С.В. Он ещё детские пластинки слушает! Совсем в детство впал. Пойдём, Марик.
С.В. и Марлен уходят.
Входят Боков и Спицын.
СПИЦЫН. Аве Цезар, моритури тэ салюант! Что в переводе означает: будь здрав, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя. Как моя латынь? По-моему, произношение очень хорошо. Выговор истинно древнерымский.
РАСТОРГУЕВ. Времён упадка Империи. На какую это же вы смерть идёте?
СПИЦЫН. Всякая жизнь есть путь к смерти. А мы ещё бутылевич прихватили, что, как известно, яд и гибель человеков.
РАСТОРГУЕВ (Бокову). Слушай, Алексей, ты мою просьбу не забыл?
БОКОВ. Сделаем, сделаем, я же сказал.
РАСТОРГУЕВ. Ты знаешь, на тебя последняя надежда. Я без этого... ну сам понимаешь.
БОКОВ. Вот как раз в четверг буду говорить с одним нужным человеком.
СПИЦЫН. Потом об этом. Мы тут совершаем утренний моцион, хозяин показывает мне местные достопримечательности, и решили к тебе зайти, зазвать на маленький междусобойчик. Посторонних не будет.
РАСТОРГУЕВ. Ладно, идите, я за вами следом. Тут надо ещё...
СПИЦЫН. Ждём. Изо всех сил крепимся, чтобы не выпить до твоего прихода.
Боков и Спицын уходят. Расторгуев смотрит им вслед, подходит к столу, берёт детскую книжку. Входит Марлен. Расторгуев поспешно захлопывает книжку и поворачивается ему навстречу.
МАРЛЕН. А про меня в газете пропечатали! (Кидает на стол сложенную газету.)
РАСТОРГУЕВ. Хвалят?
МАРЛЕН. Напротив. Кроют на чём свет стоит.
РАСТОРГУЕВ. А на чём свет стоит?
МАРЛЕН. На глупости людской, на чём же ещё!
РАСТОРГУЕВ. И что теперь, карьере конец?
МАРЛЕН. Ну уж дудки! К тому же тут всё без фамилий. А голыми руками меня не возьмёшь.
РАСТОРГУЕВ. Без фамилий? Да может, это вовсе не про тебя?
МАРЛЕН. Я-то знаю, что именно про меня. И испытываю оттого тайное удовлетворение. В том и сладость, что для всех тайна, а я знаю, где собака зарыта. А поди раскопай! Сорок тысяч Шерлок Холмсов не сыщут.
РАСТОРГУЕВ. Да в чём дело-то?
МАРЛЕН. А вот (разворачивает газету), вот тут пишут: государству нанесён ущерб в полмиллиарда долларов. Представляешь! И всё я!
РАСТОРГУЕВ. Именно ты?
МАРЛЕН. Помню, пришёл ко мне этот изобретатель. Глаза горят. На меня с надеждой как на лучшего друга смотрит... Только это не пятнадцать лет назад было, как они тут пишут, а все двадцать... Чего эти писаки знают? тряпичкины. Да, пришёл, значит. Как сейчас помню. И видно: умный, скотина! Но дурак. Вот, думаю, сейчас я тебе умному, пятый угол сделаю, чтоб знал, как умнее других быть.
РАСТОРГУЕВ. Какой ещё пятый угол?
МАРЛЕН. Это мы в детстве играли. Станем в круг, а одного кого-нибудь выпихнем на середину. Он вырваться хочет, а мы его друг на друга толкаем, только голова мотается. Иных до слёз доводили... Ну, к этому я, стало быть, всей душой. Экспертизу и всякие другие формальности. Он у меня побегал, пока ещё до экспертизы дошло. Вот поверишь: не тот размер полей на бумаге — и уже перепечатывать надо. А что делать! Я бы, как говорится, всей душой, да инструкция! И вообще много способов резину потянуть.
РАСТОРГУЕВ. А зачем?
МАРЛЕН. А затем, что куда мне торопиться? Теперь, значит, экспертиза. Куда послать? А я знаю, что в таком-то институте такое же изобретение уже десять лет изобретают и ещё сто лет изобретать будут, потому что и им тоже торопиться некуда. Так вот этого умника я к ним. Хотя мог бы ещё кое-куда. Но зачем? Кое-где ему ход дадут, а тут, натурально, зарежут. Он же их под корень рубит.
РАСТОРГУЕВ. Тебе-то во всём этом какая корысть была?
МАРЛЕН. Погоди, скажу. В институте же том корысть, как ты понимаешь, явная: они же на том изобретении некоторые полжизни кормиться собирались. То есть не на самом изобретении, а на процессе. Кто-то, гениальейшего ума человек, сказал: цель ничто, движение всё. Вот чего этот умник-изобретатель недопонял. А у меня тоже процесс, тоже движение. Он ко мне бегает, изводится, а я к нему всей душой. Рад помочь, понимаю и сочувствую, и всё такое. Когда те его зарезали, утешал как мог. Помочь всемерно обещался. И к Иван Иванычу его. А тот к Пал Палычу. А тот к Сергей Сергеичу. Вот тут и пятый угол. Мотается туда-сюда. И у всех своя роль. Один сердитый, другой отчаянный формалист, третий моралист. Я же душевный дядюшка: главное, чтоб надежды не терял. Ну, всего я тебе рассказывать не стану о наших методах, слишком долго. Но поверь: на десять романов хватит, да ещё на пару повестей останется. Вот вдруг, например, редкостная удача: анонимка на него за аморалку. А тогда с этим строго. Он и вправду загулял. Я так понимаю: жена у него стервоза первейшая, а на стороне утешительница сыскалась. Дело житейское. Лично я, так очень даже его понимаю. И кто без греха! Да ведь я на том деле больше года кайф ловил. Проверки там всякие. Может ли аморальный человек быть советским изобретателем! Демагогия жуткая. Так поверишь ли: он с той своей бабой порвал, к жене опять вернулся. А время-то идёт, его, к счастью, не остановишь.
РАСТОРГУЕВ. К счастью?
МАРЛЕН. Иногда и к счастью. К тому же — время деньги. Рублики-червончики. Они пишут: полмиллиарда. Плохо считали. Там и весь миллиард пожалуй что набежал. Если бы сразу внедрили без проволочек. Ты представляешь, что такое миллиард? Вот дай тебе по рублю считать — я как-то прикинул на калькуляторе — при нормальном рабочем дне, да со всеми выходными если, тебе на то жизни не хватит. А я этакую уйму деньжищ ухайдакал. То есть, конечно, не я один. Но я там как массовик-затейник выступал: возьмёмся за руки, друзья, шире круг. Игру в пятый угол начинай! А он посрединке мотается.
РАСТОРГУЕВ. Так тебе теперь за то шею намылить должны? После статьи этой?
МАРЛЕН. Молод ты ещё и глуп. Это раньше: появится статья в центральной прессе, так все на ушах стоят. А теперь по-другому всё. Нынче правило: болтайте там что хотите, а мы будем делать, что нам нужно. Да к тому же пишут: надо разобраться, виновников, причины волокиты найти. А поди разберись.
РАСТОРГУЕВ. Так ведь на виду же всё.
МАРЛЕН. На самом что ни на есть виду. А накось, выкуси! Поймай. Руки коротки, батенька! То-то и забавно. Миллиард убытку и двадцать лет потеряно, а виноватых не сыскать. Вот, к примеру. Если бы я с самого начала всё по нужным каналам направил и тот институт бортанул — может, ничего бы и не было. То есть убытков миллиардных бы не было, стоило мне в другом месте экспертов поискать. Так пусть это все знают, хоть весь мир. А доказать всё равно ничего не докажут. Или: я в том виноват, что аморалку проверяли? Да не я и проверял, там другие моралисты сыскались. А кто евонной супруге мысль подал? Нет, не прямо, а так, между строк, как говорится. В подтексте. А кто анонимочку не порвал, как порядочным людям полагается? Ведь вот что любопытно: общий результат налицо, а начнёшь по частностям разбирать — комар носа не подточит. На том стоим.
РАСТОРГУЕВ. Но зачем тебе это?
МАРЛЕН. А ты думаешь, это пустяки, когда непризнанный гений от тебя со всеми потрохами зависит?! Вот умирать стану, а не забуду, какими он на меня глазами глядел. Под конец-то он меня ненавидеть стал, раскумекал, что к чему. А мне, может, в том самый смак и есть. Ненавидь, ненавидь! А я миллиардик-то под этим соусом-то и скушал! Вот ты укради хотя бы трёшку — срок схлопотать сможешь. А я миллиард зелёных организовал. А гений тот затосковал и помер. И это я тебе только одно дело приоткрыл. А мне ещё зарплата за то ко всему прочему идёт, и всяческие блага. Эх, милый, когда разные там планы-бюджеты планировали и сметы составляли, забыли по соответствующим статьям и таблицам разнести и учесть вот это моё желание видеть, как передо мной валяются в пыли те, кому я, может, сапоги чистить недостоин. Я ведь не слепой, я цену себе и людям распознать умею. Да и по каким таблицам это разнесёшь? Тут нечто неосязаемое, нематериальное, а потому ненаучное. Нет на то таблиц и параграфов. Государство миллиард потеряло и гений скопытился? А я зато всю жизнь в своё удовольствие жил. А теперь и того лучше: я заинтересованным лицам приоткрываю, когда подобная угроза возникает. А они мне некоторые суммы отстёгивают. Но это, как говорится, коммерческая тайна.
РАСТОРГУЕВ (доверительно, почти дружески). Ужасно! Ужасно. А впрочем, знаешь, это не ужасно, а смешно. Добро бы явился передо мной великий злодей, грозный, роковой — я бы тогда, по крайней мере, не разуверился бы в величии жизни. А тут — мелкое ничтожество, мозгляк-чинуша... ведь ты же сам признался, что ничтожество... у которого в заду свербит пошленькая тяга к самоутверждению. И ладно было бы ещё самоутверждение в деле. Но нет — в уничтожении дела, полезного и хорошего, для людей дела. И это дело нужно плюгавому гнусному типчику только для того, чтобы насладиться торжеством попрания личности своего ближнего!
МАРЛЕН (искренне смеётся). Думаешь, я оскорблюсь? Ха-ха-ха! Мне нравится твоё тихое бешенство. Оно ведь от бессилия твоего. Твоя бы воля, ты бы меня с дерьмом смешал. Руки коротки, так-то, милостисдарь, да-с! Ха-ха-ха!
РАСТОРГУЕВ. А ты знаешь, я всё больше утверждаюсь, что человечество — ошибка природы. Цель нашей жизни — исчезнуть. Люди должны вымереть, как динозавры, чтобы дать природе новую попытку эволюции.
МАРЛЕН. Вот-вот! Иди — вымирай! Можешь повеситься с тоски, как тот гений. Я скажу прочувствованную речь на твоих похоронах. Ведь есть же в тебе нечто достойное похвальных слов. Вот этот твой неистребимый романтизм, несмотря на всю твою трезвую тоску понимания жизни. Тебе вон роковых злодеев подавай. А их не было никогда, роковых-то злодеев. Это лишь продукт романтических бредней всяких там Шекспиров и Байронов. Мне недавно показывали репродукцию с картинки какого-то — немецкого что ли — художника: Гитлер в пижаме сидит на койке и стрижёт ногти на ногах. По мысли гениальнее всех Шекспиров. И правдивее. А что: ведь даже Гитлеру — надо же было ногти стричь. Обыденькая пошленькая проза жизни. Всё ждём, живём и ждём: сейчас что-то этакое произойдёт. А ничего не произойдёт. И я ох как даже понимаю: иным, вот вроде тебя, от познания сей прозы жизни впору удавиться. Ха-ха-ха!
РАСТОРГУЕВ. А тебя это только радует?
МАРЛЕН. Я, знаешь, в молодости тоже мировой скорбью баловался на досуге. Да и кто из нас не Гамлет в молодые-то наши леты? Тоже в позу вставал и мрачные восклицания издавал, ну вроде того, что “мир раскололся, и хужей всего, что я должен восстановить его”. А потом знаешь, мне в голову простенькая мысль вошла. То есть я вдруг печёнками осознал то, что и детстве наизусть заучивал, да вот как-то всё мимо сознания скользило: жизнь-то даётся нам всего один раз. Один! Я вот тут скорблю, какую-то связь времён соединяю, никак концы с концами не сведу — а времечко-то бежит. А на хрена мне те концы, когда своего-то конца не минуешь. Времени-то не воротишь! Вот тут (показывет на газету) пишут пустобрёхи: два десятка лет потеряно. Потеряло, вишь, человечество на пути к прогрессу. А куда ему спешить? Оно же, человечество, бессмертно. Ему те десятки лет — тьфу! А у меня — раз-два и обчёлся. Миллиарда не досчитались — наработают, куда он денется. А тут ещё умники нашлись: всё остаётся людям, всё людям. Тётка вон, старая перечница, тоже мне светлые идеалы вдалбливала. Но я ту блевотину, какой она меня кормила, давно уже высрал. Шалишь, думаю, зачем это мне кому-то что-то оставлять? Кто я и кто они? Слепая игра слепых сил природы. Порождения случая. Из ничего вышли, в ничего уйдём. И как-то обидно ещё при этом отводить себе роль удобрения для какой-то там счастливой будущей жизни. Я удобрение, а те, которые будущие? Они кто? От удобрения, как говорится, слышу. Нет, шалишь! Хрен вам всем! Себе возьму, никому ничего.
РАСТОРГУЕВ. И что же ты себе возьмёшь?
МАРЛЕН. Над этим вопросом я тоже размышлял. Сперва, признаюсь, в разгул ударился. Чего, мол, рассуждать, однова, как говорится, живём. Но ведь это вскорости надоедать стало. Ведь всё приедается в конце концов, и всё чего-то поострее хочется. Сегодня остренькое — а завтра оно уже преснятина. Стоп, думаю. Дальше куда? Ещё острее искать — а где предел? Опять же какая-то дурная бесконечность во всём этом. Обидно. А время-то идёт, и тебя за собою тащит. А карьеру, между прочим, я всё же делаю. И знаешь, как-то вдруг — ну, не вдруг, конечно, это я для простоты — вдруг осознал я: нет ничего приятнее, чем когда перед тобой навытяжку стоят и преданными глазами смотрят. Или вот какой-нибудь гений-раз гений, вроде того умника-изобретателя,— а ты из него верёвки вьёшь, а ему на тех верёвках повеситься уже хочется! Что он благополучно и совершил. Вот что никогда не приедается. Всякий раз что-то новенькое. И чтоб пятый угол ему устроить, чтоб только головушка его гениальная из стороны в сторону моталась. Скажешь, что я мерзок, гнусен? Да уж и сказал. Это ты от неразумия своего сказал. Нет, это он гнусен, гений паршивый. Потому что не докумекал гениальными своими мозгами, что глупо годы на этакий вздор жертвовать. Не стоит он того!
РАСТОРГУЕВ. Сколько же мы жили бок о бок, а вот только теперь, кажется, я и узнал тебя, что ты такое есть.
МАРЛЕН. Ну вот и познакомились. Есть у Достоевского глава такая: “Братья знакомятся”. Правда, ты не Алёша Карамазов, отнюдь не праведник. И на земле прочнее стоишь.
РАСТОРГУЕВ. Да и ты не Иван.
МАРЛЕН. Да, у меня нервы покрепче. С чертями дискуссии затевать не стану.
РАСТОРГУЕВ. Слушай, а вдруг Бог есть? Отвечать ведь придётся.
МАРЛЕН. Где-то я читал... не помню. Мужик один так рассуждал: призовёт меня Господь Бог к ответу, а я скажу: “Господи, ты мне душу дал? Дал. А теперь взял? Взял. Вот и квиты”. Так и я скажу.
РАСТОРГУЕВ. А вдруг этого мало?
МАРЛЕН. Болтай! Всё равно моего прекрасного настроения ты не испортишь. Сегодня на меня снизошла высшая гармония духа. Вот что меня с Иваном роднит, так это исступлённая жажда жизни, любовь к этим вот клейким листочкам. Какой прекрасный образ — клейкие листочки! Правда, нашёлся умник, филолог какой-то, говорит, что это Достоевский у Пушкина спёр. Ну и шут с ним. Пускай классики сами между собой разбираются. А жить тем не менее хорошо! Ах, какое это удовольствие — жить на земле! Жизнь, жизнь нужно любить — прежде чем смысл её. Движение — всё, а цель ничто. Нет никакой цели, кроме вот этой исступлённой жажды жизни. Какое утро — а! И птицы, слышишь? Воздух свеж и чист, как поцелуй ребёнка. Вот ради таких вот мгновений и стоит жить. Цени их, брат. У тебя их, теоретически рассуждая, остаётся больше, чем у меня. Но и я ещё поживу. Мы ещё пошумим, старик! (Кричит) Хорошо жить! Жизнь прекрасна и удивительна! (Выходит в сад, так что слышен один голос его) Лет до ста расти нам без старости!!!
РАСТОРГУЕВ (один). Какое-то странное ощущение нереальности всего этого. Как в бреду. (Кричит) Это бред!!!
На шум выходит Софья Власьевна.
С.В. Что такое, что ты кричишь? Какой бред?
РАСТОРГУЕВ. Всё бред. Я утратил чувство реальности. Матушка, как жить? Что мне делать?
С.В. Это всё потому, что ты поставил личное выше общественного. Поговори с Марленом.
РАСТОРГУЕВ. Ваш любимый Марлен, оказалось, разорил государство на целый миллиард.
С.В. У тебя, действительно, классический бред. Я не удивлюсь, если тебя вскоре отправят на Канатчикову.
РАСТОРГУЕВ. Оно и правда, лучше с ума сойти.
С.В. Лучше чем что? Я вынуждена буду поставить в известность общественность вашего института об охвативших тебя настроениях.
РАСТОРГУЕВ. Вы всё ещё живёте вчерашним днём, матушка. Общественности нынче на всё наплевать.
С.В. Не смей клеветать на коллектив.
РАСТОРГУЕВ. А он что, врач по психическим болезням что ли, коллектив ваш?
С.В. Общественное воздействие — лучшее лекарство. Тебе сумеют, я надеюсь, прочистить мозги.
РАСТОРГУЕВ. Поставят большой общественный клистир. Только вот не пойму: как это клистиром мозги прочищать? Его же с другого конца употребляют.
С.В. остолбенело молчит. Входит Нюра с большим эмалированным бидоном.
НЮРА. Здравствуйте. С праздником.
С.В. А Нюра... Да, да... И я тебя тоже поздравляю.
НЮРА. Спасибо. Самый главный это, наверно, праздник наш. (Косится на С.В.) После октябрьских, конечно.
С.В. (назидательно). В наши главные праздники руководители партии и государства поднимались на трибуну мавзолея. Но сегодня, действительно, очень важная дата. Мы заплатили за неё дорогой ценой.
РАСТОРГУЕВ (негромко). Особенно вы. В тылу бумажками шуршали.
С.В. Мы вместе с фронтом ковали победу... Пойдёмте, Нюра.
С.В. и Нюра уходят в дом.
РАСТОРГУЕВ. Когда я был маленький, она ставила меня в угол на горох. Как ей, верно, хочется опять так же...
Входит Спицын
СПИЦЫН. Слушай, я за тобой. Ты чего тянешь? Пошли по стаканевичу даванём.
РАСТОРГУЕВ (иронично). Мачеха и без того собирается поставить обо мне вопрос перед общественностью. А коли ты меня спаивать начнёшь — мне вообще хана. Точно напишет.
СПИЦЫН. А мы в стороне от внимательных глаз. И дадим страшную клятву хранить сию роковую тайну до гробовой доски.
РАСТОРГУЕВ. От этой не укроешь ничего. Она всюду. Это только кажется, будто она локализовалась в конкретной точке пространства.
СПИЦЫН. И в какой же точке она теперь?
РАСТОРГУЕВ. Да с тётей Нюрой пошла. Молоко тут одна нам из деревни носит. Вот чего хорошо тяпнуть. Настоящее, не то что в городу. У мачехи кошка, так после этого в Москве, как возвращается, от магазинного неделю морду воротит. Потом, правда, смиряется: куда деваться-то?
СПИЦЫН. Молоко? Терпеть не могу.
РАСТОРГУЕВ. Потому что настоящего не пробовал, видно. Парного. Дитя городской цивилизации. Хоть бы напоследок побаловался.
СПИЦЫН. Почему это напоследок? Я помирать не собираюсь.
РАСТОРГУЕВ. Да не о тебе речь. Скотина вымирает как класс. На всю деревню одна корова осталась. Оттого, кстати, весьма дорого.
СПИЦЫН. А в колхозе?
РАСТОРГУЕВ. Тут остатки совхоза.
СПИЦЫН. Один хрен.
РАСТОРГУЕВ. В совхозе тёлки на выпасе. На лето пригоняют, осенью куда-то отправляют. Наш сосед вон, полковник, их пасёт.
СПИЦЫН. Какой полковник?
РАСТОРГУЕВ. Настоящий. Отставной. Третье лето уж. Деньги, говорят, большие. А чего ему ещё делать? Лошадь дали. Как сядет — за один погляд плату взимать можно. Что твой Тарас Бульба.
СПИЦЫН. А что там своих пастухов что ли нет?
РАСТОРГУЕВ. Свои все спились давно.
СПИЦЫН. И всех коров пропили что ли?
РАСТОРГУЕВ. Вон у тёти Нюры спроси. Чего-то они долго языки чешут. Эта тётя Нюра такая заговористая. Порою по часу вот так.
СПИЦЫН. Да шут с ними. Меня проблемы продовольственной программы не интересуют. Да и антиалкогольная кампания давно позабыта. Ты пойдёшь со мной или нет?
РАСТОРГУЕВ. Сядь, успокойся. Чего суетишься? Считай, весь день впереди. Успеем.
СПИЦЫН. А чего ждать-то?
РАСТОРГУЕВ. Поверишь, вот сел и нет энергии, чтобы встать. Внутренней энергии.
СПИЦЫН. С чего бы это?
РАСТОРГУЕВ. А вот бывает у тебя так: вдруг посмотришь вокруг себя, и такой всё это ерундой представится, таким вздором... И ничего не хочется, и ничего не нужно.
СПИЦЫН. Что это вдруг?
РАСТОРГУЕВ. Вдруг... да так, незначащий разговор сейчас был. Но это лишь последний удар заступа.
СПИЦЫН. Какого ещё заступа? Ты чего темнишь?
РАСТОРГУЕВ. Да у Толстого... не помню только где. Он писал, что когда подрывают гору, то всем кажется, будто она упала от самого последнего удара заступом.
СПИЦЫН. Это в “Войне и мире”
РАСТОРГУЕВ. Всё-то ты знаешь. Убивать пора.
СПИЦЫН . Профессия обязывает.
РАСТОРГУЕВ. Вот представь себе человека, который на протяжении долгого времени все силы, энергию, талант, ум — всё тратит на достижение какой-то цели. И в конце концов достигает её, может быть, даже к концу жизни. Но достигнув этой цели, он вдруг догадывается, что она жалка и ничтожна и что он лишь даром убивал время, а жизнь не воротишь.
СПИЦЫН. Бывает. Но к чему ты это?
РАСТОРГУЕВ. А вот представь теперь человека, который уже заранее знает, наверняка знает, что достигнув своей цели, он разочаруется в ней непременно, да и разочаровался уже. Но всё же тупо тратит силы, и время, и нервы на стремление к этой ненавистной ему цели. И механически существует. Вот этот человек — я. Я и есть! (Смеётся.)
СПИЦЫН (отчасти испуганно). Ты чего?
РАСТОРГУЕВ. Мир раскололся, и хужей всего, что я должон восстановить его.
СПИЦЫН. Заболел парень. Пошли лечиться.
РАСТОРГУЕВ. Тебе никогда не бывает страшно?
СПИЦЫН. Чего?
РАСТОРГУЕВ. Так, вообще.
СПИЦЫН. Вот зануда-то старого быта.
Входят С.В. и Нюра.
С.В. Я постараюсь, Нюра, постараюсь.
НЮРА. А то ведь совсем одолел.
С.В. Я поговорю с Марленом.
СПИЦЫН. Софья Власьевна! Рад видеть вас несказанно.
С.В. Здравствуйте, Юра.
РАСТОРГУЕВ. Тёть Нюра, вот этот человек интересуется знать, почему в деревне нынче коров не держат.
НЮРА. Была охота да отвалилась. Как в хрущёвские времена пастбища да покосы отобрали — так всю скотину и порезали. А теперь вернули, да все уж отвыкли.
С.В. Тогда была совершенно необходимая мера. Чтобы не превалировали частнособственнические инстинкты.
РАСТОРГУЕВ. Зато теперь втридорога платим.
НЮРА (обиженно). Я не неволю. Мне уже и больше предлагали. Это я вам по старой памяти.
СПИЦЫН. А что же вы корову держите? Не как все.
НЮРА. Уж очень я коров всегда любила. Вот это прямо моё, ну как это сказать, занятие. Стадо, бывало, обойду, так всех своих коров могу пересчитать, а оно вон какое большое было. Я и сейчас их всех вспоминаю, жалею.
СПИЦЫН. Так у вас же есть своя. Есть кого любить.
НЮРА. А я и колхозных любила. Вот была у меня одна корова. Розка мы её звали. И вот мы бывало идём на полдни, а они там в большом таком загоне, километра полтора от деревни, теперь уж нет его. Так мы с бабами иной раз нарочно — я вот так возьму и за другими схоронюсь. А она уж смотрит прямо видит. А чего я была то: за бидоном не видать. Или вот возьму и не своё что надену. И ведь всё равно узнает. Вот какая. А если я к другой корове раньше подойду, она подойдёт, вот так вот голову положит и всё равно как зовёт: вот вылезай из-под той коровы и меня дои.
А подою, она отойдёт, ляжет и жвачку жуёт. Во какая! А уж бодучая была! Её прямо боялись. А меня — никогда. Они ведь тоже всё понимают.
СПИЦЫН. Вы подумайте!
НЮРА. Это я ещё, характер у меня такой, а то бы давно бросить всё надо. Вон дочь давно зовёт. Замужем она в Серебряных Прудах.
Входит Марлен
МАРЛЕН. Ох, народу сколько собралось. Здравствуйте. Утро-то какое расчудесное!
НЮРА. Ну да я пошла, счастливо вам.
МАРЛЕН. Жизнь хороша!
РАСТОРГУЕВ (меланхолично). И жить хорошо.
НЮРА (выходя). Только сбежать некуда.
МАРЛЕН (глядя вслед ушедшей Нюре). Чего это она?
С.В. Всё с соседом не ладит. Да, по-моему, она уж из ума выживать стала. Всякую ерунду говорит. Будто сосед у её петуха клюв отрезал. Что за чепуха. Сегодня уже нет социальной основы для таких отношений.
МАРЛЕН. Да ну их совсем.
С.В. Молока хочешь, Марик? Или я вскипячу?
МАРЛЕН. Я полагаю, у этой поселянки санитарные нормы вряд ли выдерживаются.
С.В. Хорошо. Я сейчас вскипячу. Павел, не уходи никуда, скоро завтрак готов. Юра, и вы, может, присоединитесь?
СПИЦЫН. Благодарствую.
РАСТОРГУЕВ. Я не буду.
С.В., пожав плечами, выходит.
МАРЛЕН. Всё статейки свои пописываете, Юрий Михалыч?
СПИЦЫН. Отнюдь.
МАРЛЕН. Что так?
СПИЦЫН. А вот, изволите видеть, смысла в том не нахожу. К примеру: написал я недавно вовсе даже большую статью по поводу одной проблемы, литературно-социологической, так скажем. И не по собственной инициативе, заметьте, а отчасти исполняя просьбу некоего лица, обещавшего непременную публикацию. Ладно, написал. Не хочу выставляться, но недурственно получилось. Бездна ума, тонкости, вкуса. Вовсе недурственно. Звоню на днях. Не пойдёт, говорят. Что так? Неуж плохо?! Не в том дело, мы, говорят, решили поименованной проблемой отнюдь не заниматься. Даже читать не стали. Вот поди ж ты. Полный отлуп.
МАРЛЕН. Ничего, что-нибудь ещё напишете.
СПИЦЫН. А я так полагаю: не стоют они того. Я теперь на весь мир в обиде.
МАРЛЕН. Уж весь мир и виноват?
СПИЦЫН. Да что я! Вот (указывает на Расторгуева) лучший, можно сказать, друг детства,— и те захандрили. А ведь в большие люди выйти могут. В академики непременно-с. И тоже вот — ни тпру ни ну.
МАРЛЕН (смеясь). Это бывает. Ничего.
Марлен уходит в дом.
РАСТОРГУЕВ. У тебя зрение хорошее?
СПИЦЫН. Вроде ничего.
РАСТОРГУЕВ. Загляни мне в задницу, посмотри, что у меня в голове делается.
СПИЦЫН. И глядеть нечего: дурь завелась.
РАСТОРГУЕВ. Вот кому я завидую, так это тёте Нюре. Всё у неё как-то без придуривания. Любит корову — так любит. Воюет с соседом — так воюет. Даже клюв у петуха пострадал. Интересно, как он теперь клюёт-то?.. А мы?
СПИЦЫН. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...
РАСТОРГУЕВ. Как будто только что написано.
СПИЦЫН. А всё, оказывается, старо как мир. И всякие рефлектирующие интеллигенты, вроде тебя, жизненной сути в простом народе испокон веку доискивались. Оттого, говорили, его пронять нельзя, что в ём здравого смыслу много накопилось.
РАСТОРГУЕВ. Ты вот перестань ваньку валять и хоть раз в жизни серьёзно мне скажи: зачем всё это?
СПИЦЫН. А коли серьёзно, то ни к чему сии вопрошания. Умный человек от этого как чёрт от ладана. Зачем мне в чём-то смысла доискиваться, какая мне от того радость? Я и так знаю, что всё бессмысленно. Умный человек давно смекнул, что смысл жизни настолько высок, что сам он со своими пошленькими поползновениями скорее всего в сопоставлении с этой высотою подл и низок. Тут-то вот и источник мировой скорби. А без этих размышлений — так всё распрекрасно.
РАСТОРГУЕВ. По-моему, тоже ужасно. Пусто. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели... Видишь, и я не чужд книжной учёности.
СПИЦЫН. Именно: книжник и фарисей. Вот от таких, как ты, всё и зло. И сами не живут, и другим не дают.
РАСТОРГУЕВ. Не пойму я: вот ты филолог, исследователь русской литературы девятнадцатого века... Уже позапрошлого, кстати. Никак, знаешь, не привыкну, что позапрошлого.
СПИЦЫН. Ты хочешь знать: как это я отвернулся от того, над чем бились величайшие наши гении? Так ведь у нас, доложу тебе, главная печаль нонича: чего бы такого почуднее выдумать, чтоб народ удивить. Эпатировать почтеннейшую публику экстравагантностью парадоксального менталитета. Игра в бисер — это называется. Нас истина не волнует, и вопросами бытия мы себя не истязаем.
Входит Полковник. Он в парадном мундире с орденами и медалями.
РАСТОРГУЕВ (вскакивая и вытянувшись по стойке “смирно”). Здравия желаем, товарищ полковник!
ПОЛКОВНИК. Здорово. Ваши дома? Вот поздравить хочу.
СПИЦЫН. А нас?
ПОЛКОВНИК. А тебя чего? Ты, небось, рядовой необученный?
СПИЦЫН. Так точно!
ПОЛКОВНИК. По тебе и видно.
Полковник проходит в дом.
СПИЦЫН. Видный мушшына. Как его звать-то?
РАСТОРГУЕВ. Как могут звать полковника? Товарищ полковник.
СПИЦЫН. А твоя мачеха — тут почтенная особа, видать. Полковники при всех регалиях с праздничными поздравлениями наведываться изволят.
РАСТОРГУЕВ. Персональная пенсионерка союзная. Хоть и бывшая, но для некоторых по старой памяти это как “ваше превосходительство”.
СПИЦЫН. Это тот самый полковник что ли? Ну, который коров пасёт.
РАСТОРГУЕВ. Не коров, а тёлок.
СПИЦЫН. Какая разница!
РАСТОРГУЕВ. Существенная. Тёлки — это коровьи девушки.
СПИЦЫН. И он к ним приставлен невинность их блюсти?
РАСТОРГУЕВ. С одной стороны полковник, с другой — пастух.
СПИЦЫН. Всё смешалось в доме Облонских... Слушай, ну пошли коньякевичу шандарахнем. Хватит умные разговоры разговаривать.
Появляется Лысов.
ЛЫСОВ. Можно?
РАСТОРГУЕВ. Владимир Петрович!
ЛЫСОВ. Я по важному делу, поэтому не хотел откладывать.
РАСТОРГУЕВ. Вы тогда появились и исчезли так внезапно, что я даже не успел ничего сказать. Но как вы меня сыскали?
ЛЫСОВ. Я неплохо ориентируюсь.
РАСТОРГУЕВ. Это вот, рекомендую, мой давний приятель, Юрий Михалыч, человек с безупречной характеристикой. Кланяйтесь, Юрий Михалыч! Перед вами наш новый институтский профбосс.
СПИЦЫН (кланяясь с некоторой нарочитостью). А что профсоюзы ещё бытуют?
РАСТОРГУЕВ. Да совсем было захирело всё, да вот Владимир Петрович развил такую деятельность кипучую, что все буквально душою воспарили. Я, Владимир Петрович, к сожалению не смог присутствовать на профсоюзной конференции, но как узнал о вашем избрании, вельми возрадовался. Поздравляю!
ЛЫСОВ. Прежде всего с этим институт надо поздравить.
Спицын, находясь в этот момент за спиною Лысова, строит гримасу, выражающую крайнюю степень изумления.
РАСТОРГУЕВ. Спасибо. От имени нашего славного коллектива, к коему имею честь принадлежать, принимаю ваши поздравления.
ЛЫСОВ. Я ненадолго вас отвлеку. Приехал, потому что узнал очень важные факты и считаю своей обязанностью известить кому прежде всего доверяю, перед тем, как предприму дальнейшие шаги.
РАСТОРГУЕВ. Да что стряслось-то?
ЛЫСОВ. При подсчёте голосов на конференции выявился подлог. Проголосовавшими оказались записанными те, кто даже не присутствовал. Причём в дело оказался замешанным Валерий Семёнович.
РАСТОРГУЕВ. Задорожный?
ЛЫСОВ. Конечно, я ни в коем случае не хочу поставить под сомнение честность Валерия Семёновича, но он действовал в нарушение инструкций, которых ведь никто не отменял. Я прошу вас продумать свою позицию по этому вопросу, потому что я вынужден предпринять известные шаги в этом направлении.
РАСТОРГУЕВ. Я продумаю.
ЛЫСОВ. Я не стану вас больше задерживать, просто хотел, чтобы вы были поставлены в известность заранее. Этого от меня требует элементарная порядочность. Я попросил запротоколировать всё происшедшее.
Лысов исчезает.
СПИЦЫН. Что сей сон значит?
РАСТОРГУЕВ. Вот сколько его знаю, он всё время с кем-то за что-то борется. И всё протоколирует.
СПИЦЫН. А он не больной?
РАСТОРГУЕВ. Воспаление ущемлённого самолюбия. И почему-то считает необходимым всё время обо всём мне рассказывать. Для моральной поддержки что ли меня держит? А я по мягкотелости отказать не могу и всё выслушиваю. Достал он меня, сил нет, порою завыть хочется.
СПИЦЫН. А кто тот мужик?
РАСТОРГУЕВ. Задорожный, работает у нас. Я думаю, он просто в протокол вписал весь список сотрудников, а проверять присутствующих просто лень было. Вообще человек честнейший. Но этот его теперь уделает.
СПИЦЫН. Ну и хрен с ними.
Из дома выходят Марлен и Полковник.
ПОЛКОВНИК. ...а мы на стрельбах пузырьки с цветными чернилами по снегу раскидывали. Как попадёшь, так пятно большое на белом. По-моему, очень спортивно.
СПИЦЫН (Расторгуеву). Ну пошли что ли?
РАСТОРГУЕВ. Приду я к вам, приду! Потом. Пейте пока без меня.
СПИЦЫН. И чёрт с тобой. Нам больше достанется.
РАСТОРГУЕВ. А вы, товарищ полковник, опять в этом году за тёлками?
ПОЛКОВНИК. Пригонят через неделю. А что?
РАСТОРГУЕВ. Ничего. Так просто любопытствую.
ПОЛКОВНИК. Думаешь, дескать, вот до пастуха опустился? А я, если хочешь, ещё мальчишкой-сопляком за стадом ходил. На родине, в деревне. Чище коровы, может, другого такого животного нет. Травой питается. Да ещё лошадь. А все остальные твари предназначены, чтоб друг друга жрать. И люди тоже друг друга жрут. И так всё устроено.
СПИЦЫН. Но это же не так. Может, и есть такие, но надо же по любви жить.
ПОЛКОВНИК. Ты что, поп, что так говоришь?
СПИЦЫН. Нет, но...
ПОЛКОВНИК. Тогда молчи. Ты вот тоже кого-нибудь сожрать хочешь. А может, уже сожрал. И не переспоришь меня ни за что.
СПИЦЫН. Нет переспорю.
ПОЛКОВНИК. Научись сначала сопли вытирать. (Марлену) Желаю здравствовать.
Полковник уходит.
СПИЦЫН (Расторгуеву). Во как! Но ты приходи всё-таки. Привет!
Спицын идёт вслед за Полковником.
МАРЛЕН. Как был пастух, так и остался. Несмотря что полковник. А всё верно усёк.
Марлен уходит в дом.
Из сада выбегает Максим.
МАКСИМ. Ух, прямо зажарел весь.
РАСТОРГУЕВ. Поди-ка сюда. (Трогает шею мальчика под воротником.) Вот, весь мокрый. Сядь, остынь, а то простудишься.
МАКСИМ. А я на дальнюю лужайку бегал.
РАСТОРГУЕВ. Знаешь, я решил в театр детский билеты купить. Вот на следующей неделе я занят буду, не смогу, а через неделю пойдём.
МАКСИМ. Ух, здоровско! А про что?
РАСТОРГУЕВ. Не знаю пока. По-моему, там сказочный спектакль какой-то есть. Это надо будет посмотреть афишу. Может, вместе и пойдём выберем. А потом в кафе-мороженое. (Подмигивает) Кутить так кутить!
МАКСИМ. Это в котором мы тогда были?
РАСТОРГУЕВ. Конечно, там же рядом.
МАКСИМ. Мне тогда опять “Планету” и “Космос”! Ладно?
РАСТОРГУЕВ. Влетит мне за тебя. Скажут, мороженого нельзя столько.
МАКСИМ. А мы не скажем.
РАСТОРГУЕВ. Да, не скажем! Это всё равно что обман. Надо честно.
МАКСИМ. А как же ты говорил, что мы когда бабушке подарок делали, что нельзя рассказывать?
РАСТОРГУЕВ. Но мы же не обмануть хотели, а просто сюрприз готовили.
МАКСИМ. Конечно, а то не интересно было бы, если бы раньше сказали.
РАСТОРГУЕВ. Вот то-то! Ладно, пойдём погуляем... А вечером, может, салют поедем смотреть.
МАКСИМ. Ух, здоровско!
Расторгуев и Максим выходят в сад.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина первая
Лаборатория научного института.
Расторгуев. Входит Задорожный.
РАСТОРГУЕВ. Валерий Семёныч! Откуда в таком возбуждении?
ЗАДОРОЖНЫЙ. Знаете, поразительно! Был у наших коллег-соперников, просто поразительно. Ведь это действительно фантастика, если вдуматься. Комету почти руками потрогать! Химический состав определили, структуру, и вообще...
РАСТОРГУЕВ. А! (Махнул рукой.)
ЗАДОРОЖНЫЙ. Вы относитесь к этому как будто с известной долей скепсиса.
РАСТОРГУЕВ. А зачем это вообще? В принципе я и без того знал, что она состоит из определённого набора элементов. Ну теперь узнаем конкретно, из каких именно. Ну и что?
ЗАДОРОЖНЫЙ. Я не понимаю, как можно так рассуждать, даже если это шутка. Вы же учёный!
РАСТОРГУЕВ. Объясните мне: неужели сие вновь полученное знание сделает нас с вами умнее, добрее, честнее, справедливее? Счастливее, наконец?
ЗАДОРОЖНЫЙ. Но это же разные вещи.
РАСТОРГУЕВ. Да, всё распалось. Одно с другим не связано, всё само по себе, все сами по себе... Мир раскололся, и хужей всего, что некому соединять его... Ладно. Может, вы и правы... Что у вас там с протоколами этими злочастными стряслось?
ЗАДОРОЖНЫЙ. Да сам не пойму. Попросили список, я прямо по штатному расписанию и перечислил всех. Всегда так раньше делали. А он вдруг шум поднял.
РАСТОРГУЕВ. Зачем связывались-то?
ЗАДОРОЖНЫЙ. Да и в мыслях не было.
РАСТОРГУЕВ. И что теперь?
ЗАДОРОЖНЫЙ. В мафию в какую-то меня теперь определил.
РАСТОРГУЕВ. Кой чёрт понёс вас на эту галеру!
Расторгуев выходит в коридор.
Перед ним возникает Лысов.
ЛЫСОВ. Выясняются прелюбопытнейшие вещи. Они постоянно составляли фиктивные отчёты и списки из мёртвых душ.
РАСТОРГУЕВ. Прямо чичиковщина какая-то.
ЛЫСОВ. Нет, это не чичиковщина, это мафия.
РАСТОРГУЕВ. Ну это уж вы через край!
ЛЫСОВ. Ничего не через край. Вы очень наивны, Павел! Я потребовал запротоколировать эти незаконные деяния, а они все протоколы просто порвали. Я буду настаивать на ревизии всех дел за последние годы.
РАСТОРГУЕВ. Успеха вам в ваших начинаниях.
ЛЫСОВ. Ну, хорошо, ну, всего доброго.
Картина вторая
Квартира Спицына.
Расторгуев, Спицын.
РАСТОРГУЕВ. Я, знаешь ли, навроде доктора Фауста, когда он решил отравиться.
СПИЦЫН. Сжимается от боли сердце, грудь скорбью мира стеснена...
РАСТОРГУЕВ. Какая, к Мефистофелю, скорбь мира! Просто прежде мне казалось, будто я что-то понимаю в жизни. А теперь вижу: дурак дураком.
СПИЦЫН. Вот и твой доктор Фауст на том же, помнится, споткнулся. Вы с ним вместе умещаетесь в одной фразе Екклесиаста: знание умножает скорбь. А вообще жуткий чудак на букву эм был этот твой друг нечистого.
РАСТОРГУЕВ. А я всё хочу себя утешить, что нам с ним, с Фаустом то бишь, лишь в какой-то момент мнится, будто мы ничего не смыслим. Что это наваждение, с которым можно бороться.
СПИЦЫН. С помощью Мефистофеля? Да этот бес его купил на такой дешёвке, что просто стыдно за род человеческий.
РАСТОРГУЕВ. Сурово, но бездоказательно.
СПИЦЫН. Да вот хотя бы. Сидит, стало быть, этот доктор хренов, переводит Иоанна. “Вначале было Слово”. Подумал. Нет: вначале была мысль. Ещё подумал. Нет: было дело. Так и запротоколировал. А ведь не допёр, что перед любым делом хоть на долю секунды, но задумаешься: что делать и как. Но процесс мышления невозможен без языка, без оформления мысли в слове. Эрга: слово всё же первичнее.
РАСТОРГУЕВ. Но там же о Слове в другом смысле.
СПИЦЫН. А с другим смыслом и вообще поосторожнее. Умнее Бога быть захотел? Со свиным рылом в калашный ряд. Бес его на том и подловил: хочешь дела, книжный червь и схоласт?— давай, действуй! А в итоге примитивнейшая история: соблазнил парень девку и сгубил. Потом долго шебуршился во времени и пространстве — а ему, в конце концов, под шумок могилку выкопали, пока он возвышенные монологи декламировал.
РАСТОРГУЕВ. Откуда ты такой умный взялся?
СПИЦЫН. Я свечу отражённым светом. Просто я уже более половины жизни возле великих умов отираюсь. А, как говорится, с кем поведёшься... Хотя, доложу тебе, постоянное общение со всякими Толстыми и Достоевскими — тяжкая штука.
РАСТОРГУЕВ. Странно. Никогда не думал.
СПИЦЫН. Вот у вас, у физиков, к примеру, умы направлены либо на удовлетворение праздного любопытства, навроде того, из каких там атомов-элементов состоит никому не нужная комета, либо на то, как бы лени человеческой потрафить, чтобы, допустим, не деревяшку о деревяшку в поте лица тереть, а кнопку нажать — и светло. Правда, облегчение мнимое, но не в том дело...
РАСТОРГУЕВ. А у вас, у лириков, — печаль-забота о том, чтобы время легче убивать было. Почитать что на сон грядущий...
СПИЦЫН. Верно. Именно так и выгодно думать.
РАСТОРГУЕВ. Почему это?
СПИЦЫН. Суммируя опыт нашей литературы, можно вывести один закон: между “знать истину” и “жить по истине” — нередко глубочайшая пропасть, несовпадение, ставшее, быть может, источником многих трагедий в жизни человеческой. А ведь избежать трагедии — проще пареной репы. Просто постараться “не знать”. Ты думаешь, отчего мои коллеги в бисер играют? Оттого что слишком близко от палящего огня. Простому человеку что? Он врубит хоккей и счастлив, ему это сорок тысяч истин заменит. А эти мнят ведь себя интеллектуальной элитой. Им бы и рыбку съесть и всё остальное. Вот и забавляются кто как может. Иначе тебя Фёдор Михалыч за ручку к пропасти подведёт, да ещё и подтолкнёт, злодей. Оттого человеки своих пророков всегда камнями побить норовили: не нуждаемся, мол, в пророках! Нынче, правда, получше камней придумали: всё в развлечения превратить, чтоб только не думать. Враг рода человеческого целую индустрию развлечений изобрёл. Нам того и надо. И литература тоже — это так, для забавы.
РАСТОРГУЕВ. Врёшь ты всё.
СПИЦЫН. Вот-вот. Появляются — ох, неистребимое племя — зануды, вроде тебя: вынь да положь им смысл жизни! И что? И сами не живут, и другим не дают.
Картина третья
Квартира Расторгуева.
Максим за столом, что-то рисует. Входит Расторгуев, подкрадывается к Максиму.
РАСТОРГУЕВ (хватая Максима за плечи). Ага! Попался который кусался!
Максим заливисто хохочет, отбиваясь.
МАКСИМ. Посмотри, какую я картинку нарисовал.
РАСТОРГУЕВ. Ну-ка взглянем.
МАКСИМ. Нравится?
РАСТОРГУЕВ. Нравится. Только вот тут, мне кажется, чуть другой оттенок должен быть.
МАКСИМ. Ну как же ты не видишь? Вот именно что не другой.
РАСТОРГУЕВ. Не знаю. А вообще у тебя талант явный. Учиться тебе надо.
МАКСИМ. А где?
РАСТОРГУЕВ. Вот пойдёшь в школу, для начала там кружок, наверно, есть такой. А есть специальные художественные школы. Вот станешь знаменитым художником — в музее твои картины висеть будут. Вот куда нам сходить надо: в картинную галерею, в Третьяковку. Выберемся как-нибудь. (Рассматривает рисунок Максима.) Надо же, я вот так ни за что бы не нарисовал.
Звонок в дверь
МАКСИМ. Пришёл кто-то.
РАСТОРГУЕВ. Знаешь, я тебе сейчас дам альбом с репродукциями. Ты посмотри, это для тебя будет интересно.
МАКСИМ. Это который наверху стоит?
РАСТОРГУЕВ. Тот самый. Я тебе раньше не доверял, а теперь, пожалуй, пора. Только осторожнее, не порви.
МАКСИМ. Ну конечно.
Звонок.
РАСТОРГУЕВ. Вот нетерпеливые какие. Пошли в ту комнату.
Расторгуев и Максим выходят в соседнюю комнату. Затем Павел возвращается, открывает входную дверь. Входит Галина.
РАСТОРГУЕВ (сухо). А, это ты.
ГАЛИНА. Слушай, ну почему ты так не по-человечески встречаешь? Сразу какой-то официальный тон, чужой голос.
РАСТОРГУЕВ. Нормальный. Что тебе?
ГАЛИНА. Какой ты всё-таки противный.
РАСТОРГУЕВ. Какой есть.
ГАЛИНА. Слушай. Я понимаю, что... Но в общем, только ты можешь меня выручить. Дай мне денежек.
РАСТОРГУЕВ. У меня нет.
ГАЛИНА. Ну почему ты такой противный? Ну дай! У тебя же есть, я знаю.
РАСТОРГУЕВ. Я знаю ещё лучше.
ГАЛИНА. Не дашь?
РАСТОРГУЕВ. Не дам.
ГАЛИНА. Вот ты всегда такой был. Недаром я от тебя ушла.
РАСТОРГУЕВ. Я бы всё-таки уточнил: не ты ушла, а я от тебя избавился.
ГАЛИНА. Как ты можешь так говорить! Ведь я же всё-таки твоя жена была.
РАСТОРГУЕВ. Зачем всё время напоминать человеку об ошибках его молодости?
ГАЛИНА. Всё ты врёшь! Ты не хотел меня отпускать!
РАСТОРГУЕВ. Для меня было всё решено, когда ты убила моего ребёнка.
ГАЛИНА. Я убила?! Я?! А ты был рядом и молчал! Когда я сказала, что хочу это сделать, — почему ты молчал?
РАСТОРГУЕВ. Я не считаю нужным вступать в объяснения. И вообще я бы хотел, чтобы эта наша встреча была последней. Обращайся за помощью к тем, к которым ты бегала ещё будучи моей женой.
ГАЛИНА. Да, бегала! От тебя нельзя не сбежать! Бегала! И наставляла тебе рога! Знай!
РАСТОРГУЕВ. Для меня это не новость. Я это всегда знал.
ГАЛИНА. Чего же ты терпел меня тогда?
РАСТОРГУЕВ. Если тебе этого хочется, могу сказать на прощанье.
ГАЛИНА. Ну!
РАСТОРГУЕВ. Я подумал тогда: если прогнать тебя сразу, надо будет как-то решать... некоторые проблемы. Может, даже обращаться к услугам девиц определённого рода. А я тогда был очень занят. Да и с деньгами... Я и подумал: а ведь ты, собственно, и есть такая. Проститутку же не ревнуют к другим клиентам.
ГАЛИНА. Сволочь! Сволочь!!!
РАСТОРГУЕВ. Дверь у тебя за спиной.
Галина выбегает, громко хлопнув дверью. Телефонный звонок. Расторгуев берёт трубку.
На другом конце сцены возникает Лысов у телефона.
РАСТОРГУЕВ. Да.
ЛЫСОВ. Это я, Павел Сергеевич. Выясняются дополнительные факты. Оказалось, что есть и другие изъяны в документации.
РАСТОРГУЕВ (бесцветным голосом, чтобы только что-то отвечать). И что же?
ЛЫСОВ. Это мафия. Они покрывали сомнительные делишки липовой документацией.
Звонок в дверь.
РАСТОРГУЕВ. Простите, Владимир Петрович, ко мне тут пришли, созвонимся попозднее.
ЛЫСОВ. Ну, хорошо. Ну, всего доброго.
Лысов исчезает. Павел открывает дверь. Входит Боков.
РАСТОРГУЕВ. Ты?
БОКОВ. Привет. Чего удивляешься? Считаешь, что к друзьям уже и нельзя вот просто так зайти? У вас всё только по предварительной договорённости!
РАСТОРГУЕВ. Почему? Заходи.
БОКОВ. Ну как жизнь?
РАСТОРГУЕВ. Только то и утешает, что у других ещё хуже.
БОКОВ. Вот эти шуточки показательны. Чужим бедам радуетесь. Чего ещё ожидать от таких, как ты со Спицыным.
РАСТОРГУЕВ. Что ты всё на всех ругаешься?
БОКОВ. А что с вами ещё остаётся?
РАСТОРГУЕВ. Хорошее бы чего сказал.
БОКОВ. Недостоин ты ещё хорошего.
РАСТОРГУЕВ. По собственному великодушию хотя бы.
БОКОВ. Вот говорил по твоему делу с нужным человеком. Думаю, всё будет в порядке. Но пока, конечно, всё ещё не окончательно.
РАСТОРГУЕВ. Сразу бы так.
БОКОВ. Тебе бы всё только о делах. Деловухин!.. У меня сейчас тоже довольно трудное положение, в смысле финансов. Ты бы не мог мне ссудить энную сумму?
РАСТОРГУЕВ. А именно?
БОКОВ. Думаю, сотня могла бы меня выручить.
РАСТОРГУЕВ. Сотня чего?
БОКОВ. Обижаешь.
РАСТОРГУЕВ. Ладно, сотня отыщется. (Достаёт из ящика стола несколько бумажек, отдаёт Бокову, тот, украдкой взглянув, небрежно кладёт в карман.) Пользуйся.
БОКОВ. Да, редко найдёшь в наше время человека, который бы вот так взял и просто помог кому-то.
РАСТОРГУЕВ. Ты меня хвалишь или весь мир ругаешь?
БОКОВ. Мир! Мир сейчас явно болен. Меня порою охватывает безумие пророка. Но все заткнули уши и правду слышать никто не желает.
РАСТОРГУЕВ. А когда твой нужный человек даст точный ответ?
БОКОВ. Скоро. Я думаю, скоро. Ну, я пошёл. Мы созвонимся. Есть о чём поговорить. Пока.
РАСТОРГУЕВ. Всего.
Расторгуев провожает Бокова.
Телефонный звонок. Павел берёт трубку. В стороне возникает будка телефона-автомата, в которой виден Лысов.
РАСТОРГУЕВ. Да.
ЛЫСОВ. Павел Сергеевич! Я думаю, вы должны знать новый поворот в развитии ситуации. Конечно, это довольно грязная история. Там вообще творится много грязных дел. Я ходил к следователю и неофициально проконсультировался.
РАСТОРГУЕВ. Зачем вам это?
ЛЫСОВ. Это моё право как члена профсоюза, закреплённое уставом.
РАСТОРГУЕВ. И что же вы узнали?
ЛЫСОВ. Следователь сказал, что в этой истории много неясного, но при условии дополнительных фактов можно попытаться действовать в юридически-правовом порядке.
РАСТОРГУЕВ. Не слишком ли?
ЛЫСОВ. Нет. Это поможет нам отстоять наши позиции.
РАСТОРГУЕВ. Зачем вам это?
ЛЫСОВ. Я считаю, что уклонение от борьбы в подобных ситуациях — просто позиция обывателя.
РАСТОРГУЕВ. Может быть.
ЛЫСОВ. Ну, хорошо. Ну, всего доброго.
Картина четвёртая
Улица.
Расторгуев. Появляется Ирина.
РАСТОРГУЕВ. Здравствуй. Я тебя жду. Можно проводить?
ИРИНА. Пошли. Только мне в магазин надо.
РАСТОРГУЕВ. Я помогу.
ИРИНА. Давно я тебя не видела. Как живёшь-то? Хоть бы позвонил когда.
РАСТОРГУЕВ. Я звонил.
ИРИНА. Когда?
РАСТОРГУЕВ. Часто. Только я молчал. Ты кричала в трубку: “Алё! Вас не слышно! Перезвоните!” Я слушал твой голос и мне этого было достаточно.
ИРИНА. Ты что!
РАСТОРГУЕВ. Из всех женщин, кого я знал, я любил только тебя одну. Я и сейчас тебя люблю. Не возражай. Я знаю, что говорю. Я ведь уже не мальчик, которому кровь в голову ударила по молодости лет. Знаешь, когда мне бывало трудно, я приходил к твоему дому и смотрел на твоё окно. Всегда вечером. Днём оно выглядит холодно и пусто. Я смотрел на свет твоего окна, и мне всегда было так печально и так хорошо. Молчи. Ты не думай, мне от тебя ничего не нужно. Просто захотелось тебя увидеть. Я знаю, ты тоже развелась. Я его никогда не видел, но знаешь, как ни странно это покажется, у меня к нему всегда было какое-то тёплое чувство. Я вообще по-особенному относился ко всем, кто тебя окружал, как будто в них была частица тебя. (Неожиданно останавливается, некоторое время молчит.) Прости. Я забыл. Мне нужно... Меня ждут...
Расторгуев быстро уходит прочь.
Ирина недоумённо смотрит ему вслед.
На краю сцены перед Павлом возникает Лысов.
ЛЫСОВ. Они составили какое-то групповое письмо и занимаются активной промывкой мозгов. Но я настоял, чтобы прислали комиссию.
РАСТОРГУЕВ. Владимир Петрович, простите. Нельзя ли как-нибудь после? Я очень тороплюсь.
ЛЫСОВ. Ну, хорошо. Ну, всего доброго.
Расторгуев убегает.
Лысов подходит к Ирине.
ИРИНА. Ты как здесь?
ЛЫСОВ. Да вот давно хотел зайти к тебе вечерком.
ИРИНА. Пошли, раз хотел.
Картина пятая
Комната в квартире Расторгуева.
В детской кроватке — Максим.
Входит Расторгуев.
РАСТОРГУЕВ. Максимка! Ты не спишь?
МАКСИМ. Я ещё не хочу спать. Я просто сонничаю.
РАСТОРГУЕВ (присаживается у кроватки). Вот так-то, брат. (Обхватывает голову руками.)
МАКСИМ. Ты что?
РАСТОРГУЕВ. Знаешь, когда мне казалось, что я начинаю жить, жить по-настоящему... тебя тогда ещё не было... во мне жило титаническое стремление: слиться с миром, познать все его радости, вынести на себе его горе, всё соединить в своей душе. А на деле ж жалкая борьба за ничтожные цели, обывательские дрязги, житейская проза... Что ты так смотришь? Ничего-то ты ещё не понимаешь.
МАКСИМ. Нет, я понимаю. Я всё понимаю.
РАСТОРГУЕВ (треплет его за волосы). Эх ты, понимальщик! Давай я тебе что-нибудь расскажу лучше.
МАКСИМ. А про что?
РАСТОРГУЕВ. Про комету. Хочешь про комету?
МАКСИМ. А что это — комета?
РАСТОРГУЕВ. Вот когда ночью смотришь на небо, то видно много звёзд.
МАКСИМ. Да. Я даже Большую Медведицу знаю.
РАСТОРГУЕВ. И вот иногда среди звёзд появляется особая звезда, у которой виден светящийся шлейф. Ну или хвост. Это и есть комета. Только звёзды всегда есть, а кометы то появляются, то исчезают. Улетают куда-то. И люди не знали, что это такое. А когда чего-то не знают, этого часто боятся. И про кометы тоже говорили, что они к несчастью.
Телефонный звонок.
Подожди, я сейчас. (Берёт трубку.) Да... Что?!. Как!!! Когда?.. Хорошо... Спасибо. До свидания. (Кладёт трубку, подходит к Максиму.) Знаешь, мне нужно уйти. Я потом расскажу. Ты спи. Спи, мой родной. Спи, мой хороший.
Картина шестая
Квартира Спицына.
Спицын. Звонок в дверь. Спицын открывает. Входит Расторгуев.
СПИЦЫН. Что это ты такой вздрюченный?
РАСТОРГУЕВ. Да вот... Решил зайти. Ничего?
СПИЦЫН. Да ничего. Что случилось-то?
РАСТОРГУЕВ. Как сказал бы твой любимый Екклесиаст: время исповедоваться, время выслушивать исповедь. Для меня — время исповедоваться. Для тебя — слушать.
СПИЦЫН. Духовник из меня хреновый.
РАСТОРГУЕВ. Какой есть. Я не тебе. Тому, Кто выше нас с тобой.
СПИЦЫН. Это тебе в церковь надо.
РАСТОРГУЕВ. В церковь я не верю... Помнишь, я говорил о некоем Валерии Семёновиче? Ну ещё при тебе, кажется, приходил этот, наш профбосс. Ну помнишь, протоколами всё мозги пудрил? Якобы Валерий подделал их.
СПИЦЫН. Что, его уже сожрали? И ты помогал, а теперь совесть мучит.
РАСТОРГУЕВ. Он погиб.
СПИЦЫН. Как!
РАСТОРГУЕВ. Совершенно случайно. На остановке стоял у края. Пьяный самосвал вильнул, троих всмятку.
СПИЦЫН. Да-а-а...
РАСТОРГУЕВ. А мне теперь жить с виною перед ним.
СПИЦЫН. Ты-то в чём виноват?
РАСТОРГУЕВ. Не мешал его травить. И знаешь, первая мысль, которая у меня мелькнула, когда мне позвонили, это я обрадовался. Просто обрадовался, что мне не надо больше подличать и участвовать в этой сваре. Вот ведь какая изощрённость в подлости.
СПИЦЫН. Вздор всё. Да сядь ты, успокойся. Хочешь чайку?
РАСТОРГУЕВ. Знаешь, когда прежде, ну болели или... ну невмоготу было, говорили: лихо мне. Вот и мне теперь — лихо. Я понимаю теперь, что значит, когда говорят: душа окаменела. Вот он, камень этот, я вот его чувствую физически. Вот здесь.
СПИЦЫН. Рассосётся.
РАСТОРГУЕВ. А как интриговали! Весь институт удалось взбаламутить. И все только за правду боролись. Что за чушь!
СПИЦЫН. Давай чайку-то! Или кофеевичу?
РАСТОРГУЕВ. Да не хочу я ничего.
СПИЦЫН. Душевную боль нужно перебить. Легче всего болью физической. Даром что ли об стенку головой бьются или волосы рвут?
РАСТОРГУЕВ. Мир раскололся, и хужей всего, что нету сил восстановить его.
СПИЦЫН. Гамлет Гамлетович.... А может, и не раскололся. Впрочем, ежели и раскололся, то остаётся только смириться.
РАСТОРГУЕВ. Но надо же что-то делать. Что?
СПИЦЫН. Извечный вопрос. Опять-таки пользуясь достоянием чужих умов, могу сказать только: коли этот мир не угодил, от него можно уйти в мир грёз, оставив реальность с носом. Например, стать горьким пьяницей или наркоманом.
РАСТОРГУЕВ. Ещё чего умного посоветуешь?
СПИЦЫН. Нет, это, конечно, для более грубых душевных организаций. Тебе могу предложить мир фантастической иллюзии. Какой-нибудь соловьиный сад. Послушай, как великолепно:
Не доносятся жизни проклятья
В этот сад, обнесённый стеной.
В синем сумраке белое платье
За решёткой мелькает сквозной.
Только ослов слушать не надо.
РАСТОРГУЕВ. Я сам осёл... Может, уж и живу давно в этом мире...
СПИЦЫН. Можно уйти в мир конкретных забот, обязанностей... Ты не импотент, надеюсь.
РАСТОРГУЕВ. Чего это ты?
СПИЦЫН. Женись снова, заведи ребёнка.
РАСТОРГУЕВ. Во-первых, я знаю, реальность не совпадёт с моей фантазией. А менять сложившийся стереотип — смогу ли? Да собственно, у меня мог быть ребёнок, но когда моя бывшая жена решилась на аборт, я смолчал и втихомолку был рад: боялся забот, суеты, быта. И ответственности. Вероятно, это и есть моя главная вина перед жизнью. А игра тем и хороша, что ненастоящая жизнь.
СПИЦЫН. Только ослевичей не слушай.
РАСТОРГУЕВ. Каких ещё ослевичей?.. А главное — для сына нужно найти маму хорошую. А они теперь все на жизнь сквозь сигаретный дым смотрят... Столько сил на всё тратится, столько обид от других, и столько своей вины, и так хочется, чтобы вот прийти — виноватому, обиженному, ошибающемуся — и встретили бы с любовью: в чём виноват — простят, в чём ошибся — не укорят, в чём обижен — утешат. А у нас? Недостойная борьба уязвлённых самолюбий, взаимные раздражения, безжалостность... Я думаю, и она мне могла бы такой же обвинительный акт предъявить... Вот у меня есть женщина. Знакомая, так скажем. Мы встречаемся периодически и чётко знаем, что нам друг от друга нужно. И никаких взаимных претензий. Меня лично это вполне устраивает.
СПИЦЫН. Новая социологическая модель взаимоотношения полов. То есть не то чтобы вовсе новая, но приобретающая повсеместное распространение.
РАСТОРГУЕВ. Я в жизни любил только одну женщину по-настоящему. И вот встретил я её на днях и чувствую вдруг, что когда вблизи — я её не могу уже любить. И со страху сбежал... Как будто отсохла та часть души, которая предназначена любить.
СПИЦЫН. Любить? Мы больны хронической иронией — отгораживаемся ею от мира и от всего дурного в нём. Но и от доброго тоже — вот в чём пакость. Так что чуть явится в нас что-то светлое — мы тут же его и обсмеём, да ещё поспешим, потому как боимся: как бы нас в том другие не опередили.
РАСТОРГУЕВ. Ну ты, умный, скажи, откуда всё это?
СПИЦЫН. Большого ума для того не надо. Болезнь. Индивидуально-социальная хворь. И вот ты, со всеми своими комплексами, не более чем симптом той хвори.
РАСТОРГУЕВ. Мерси-с. Лестно, и весьма. Я думал, что я сам по себе, а я всего лишь симптом.
СПИЦЫН. Не огорчайся. Я тоже симптом. Только блажь насчёт исповеди пока не пришла.
РАСТОРГУЕВ. Так что же то за болезнь?
СПИЦЫН. Вот на точный диагноз у одних ума, у других смелости не хватает. Но вообще-то все всё знают. И ты знаешь, так что не прикидывайся и не задавай дурацких вопросов... Всё раскололось, потому что нет скрепляющего начала. А оно только одно может быть — вера. Но чтобы иметь веру, нужно быть чуть поменьше рационалистами и прагматиками, чем мы есть. Мы же на это не способны.
РАСТОРГУЕВ. На собрании у нас недавно замдиректора наш выступал. Призывал за оздоровление общества бороться. Правды, вишь, возжаждал. И в тот же день статья в газете за его подписью — сплошное враньё. А уж распинался — что твой Цицерон.
СПИЦЫН. Цицерон! Все вот так: Цицерон! Цицерон! И думают, если уж Цицерон, то это чёрт знает что и значит. А Цицерон-то этот, если по-нашему, то будет всего-навсего: Горохов. Вот так всегда. Воображаешь невесть что, а на деле-то дрянь какая-нибудь выходит.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Картина первая
Дачная веранда.
С краю в кресле сидит Павел.
У выхода в сад стоят Софья Власьевна и тётя Нюра, которая, видно, давно собралась уходить, но забыла обо всём за разговором.
НЮРА. А уж такой скупой, что вот из-под себя да в себя будет... Да ладно, заговорилась совсем, пойду... Вот ещё забота: водки не напасёшься.
С.В. Неужели вы пьёте, Нюра?
НЮРА. Это вы там всё за денежки, а у нас тут за бутылочки. Привезть что, дрова, огород вспахать. Они ведь, мужики, так прямо и говорят: нам денег не надо, ставь бутылку. И не одну. Обнаглели прямо до невозможности. Им чем больше наливай, тем больше требуется. Ихен аппетит, он вон какой. Бывало за бутылку он тебе и огород вспашет, и дров напилит. А теперь за один огород двух мало. Денег им не надо, богатые стали.
РАСТОРГУЕВ. И как же обходитесь?
НЮРА (покосившись на С.В.). Вот и соображай.
С.В. Нет, этого просто быть не может. Нужно в сельсовет обращаться и оплачивать по твёрдым расценкам.
НЮРА. Вон бабка Лункина летошный год заплатила так в конторе. Принесла трактористу квитанцию, чтобы дрова привезть. А он говорит: вот грузи на свою квитанцию и вози.
С.В. Но надо было заявить.
НЮРА. Заявила. Вызвали того — а у меня, говорит, мотор не заводится. Почему? А запчастей каких-то нет. Ждите, говорят, ничего поделать не можем. Пришлось те же бутылки нести — вмиг завёлся.
С.В. Но должна же быть совесть, в конце-то концов.
НЮРА. Совесть свою они ещё в детстве вместе с соплями сжевали... Ну да пошла я, счастливо вам... И такие наглые стали, что того и гляди что украдут или ограбят. Вы вот охрану бы завели какую.
С.В. Нам нечего скрывать от народа.
НЮРА. Вам виднее.
Тётя Нюра уходит.
РАСТОРГУЕВ (говорит ни к кому не обращаясь, глядя куда-то в сторону, безразличным тоном. Точно так же он будет произносить все последующие фразы в этой сцене). Бабка явно самогоном промышляет. А что делать?
С.В. Это возмутительно. Она спаивает рабочих совхоза.
РАСТОРГУЕВ. Невинные жертвы коварной старухи.
С .В. Это серьёзный вопрос социальной значимости.
С.В. уходит в дом. Расторгуев некоторое время сидит в одиночестве. Появляется Лысов.
ЛЫСОВ. Павел Сергеевич! Я вынужден вновь потревожить вас.
РАСТОРГУЕВ. Чего ещё?
ЛЫСОВ. До меня дошли слухи, что семья Задорожного собирается подать в суд, якобы мы его оклеветали. Я решил опередить и подать свой иск о расследовании подделки документов.
РАСТОРГУЕВ. А кто отвечать станет? Покойник?
ЛЫСОВ. Но ведь речь не о материальной, а о моральной ответственности. Я хочу, чтобы вы заранее продумали свою позицию. На завтрашнем собрании, на котором вы, надеюсь, будете...
РАСТОРГУЕВ (перебивает). А вот любопытно, Владимир Петрович, кто из нас повредился в уме: вы или я?
ЛЫСОВ. Не понимаю вас.
РАСТОРГУЕВ (вяло). А пошли бы вы к такой-то матери...
ЛЫСОВ. Ну, хорошо. Ну, всего доброго.
Лысов исчезает. Выходят С.В. и Марлен.
С.В. Я понимаю, Марик, тебе нелегко. Но необходимо переносить все невзгоды с высоко поднятой головой. Я всегда говорила: что бы ни случилось, надо верить, надо верить, Марлен! Когда с твоим отцом случилось несчастье, я ждала и верила, что правда восторжествует, потому что я знала, что мой брат честный человек. Да, было недоразумение, но его имели мужество исправить. Я верила в это двадцать лет.
РАСТОРГУЕВ (напевает под нос). Всё ждала и верила сердцу вопреки... (Громко, бесстрастно) Ему-то от того не легче. Сгинул на каторге сталинской. И миллионы с ним.
С.В. (резко). Это была историческая необходимость!
РАСТОРГУЕВ. Значит, и тут теперь тоже историческая необходимость. (Марлену) А всё-таки статья подействовала.
МАРЛЕН. Её использовали как повод. Много желающих сесть в моё кресло.
РАСТОРГУЕВ. Очень мягкое?
МАРЛЕН. За одну подпись человека, сидящего в этом кресле, дают большие деньги.
РАСТОРГУЕВ. И теперь они пойдут мимо твоего кармана?
Марлен резко поворачивается, уходит в дом.
С.В. Ты жестокий человек, Павел. (Подходит к столу, замечает лежащие на нём театральные билеты.) Билеты в детский театр? Что это?
РАСТОРГУЕВ. Так, один приятель просил купить. Пусть лежат.
С.В. А! (Кладёт билеты на место.) Но нельзя быть таким жестоким.
РАСТОРГУЕВ. Если я пойду сейчас устраиваться в какой-нибудь оркестр, на скрипке, допустим, играть, а сам не знаю даже, как за нее взяться, мне просто укажут на дверь. Но будет ли это жестокостью?
С.В. Это другое дело.
РАСТОРГУЕВ. Ваш любимый Марлен способен лишь на дикую какофонию. Впрочем, и другие не лучше. Такие же бездари и хапуги.
С.В. Ты не смеешь так говорить!
РАСТОРГУЕВ. Вы не верите партии? Как раз ваша партия это и утверждает.
С.В. Но партия верит в торжество справедливости!
Звонок мобильного телефона.
Павел берёт трубку.
РАСТОРГУЕВ. Да. Это необходимо? А без меня нельзя? (Складывает трубку.) Простите, матушка. Мне необходимо срочно в институт. Собрание какое-то. (Идёт в дом.)
С.В. Но как так можно! Не хотел идти на собрание!
Павел показывается в дверях с раскрытым портфелем в руках.
РАСТОРГУЕВ. Вы не видели, у меня тут где-то письмо было на фирменном бланке?
С. В. Я не роюсь в чужих портфелях.
РАСТОРГУЕВ (с досадой). Да в портфеле как раз и нет. Может, на столе где видели?
С. В. Не имею понятия.
РАСТОРГУЕВ. А чёрт! Всё по закону подлости.
Расторгуев скрывается в доме.
Появляется Лысов.
С.В. (громко, не замечая Лысова). И он ещё имеет наглость критиковать других. Документ потерял!
ЛЫСОВ. Простите, какой документ?
С.В. Откуда я знаю! А вы к Павлу? Сейчас я ему скажу. (Уходит в дом.)
Входит Галина.
ЛЫСОВ. Ну, хорошо. Ну, всего доброго!
Лысов исчезает. Выходит Павел.
РАСТОРГУЕВ. Странная трансформация. Мне было сказано, что какой-то мужик пришёл.
ГАЛИНА. Он ушёл.
РАСТОРГУЕВ. А тебе чего надо?
ГАЛИНА. Я же тебе сказала: я в безвыходном положении. Мне деньги нужны!
РАСТОРГУЕВ. Мне тоже.
ГАЛИНА. Не дашь?
РАСТОРГУЕВ. Не дам.
ГАЛИНА. Сволочь!
РАСТОРГУЕВ. Пошла вон.
ГАЛИНА (резко поворачивается, бежит к выходу, но затем, обернувшись, кричит). А ребёнок тот был не твой. Ты даже отцом не способен стать! Сволочь!!!
Галина убегает. Павел уходит в дом.
На веранду из сада входит Максим, подходит к столу, берёт билеты, разглядывает их.
Появляется Расторгуев, он уже переоделся к отъезду, направляется к выходу.
Замечает Максима.
РАСТОРГУЕВ (сердито). Максим, ты зачем взял письмо из моего портфеля?
МАКСИМ. Нет, я не брал.
РАСТОРГУЕВ. Неправда. Я знаю, что ты всегда без спросу роешься в моих вещах.
МАКСИМ. Я не брал.
РАСТОРГУЕВ . Кроме тебя некому.
МАКСИМ. Я только посмотрел.
РАСТОРГУЕВ (раздражённо). Вот ты только посмотрел, а у меня из-за тебя будут неприятности. И за это я тебя вынужден наказать. (Отбирает у Максима билеты, рвёт их, бросив обрывки на стол.) Ни в какой театр мы теперь не пойдём.
МАКСИМ (сдерживая слёзы, спокойно). Я всегда знал, что ты меня не любишь.
Максим убегает в сад. Расторгуев смотрит ему вслед, затем, махнув рукой, быстро направляется к выходу.
Картина вторая
Институтская лаборатория.
Наташа. Входит Зар.
ЗАР. Натали, должен признаться, что я до сих пор слишком плохо о тебе думал.
НАТАША. Что же ты думал?
ЗАР. Я думал: лучше, чем она есть, быть уже невозможно. И ошибся. Ты хорошеешь с каждым днём.
НАТАША. Что ещё скажешь?
ЗАР. Если бы у меня было царство, я бы тут же превратил его во вступительный взнос в добровольное общество твоих поклонников.
НАТАША. Целое царство!
ЗАР. Полцарства давали за кобылу. Женщины дороже.
НАТАША. Весьма лестно.
ЗАР. И вообще. Некий остроумный господин, оставшись наедине с дамой, заметил: мадам, эта игра не стоит свеч. И все свечи погасил. (Пытается её обнять.)
НАТАША (отталкивая его). Не вижу ничего остроумного.
ЗАР (не оставляя игривости). Если ты это серьёзно, то мне остаётся лишь сожалеть, что твой возвышенный ум так низко пал.
НАТАША. Ты хочешь, чтобы пала я?
ЗАР. Это предрассудки тургеневских времён: падшая женщина. Теперь всё иначе: женщина, не отказывающая себе в удовольствиях.
НАТАША. Ты уверен, что можешь доставить мне удовольствие?
ЗАР. Все женщины уверяли меня в этом.
НАТАША. Вот и иди к ним.
ЗАР. Они мне надоели.
НАТАША. Значит, и меня ждёт та же участь.
ЗАР. Не будь занудой. Жить надо легко.
НАТАША. Просто на тебе свет клином не сошёлся.
ЗАР. Намёк понял. Но готов, как в старом анекдоте, кушать торт в коллективе. Пашка, я думаю, не обидится.
Дверь с шумом распахивается.
Появляется Расторгуев.
ЗАР. Так и заикой сделать можно.
РАСТОРГУЕВ. Какого чёрта я должен был переться на это идиотское собрание, которое зачем-то назначили. У меня сегодня вообще неприсутственный день.
НАТАША. Ну так и не пёрся бы.
ЗАР. Нельзя так пренебрежительно относиться к отправлениям общественной жизни. Святое дело!
РАСТОРГУЕВ. Устал я от всего этого.
НАТАША. От чего?
РАСТОРГУЕВ. От жизни.
НАТАША. Рановато что-то.
PACTOPГУЕВ. В самый раз.
ЗАР. Неоригинально.
РАСТОРГУЕВ. А я и не стремлюсь к оригинальности.
ЗАР. Ты, кстати, куда дел то письмо, которое мы оформляли у шефа?
РАСТОРГУЕВ. Да понимаешь, сунул его в портфель со всеми своими бумагами, не заметил просто, а теперь не знаю, куда оно запропастилось.
ЗАР. Теперь что, по-новому всё оформлять? Морду тебе за это набить.
РАСТОРГУЕВ. Один мой знакомый любит повторять, что жизнь есть сплошной мордобой. В прямом и переносном смысле. На кой чёрт такая жизнь!
НАТАША (раздражённо). Не нравится — застрелись.
РАСТОРГУЕВ. Пистолета нет.
НАТАША. Купи.
РАСТОРГУЕВ. Дорого. И потом нужно долго оформлять какие-то документы. Везде бюрократия — даже застрелиться не дадут.
ЗАР. Ты что, правда письмо потерял?
РАСТОРГУЕВ. Нет, я с ним в сортир сходил.
ЗАР. Убить тебя мало.
РАСТОРГУЕВ. Убей.
ЗАР. Да я бы с нашим удовольствием, боюсь только: узнают и посадят.
РАСТОРГУЕВ. Я напишу предсмертную записку, что ты не виноват.
НАТАША. Не боишься?
РАСТОРГУЕВ. Чего?
НАТАША. Что и впрямь убьёт.
РАСТОРГУЕВ. Смерть мне скорее любопытна, чем страшна. Во всяком случае, её тайну будет дано узнать всякому.
НАТАША. А чего ждать-то?
РАСТОРГУЕВ. Всё думаю: какую ещё штуку выкинет со мною жизнь? Тоже любопытно.
НАТАША. Ну-ну! Дождёшься.
Появляется Лысов.
ЛЫСОВ (делает вид, будто не замечает Павла, обращается только к Зару). Михаил Наумович, я хотел бы, чтобы вы заранее продумали свою позицию. Я выступлю на сегодняшнем собрании... Гибель Задорожного не освобождает нас от надлежащей оценки его дела.
Входит Смирягин.
СМИРЯГИН. Привет честной компании!
ЗАР. Здорово, Коля.
РАСТОРГУЕВ. Добрый день.
ЛЫСОВ. Здравствуйте.
СМИРЯГИН. С праздником вас!
ЗАР. Это ещё с каким?
СМИРЯГИН. Серый ты, как штаны пожарника. Сегодня первое и единственное в этом году девятое июня. Такое больше никогда не повторится в истории.
РАСТОРГУЕВ. Так в эту честь у нас торжественное собрание?
ЛЫСОВ (Зару). Так вот я выступлю и попытаюсь раскрыть всем глаза на эту грязную историю. Я никого ни к чему не принуждаю, но думаю, вы продумаете свою позицию.
РАСТОРГУЕВ. Вы уж совсем обнаглели.
ЛЫСОВ. Я вынужден буду учесть вашу позицию. Надеюсь, вы не станете отказываться, когда ваши слова будут занесены в соответствующий протокол?
РАСТОРГУЕВ. Заносите. Но хоть мёртвого бы оставили в покое.
ЛЫСОВ. А мы не только о мёртвых поговорим.
Лысов исчезает.
СМИРЯГИН. Как ты, Паша, умно всё высказал.
РАСТОРГУЕВ. А я вообще умный.
СМИРЯГИН. Но и дурак набитый. И все скажут, что дурак, если будешь так вот выступать.
РАСТОРГУЕВ. А я скажу: сами дураки.
ЗАР. Да бросьте вы этот вздор. Ты мне лучше, Коля, скажи, как права достать, чтобы без хлопот?
СМИРЯГИН. Есть у меня один человечек в ГАИ. Не поскупишься — всё будет.
РАСТОРГУЕВ. А просто сдать на права?
ЗАР. Времени жалко. Проще купить.
НАТАША. Пошли, там уже началось должно быть.
РАСТОРГУЕВ. Но надо же остановить этого...
ЗАР. Да хрен с ним. Тебе-то что? А Задорожному и вообще ни жарко ни холодно.
Все выходят. Комната некоторое время пустует, затем в неё с оглядкой входят Иванов, Петров, Сидоров.
ИВАНОВ. Пока они там, мы тут.
ПЕТРОВ. Закрой дверь для верности.
СИДОРОВ. Ключа нет. Я стулом. (Закрывает дверь ножкой стула.)
ИВАНОВ. Доставай.
Петров достаёт какую-то склянку со светлой жидкостью, лабораторные стаканчики, раскладывает закуску.
СИДОРОВ. Разливай.
ИВАНОВ. Сейчас порежу. (Режет что-то перочинным ножиком.)
СИДОРОВ. Давай скорее.
Петров разливает.
ИВАНОВ. Ну, подпрыгнули.
Пьют, закусывают.
ПЕТРОВ. Нет, вот главное, верно — человеческий фактор.
СИДОРОВ. Это очень глубокая мысль. Потому что вначале было индивидуальное стремление. Что такое общество? Вначале его нет. Есть лишь индивидуальные стремления. А вот когда они совпадут, то появляются социальные процессы.
ИВАНОВ. А ничего не совпадает.
ПЕТРОВ. Потому что социальный универсум должен осознать сущность индивидуальных стремлений.
СИДОРОВ. И тогда их можно привести к знаменателю.
ИВАНОВ. А я вот сяду и буду думать: а зачем мне это?
ПЕТРОВ. А зачем?
СИДОРОВ. Это очень глубокая мысль.
ИВАНОВ. Но если так каждый начнёт думать, то в обществе застой.
ПЕТРОВ. Нет, мы должны думать о прогрессе.
СИДОРОВ. А ты вот скажи: тебе наплевать на будущее?
ИВАНОВ. У меня вон пацан ещё маленький, а уже хорошо выучил: дай! дай! И всё будущее так: рты раззявило и орёт: дай! дай! А я из-за них пластаться должен? Должен, да? А самому-то жить тоже хочется.
Петров разливает.
СИДОРОВ. Ну, подпрыгнули.
Пьют, закусывают.
ИВАНОВ. Материальные потребности должны сочетаться с духовными стремлениями личности. Вот пока каждый не поймёт: зачем ему это надо — ничего не будет. Нет, это правильно стали говорить: человеческий фактор. Человеческий фактор! Это звучит гордо.
ПЕТРОВ. Надо выпить за человеческий фактор.
СИДОРОВ. Это очень глубокая мысль... Ну, подпрыгнули.
Разливают, выпивают, закусывают.
ИВАНОВ. Вот и надо понять: зачем?
ПЕТРОВ. И вот мы теперь должны сидеть и думать: за-ачем? И пока не придумаем, ничего не сдвинется. Это вопрос колоссальной социальной значимости.
СИДОРОВ. Да, а всё остальное вздор.
ИВАНОВ. Да, вздор.
ПЕТРОВ. И все величайшие умы человечества над этим думали.
СИДОРОВ. А я вот читал где-то, что величайшие умы думали, но ничего умнее солёного огурца выдумать не смогли.
Все трое молча и сосредоточенно жуют.
ИВАНОВ. А ведь он съесть хочет Пашу-то нашего.
ПЕТРОВ. Закусон из него сделают.
СИДОРОВ. А за что?
ИВАНОВ. Этот наш профсоюзник всех обходил и говорил, что какой-то важный документ уничтожили, чтобы воровство скрыть. В прокуратуру грозился передать.
ПЕТРОВ. Там можно взятку дать.
СИДОРОВ. Это очень глубокая мысль.
Картина третья
Институтский коридор.
Сотрудники расходятся с собрания.
Зар, Смирягин.
СМИРЯГИН. Чушь какая-то!
ЗАР. Но подано так убедительно, что не придерёшься.
СМИРЯГИН. Мастер, этот Владимир Петрович!
ЗАР. Ещё анонимку кто-то прислал...
Уходят.
Двое сотрудников.
ПЕРВЫЙ. Да, дело нечисто.
ВТОРОЙ. Думаешь, и впрямь мафия?
ПЕРВЫЙ. Ну, мафия — это слишком громко сказано. Но что они там свои делишки проворачивали, это факт, с которым не поспоришь.
ВТОРОЙ. Кто бы мог подумать.
Уходят.
Лысов с группой сотрудников.
ЛЫСОВ. Вопрос, я думаю, совершенно ясно просматривается. Это всё будет внесено в протокол. Пора научиться не скрывать подобные факты. Но мы должны очень чётко продумать свою позицию. Они сколотили свою мафию, держались у власти, подделывая документы. А теперь, когда это стало невозможно, начали просто уничтожать то, что их могло разоблачить. Прокуратура разберётся.
Уходят
Двое сотрудников.
ПЕРВЫЙ. Не верится что-то.
ВТОРОЙ. Против фактов не попрёшь. Молодец Лысов. Слишком много скопилось всякой нечисти. Пора, пора...
Уходят.
Двое сотрудников.
ПЕРВЫЙ. Чушь это. Ну какой из Павла мафиозо?
ВТОРОЙ. И чего же ты его не поддержал?
ПЕРВЫЙ. А ты чего?
ВТОРОЙ. Чего? Того!
ПЕРВЫЙ. А я этого.
ВТОРОЙ. Вот то-то и оно.
Уходят.
Двое сотрудников.
ПЕРВЫЙ. Но анонимки нельзя рассматривать. Время прошло.
ВТОРОЙ. Времена проходят и возвращаются.
Уходят.
Расторгуев, Наташа.
НАТАША. Мне так плохо.
РАСТОРГУЕВ. Тебе не кажется, что наша жизнь превратилась в какой-то абсурд? Ведь большинство поверило всему, что он наплёл.
НАТАША. Я всё время одна.
РАСТОРГУЕВ. Как в каком заколдованном круге. И ведь сам залез в это болото.
НАТАША. Все какие-то чужие. И ты тоже.
РАСТОРГУЕВ. Прожил полжизни, и не дал себе труда найти ответ на самые важные вопросы.
НАТАША. Я всё время должна ждать от тебя как какой-то милости.
РАСТОРГУЕВ. Как дурной сон всё это.
НАТАША. Тебе от меня всегда нужно было только одно: постель.
РАСТОРГУЕВ. Может, и впрямь: слишком много думать вредно?
НАТАША. Только на тебе ведь свет клином не сошёлся. Мне вон Зар сделал сегодня весьма недвусмысленное предложение.
РАСТОРГУЕВ. Полковник говорил: все жрут всех.
НАТАША. А тебе всё равно?
РАСТОРГУЕВ. Пока ответов нет, придётся участвовать в этой всеобщей суете.
НАТАША. Ты даже не слушаешь.
РАСТОРГУЕВ. Я банкрот. А почему бы и нет?
Расторгуев и Наташа уходят.
Появляются Иванов, Петров, Сидоров.
Они идут медленно, стараясь выглядеть трезвыми.
ИВАНОВ. И все величайшие умы над этим думали.
ПЕТРОВ. А вот Фёдор Михалыч Достоевский говорил, что главное — это высшая гармония духа. Но что такое эта гармония духа — не объяснил. И вот если догадаться, что такое гармония духа, то все вопросы будут решены раз и навсегда.
СИДОРОВ. Это очень глубокая мысль.
Картина четвертая
Квартира Бокова.
Боков и Спицын играют в шахматы.
СПИЦЫН. Шахович.
БОКОВ. Отступил.
СПИЦЫН. Шаханович.
БОКОВ. Отступил.
СПИЦЫН. Шахиевич.
Звонок в дверь.
Боков открывает. Входит Расторгуев.
РАСТОРГУЕВ. Опять бездельничаете?
СПИЦЫН. Шахматы суть моделирование жизненных ситуаций. Это гениально раскрыл Набоков в “Защите Лужина”.
РАСТОРГУЕВ. Сколько ты знаешь всего!
СПИЦЫН. Вот, например, вульгарные умы полагают, будто чем больше хапнешь и скушаешь, тем вернее выиграешь. А что говорят шахматы? Выиграет не тот, кто больше других сожрёт, а кто судьбе мат поставит.
РАСТОРГУЕВ. Но что-то взять или потерять — тоже влияет.
СПИЦЫН. Играл я как-то с одним. Вдруг вижу: мне элементарный мат в два хода. Прозевал, бывает. Но первым ходом ему нужно отдать ферзя — и мне каюк. Он мне потом признался, что ему даже страшно подумать о том было бы — чтоб ферзя отдать. И в результате сам мат заработал.
РАСТОРГУЕВ (Бокову). Послушай, мне очень важно выяснить, что я у тебя просил. Там что-нибудь светит?
БОКОВ. Понимаешь, там появились некоторые побочные обстоятельства. Но я думаю, скоро всё благополучно разрешится.
РАСТОРГУЕВ. Но когда?
БОКОВ. Скоро, скоро. Я, во всяком случае, делаю всё от меня зависящее. Подключил все резервы.
РАСТОРГУЕВ. А чего тянут-то? Ускорить нельзя?
БОКОВ. Вот нахал! Ему делают, а он вместо благодарности недоволен.
СПИЦЫН (Расторгуеву). Вот смотри: у меня на целых три пешки меньше. Но любой его ход — и он получает маленький изящный матанович.
РАСТОРГУЕВ. Да погоди. Слушай, Алексей, у меня создалось безвыходное положение. То, что раньше было только желательно, теперь просто необходимо.
СПИЦЫН. Безвыходных положений нет. Порою выигрываются самые проигрышные позиции.
БОКОВ. Сделаем. Я думаю, скоро. На днях позвоню.
РАСТОРГУЕВ. Я сам позвоню.
БОКОВ. Договорились.
РАСТОРГУЕВ. Ладно, я пойду.
СПИЦЫН. Оставайся на победителя.
РАСТОРГУЕВ. В другой раз. Уж вон позднота какая, а мне ещё ехать куда. Я теперь всё время на даче.
СПИЦЫН. Тогда привет Софье Власьевне.
РАСТОРГУЕВ. Она и так с приветом.
Расторгуев уходит.
СПИЦЫН. Чего ему надо-то?
БОКОВ. Да в институт другой перейти. Ну и пристал: у тебя там знакомые помоги.
СПИЦЫН. А сам чего?
БОКОВ. Да всё за чужой спиной хочет.
СПИЦЫН. А ты?
БОКОВ. А что с такими делать? Всё пообещаешь, лишь бы отстал.
СПИЦЫН. Как всегда: наобещал с три короба, а сам палец о палец не ударил?
БОКОВ. Связи тоже надо с умом использовать. Сейчас сделаешь, а когда ещё понадобится — уже может и не получиться.
СПИЦЫН. Отказать — не можешь. Помочь — не хочешь. Ходов нет. Патовая ситуация. Ничья. Победила дружба.
БОКОВ. Теперь он ещё звонками изведёт.
СПИЦЫН. Выкрутишься, не впервой. Рассчитывали, мол, на ход конём, а его тем временем кто-то скушал... Пардон, как говорится... А впрочем, зачем ему куда-то переходить? Как говаривали в старину: Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома, точил бы свои веретёна... (Показывает на шахматы.) Ещё партиевич?
БОКОВ. Ставь.
Картина пятая
Дачная веранда. Густые сумерки.
Входит Павел. В темноте он задевает что-то из мебели, зажигает свет.
На шум выходит С.В.
С.В. Это ты, Павел?
РАСТОРГУЕВ. Я. Что так тихо? Вы в одиночестве?
С.В . Марлен уехал сразу вслед за тобой. Ему был дан срочный вызов.
РАСТОРГУЕВ. Перемещение слона по большой диагонали...
С.В. Ты что говоришь?.. Кстати, я, кажется, нашла тот документ, что ты искал. (Выходит, затем возвращается с какой-то бумагой.) Это?
РАСТОРГУЕВ. Где вы нашли?
С.В. Между бюро и стеною. Очевидно, сквозняком. (Отдаёт бумагу Павлу.) Ужинать будешь?
РАСТОРГУЕВ. Благодарствую. Сыт.
С.В. Как хочешь.
С.В. уходит. Павел подходит к столу, комкает бумагу, швыряет её на пол. Затем сгребает в горсть обрывки театральных билетов, которые ещё лежат на столе, и медленно сыплет бумажные клочки на скомканный бланк, валяющийся на полу.
РАСТОРГУЕВ. Так хотелось пойти в театр...
Павел садится к столу , кладёт голову на руки.
Свет медленно гаснет.
ОГЛАВЛЕНИЕ
На пороге. Роман………………………………………………….... 3
Комедия условностей…………………………………………….535
День пройдёт, настанет вёчер... Несколько обыденных эпизодов из современной жизни… ……………………………………………619
Фиктивный брак. Пьеса неопределённого жанра………... 683
Зачем? Бессюжетная драма……………………………………. 751
Михаил Михайлович Дунаев
НА ПОРОГЕ
(История одной жизни)
Роман в трех частях
ООО «Альта-Принт»
127018, Москва, Сущевский вал, 49
Подписано в печать 19.11.2004. Формат 84× 108'/32 Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 25,5 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 3704.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера». 163002, г.Архангельск, пр.Новгородский, 32
© М. М. Дунаев, 2005
© «Альта-Принт», 2005
ISBN 5-98628-007-5