Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)

У каждого человека есть вопросы, на которые трудно найти ответ самостоятельно. Новая книга Александра Ткаченко — это простой и ясный рассказ об истинах христианского вероучения, размышления автора о путях развития современной культуры. Равнодушным эта книга не оставит никого.
Книга предоставлена издательством «Никея», бумажную версию вы можете приобрести на сайте издательства http://nikeabooks.ru/.
Поминать умерших можно только, когда веришь, что они — живы. Эта парадоксальная, на первый взгляд, мысль подтверждается обычной человеческой интуицией:«Все там будем...» — так звучит самая распространенная в нашем народе формула поминовения умерших. И нужно сказать, что это очень глубокое отношение, — глядя на чужую смерть, помнить о своей собственной. Но есть один очень важный момент, который в этой формулировке никак не обозначен: а собственно, где это — «там»»? Что находится за чертой, которую уже перешел умерший и которую рано или поздно предстоит пересечь каждому из нас?
...Огоньки поминальных свечей напоминают по форме слезы Но слеза капает на землю, а пламя свечи всегда стремится вверх. Мы хороним наших близких в могилы а сердца свои устремляем к Небу и просим, чтобы Бог позаботился о тех, кто нам так дорог.
А они,, быть может, просят Бога позаботиться о нас здесь. Это единство взаимной любви в Боге умерших и живых людей и есть — Церковь Христова.
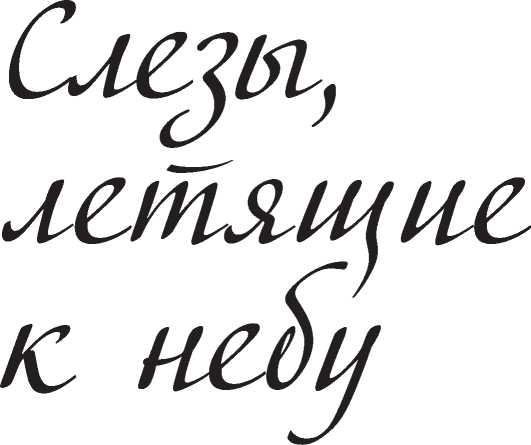
Зачем современному человеку христианство?
Москва
«Никея» • «Фома» 2011
У каждого человека есть вопросы к христианскому вероучению, на которые трудно найти ответ самостоятельно. Ну, например: кто такие бесы, откуда они взялись, и как человеку следует к ним относиться? Почему Иуда сначала предал Христа ради денег, а после казни Учителя, вдруг — вернул эти деньги и повесился? Как понимать слова Библии о сотворении жены из ребра Адама? Что происходит с нашими близкими после смерти, и можем ли мы как-либо поучаствовать в их посмертной судьбе? В своей книге Александр Ткаченко отвечает на эти, и многие другие вопросы. Кому-то из читателей этот автор уже знаком по статьям в православном журнале «Фома», где он является редактором раздела «Вера».
Безусловным достоинством книги «Слезы, летящие к небу» является язык, которым она написана. Вот что говорит об этом профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов: «Александр Ткаченко обладает счастливой способностью говорить о сложных вещах просто и доходчиво, иллюстрируя свои мысли яркими образами и сравнениями. Серьезность изложения материала он сочетает с тонким юмором, которым удачно растворяет свое повествование. Благодаря такой подаче, серьезная книга не становится скучной, читается легко и интересно».
Правда, эти слова были написаны о предыдущей книге Александра Ткаченко «Бабочка в ладони», но в полной мере их можно отнести и к «Слезам, летящим к небу». Также, в книге представлены размышления автора о путях развития современной культуры, о христианском прочтении литературного наследия таких, казалось бы, далеких от веры авторов, как братья Стругацкие, и о подлинных обстоятельствах отлучения Льва Николаевича Толстого от Церкви.
Христианам покажутся интересными одни статьи, людям светским, но интересующимся религией — другие. Но с уверенностью можно сказать: равнодушным эта книга не оставит никого.

В известном художественном фильме «Москва слезам не верит» есть эпизод, положивший начало полемике, которая плавно перекочевала из советских кухонь в современные интернет-блоги и не прекращается по сей день. Главный герой кинокартины — великолепный слесарь-интеллигент Гоша, выясняя отношения с любимой женщиной, в ультимативной форме говорит:
— Запомни, все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я — мужчина.
Для мужской части населения нашей страны эти слова Гоши сразу же стали своего рода девизом и последним, непререкаемым аргументом в семейных спорах. Но у многих женщин они вызывают совсем другие чувства — от недоумения до возмущенного неприятия.
В самом деле, почему простую принадлежность к своему полу мужчины считают достаточным основанием для подобных заявлений? Почему аналогичная фраза, сказанная женщиной, не прозвучит убедительно ни в кино, ни в реальной жизни? Ведь даже в упомянутом фильме героиня Веры Алентовой по личным качествам ни в чем не уступает мужчинам, а во многом даже превосходит их. Она сумела в одиночку вырастить дочь, окончить институт, сделать карьеру. Она — крупный руководитель, депутат, хорошо зарабатывает, живет в просторной комфортабельной квартире... В общем — все атрибуты жизненного успеха у нее имеются, вот только личная жизнь как-то не задалась. И тут появляется слесарь Гоша, проживающий в коммуналке, и начинает ставить ее на место, мотивируя свое право на такое поведение тем обстоятельством, что он — мужчина.
Получается какая-то странная картина: женщина может быть умнее мужчины, иметь лучшее образование, больше чем он зарабатывать, но, несмотря на любые, даже самые высокие достижения, ей все равно остается в семье лишь один удел — подчинение мужу. В таком положении дел просматривается некая заданность, из которой при желании можно сделать вывод, будто женщина по отношению к мужчине — существо заведомо ущербное и зависимое.
Объясняя эту ситуацию можно, конечно, сослаться на традиционный патриархальный уклад, веками формировавший подобную расстановку сил. Но от такого объяснения она не становится в глазах женщины более справедливой. Уклад-то давно уже изменился, живем мы в постиндустриальном обществе. И потом, как ни крути, а приходится признать, что именно оттуда, из патриархальных времен пришли в наш язык всякие пошлости вроде поговорки «курица — не птица, женщина — не человек».
Но когда современная женщина приходит в Церковь, она с удивлением обнаруживает теперь уже в христианской традиции все тот же патриархальный принцип главенства мужчины. Более того — Библия дает этому принципу неоспоримое религиозное обоснование в прямом определении Божием: ...к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою (Быт 3:16).
Наверное, многие женщины, прочтя эти библейские слова, озадачиваются все тем же вопросом: а почему так получилось? Почему женщина обречена на подчиненное положение? Неужели Господь создал ее лишь как некое приложение к мужчине, не имеющее самостоятельной ценности?
В европейской культуре традиционно принято называть женщин «прекрасной половиной человечества». Мужчина, представляя незнакомым людям свою жену, говорит: знакомьтесь — моя половина. Да и само слово «пол» (в смысле: мужской-женский) прямо указывает на его этимологическое родство с однокоренным ему словом «половина».
Но может ли одна половина быть больше другой? Этот вопрос даже звучит как-то странно — ведь половина это по определению — результат деления чего-либо пополам, то есть — поровну. Поэтому, говоря об истоках подчиненного положения жены в христианстве, было бы неверно рассматривать эту подчиненность как — следствие онтологического превосходства мужа. Святитель Иоанн Златоуст пишет: Хотя и подчинена нам жена, но вместе с тем она свободна и равна нам по чести.
В кинокартине «Белое солнце пустыни» товарищ Сухов, организовав из гарема Абдуллы первое общежитие освобожденных женщин Востока, написал на куске кумача революционный лозунг: «Долой предрассудки! Женщина, она тоже — человек». И хотя эти слова выглядят комично, но при всей своей наивности, они вполне соответствуют отношению к женщине, которое существует в христианской традиции и имеет основание в тексте Священного Писания: ...Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их (Быт 51-2).
Женщина равна по чести мужчине — прежде всего в силу этого общего для них благословения Божия, полученного при сотворении. Поэтому, любое рассуждение на тему женской неполноценности и мужского превосходства в стиле «курица — не птица» смело можно считать нехристианским и небиблейским.
Был, правда, в истории Церкви любопытный случай, когда на Маконском соборе 585 года, собравшем иерархов Бургундии, «...поднялся кто-то из епископов и сказал, что нельзя называть женщину человеком. Однако после того как он получил от епископов разъяснение, он успокоился. Ибо Священное Писание Ветхого Завета это поясняет: вначале, где речь шла о сотворении Богом человека, сказано: ...мужчину и женщину сотворил их, и нарек им имя Адам, что значит — человек, сделанный из земли, называя так и женщину и мужчину; таким образом, Он обоих назвал человеком. Но и Господь Иисус Христос потому называется Сыном Человеческим, что Он является сыном Девы, то есть женщины. И Ей Он сказал, когда готовился претворить воду в вино: «Что Мне и Тебе, Жено?» и прочее. Этим и многими другими свидетельствами этот вопрос был окончательно разрешен» (святой Григорий Турский. История франков).
Однако из одного исторического курьеза вовсе не следует, будто Церковь когда-либо всерьез решала проблему — считать ли женщину человеком. Шестой век в Западной Европе был веком христианизации варваров. И реплика одного из участников Маконского собора была лишь отголоском языческих представлений о женщине у новообращенных франков и галлов. Так что породило этот нелепый вопрос вовсе не христианство. Наоборот, оно помогло его снять.
Библейский рассказ о сотворении жены из ребра Адама в советское время был излюбленной мишенью лекторов и пропагандистов научного атеизма из «Союза воинствующих безбожников» (впоследствии стыдливо переименованного в общество «Знание»). В их изложении творческий акт создания жены был представлен чем-то вроде художественной резьбы по кости, поскольку слово «ребро» они предлагали понимать исключительно в анатомическом смысле. Побочным продуктом этой атеистической вульгаризации текста Священного Писания стал новый набор пошлых шуток на тему женской «неполноценности», где обыгрывалась мысль о том, что женщина сотворена из единственной кости человеческого организма, которая не содержит в себе мозга.
Понятно, что ничего общего с христианским вероучением подобная трактовка не имеет. Еврейское слово «цела», употребленное в этом месте Библии, действительно было переведено на европейские языки как «ребро», но в еврейском языке оно имеет куда больше значений и может быть переведено также и как «бок», «сторона». Эту, более широкую трактовку использовали святые отцы, которые считали, что в первозданном человеке изначально уже присутствовали и мужское и женское начало в равной степени, а при сотворении жены Господь лишь отделил женскую сторону человеческого естества от мужской и даровал ей личное бытие: Ребро или кость здесь не есть нечто простое. Оно должно означать целую половину существа, отделившегося от Адама во время сна. Как это происходило, Моисей не говорит и это — тайна. Ясно только то, что прежде нужно было образоваться общему организму, который потом разделился на два вида: мужа и жену (святитель Иннокентий Херсонский).
Такое же мнение можно увидеть и у святителя Иоанна Златоуста, писавшего, что ...творческая премудрость разделила то, что с самого начала было одно, чтобы потом снова объединить в браке то, что Она разделила.
Еще более определенно эта мысль выражена у преподобного Ефрема Сирина: Словами: мужчину и женщину сотворил их, Моисей дает знать, что Ева была уже в Адаме, в том ребре, которое было взято от Адама. Хотя Ева была в нем не по уму, но по телу, однако же и не по телу только, но и по душе и по духу; потому что Бог ничего не присовокупил к взятому от Адама ребру, кроме красоты и внешнего образа. Поскольку же в самом ребре заключалось все, что нужно было для образования из него Евы, то справедливо сказано: мужчину и женщину сотворил их.
В свете такого понимания Библейского рассказа о создании жены, можно предположить, что сочинители шутливых вариаций на тему «безмозглой кости», наверное, и сами не были особо обременены мозгами.
Христианство же утверждает, что жена — действительно половина мужа, причем не в аллегорическом, а в самом прямом значении, потому что в браке таинственным образом восстанавливается метафизическое единство мужского и женского начала, которое существовало в Адаме до их разделения. И в сотворении жены из Адама, конечно же, нет ничего уничижительного для прекрасной половины человечества. Напротив, святой Феодорит Кирский видел смысл этого Божественного творческого акта в том, ...чтобы тождество естества показать.
Есть в готической архитектуре такой элемент — стрельчатый свод. Суть его в том, что две стены под острым углом склоняются над перекрываемым проемом и, сомкнувшись, служат опорой друг для друга. Так же и жена была создана для поддержки мужа, как об этом говорит Писание: ...Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою — жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему (Тов 8:6) Слово «помощник» здесь не указывает на второстепенную роль жены, так же как слово «подпора» не является свидетельством того, что первозданный Адам не мог самостоятельно сохранять вертикальное положение и использовал жену в качестве костыля. Фразу «...сотворим помощника, подобного ему» в еврейском тексте Библии можно перевести и как: «.сотворим ему восполняющего, который был бы перед ним». Как каждая из стен стрельчатого свода имеет себе опорой противоположную стену, так муж и жена, по замыслу Божию, должны были восполнять бытие друг друга во взаимной любви.
Но если все это действительно так, если Церковь учит о тождестве естества и равенстве чести женщины и мужчины, тогда еще более непонятным и несправедливым может показаться определение Божие о подчиненности жены мужу. Однако такое впечатление возникает, как правило, от незнания одного очень важного обстоятельства. Дело в том, что определение это прозвучало отнюдь не при сотворении первых людей, но — после их грехопадения. А первая попытка возвыситься в браке над своей половиной, как это ни странно, была сделана... самой женщиной.
Вопреки распространенному заблуждению, грехопадение вовсе не было связано со сферой пола и не заключалось в физиологическом общении между Адамом и Евой. Эта нелепица — еще одно порождение невежества и атеистической пропаганды, поскольку сочинить такую дикую байку и поверить в нее могли только люди, совершенно не знакомые ни с текстом Священного Писания, ни с учением Церкви о грехе.
Библия прямо говорит, что грехопадение первых людей состояло в нарушении единственной запретительной заповеди, которую люди получили в Раю — не вкушать плодов от древа познания добра и зла. И первой нарушила Божий запрет именно жена, поддавшаяся на увещевания змея-искусителя:
...И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел (Быт 3:1-6).
Вот здесь и начинается печальная история отношений подчиненности в браке. Вкусив запретный плод раньше мужа, не посоветовавшись с ним и единолично приняв решение нарушить заповедь, жена первой попыталась нарушить равенство чести. Она не только поверила клевете змея на Бога, но пожелала возвыситься над мужем и предстать богиней перед тем, от кого произошла человеком. По слову преподобного Ефрема Сирина, она ...из ревности не допустила, чтобы муж вкусил первый; захотела стать выше Адама, занять первую степень, Адаму же предоставить вторую. Поскольку пожелала поработить себе мужа, то Господь обличил ее тайны и сказал ей: той тобою обладати будет.
Подчинение мужу стало для жены горьким, но необходимым лекарством, поскольку Бог не просто наказывает за преступление, но, прежде всего — исцеляет болезнь, врачует повреждение, нанесенное грехом. А поскольку болезнь проявила себя именно в стремлении жены к господству над супругом, Господь предусмотрительно оградил ее от возможных рецидивов этого синдрома властолюбия и вверил попечению мужа. Поэтому определение — «... той тобою обладати будет» никак не противоречит равенству чести и тождеству природы, ничуть не унижает жену и нисколько не возвышает мужа.
Предположим, родители оставили дома двух мальчишек-близнецов, строго настрого запретив им играть со спичками. Но ведь огонь — это же так интересно! И вот, один из них, нарушив родительский запрет, все же попробовал разжечь костер на паркетном полу.В результате — случился пожар, квартира сгорела, дети чудом остались живы. Да, конечно, второй мальчик тоже виноват. Да, ему так же хотелось посмотреть на огонь, и он тоже сидел у того злополучного костра. Но все же запалил его не он, а его не в меру инициативный братец. И стоит ли удивляться, что с тех пор родители поручают братишке присматривать за незадачливым пиротехником, хотя они и равны во всем, похожи как две капли воды и даже хромосомный набор у них одинаковый?
Жена захотела быть первой, и поэтому стала второй. Не ущербность природы оказалась причиной ее подчиненности, а стремление к господству над мужем, которому Господь и поручил ограничивать ее властолюбие, сберегая ее от различных бед, происходящих от жажды власти. Иоанн Златоуст пишет об этом так: Вначале Я, говорит Господь, создал тебя равночестною мужу и хотел, чтобы ты, будучи одного с ним достоинства, во всем имела общение с ним, и как мужу, так и тебе вверил власть над всеми тварями. Но из-за того, что ты не воспользовалась равночестием как должно, за это подчиняю тебя мужу.
Можно очень долго и грамотно рассуждать о неправильностях феминизма, критикуя его с самых разных позиций, например — с библейской. И, наверное, эти рассуждения будут во многом справедливыми и верными. Но все же есть в подобного рода критике уязвимое место, о котором сторонники патриархального уклада не очень любят вспоминать. Да, конечно, современная женщина во всем стремится быть равной мужчине, более того — в чем-то она его даже перегнала. Да, такое положение дел противоречит Божьему определению и с христианской точки зрения является ненормальным. Только вот, виноватой во всех этих несообразностях почему-то принято считать исключительно женщин с их неуемной инициативой и жаждой независимости. Мужчины же в газетных и телевизионных спорах о «гендерном вопросе» зачастую вообще бывают представлены как пострадавшая сторона.
Но ведь если после грехопадения властолюбие стало для женщины фактором повышенного риска, если Сам Бог поручил мужу заботиться о жене и оберегать ее от излишних проявлений самостоятельности, значит и спрос за ее состояние и поведение, в первую очередь — с него. И то, что в современном мире женщины во многом потеснили мужчин, является лишь констатацией печального факта: мужчина потихоньку перестает соответствовать задаче, возложенной на него Богом, перестает быть для жены главой и уступает ей в семье и в обществе место, которое должен был занимать сам. Почему так получилось — тема для отдельного большого разговора, но очевидно, что обвинять в сложившейся ситуации одних лишь женщин было бы нечестно с любой точки зрения, а уж с библейской — и подавно.
Господство над женой, данное мужу после грехопадения, вовсе не было наградой — ну за что можно награждать того, кто и сам согрешил? Это, скорее — серьезная обязанность, необходимость принимать в семье решения и нести бремя ответственности не только за себя самого, но и за свою любимую половинку, за свое прекрасное ребрышко, за ту, которая — плоть от плоти твоей.
Когда в походе один из путешественников вдруг подворачивает ногу, а другой, облегчая ему дальнейший путь, берет на себя часть его груза, разве есть в этом что-то унизительное для пострадавшего? Нет, конечно! И если муж именно так понимает слова Библии о своем господстве, тогда и для жены не может быть ничего унизительного в подчинении тому, чьей любви и заботе вверил ее Сам Бог.

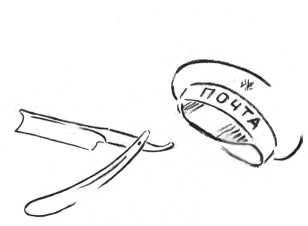
Что имеет в виду современный неверующий человек, когда говорит «я был взбешен» или «меня это бесит»? Наверное, в большинстве случаев — просто крайнюю степень раздражения. И хотя корневая основа подобных слов ясно указывает на их происхождение от слова «бес», сегодня это мало кого может смутить. В рецензии на новый спектакль пресса восторженно сообщает, что премьера прошла «с бешеным успехом», тинэйджеры пишут в своих сетевых дневниках, как они «классно побесились» на рок-концерте, а ветеринары делают домашним животным прививки «от бешенства».
Столь безразличное отношение к употребляемым словам легко объясняется простым, но печальным фактом: к сожалению, люди сегодня очень плохо представляют себе, кто же это такие — бесы. Откуда они взялись, какими качествами обладают и стоит ли отождествлять себя и окружающих с этими существами, пусть даже всего лишь на уровне фигуры речи?
Для людей, не склонных к чтению религиозной или оккультной литературы, едва ли не единственным источником знаний о бесах становится литература художественная. И тут с некоторым недоумением приходится признать, что даже в произведениях классиков описание нечистых духов весьма противоречиво, неоднозначно и, скорее, сбивает читателя с толку, чем помогает разобраться в сути дела. Писателями создана целая галерея различных образов, весьма непохожих друг на друга. С одного фланга в этом ряду стоят фольклорные изображения беса в произведениях Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина. В этой версии бес представлен как нелепое и бестолковое существо с противной наружностью и настолько низким интеллектом, что даже простой деревенский кузнец легко подчиняет его себе, используя в качестве транспортного средства. Или же, вооружившись куском веревки и парой незатейливых мошеннических трюков, злого духа запросто обводит вокруг пальца известный пушкинский персонаж с красноречивым именем Балда.
На противоположном фланге галереи литературных бесов — булгаковский Воланд. Это уже едва ли не всемогущий вершитель человеческих судеб, средоточие интеллекта, благородства, справедливости и прочих положительных качеств. Человеку бороться с ним бессмысленно, поскольку, по Булгакову, он практически непобедим, ему можно только с благоговением подчиниться — как Мастер и Маргарита, или погибнуть — как Берлиоз (а в лучшем случае — повредиться рассудком, как поэт Иван Бездомный).
Две эти крайности в литературном изображении бесов, естественно, формируют у читателей такие же крайности и в отношении к изображаемому. От полного пренебрежения пушкинскими бесенятами-недотепами как — безусловно сказочными персонажами, до полной уверенности в реальном существовании Воланда-сатаны, суеверного ужаса перед его могуществом, а иногда и прямого поклонения духам тьмы.
Ничего удивительного тут нет, сила художественного произведения в том и заключается, что талантливо выписанный автором литературный герой начинает восприниматься нами как — настоящий. В Лондоне, например, существует вполне реальный музей, посвященный вымышленному сыщику Шерлоку Холмсу, а в Советском Союзе настоящие городские улицы называли именем пламенного революционера Павки Корчагина, ничуть не смущаясь его стопроцентно литературным происхождением.
Но в случае с художественным образом бесов мы имеем принципиально иную ситуацию. Дело в том, что даже в пространстве литературного произведения духовный мир существует не в рамках человеческой истории, а как бы параллельно ей: его обитатели в художественных произведениях не стареют, не умирают, вообще не подвержены влиянию времени, они всегда находятся рядом с человеком, в какую бы эпоху он не жил. И если предположить, что у вымышленных персонажей того же Михаила Булгакова существуют реальные прототипы в духовном мире, то следует признать, что читательский восторг и преклонение перед Воландом очевидно выходят за рамки литературной проблематики. Здесь возникают уже гораздо более серьезные вопросы — например: в какой степени образ беса, созданный художественным воображением писателя, соответствует духовной реальности? Или — насколько безопасно для человека отношение к бесам, сформированное их литературными образами? Очевидно, что на эти вопросы литературоведение ответить уже не может. И, поскольку в европейскую литературу бес перекочевал из христианской религиозной традиции, разумно было бы выяснить — что же говорит об этом существе христианство?
Вопреки распространенному заблуждению, сатана вовсе не является вечным духовным антиподом Бога, а бесы — антиподами ангелов. И представление о духовном мире как о некоем подобии шахматной доски, где черные фигуры на равных условиях играют против белых, в корне противоречит учению Церкви о падших духах.
Христианская традиция четко определяет границу между Богом-Творцом и Его творением. И в этом смысле абсолютно все обитатели духовного мира в равной степени относятся к категории творений Божиих. Более того, сама природа бесов изначально — точно такая же, как и у ангелов, и даже сатана не является каким-то особенным «темным богом», равным по силе Творцу. Это всего лишь ангел, который когда-то был самым прекрасным и сильным творением Бога в созданном мире. Но само имя — Люцифер («светоносный») — не совсем правильно употреблять сейчас по отношению к сатане, поскольку это имя принадлежит не ему, а тому самому — светлому и доброму ангелу, которым сатана когда-то был.
Церковное Предание говорит, что духовный мир ангелов был создан Богом еще до сотворения материального мира. К этому во всех смыслах доисторическому периоду и относится катастрофа, в результате которой треть ангелов, возглавляемые сатаной, отпали от своего Творца: увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю (Откр 12:4).
Причиной этого отпадения стала неадекватная оценка Люцифером своего совершенства и могущества. Бог поставил его над всеми остальными ангелами, наделив силой и свойствами, которых не было больше ни у кого в сотворенной вселенной. Эти дары соответствовали его высокому призванию — исполнять волю Божию, начальствуя над духовным миром.
Но ангелы не были подобием автоматов, жестко запрограммированных на послушание. Бог создал их, движимый любовью к Своему творению, и исполнение Его воли должно было стать у ангелов ответным проявлением любви к своему Создателю. А любовь возможна лишь как реализация свободы выбора — любить или не любить. И Господь дал ангелам эту возможность выбирать — быть с Богом или быть без Бога...
Невозможно с точностью сказать, как именно произошло их отпадение, но общий смысл его заключался в следующем: Люцифер-Денница посчитал, что полученное могущество делает его равным Богу, и решил оставить своего Создателя. В этом роковом решении к нему присоединилась третья часть всех ангелов. Между мятежными и верными Богу духами (которых возглавил архангел Михаил) произошел конфликт, описанный в Священном Писании следующим образом: И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр 12:7-9).
Так прекрасный Денница стал сатаною, а соблазненные им ангелы — бесами. Нетрудно заметить, что Библейское повествование не дает и малейших оснований говорить о войне сатаны против Бога. Как может воевать с Богом тот, кто даже от своих собратьев-ангелов потерпел сокрушительное поражение? Потеряв ангельское достоинство и место на Небесах, падшие духи оказались подобны воинам разгромленной банды мятежников, сорвавшим с себя при отступлении ордена и погоны ненавистной им регулярной армии.
Само слово «ангел» — греческого происхождения, в переводе на русский язык оно означает буквально «вестник», то есть — тот, кто приносит весть от Бога, сообщает Его благую волю остальному творению. Но чью волю может сообщить ангел, который не захотел служить своему Создателю, какую весть может принести такой «вестник» — и можно ли верить этой вести?
Предположим, в небольшом городке один почтальон ужасно обиделся за что-то на своего начальника и перестал приходить на почту за новыми письмами. Но званием почтальона он очень гордился, письма разносить любил и, что самое грустное, — ничего, ну просто абсолютно ничего больше не умел делать! И началась у него странная жизнь. Целыми днями неприкаянно слонялся он по городу в своей почтальонской фуражке, с опустевшей почтовой сумкой на плече, а вместо писем и телеграмм засовывал людям в почтовые ящики всякую дрянь, подобранную на дороге. Очень скоро он приобрел репутацию городского сумасшедшего. Сумку и фуражку у него отняли милиционеры, а жители начали гнать его прочь от своих дверей. Тогда он ужасно обиделся и на жителей тоже. Но письма носить ему очень хотелось. И он придумал хитрую каверзу: темной ночью, когда его никто не видел, он потихоньку крался вдоль городских улиц и подкидывал в почтовые ящики письма, написанные... им самим. Он давно работал на почте, поэтому быстро научился подделывать почерк отправителей, их адреса и почтовые штемпели на конвертах. А в письмах писал. Ну что мог писать такой тип? Конечно же, — одни только всякие гадости и вранье (поскольку он очень хотел досадить прогнавшим его жителям).
Безусловно, эта грустная сказка про сумасшедшего почтальона — всего лишь очень слабая аналогия трагической истории превращения ангелов в бесов. Но для более точного описания глубины нравственного падения и безумия злых духов даже образ серийного маньяка оказался бы слишком светлым, мягким и неубедительным. Сам Господь назвал сатану — убийцей: он (диавол) был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин 8:44).
Ангелы были сотворены как — служебные духи неспособные к самостоятельному творчеству. По своему естеству они не имеют в себе творческого начала, и могут лишь исполнять творческий замысел Бога. Поэтому единственным доступным вектором приложения сил для отпавших от Бога ангелов оказалось стремление к разрушению и уничтожению всего, к чему они могли хотя бы прикоснуться.
Завидуя Богу, но, не имея ни малейшей возможности причинить Ему какой-либо вред, бесы всю свою ненависть к Творцу распространили на Его творение. Венцом же и средоточием всего сотворенного мира, самым любимым творением Божиим является человек. На него-то и обрушилась вся неудовлетворенная мстительность и злоба падших ангелов-вестников, несущих людям вместо воли Божией — свою, страшную для всего живого волю.
И здесь возникает очень важный вопрос: как же человеку выстраивать отношения со столь грозной силой, стремящейся его погубить?
В сборнике народных русских сказок А. Н. Афанасьева есть любопытный сюжет на религиозную тему:
«Одна баба, ставя по праздникам свечку перед образом Георгия Победоносца, завсегда показывала кукиш змею, изображенному на иконе, и говорила: вот тебе, святой Егорий свечка, а тебе, сатана, — шиш. Этим она так рассердила нечистого, что он не вытерпел; явился к ней во сне и стал стращать: "Ну уж попадись ты только ко мне в ад, натерпишься муки!"« После того баба ставила по свечке и Егорию, и змию. Люди и спрашивают — зачем она это делает? "Да как же, родимые! Ведь не знамо еще куда попадешь: либо в рай, либо в ад!"»
В этой истории, несмотря на весь ее христианский антураж, очень лаконично и убедительно представлен языческий принцип налаживания отношений со злыми и добрыми божествами одновременно. Технология практического решения проблемы указана здесь предельно ясно: каждому по свечке и — все довольны!
Почему же так комично выглядит в этом народном анекдоте предусмотрительность наивной женщины? Наверное, потому, что умилостивить беса может надеяться лишь тот, кто не понимает простой истины: наладить добрые отношения со злыми духами невозможно по определению. Возненавидев все творение без исключений, бесы загнали себя в онтологический тупик, так как сами они тоже — творения Божии. Поэтому ненависть оказалась для них единственно возможной формой отношений даже друг к другу. Да и самих себя они тоже могут лишь ненавидеть. Уже сам факт собственного бытия является для бесов мучительным.
Такое страшное мироощущение можно сравнить, наверное, лишь с состоянием несчастного животного, умирающего от вирусной инфекции, которую в просторечии не без оснований называют бешенством. Главным симптомом этой страшной болезни являются спазмы пищевода, не пропускающие в организм никакую жидкость. Вода может находиться совсем рядом, но животное умирает от жажды, не имея малейшей возможности ее утолить. Обезумев от этой пытки, больной зверь кидается на всех, кто имел неосторожность к нему приблизиться, а если никого рядом нет — уже в полном помрачении кусает сам себя. Но даже такая жуткая картина может дать лишь очень слабое и приблизительное представление о том, что же может испытывать существо, люто ненавидящее весь мир, не исключая себя самого и себе подобных.
А вот теперь — вопрос на засыпку: будет ли здравомыслящий человек пытаться завести дружбу с бешеной собакой? Или, к примеру, смог бы киплинговский Маугли выжить в стае бешеных волков, непрерывно рвущих и кусающих друг друга? Ответ в обоих случаях очевиден. Но неизмеримо более безнадежным предприятием является попытка умилостивить беса с тем, чтобы обеспечить себе комфортабельное местечко в аду.
Делать реверансы в сторону сил зла — бессмысленное и бесполезное занятие, поскольку для сатаны люди представляют интерес исключительно в качестве потенциальной жертвы: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет 5:8).
И хотя тыкать кукишем в икону Георгия Победоносца, как это делала героиня афанасьевского анекдота, совсем не благочестивое дело, и заниматься этим, конечно, не стоит, но все же тем христианам, которые испытывают суеверный страх перед бесами, не худо было бы вспомнить, что в самом чине Таинства крещения каждый христианин не то что кукиш бесу показывает, но буквально — плюет на него троекратно, отрекаясь от сатаны.
Мало того, впоследствии христианин ежедневно вспоминает об этом отречении в молитве святителя Иоанна Златоуста, читаемой перед выходом из дому: Отрицаюсь тебе, сатана, и гордыни твоей и служения тебе; и сочетаюсь Тебе, Христе Боже, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Но откуда же берется у христиан подобное дерзновение? Ответ прост: плевать на таких опасных и сильных врагов может себе позволить только тот, кто находится под надежной защитой.
Люди, впервые знакомящиеся с Евангелием, иногда обращают пристальное внимание на те детали евангелского повествования, которые для воцерковленного человека являются второстепенными и малозначительными. Один такой случай описывает Н. С. Лесков в повести «На краю света», где православный епископ, путешествуя по Сибири, пытается объяснить своему проводнику-якуту суть христианского вероучения:
«Ну а знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил?
Думал он, думал — и ничего не ответил.
— Не знаешь? — говорю.
— Не знаю.
Я ему все Православие и объяснил, а он не то слушает, не то нет, а сам все на собак погикивает да оростелем машет.
— Ну, понял ли, — спрашиваю, — что я тебе говорил?
— Как же, бачка, понял: свинью в море топил, слепому на глаза плевал — слепой видел, хлебца-рыбка народца дал.
Засели ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка, а дальше никак и не поднимется...»
Парадоксальным образом все те же свиньи, засевшие в лоб лесковскому безграмотному якуту, в наши дни иногда приводят в смущение уже вполне цивилизованных людей с высшим образованием. Как кроткий и любящий Христос, который «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит», смог безжалостно утопить стадо свиней? Разве любовь Божия не распространяется и на животных тоже?
Вопросы вроде бы формально правильные (хотя возникнуть они могли, наверное, лишь у современного человека, который никак не связывает в сознании ветчину на своем столе со свиньей, из которой эту ветчину сделали). Но все же ошибка в подобном рассуждении есть. И дело даже не в том, что упомянутые в Евангелии свиньи рано или поздно все равно попали бы под нож мясника.
При внимательном прочтении этого места в Евангелии становится очевидным простой факт: Христос не топил несчастных животных. В их гибели виноваты... бесы.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло (Лк 8:27—33).
Здесь очень наглядно проявлена разрушительная сила ненависти бесов ко всему живому, заставляющая их действовать даже вопреки собственным интересам. Изгнанные из человека, они просят Христа позволить им войти в свиней, чтобы жить в них и не идти в бездну. Но как только Христос позволяет им сделать это, бесы тут же топят всех свиней в море, вновь оставшись без пристанища. Понять такое поведение невозможно, поскольку и логика и здравый смысл в ненависти напрочь отсутствуют. Прогуливающийся по детскому саду сумасшедший с опасной бритвой в руке будет выглядеть на фоне бесов безобидным и мирным обывателем. И если бы такие жуткие существа могли беспрепятственно орудовать в нашем мире, то ничего живого в нем давно бы уже не осталось. Но в евангельской истории со свиньями Господь ясно показал, что бесы вовсе не свободны в своих действиях. Вот как говорит об этом преподобный Антоний Великий: Даже над свиньями не имеет власти диавол. Ибо, как написано в Евангелии, демоны просили Господа, говоря: повели нам идти в свиней. Если же не имеют власти над свиньями, тем паче не имеют над человеком, созданным по образу Божию.
Отрекаясь в крещении от сатаны, человек одновременно вверяет себя Тому, Кто имеет абсолютную власть над сатаной. Поэтому, даже если бесы и нападают на христианина, это не должно его особо пугать. Такое нападение возможно лишь при единственном непременном условии: если его разрешит Господь. Укус змеи смертелен, но искусный врач умеет готовить из змеиного яда спасительное лекарство. Так и Господь злую волю бесов может использовать как средство для исцеления человеческой души. По общему мнению отцов, беснование попускается Богом тем людям, для которых этот путь оказывается наилучшим в приобретении смирения и спасения. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке: такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии... — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), в полном согласии с мыслью святителя Иоанна Златоуста, считавшего, что ...обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в геенну, но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения.
Бесы действуют лишь там, где им попускает это Господь, обращающий злые замыслы падших духов ко благу людей. Этим отчасти объясняется знаменитый парадокс Мефистофельского самоопределения у Гете: «я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Хотя, даже в литературном произведении бес все равно продолжает врать: никакого блага совершить он, конечно же, не в состоянии и, как всегда, приписывает себе чужие заслуги.
А что же может бес на самом деле? Чтобы выяснить это, следует обратить внимание уже на другого персонажа, который является прямым литературным сородичем Мефистофеля и Воланда, отличаясь от них лишь длинной бороды и восточным колоритом. В знаменитой сказке Л.И.Лагина перевоспитавшийся джин с панибратской кличкой — «Хоттабыч» искренне пытается платить добром за добро своему освободителю — московскому школьнику Вольке-ибн-Алеше, но ничего путного из этого эксперимента не получается. Совершив множество мелких глупостей, сорвав на стадионе футбольный матч и едва не угробив Вольку с его товарищем на ковре-самолете, непутевый дух находит, наконец, достойное применение своей квалификации. И... — устраивается фокусником в Московский цирк.
Сказка ложь, да в ней намек. Перевоспитанный бес, конечно же — фантазия автора, но вот профессия иллюзиониста очень точно характеризует реальные возможности падших духов. Весь потенциал своего ангельского естества они способны употребить лишь на создание иллюзий, к сожалению, гораздо менее безобидных, чем у сказочного Хоттабыча.
В этом вопросе мнение отца христианского монашества Антония Великого можно считать более чем авторитетным, поскольку бесы воевали с ним в пустыне несколько десятилетий. На знаменитом полотне Иеронима Босха «Искушение святого Антония» изображена жуткая картина: стая клыкастых и рогатых чудовищ нападает на одинокого монаха. Этот сюжет не выдуман художником, он взят из реального жития преподобного Антония, который действительно пережил страшные нападения бесов. Но вот какую неожиданную оценку дает этим ужасам сам Антоний Великий: Чтобы не бояться нам демонов, надо рассудить и следующее. Если бы было у них могущество, то не приходили бы толпою, не производили бы мечтаний, не принимали бы на себя различных образов, когда строят козни; но достаточно было бы прийти только одному и делать, что может и хочет, тем более, что всякий имеющий власть не привидениями поражает, но немедленно пользуется властью как хочет. Демоны же, не имея никакой силы, как бы забавляются на зрелище, меняя личины и стращая детей множеством привидений и призраков. Посему-то наипаче и должно их презирать, как — бессильных.
Бесы ненавидят Бога, но чем Бог отвечает на эту ненависть? Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: Бог и диаволу всегда предоставляет блага, но тот не хочет принять. И в будущем веке Бог всем дает блага — ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость, каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим.
Несмотря на всю глубину падения бесов, Бог не воюет с ними и всегда готов принять их обратно в ангельский чин. Но чудовищная гордость падших духов не дает им ответить любовью на все проявления Божией любви. Вот как говорит об этом современный подвижник, афонский старец Паисий Святогорец: «Если бы они сказали только одно: „Господи, помилуй«, то Бог что-нибудь придумал бы для их спасения. Если бы они только сказали „согреших«, но ведь они этого не говорят. Сказав „согреших«, диавол снова стал бы ангелом. Любовь Божия беспредельна. Но диавол обладает настырной волей, упрямством, эгоизмом. Он не хочет уступить, не хочет спастись. Это страшно. Ведь когда-то он был ангелом! Помнит ли диавол свое прежнее состояние? он весь — огонь и неистовство... И чем дальше, тем хуже он становится. Он развивается в злобе и зависти. О, если бы человек ощутил состояние, в котором находится диавол! Он плакал бы день и ночь. Даже когда какой-нибудь добрый человек изменяется к худшему, становится преступником, его очень жаль. А что же говорить, если видишь падение ангела!.. падение диавола не может быть уврачевано ничем иным, кроме его собственного смирения. Диавол не исправляется потому, что не хочет этого сам. Знаете, как был бы рад Христос, если бы диавол захотел исправиться!»
К сожалению, для подобной радости диавол не дает никаких поводов. И единственно правильное и безопасное для человека отношение к падшим духам, обезумевшим от злобы и гордости, — не иметь с ними ничего общего. О чем и просят Господа христиане в заключительных словах молитвы «Отче наш»: ...не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь.


Откуда берутся дети? Сегодня этот «детский» вопрос может показаться наивным и даже смешным. В наше продвинутое время физиологию зачатия и рождения человека подробнейшим образом можно изучить даже по обыкновенным школьным учебникам биологии. А ведь есть еще и специализированные издания, есть рубрики в газетах и журналах, телепередачи, посвященные этой теме, есть интернет, в конце концов. В общем, информации о деторождении в современном мире полным-полно, и казалось бы, с этим вопросом всем все давно уже должно быть ясно и понятно.
Но это обманчивое впечатление. Вся ясность мгновенно улетучивается, когда подросшее чадо (прекрасно знающее, что нашли его не в капусте) во время очередного выяснения отношений с родителями вдруг бросает им в лицо — « А зачем вы меня рожали? Я вас об этом не просил». И тут у родителей, как правило, есть два варианта ответной реакции: либо просто — дать по шее своему, не в меру умному, отпрыску, либо... — растерянно замолчать. Потому что ответить по существу им просто нечего. За обычной подростковой бравадой и стремлением защитить свою индивидуальность, здесь обозначилась философско-этическая проблема, разрешить которую не поможет и самое глубокое знание физиологических аспектов деторождения.
Человек рождается не по своей воле. Это понятно. Но если не кривить душой, придется признать: родители никогда не могут быть полностью уверенными в том, что именно здесь и сейчас, именно вот в этот раз, их слияние в любовном порыве обязательно даст начало новой человеческой жизни. То есть, как это ни странно, утверждать, будто человек родился по воле своих родителей тоже было бы не совсем справедливо. Ни для кого не секрет, что некоторые дети вообще появляются на свет совсем не «благодаря», а как раз — вопреки родительскому желанию.
И получается в результате такая, вот, загадочная картина: сам человек не изъявлял желания родиться; его папа и мама тоже, быть может, не очень хотели его рождения; и все-таки он родился и живет. Так что же, выходит, что вызвала его от небытия к жизни не чья-либо разумная воля, а какая-то нелепая случайность и общий автоматизм родовых процессов?
А ведь, как известно, жизнь прожить — не поле перейти. Горя и страданий в ней гораздо больше, чем удовольствия и праздников, но в финале смерть перечеркнет даже этот печальный счет, сведя конечный итог земных радостей к круглому нулю.
И возмущение подростка, впервые осознавшего эту невеселую перспективу, вполне можно понять. Вот только претензии он предъявляет явно не по адресу: «— Папа и мама, зачем вы меня родили?». А они и сами толком не знают — зачем? Так, вот. как-то, оно вроде бы само получилось и — все дела.
Откуда берутся дети? Детский вопрос. Но ведь дети — маленькие люди. А значит можно спросить и по другому — откуда берутся люди? Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? И зачем вообще все это было нужно затевать?
На такие вопросы в школьном учебнике биологии ответов уже не найти.

В христианстве семья, материнство и деторождение являются традиционными ценностями. Даже люди, весьма далекие от симпатий к Церкви, не станут оспаривать этот очевидный факт.
Но если мы попытаемся найти обоснование этим ценностям в тексте Священного Писания, то неизбежно столкнемся со странным противоречием. С одной стороны Новый Завет предлагает очень возвышенное учение о браке, где метафизическое единение мужа и жены уподобляется ни много, ни мало — единству Христа и Церкви.
Но вот с другой стороны, христианство в предельном своем выражении предполагает... полный отказ от брака и, следовательно — от рождения детей. Подтверждений этому в тексте Нового Завета достаточно:
А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины (1Кор 7:1)... Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие... ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. (1Кор 7:29-34)
Преимущество безбрачного образа жизни над семейным для христиан подтверждено в Евангелии и словами Самого Господа: Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано...(Мф 19:10-11)
Две тысячи лет земной истории Церкви убедительно показали на практике, что идеал христианской жизни — девство, а самый прямой путь к святости — монашество. Чтобы убедиться в этом не нужно глубоких богословских изысканий, достаточно просто посмотреть в святцы. Преподобных, прославленных Церковью за монашеский подвиг там неимоверное множество.
А вот многодетных родителей-праведников, подобных Филарету Милостивому — всего несколько человек. Обнаружить в этом соотношении евангельском обоснование многодетности, прямо скажем, трудновато.
Гораздо проще было бы попытаться найти смысл деторождения в библейских словах «Плодитесь и размножайтесь». Казалось бы, это ведь прямое указание Бога, чего же тут еще голову ломать! Есть заповедь — плодиться, вот люди и плодятся, все вроде бы понятно.
Но здесь возникает серьезная проблема. Дело в том, что Христос, (давший своим ученикам не только заповеди, но и личный пример безукоризненного следования этим заповедям), в брак, как всем известно, не вступал и потомства после себя не оставил. Лучшие из его последователей, цвет христианства — монахи, сделавшие жизнь по заповедям главным и единственным смыслом своего существования, также проигнорировали призыв к размножению.
Но зато даже самые распоследние безбожники и негодяи благополучно плодились и размножались во все времена, несмотря на то, что меньше всего на свете думали при этом об исполнении воли Божией.
Так неужели величайшие христианские святые принципиально отказывались исполнить заповедь, которая даже от неверующих и неблагочестивых людей не требует особых усилий?
Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю (Быт 1:28). Эти удивительные слова стали самым первым обращением Создателя к сотворенным людям, и действительно, исполнялись человечеством во все времена, независимо от отношения людей к Божественным определениям.
Но безоговорочно относить их к разряду заповедей было бы неверно. По мнению известного богослова прошлого столетия, доктора церковного права С. В. Троицкого заповедью эти Божии слова не могут считаться по следующей причине: в библейском тексте буквально этими же словами Господь повелевает плодиться и размножаться сотворенному животному миру. А всякая заповедь может быть воспринята лишь духовно свободной личностью — человеком, или ангелом; но никак не животным.
В самом деле, — животные ведь не нарушают заповедей и не исполняют их. Они просто живут по законам своего естества. Заповеди «Не убий», «Не укради» и «Не прелюбодействуй», как впрочем, и все остальные заповеди, на них никак не распространяются. В самом деле: довольно странно было бы обвинять крокодила в убийстве, крысу в воровстве, а тушканчика в прелюбодеянии. Но столь же странно предполагать, будто человек мог получить одну общую заповедь с животными.
Слова «Плодитесь и размножайтесь» по мысли С. В. Троицкого являются не заповедью, а — дающим силы к плодородию благословением (которое, как односторонний божественный творческий акт одинаково приложимо и к человеку и к животным). Сходную трактовку этих слов из Книги Бытия предлагал святитель Иоанн Златоуст: ... не сила брака умножает род наш, но слово Господне, сказанное в начале: ...плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (Быт. I, 28).
Здесь важно отметить, что, говоря о благословении размножения, Библия не делает различия между человеком и животным миром. Речь о человеке в этом месте Писания (Быт 1: 27-28) идет в терминах, которые обычно применяются в Библии лишь к животному царству. Еврейский текст первой главы Книги Бытия вовсе не говорит, что первозданный человек, получивший это благословение, был мужем («иш») и женой («иша»), как сказано в некоторых переводах. Там употреблены совсем другие слова, которые, хотя и могут быть переведены как — «мужчина» и «женщина», но в Библейском тексте встречаются лишь в значении: самец («закар») и самка («нэкба»). Другими словами можно сказать, что осуществлением этого благословения являются родовые процессы, одинаково действующие как в животном мире, так и в человеке.
При таком взгляде на проблему становится ясно, что преподобные Отцы вовсе не пренебрегали заповедью. Они просто отказывались от реализации родового потенциала своей природы, который в известном смысле можно назвать — животной стороной человеческого естества. Однако нельзя считать, будто Отцы брезгливо относились к этой богоданной стороне. Как раз напротив — они порицали тех, кто гнушался браком и деторождением, как чем-то нечистым и недостойным.
Священномученик Мефодий Патарский писал: Кто тщательно изучит область свойственного человеку по природе, тот убедится, что не следует гнушаться деторождением, но должно хвалить и предпочитать девство.
Ибо потому только, что мед слаще и приятнее других вещей, не следует считать горькими остальные плоды, которые также имеют прирожденную им приятность.
Но почему же для лучших из христиан деторождение, установленное Богом в Раю, оказалось менее сладостным и желанным, нежели девство? Наверное, отчасти можно объяснить это общим мнением, в котором сходились почти все Отцы уже в первые века христианской эпохи: земля уже наполнена людьми, следовательно — цель Божьего благословения достигнута.
И все же главной причиной отказа христианских подвижников от родовой жизни стала метафизическая катастрофа, которая еще на заре истории человечества до неузнаваемости изменила отношения между Богом, человеком и всем сотворенным миром.
На языке богословия эта катастрофа называется коротким, но страшным словом — грех.
Человек получил от Бога благословение на брак и рождение детей еще до грехопадения. И грех, введя в мир смерть, распад и страдание все же не смог уничтожить этих даров создателя. Блаженный Августин пишет: Хотя данное супругам благословение брака — плодится и размножаться, и наполнять землю — остается и в преступивших, оно было дано еще до преступления, дабы явить, что рождение детей — к славе брака, а не в наказание за грех. По библейскому воззрению, разделяемому в своей основе всем человечеством, брак — это остаток рая на земле, это тот оазис, который не был уничтожен великими мировыми катастрофами, не был осквернен грехом первых людей, не был затоплен волнами всемирного потопа. Ту же мысль можно увидеть и в богослужебных книгах православной Церкви: Супружеский союз ни прародительским грехом, ниже потопом Ноевым разорися (чин благословения супруг чад не имущих).
Благословение деторождения сохранилось, но в результате отпадения человека от Бога роковым образом изменились и сам человек, и окружающий его мир и отношения человека с этим миром. Великий Божий дар деторождения, который должен был стать для человека источником величайшей радости и полноты бытия, вдруг превратился для него в источник бед, проблем и скорби.
Как это могло случиться, легко понять на примере нехитрой аналогии: предположим, мальчик увлекается лыжным спортом. Родители, решив порадовать своего любимого сына, дарят ему на день рождения лыжи. Чудесные лыжи из углепластика, жутко дорогие, самой знаменитой фирмы, короче — именно те, о которых он и мечтал. Хороший ли это подарок? Конечно хороший! Но всю радость мальчика напрочь испортило непредвиденное обстоятельство: в результате глобального потепления, снег зимой так и не выпал. На улице вместо сугробов и веселой поземки — противный дождь, под ногами мерзкая слякоть. А в углу стоят прекрасные новые лыжи...
И выбор у мальчика совсем небогатый: либо все же рискнуть и опробовать свой подарок на тоненьком слое снега, который хоть и лег поверх грязи, но тут же прямо на глазах тает. Либо. Либо — обломаться с лыжами, и идти играть в шахматы.
Примерно перед такой дилеммой и стоит человечество после грехопадения. Земля, над которой люди призваны были владычествовать, начала приносить им терния и волчцы, а рождение детей стало болезненным процессом. В мир вошла смерть, и оказалось, что, по словам Псалмопевца: Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь... (Пс 89:10)
Брак и деторождение, конечно же — не грех, вот только стоит ли в таких условиях плодиться и размножаться — большой вопрос. Именно об этом и говорит апостол Павел, когда предостерегает своих учеников: Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. (1Кор 7:28)
Но и скорби по плоти еще не самое грустное обстоятельство семейной жизни. Гораздо печальнее то, что все беды и горести детей неизбежно ложатся тяжким грузом на сердце их родителей. А бед у людей, разучившихся любить Бога и друг друга, во все времена было предостаточно. Первая же попытка реализации благословения на рождение детей в пораженном грехом мире, дала страшный результат: первенец Адама и Евы стал убийцей, а второй их сын — его жертвой.
Убийца-изгнанник Каин, погибший Авель, и их несчастные родители — так началась история человечества, потерявшего Рай. Можно долго говорить о ее продолжении, но это будет очень грустный рассказ. Поэтому, не стоит удивляться словам святителя Игнатия Брянчанинова, писавшего: Мне всегда казалось, тем более теперь кажется супружество игом тяжким и неудобоносимым; я страшился онаго и не понимал, и теперь не понимаю, как могут люди решаться на оное.
И вот тут пришло время вспомнить вопрос рефлексирующего подростка: «Зачем вы меня родили? Я об этом не просил». В самом деле, не является ли деторождение в пораженном грехом мире всего лишь результатом безответственного родительского легкомыслия, граничащего с жестокостью? Ведь человек появляется на свет не по своей воле, выбора у него по понятным причинам нет. Но вправе ли родители делать этот выбор за него?
По здравом рассуждении, конечно же, нет. Но в том-то и дело, что они, ведь, и не делают этого выбора. Как это ни парадоксально, жизнь новому человеку дают вовсе не они.
В эпоху Просвещения европейские философы-деисты создали учение, где мир был представлен в виде некоего идеально устроенного механизма, запустив который однажды, Бог навсегда оставил Свое творение и удалился на покой.
Такое понимание мирового устройства впоследствии и дало основание считать, будто рождение нового человека происходит автоматически, в силу законов природы, действующих в родовой части человеческого естества. Достаточно лишь соединения физиологически здоровых родителей в определенный период и, пожалуйста — новый человек готов появиться на свет! Как говорил Козьма Прутков: щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом.
Приблизительно так в современном мире объясняется величайшая тайна бытия — зарождение новой человеческой жизни. Но мало кто знает, что подобную точку зрения еще 17 веков назад жестко раскритиковали Отцы православной Церкви.
Святой Мефодий Патарский в своем «Пире десяти дев» писал: ...может быть кто-нибудь еще станет утверждать и найдет между людьми нерассудительными и неразумными мнение, будто плотяной покров души, насаждаемый людьми, образуется сам собою без определения Божия; но, конечно, никто не поверит тому, кто стал бы учить, что вместе со смертным телом также насаждается и бессмертное существо души. Бессмертное и нестареющее вдыхает в нас один Вседержитель, и Он один есть Творец невидимого и негибнущего.Этот Творец всех людей есть Бог.
Дело в том, что в православном вероучении никогда не было и намека на то, что Бог не участвует в делах сотворенного Им мира. Само имя «Вседержитель» свидетельствует о том, что Господь всегда поддерживает всю вселенную даже в самых незначительных проявлениях ее бытия. И появление на свет каждого нового человека, конечно же, — результат сознательного творческого действия Божия, но отнюдь не какого-то родового автоматизма. По слову Мефодия Патарского, родители лишь предоставляют свою природу, обладающую благословением деторождения — ...творческой силе Божией, которая под покровом рождения распоряжаясь нашею природою, внутри невидимо облекает нас в человеческий образ, устрояя одеяния для душ.
Мысль о том, что родители вольны рожать детей по своему желанию, святой Отец категорически отвергал, считая, что в таком случае — .мы должны приписать и людям способность создавать людей.
Так же говорит о деторождении и Климент Александрийский, писавший в Строматах, что само по себе рождение есть — таинство творения, а потому виновником рождения является лишь Бог, тогда как родители являются лишь служителями рождения.
В одной из серий замечательного мультика о Простоквашине, между Папой и Мамой происходит такой диалог: — Мы тут с дядей Федором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать. Чтобы строгость снять и сердитость.
В ответ на это конструктивное предложение Мама испугано ойкает, а потом, с металлом в голосе заявляет:
— Ни-ко-гда!
Мультфильм решающее слово в вопросе планирования семьи оставляет за мамой. Но как оценить такую ситуацию с позиций христианского вероучения? И вообще, не является ли грехом само планирование подобного рода?
Ответить на этот вопрос однозначно вряд ли получится, поскольку весь вопрос в том — каким способом достигается желаемый результат планирования. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» безоговорочно осуждаются и приравниваются к убийству все противозачаточные средства абортивного действия. Но применение контрацептивов не связанных с пресечением уже зачавшейся жизни впрямую не осуждается и оставлено на усмотрение самих супругов. Более того, в этом важном нормативном документе Церковь напоминает своим чадам о том, что: ...супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время.
Но в этом же документе, чуть ранее было ясно сказано: намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.
И если бы Простоквашинские Папа и Мама были православными христианами, они, прежде всего, должны были бы выяснить — кто из них более ответственно относится к рождению еще одного ребенка, как они эту ответственность собираются реализовать и какие побуждения ими при этом движут.
Но Простоквашино, это — сказка. А вот в реальной жизни все папы и мамы прекрасно знают, что ни один метод предохранения от нежелательной беременности не предполагает 100% гарантии результата. И если помнить учение Церкви о том, что творение новых людей — дело Божие, то вопрос о планировании семьи для православных христиан сводится к очень простой ситуации: по маловерию в Промысл Божий, по слабости духа или здоровья мы, конечно, можем что-то там планировать, использовать неабортивные контрацептивы, воздерживаться на определенное время от супружеских связей... И эти методы вполне могут давать ожидаемый результат. Только не нужно при этом строить иллюзии насчет того, будто мы и в самом деле можем решать — родиться новому человеку на свет или нет.
Просто наш Бог милосерден. И видя такое «планирование», Он вполне может считаться с ним, снисходя к человеческой слабости. Но уж если Господь решит, что для супружеской пары пришла пора стать родителями, то никакие способы, ухищрения и средства не смогут изменить этого Божьего определения. И тогда муж и жена оказываются перед неизмеримо более ответственным и важным нравственным выбором: стать родителями нового человека, или — его убийцами.
Народная мудрость утверждает, что человек за свою жизнь обязательно должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Но если мы рассмотрим эту традиционную жизненную программу-минимум в свете христианского вероучения, то сразу же станет ясно, что состоит она из двух неравнозначных частей. Ведь даже самый навороченный особняк на Рублевском шоссе, окруженный целой рощей собственноручно посаженных деревьев, несопоставим с рождением ребенка. Да что там особняк! Можно застроить небоскребами всю Сибирь, превратить Сахару в непроходимые джунгли, а на Северном полюсе разбить яблоневые сады. Но даже тогда весь этот архитектурно-ботанический сюрреализм окажется по большому счету — малозначительной безделицей рядом с подвигом самой обыкновенной мамочки, в муках рожающей своего малыша. Потому что и возведенные дома, и посаженные деревья и все остальные дела рук человеческих целиком принадлежат этому миру, существуют лишь в категориях пространства-времени и рано или поздно исчезнут без следа, как будто их никогда и не было.
Библия прямо говорит, что концом истории человечества будет глобальная катастрофа, когда ...небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. (2Пет 3:10)
И только новорожденный ребенок становится в этом обреченном на гибель мире семенем, прорастающим в Вечность, за грань грядущей катастрофы. Потому что именно для вечности через папину и мамину природу творит его Сам Господь. По слову Климента Александрийского, родители становятся служителями этого творения. И наверное, важнейший смысл деторождения как раз и заключается в этом высоком призвании: стать со-творцами, со-трудниками Бога, создающего новых людей. Это участие в деле Божием — дар, полученный нами для достижения высокой моральной цели: ...Для чего все мы не происходим от земли, как Адам? Для того, чтобы рождение, воспитание и происхождение друг от друга привязывали нас друг к другу (свт. Иоанн Златоуст).
Через рождение детей, Господь дает нам возможность вырваться из железного кольца собственного эгоизма и научиться, наконец, жить не ради себя, а ради другого человека.
А этот — другой, лежит себе в коляске, и с любопытством разглядывает нас блестящими глазенками. Он пока еще совсем маленький и беззащитный, он еще ничего не может сам, а мир вокруг такой огромный и непонятный...
Сейчас он полностью доверяет нам. А через какой-нибудь десяток лет с небольшим став подростком, возможно, задаст все тот же вопрос: зачем вы меня родили? И мы, так же как и бесчисленные поколения родителей до нас, не будем знать — что на это ответить.
Но не нужно смущаться своим незнанием. Эти юношеские слова — не хамство и не бравада, это очень честный и правильный вопрос, но вот ответ на него может дать один лишь Господь, призвавший человека от небытия к бытию. И Он обязательно ответит, важно только не угасить в своем сердце это искреннее желание — узнать волю Божию о себе. Потому что Бог, уважая нашу свободу не навязывает Себя людям, открываясь лишь тем, кто стремится с Ним встретится. И когда происходит эта встреча, все неразрешимые вопросы просто исчезают, растворившись в океане Божьей любви, ставшей для человека главным и окончательным ответом.
Зачем он появился на свет? Что его ожидает в будущем, и какими путями Господь поведет его по жизни? Все это сокрыто в глубине Божьего замысла о нем, и мы можем лишь благоговейно умолкнуть перед великой тайной творения — рождением нового человека.
Куда подевался мальчик, которым я был когда-то?
Скажите, долгая старость — награда, или расплата?
Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю?
Понимает ли море то, что я говорю?
О чем молодая листва поет вечернему бризу?
Откуда приходит смерть, сверху, или же снизу?
Сколько листьев, чтоб выжить, платят зиме деревья?
— Мне бы только, чтоб дети не умирали во чреве...
(Пабло Неруда)

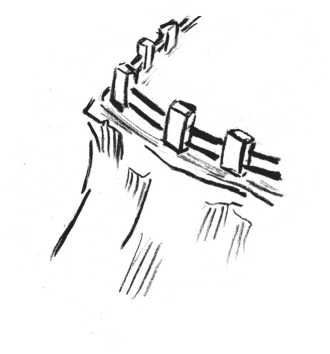
Человек, открывающий для себя Православие, неизбежно сталкивается со странным противоречием: христианство, основанное на проповеди любви и свободы, в то же время является самой догматизированной религией на свете. Ни одна из мировых религий не создала такого сложного и подробного учения о Боге. Горы книг, учебников, богословских трудов, соборных постановлений... Все это богатство христианской мысли часто вызывает у верующего человека двойственное чувство. С одной стороны, возникает смутное ощущение превосходства своей религии над всеми прочими, которое можно выразить наивными словами лесковского Левши: « Наши книги против ваших — толще, значит и наша вера — полнее!». С другой стороны, гордое сознание своего превосходства вдребезги разбивается о первую же серьезную попытку вникнуть в содержание этих толстых и умных книг. С печальным удивлением неподготовленный читатель догматических трудов осознает вдруг, что не в состоянии понять и десятой доли того, что в них написано. Ход мысли автора, суть рассматриваемых вопросов, терминология — ну все непонятно! Или — почти все. А ведь речь идет о самом важном — о том, в какого Бога мы веруем, как веровать в Него правильно, и что считать отклонением от этой правильной веры. Так неужели для того, чтобы быть настоящим христианином, нужно обязательно изучить полный курс догматического богословия и освоить все эти диалектические премудрости и тонкости?
Но мы знаем, что Христос проповедовал свою Благую весть не книжникам, а самым обычным людям. Да и в апостолы Он избрал отнюдь не философов и богословов, а простых галилейских рыбаков. Подавляющее большинство Церкви во все времена составлял малообразованный народ — крестьяне и ремесленники. И если вот уже два тысячелетия Царство Небесное наследуют неискушенные в богословии люди, возникает закономерный вопрос: а тогда что же это такое — догматика, откуда она взялась, для чего нужна и почему она такая сложная?
Не нужно удивляться тому, что в догматах трудно увидеть Бога, что в них нет ни капли поэзии и написаны они сухим языком логики, что при знакомстве с ними не загораются наши сердца любовью к Господу. Вопреки распространенному мнению, догматы вовсе не являются результатом творческих изысков христианского богословия. Православное богословие вообще не является творчеством в расхожем понимании этого слова, и вот почему.
На заре человеческой истории грехопадение отсекло людей от их Создателя, но воспоминание об утраченной полноте Богообщения все же теплилась у представителей всех народов Земли. Эта общая память человечества о Боге и стала основой богословского творчества в разных культурах. Люди всегда знали, что Бог есть, но более не знали о Нем ничего и лишь строили различные предположения. Можно было представить, например, что боги во множестве живут на Олимпе и шалят там, каждый на свой манер. Или философически порассуждать о том, что бог — трансцендентный абсолют. Можно было увидеть бога в крокодиле, бегемоте или в человеке с собачьей головой. Богами становились гром и молния, обожествлялись луна, созвездия, солнце... Отпадшее от Бога человечество придумывало себе богов, словно детдомовец, потерявшийся в раннем детстве, придумывает себе родителей. Он тоже абсолютно уверен, что отец у него есть, но только не знает — кто он. И тогда, в меру своих представлений об идеале, он начинает рассказывать приятелям, что его папа — знаменитый артист, крупный бизнесмен, боец «Альфы», или крутой бандит. До определенного момента он имеет полное право на такое творчество, потому что папа действительно может оказаться кем угодно. Но уж если отец отыскал потерявшегося сына, приехал его забрать, и при этом выяснилось, что он всего-навсего обыкновенный тракторист или скромный служащий в статистическом бюро, тогда — все! Тогда — стоп! Тут все фантазии кончаются. Ребенку уже не важно — «крутой» его папа, или — «ботаник». Важно, что он наконец пришел и что он тебя любит, остальное больше не имеет значения.
Богословское творчество могло существовать лишь до тех пор, пока Бог не открыл Себя людям. Но после Рождества Христова ситуация коренным образом изменилась: Бог вошел в земную историю, став именно — Человеком, а не слоноголовым монстром, крылатым змеем или пучком лучистой энергии. Никакие творческие эксперименты ничего уже не могли добавить к этому откровению и только уводили людей от Истины. После Боговоплощения человеку оставалось лишь привести в соответствие со своим понятийным аппаратом то знание Бога, которое он получил во Христе, однако это оказалось гораздо более тяжелым и неблагодарным занятием, чем творчество. Ученые и художники исследуют и описывают мир, но как описать Того, Кто этот мир создал?
Сами богословы были очень невысокого мнения о результатах своего труда. Не потому, конечно, что работали недобросовестно. Просто они лучше, чем кто-либо другой, знали, что изобразить Бога в категориях человеческого разума невозможно в принципе. Нельзя дать определение Тому, Кто шире всяких пределов. Вот как говорил об этом свт. Григорий, которого Церковь почтительно именует Богословом с большой буквы: «Как никто и никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал совершенно, ни голос не обнимал Божией сущности. Напротив, к изображению Бога заимствуя некоторые черты из того, что окрест Бога, составляем мы какое-то неясное и слабое, по частям собранное из того и другого представление».
Догматы — это сухая статистика, своего рода — подведение итогов интеллектуальных усилий человечества в попытке осмыслить Божественное Откровение.
Знаменитый скульптор говорил: «Как я делаю статую? Очень просто: беру глыбу мрамора, и — отсекаю все лишнее». Создавая догматическое богословие, святые отцы использовали похожие методы: они отсекали от человеческих представлений о Боге все, что не относилось к Богу. Но, в отличие от скульптора, богословы никогда не дерзали даже предположить, будто, отринув все ложные мнения о Боге, они смогут Его изобразить или хотя бы увидеть.
Итак, догмат, безусловно — ограничение. Но ограничивает он не Бога, а пути человеческого разума в познании Бога. Когда человек поднимается в горы, он может попасть под обвал, неосторожно вызвать лавину, наконец, просто сорваться в расщелину на очередном повороте горной тропы. И ограничительный знак, предупреждающий об этой опасности, может спасти ему жизнь.
Наш разум, восходя к Богу, также должен знать допустимые пределы. Догматы и есть — такие ограничительные знаки для человеческого разума, предупреждающие, что тропа закончилась, пешего пути вверх больше нет, впереди — пропасть. Как писал К.С. Льюис, «... дальше можно только лететь».

Парадокс возникновения догматического богословия — в том, что Церковь не испытывала внутренней потребности в его создании. Имея живую связь с Богом в Таинствах и молитве, христиане не нуждались в точных рациональных формулировках сущности своей веры.
Здесь нет ничего необычного. В жизни много явлений, которые нельзя описать в категориях разума, но это нисколько не мешает нам пользоваться этими явлениями. Ну, как можно описать словами вкус абрикоса, например? Или запах одуванчика? Очевидно, что — никак. Но это вовсе не мешает нам с удовольствием есть абрикосы, нюхать одуванчики и радоваться таким простым вещам, не поддающимся рациональному осмыслению.
Бог для христиан — предельная Реальность, к которой они приобщаются в таинстве Евхаристии. И не догматические определения, а именно этот живой опыт общения с Богом, был основой и главным содержанием христианства во все времена.
Святые отцы прекрасно понимали, по слову святителя Григория Богослова, что наш ограниченный разум может составить лишь какое-то очень неясное и слабое, по частям собранное из одного и другого представление о Боге. Но, в таком случае, почему же богословы все-таки попытались выразить свое живое опытное знание сухим языком догматических формулировок? Этому была одна, но очень серьезная причина — ереси.
Что же такое ересь? Это ложное учение о Боге, проповедуемое от лица Церкви. Причем ложь в ереси, как правило, не является осознанной. Это, скорее — богословская ошибка, заблуждение. И догматы появлялись в Церкви именно как исправление ошибок, наделанных еретиками.
Таким образом, о неизреченных предметах веры первыми заговорили создатели ересей. Отцы Церкви просто вынуждены были давать им отпор на предложенном еретиками же языке античной философии.
Причина такой последовательности развития догматического богословия вполне понятна: взяться за изъяснение неизъяснимого может лишь тот, для кого абсолютно все ясно и понятно. Отцы же считали Бытие Божие — неприкосновенной тайной, которой можно лишь поклоняться в благоговейном молчании. Вот как пишет об этом свт. Илларий Пиктавийский: «Злоба еретиков вынуждает нас совершать вещи недозволенные, выходить на вершины недостижимые, говорить о предметах неизреченных, предпринимать исследования запрещенные. Следовало бы довольствоваться тем, чтобы искренней верой совершать то, что нам предписано, а именно: поклоняться Богу Отцу, почитать с Ним Бога Сына и исполняться Святым Духом. Но вот мы вынуждены пользоваться нашим слабым словом для раскрытия тайн неизреченных. Заблуждения других вынуждают нас самих становиться на опасный путь изъяснения человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с благоговейной верой сохранять в глубине наших душ».
Вера приходит человеку на помощь там, где кончается знание. Святые Отцы видели непостижимость глубин Божественного Бытия и смиренно принимали это как — тайну. Еретики же, напротив, пытались разумом проникнуть в сферы, где человеческий ум оказывается бессилен и превращается в безумие.
Правда, внешне еретические построения были довольно стройными и логичными. Но логика не терпит тайн, она всегда стремится их объяснить, сделать понятными и, в конечном счете — уничтожить. Так получалось и в ересях: там все было логично, последовательно и доступно пониманию, там не оставалось ничего противоречивого и таинственного. Но вместе с тайной оттуда исчез и Бог.
Механизм возникновения ереси довольно прост: мысль движется по линии наименьшего сопротивления, устремится к наиболее логичному решению, и... незаметно отрывается от реальности. Результат в итоге получается красивый и гармоничный, но никуда не годный на практике. Так философ, плохо разбирающийся в сельском хозяйстве, может утверждать, что для того, чтобы коровы потребляли меньше кормов и давали больше молока, их нужно реже кормить и чаще доить. И формально это утверждение будет вполне логичным. Вот только бедная корова при таком режиме содержания не протянет и недели. Это очевидно для всякого, кто хотя бы немного знаком с коровами.
В четвертом веке александрийский священник Арий создал учение о Христе, которое по конструкции чем-то напоминало тезис незадачливого философа-животновода. Смысл этого учения сводился к следующему: Бог творит мир через рождаемый Им Божественный Логос, Слово. Логос это и есть — Сын Божий. Но мир не вечен, он получил свое начало при сотворении. А если мир не совечен Богу, то и Сын — Слово не совечен Отцу, поскольку Слово — орудие для творения мира. Следовательно, было время, когда не было и Слова. А значит — Бог вначале сотворил Логос, чтобы потом через Него сотворить и мир.
Все вроде бы логично и стройно. Но совершенно неприемлемо для православного сознания.
Увлекшийся блестящей игрой своего разума, Арий доигрался до утверждения, будто пришедший на землю Христос — не Бог, а всего лишь творение Божие. Но если Христос не Бог, кому тогда поклоняются христиане? Получалось, что — творению, вместо Творца.
Так, стремясь к логичности, Арий выбросил из христианства самое главное его содержание — веру в Воплотившегося Бога. И ничуть этим не смутился. Зато эпоха «арианской смуты» в Церкви растянулась почти на столетие.
У Ария оказалось огромное количество последователей, как среди духовенства, так и среди мирян. Этому была своя причина. Дело в том, что ариане использовали для популяризации своего учения приемы, вполне сопоставимые с политтехнологиями современных организаторов «оранжевых революций». Арий сочинял стишки для простолюдинов и матросов. Сборник этих виршей под названием «Фалия» пользовался в народе большим успехом. В среде интеллектуалов ходили по рукам памфлеты, в портовых кабаках и на площадях бродячие музыканты исполняли арианские песенки, по святоотеческому слову «.. .распевая и выплясывая хулу на Всевышнего». Афанасий Великий так описывал действия «пиарщиков» нового учения:
«Ариане не в малом числе ловят на торжищах отроков и задают им вопросы не из Писаний Божественных, но как бы изливаясь от избытка сердца своего: «Несущего или сущего сотворил Сущий из сущего? Сущим или несущим сотворил его?» — и еще: «Одно ли нерожденное или два нерожденных?» Потом приходят они к женщинам и им также предлагают свои неприличные вопросы: «Был ли у тебя сын, пока ты его не родила? Как не было сына у тебя, так не было и Божьего Сына, пока не рожден Он».
По сути дела, в народе искусственно была создана мода на арианство. Сложнейшие теоретические вопросы были брошены на рассмотрение людей, совершенно в них не разбирающихся. Последствия этой информационной атаки были весьма плачевными — богословствовать начал всяк, кому не лень. Логичное и понятное учение Ария в тех условиях многим казалось истинным христианством.
Все это безобразие не могло не возмутить людей благочестивых и здравомыслящих. Свт. Григорий Нисский с горечью обличал своих современников за их чрезмерное пристрастие к спорам на богословские темы: «Иные, вчера или позавчера оторвавшись от своих обычных трудов, внезапно стали учителями богословия, другие — может быть, слуги, не раз подвергавшиеся бичеванию, бежавшие от рабского служения — с важностью философствуют у нас о непостижимом... Все в городе полно такими людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это и торговцы одеждой, и денежные менялы, и продавцы съестных припасов. Ты спросишь об оболах, а он философствует перед тобой о рожденном и нерожденном; хочешь узнать цену хлеба, а он отвечает тебе, что Отец больше Сына; справишься, готова ли баня, а он говорит, что Сын произошел из ничего».
Этот разгул «народного богословия» и послужил толчком к появлению христианской догматики. Заблуждения еретиков вынудили Святых Отцов встать на опасный путь изъяснения человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с благоговейной верой хранить в глубине души.
В 325 году на Первом Вселенском Соборе в Никее арианство было осуждено. Тогда же были сформулированы и главные догматические определения православной веры. В 381 году на Втором Вселенском Соборе в Константинополе они были уточнены и составили тот самый Символ Веры, который вот уже более чем полтора тысячелетия неизменно читается или поется за каждым православным богослужением.
Но и после краха арианства на целостность вероучения Церкви еще не раз покушались создатели множества других ересей. Церковь отвечала на это новыми Соборами, где вырабатывались новые догматы, опровергавшие ложные учения о Боге. Так формировался кодекс православной догматики.
Сами по себе догматы для неподготовленного человека непонятны и малоинформативны. Это часто сбивает с толку. Ну, узнал я, допустим, что «Бог Един по существу, но Троичен в Лицах». Ну и что? Разве понятнее мне стало что-либо о Боге? Да нет, скорее, наоборот. Один — это один, три — это три. А здесь предложено что-то парадоксальное — три равно одному!
Или: «Христос — совершенный Бог и совершенный Человек», то есть Христос, как Личность, обладает двумя природами — Божественной и человеческой одновременно. Ну и как это можно понять? В греческой мифологии есть такое странное существо — кентавр. И с ним, например, все ясно: наполовину — человек, наполовину — лошадь. Ни то ни се. А тут как думать? Христос — Бог? Конечно! Он творил чудеса, воскрешал мертвых, ходил по воде... Христос — Человек? Безусловно! Он нуждался в пище и сне, плакал, страдал, наконец — умер на кресте.
Так кто же Он — Бог или Человек? Догматика снова отвечает парадоксом — и Бог, и Человек. Одновременно и в полной мере. Понять такие вещи человеческий разум просто не в состоянии.
Но эти формулировки и не создавались для объяснения или описания Бога. Догматами отцы отвечали горе-богословам, которые для удобства понимания пытались рассуждать о Христе, как о каком-то «божественном» кентавре: наполовину — Бог, наполовину — человек. Церковь дала еретикам твердую отповедь: никакого «наполовину» или «отчасти»! Христос — совершенный Бог и совершенный Человек.
Творец мира вошел в этот сотворенный Им мир и стал Человеком, не прекращая быть Богом. Как такое чудо стало возможным — тайна Боговоплощения, недоступная даже ангелам.
Поэтому не стоит смущаться своим непониманием смысла догматов. Они — лишь свидетельствуют о тайнах Божественного Бытия, но никогда не претендовали даже на попытку их раскрытия.
Честертон в романе «Шар и крест» с легкой иронией изобразил православного отшельника, который «...не зная печали, жил в своей окруженной горами хижине, обличая ереси, последние приверженцы которых переказнили друг друга 1119 лет тому назад». К сожалению, ирония английского писателя-христианина была вызвана его несколько формальным пониманием ереси. На самом деле ересь — неуничтожима. Во всяком случае, ее совершенно точно нельзя уничтожить, переказнив всех ее сторонников.
Источник ересей — человеческий разум, пораженный грехом и гордыней. Во все времена человек, читая Евангелие, сталкивается с Тайной. И во все времена подстерегает его искушение: объяснить необъяснимое, раскрыть сокровенное, постичь непостижимое. А углов, которые можно попытаться спрямить, в Евангелии не так уж и много. Поэтому создатели новых «христианских учений» тешат себя мыслью о собственном новаторстве лишь в силу плохого знания церковной истории. И если сегодня посмотреть внимательнее на любое неправославное учение, именующее себя «подлинно христианским», легко можно убедиться, что в основе этого учения лежит концепция одной или сразу нескольких древних ересей.
За примером далеко ходить не надо. Гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой создал свою трактовку христианства, по которой Христос был не Богом, а человеком, стремящимся к добру. Толстой отредактировал Евангелие, выкинув оттуда все упоминания о чудесах, совершенных Иисусом; окончательно разругался с Православной Церковью, пытавшейся его образумить; сбил с толку небольшую часть русской и зарубежной интеллигенции, спутавшей его авторитет писателя с пророческим даром. Умер он, будучи отлученным от Церкви, с сомнительной славой создателя новой религии (которая после его смерти довольно быстро завяла, так и не получив широкого распространения).
А ведь, по сути, Лев Николаевич всего лишь повторил учение Ария, причем — в той самой, упрощенной версии «для бедных», которую тот распространял когда-то по александрийским кабакам. И сама идея толстовства: «Христос — не Бог», и вывод из нее: «Мы тоже можем уподобиться Христу, делая добро», — почти буквальная копия того, что когда-то говорили о Христе ариане: «Не потому избрал Его Бог, что у Него было нечто особенное и преимущественное пред прочими существами по природе и не в силу какого-нибудь особого отношения Его к Богу, но потому, что, несмотря на изменчивость Своей природы, Он чрез упражнение Себя в доброй деятельности не уклонился ко злу. Если бы равную силу явили Павел или Петр, их усыновление ничем бы не отличалось от Его усыновления».
Арий утверждал, что Христос — «Сын Божий не по существу, а по усыновлению», что «мы, как и Христос, можем сделаться Сынами Божиими, но только по имени». Все эти рассуждения мало чем отличаются от толстовства и очень напоминают вопли киплинговских бандерлогов, впервые увидевших Маугли: «Он такой же, как и мы! Только — без хвоста!».
«Не всякому, говорю вам, можно философствовать о Боге, не всякому! Это вещь не дешевая и не для пресмыкающихся по земле! ...Итак, не всем это доступно, а только тем, которые испытали себя и провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили душу и тело, или, по крайней мере, очищают. Ибо для нечистого может быть небезопасно прикоснуться к чистому, как для слабого зрения — к солнечному лучу». Эти грозные слова Григория Богослова, сказанные им во времена арианских волнений, и в наши дни не утратили своей актуальности. Православному христианину не нужно смущаться сложностью догматического учения Церкви, поскольку он совсем не обязан знать это учение во всех подробностях. Догматика — это наука. И заниматься ею, как и любой другой наукой, должны специалисты.
Для неспециалиста же — вполне достаточно знания того догматического минимума, который Церковь признала обязательным для всех своих членов. Этот минимум — Символ Веры, который христианин читает при крещении, а потом ежедневно повторяет в утренних молитвах.
Для того, чтобы пользоваться компьютером, совсем не обязательно изучать программные коды, а любитель симфонической музыки далеко не всегда разбирается в политональных наложениях. Так и православный Символ Веры — надежное догматическое оружие христианина для отражения ложных мнений о Боге и свидетельства своей верности Церкви.
Православие не тождественно учебнику по догматическому богословию, а внутреннее содержание христианской веры не сводится к ее оборонительным рубежам, как московский Кремль не сводится к кремлевской стене. Поэтому теоретическое знакомство с православной догматикой мало что может дать человеку, желающему понять, наконец, в какого же Бога веруют христиане. В Церкви для истинного познания Христа всегда существовал совсем иной путь и иные критерии: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины...» (1Ин. 2, 4-5).
Основа подлинного христианского богословия — жизнь по заповедям Христовым. Вот к какому способу Богопознания во все времена призваны абсолютно все христиане, без каких бы то ни было исключений. И лишь практический опыт христианской жизни может стать для человека ключом к правильному пониманию православной догматики.
Но даже если христианин не станет углубляться в подробности своего вероучения, он все равно обязательно познает Бога по слову свт. Игнатия (Брянчанинова): «Исполняй заповеди Господа — и чудным образом увидишь Господа в себе, в своих свойствах».
Попытавшийся жить по заповедям человек вдруг начинает видеть помощь Бога в самых обычных своих делах, чувствовать, как Бог поддерживает его в трудную минуту, как аккуратно и заботливо участвует Бог в его жизни. И этот опыт дает человеку понимание Бога, несопоставимое ни с каким знанием догматических тонкостей. Как для засыпающего ребенка мама становится ближе и понятней через простое движение ее руки, ласково поправляющей на нем сползшее одеяло.

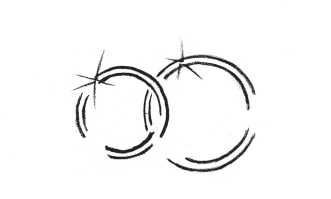
Для чего люди вступают в брак? Вопрос, казалось бы, совершенно бессмысленный, так как в брак вступают вовсе не «для чего», а как раз — «потому что». Потому что любят друг друга, потому что не мыслят своей дальнейшей жизни без любимого человека рядом. С этим трудно не согласиться. Брак — закономерное следствие взаимной любви мужчины и женщины. В этом смысле он самоценен, и не нуждается в дополнительных обоснованиях.
Но почему же сегодня брак стал таким непрочным, почему количество разводов, по существующей статистике, зачастую превышает количество бракосочетаний? Куда уходит любовь и стремление быть вместе у молодых людей, которые разводятся, не успев, порой, отпраздновать и первой годовщины своей свадьбы?
Вообще, в современном обществе брак представляет собой печальное зрелище. Брачные контракты, в которых оговаривается — кому, чего и сколько достанется при разводе; так называемые — «пробные браки», когда мужчина и женщина договариваются — поживем пока так, а вдруг мы не подходим друг другу... Наконец — совсем уж странная форма сожительства, которую в наши дни, почему-то, называют — «гражданский брак», когда, фактически находясь в брачных отношениях, люди категорически не желают их регистрировать ни в какой форме. За всеми этими новациями скрывается какое-то удивительное неверие своему сердцу, неуверенность в своем выборе, недоверие к чувствам любимого.
Такое ощущение, будто люди просто стали бояться себя и друг друга, причем настолько сильно, что сам брак очень часто рассматривается сегодня, главным образом, в перспективе потенциального развода. И все «пробные», «гражданские» и подобные им формы брака, на самом деле являются выражением этого страха. Ведь если считать, что брака не было, или он был условным, значит и развод невозможен в принципе, т.к. нельзя разрушить то, чего вроде бы, как и не существовало. Эта хитрая логика весьма напоминает рассуждения Воробьишки из известной сказки: «... Пускай деревья не качаются! Тогда и ветра не будет». Получается, что гарантия невозможности развода — в отсутствии брака. А лучшее средство от головной боли — гильотина.
Впрочем, зарегистрированный брак сегодня мало чем отличается от «пробного». Когда об известном артисте читаешь в газете, что он: «. прекрасный семьянин и очень счастлив в четвертом законном браке», завидовать такому счастью как-то не очень хочется. Четыре брака, и все — по любви! Как говорится: без комментариев.
Очевидно, следует признать, что взаимная любовь — прекрасное основание для вступления в брак, но вот для совместной жизни в браке ее, увы, очень часто бывает недостаточно. Она для этого слишком уязвима. У кого-то, как у Владимира Маяковского, «любовная лодка разбилась о быт», у кого-то — об измену. Даже простое нежелание понять друг друга может убить любовь. А значит, в браке нужны какие-то иные, более устойчивые смыслы и мотивации, которые и саму любовь сумели бы уберечь от крушения.
Что же может объединять семью сильнее и надежнее любви? Может быть, дети? Но дети вырастут, и перед ними со всей силой встанет все тот же вопрос: для чего люди вступают в брак? И если смысл брака лишь в рождении и воспитании следующего поколения, то это не смысл, а бессмыслица. Потому что даже бесконечная цепь нулей в итоге равна нулю.
Вероятно, основой счастливого брака может стать какая-то его сверхмотивация, делающая изначально неоправданной любую субъективную причину развода. А сфера, где действуют сверхмотивации, — это мир религии, которая выводит человека в вечность, за пределы его земной жизни.
Необходимость обретения высшего смысла своего супружеского союза понимают или интуитивно чувствуют многие пары, вступающие в брак. Поэтому венчание молодоженов после регистрации в ЗАГСе стало сегодня в России почти традиционным. Причем, венчаются не только воцерковленные пары, но и люди, которые в храм до этого заглядывали разве что из любопытства. Очевидно, предполагается, что венчаный брак будет крепче и счастливее невенчаного, что Бог каким-то сверхъестественным образом обеспечит его нерушимость.
Увы, увы... К сожалению, венчаные браки тоже довольно часто оказываются непрочными. Возникает закономерный вопрос: а в чем же тогда, собственно, разница? Что есть в церковном браке такого, чего бы не было в обычном, гражданском? И если это «что-то» все-таки есть, то почему же оно не дает гарантированного результата?
Разница, безусловно, есть. Причем — принципиальная. Попробуем разобраться.
В Церкви значение брака столь высоко, что он рассматривается как Таинство. А любое Таинство в Церкви — прямое действие Бога, Который по молитвам верующих подает им Свою благодатную помощь.
Обычный же брак, по определению, — всего лишь запись акта гражданского состояния. Это просто бюрократическое мероприятие, в котором государство признает данный союз юридически законным.
Представьте себе, что два мальчика в один и тот же день появились на свет. Но одному из них на очередной день рождения подарили велосипед, плеер, микроскоп, новый ранец и еще кучу всяких подарков. А другому просто сказали: «Имей в виду, сегодня тебе исполнилось десять лет». И все. Никаких подарков, просто констатация факта. И тут, и там — день рождения, но разница между ними — очевидна.
Церковь с уважением относится к гражданскому браку, но для своих членов Она приготовила нечто большее, чем простая регистрация. В Таинстве брака молодожены получают от Бога особые дары, новые качества и способности, которых ранее они не имели. Но сами по себе эти дары еще не гарантируют счастливой семейной жизни. Мальчик, получивший подарки, может сломать велосипед, потерять плеер, порвать ранец, а микроскопом — забивать гвозди. И в этом случае он ничем не будет отличаться от своего несчастного ровесника, ничего не получившего в день рождения.
Так и дары Бога может оценить и верно использовать лишь тот, кто осознает, что он получил и для чего ему это нужно.
Таким образом, вопрос о разнице между церковным и гражданским браком сводится к другому вопросу — чем же отличается христианин от неверующего человека? Тут ответить уже проще: неверующий человек, даже самый нравственный и добродетельный, осмысливает свое существование лишь в пределах, ограниченных его физической смертью.
А христианин живет для вечности. Вся его земная жизнь — лишь приготовление к жизни будущего века. Поэтому все окончательные смыслы и цели его бытия спроецированы именно туда, за порог смерти, где для неверующего человека заканчивается абсолютно все.
Христианский брак — это совместный путь супругов к блаженной вечности со Христом. Он начинается здесь, на земле, но ведет их к Небу. Этот путь — не самодвижущаяся дорожка эскалатора. Идти по нему порой так тяжело, что человеческих сил на его преодоление просто не хватает. Но невозможное человекам возможно Богу. Дары благодати, полученные христианскими супругами в Таинстве брака, как раз и предназначены для восполнения человеческой немощи на этом пути. Господь щедро наделяет ими все христианские семьи, но использовать их можно только по назначению. И тот, кто венчается в Церкви с какой-то иной целью, рискует прожить жизнь, даже не прикоснувшись к этим удивительным Божьим дарам. Потому что силы, данные для восхождения к Небу и Вечности, невозможно использовать для более «приземленных» задач. Как топливом для космического корабля невозможно заправлять мотороллер.
В Евангелии Христос говорит о браке странные слова: ... оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть (Мк. 10, 8). Оказывается, смысл брака в том, чтобы двое стали одним! Причем, «одна плоть» здесь совсем не означает только лишь «одно тело». Речь идет о такой глубине единения во взаимной любви, когда два человека уже не мыслят жизни друг без друга, и каждый осознает себя продолжением любимого, его неотъемлемой частью. Как такое чудо становится возможным — трудно понять, если не знать Библейской истории о сотворении человека.
В Библии говорится, что Бог создал человека, в котором мужское и женское начало присутствовали во всей полноте. Все свойства и качества личности, которые мы сегодня определяем как — мужские, или — женские, в Адаме были заложены изначально. Первый человек был самодостаточным существом, обладавшим всей полнотой знания об окружающем его мире, так как был создан Богом для господства над этим миром. Но в своем совершенстве и самодостаточности он был один. А жить лишь для себя тягостно даже в Раю. И тогда Бог сотворил Адаму жену. Вот как об этом написано в Книге Бытия: И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт. 2, 18). Правда, слово «помощник», использованное в русском переводе Библии, здесь не совсем соответствует еврейскому подлиннику. Возможен другой перевод этой фразы: «сотворим ему восполняющего, который был бы перед ним». И далее, следует описание акта творения женщины, который совершенно уникален и не имеет в библейской истории сотворения мира никаких аналогов. Бог творит женщину из... самого Адама: И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно изребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть (Быт. 2, 21-24).
Вот откуда Христос процитировал упомянутые здесь выше слова о единстве и нерушимости брака. Первая жена стала плотью от плоти мужа не в аллегорическом, а в самом, что ни на есть прямом смысле. Мы не знаем достоверно, как именно произошло это удивительное событие. Можно лишь сказать, что пресловутое «ребро Адама», над которым в советские времена так любили потешаться пропагандисты «научного атеизма», также — результат не совсем точного перевода. Слово, переведенное на русский как —«ребро», в древнееврейском языке имеет более широкое значение — ребро, бок, сторона и даже — одна из створок двери. Поэтому, нельзя понимать библейское «ребро» исключительно в анатомическом смысле. Суть этого слова в том, что женщина есть равноценная и равнозначная по своему достоинству половина человеческого рода. Бог сотворил Адаму жену, отделив от него некую часть, сторону, где женская природа в нем уже существовала. Как это произошло — тайна творения. Но выражение «моя половина» по отношению к жене с христианской точки зрения совсем не является поэтической метафорой. Это, скорее, констатация факта. Свт. Иоанн Златоуст говорит об этом совершенно определенно: «...творческая премудрость разделила то, что с самого начала было одно, чтобы потом снова объединить в браке то, что Она разделила. .Тот, ктоне соединен узами брака, не представляет собою целого, а лишь половину. Мужчина и женщина не два человека, а один человек».
А о радостном восклицании Адама, увидевшего перед собой восполняющую его бытие жену — «вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей», св. Астерий Амасийский пишет: «Эти слова Адама были общим признанием, высказанным от лица всех мужчин всем женщинам, всему женскому роду. Его слова обязывают всех прочих. Ибо то, что в начале произошло в этих первозданных, перешло в природу потомков».
От Адама и Евы мужчина и женщина влекутся друг к другу, стремясь восстановить единство общей природы.
Но почему же тогда Церковь так категорично осуждает блуд? Ведь если это влечение заложено в их естестве, что плохого в его удовлетворении, пусть даже и вне брака? Современная идеология так называемой «свободной любви» строится как раз на этом природном влечении полов. Основной ее тезис звучит примерно так: если у человека есть потребность, нужно ее удовлетворить, ведь что естественно, то не безобразно.
Звучит, вроде бы, складно. Но по своему содержанию эта фраза глубоко ошибочна и внутренне противоречива.
Дело в том, что само слово «безобразие» — христианский термин, означающий отсутствие в ком-либо образа Божия. Человек сотворен по образу Божиему, но совсем не естество или природа являются в нас его выражением. Христианство жестко разделяет в человеке личность и естество, принадлежащее этой личности. И поскольку Сам Бог — Личность, то и образ Его в человеке запечатлен на уровне личности. А вот естество как раз лишено этого образа, потому что само по себе — безлико.
Брак подразумевает два уровня единства супругов — личностный и природный. В христианском браке человек с радостным удивлением начинает понимать, что та красота души, те достоинства и качества личности, которые так дороги ему в любимом, это не что иное, как — отблеск красоты Божьего образа. И такой взгляд друг на друга, как на икону Создателя, конечно, связывает мужчину и женщину гораздо сильнее обычного естественного влечения.
Блуд же объединяет людей лишь на уровне естества. Это ущербная форма человеческих отношений, в которой мужчина и женщина вступают в телесную близость, лишь повинуясь влечению своей природы, и полностью игнорируют друг в друге личность, образ Божий. Что, собственно, и является безобразием, или отсутствием целомудрия, (которое многими ошибочно воспринимается как отрицание телесных отношений в принципе). На самом деле, именно в браке эти отношения как раз и являются целомудренными, поскольку подразумевают цельное, полное восприятие любимого человека, без его разделения на личность и природу.
Ущербность нецеломудренного отношения к противоположному полу можно лучше понять на примере, взятом из жития прп. Петра и Февронии Муромских.
«Некий мужчина, плывший со своей семьей в одной лодке с Февронией, засмотрелся на княгиню с вожделением. Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и другой стороны лодки. Одинакова ли вода или одна слаще другой?» — «Одинакова», — отвечал тот. «Так и естество женское одинаково, — молвила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе».
Здесь хорошо видна удивительно спокойная и цельная мудрость прп. Февронии. А на фоне этой мудрости — откровенная глупость «естественного» порыва ценителя женской красоты.
Несчастный граф Казанова пытался вычерпать океан чайной ложкой. Растратив жизнь на поиски своего идеала в чужих постелях, он так и не понял, что полнота любви достижима лишь в браке. Когда не только естество, но все свои помыслы и стремления, всю свою жизнь без остатка мужчина посвящает своей избраннице. И когда прелести всех красавиц мира для него вдруг теряют смысл, потому что нежность, красота и очарование женщины во всей их глубине и силе уже раскрылись для него в любимой жене.
В рассказе «Душечка» А.П. Чехов описал удивительный феномен супружеской жизни. Героиня рассказа Оленька, настолько проникалась интересами и делами мужа, что незаметно становилась подобной ему почти во всем. Правда, Чехов, с присущей ему иронией изобразил этот ее талант всего лишь как следствие ее внутренней духовной пустоты. Для этого он дважды за рассказ сделал Оленьку вдовой, а напоследок, лишил ее надежды на третий брак с ушедшим от жены ветеринаром. Но, несмотря на все усилия Антона Павловича, Оленька не выглядит в рассказе пустым бессодержательным существом. Даже в таком карикатурном виде, ее способность полностью отдавать себя любимому человеку вызывает глубокое уважение. Дело в том, что супружеские отношения подразумевают такую степень откровенности и близости, такой тесный контакт двух людей, что подобное взаимопроникновение личностей мужа и жены становится просто неизбежным.
Наверное, каждый встречал в своей жизни людей с особым, неотразимым личным обаянием. Впервые встретив такого человека и пообщавшись с ним пару часов, потом вдруг начинаешь понимать, что непроизвольно стараешься быть на него похожим, копируешь его интонацию, мимику, жест...
В браке такое взаимное влияние супругов друг на друга неизмеримо сильнее. Муж и жена начинают будто бы отражаться друг в друге. И какое же это счастье: видеть, что с каждым днем в тебе появляются все новые и новые черты, которые так дороги тебе в любимом человеке! С какой радостью и изумлением начинаешь замечать, как и в нем все чаще проскальзывает нечто, ранее принадлежавшее лишь тебе!
И как же невыносимо больно и страшно, когда такая близость вдруг рушится, и человек снова остается в пустоте собственного одиночества. Иногда можно услышать: «Ну а если любовь прошла? Чего там переживать — разошлись, и все дела. Подумаешь — горе!».
Нет, это горе, это большая беда. Развод — всегда трагедия, какая бы причина его ни вызвала. Ведь любили же люди друг друга, ведь было же в их жизни то самое единство, которое каждый день наполняло их сердца радостью... Каждая разбитая любовь оставляет в душе человека глубокую рану. И неважно — разрушенный ли это брак, или оборванный роман. Срастись со своей половинкой, жить с ней одной жизнью, дышать в одно дыхание, а потом вдруг оторваться и уйти возможно только с кровью, с мясом, с оборванными нервами и сосудами. А потом нужно пытаться как-то жить дальше и надеяться, что новая любовь будет более счастливой.
Развод в Церкви понимается именно как катастрофа, в результате которой брак прекращает существовать. Поэтому никаких обрядов и священнодействий для расторжения брака в Церкви нет, и никогда не было. В любом священнодействии Церковь призывает Божье благословение на людей и их добрые начинания. Ну а что можно благословить в разводе? Ничего. Можно лишь с горечью признать, что одной любовью на Земле стало меньше.
Почему люди ссорятся даже в счастливом браке? Ведь любят же, жить друг без друга не могут, а вот ругаются порою из-за сущей ерунды.
Скорей бы уж хлынул ливень,
Скорей бы уж грянул гром.
Живем — как две тучи злые,
Господи, как живем...
И повод-то — меньше зернышка,
А сразу — сердца на ключ...
Дочурка, тревожное солнышко
Мается между туч.
В этом замечательном стихотворении В. Ермакова особенно интересна одна деталь: действительно, причины семейных ссор бывают настолько незначительны, что даже говорить о них всерьез, как-то неловко. Но почему же такие ничтожные поводы вызывают у любящих друг друга людей столь бурную реакцию?
Объяснение этому следует искать все в том же глубочайшем природном и личностном единении мужа и жены в браке. Став одной плотью и одной душой, люди начинают очень болезненно воспринимать даже самый маленький укол неприязни или простого невнимания со стороны супруга. Любая, даже самая мелкая обида при такой степени открытости друг перед другом начинает восприниматься, как удар, предательство и измена. Это состояние очень тонко изображено Львом Толстым в романе «Анна Каренина», когда между Левиным и Кити произошла первая ссора после свадьбы.
«Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности... вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он... Он испытывал в первую минуту чувство подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль».
Эти «удары сзади» не что иное, как — действие греховного повреждения человеческой природы. Дело в том, что естество потомков Адама и Евы унаследовало от своих прародителей не только способность мужа и жены соединяться в сверхиндивидуальном единстве брака, но и все те болезненные искажения природы человека, которые явились результатом отпадения первых людей от Бога. А общий смысл этих искажений, в конечном счете, можно свести к эгоизму и неспособности падшего человека любить кого бы то ни было, кроме себя самого. В православной аскетике эта страшная сила, отделяющая людей от Бога и друг от друга, называется «самость».
И в браке эта сила действует, может быть даже, разрушительнее, чем где бы то ни было. В самом деле: супруги стали в браке единым существом, не знают, где кончается она и начинается он; но каждый из них принес в это единство свои духовные болячки. Поэтому обоим придется ощутить на себе этот груз «самости» своего избранника, его эгоизма и внутренней испорченности. Две «самости» начинают разрывать единство любящих людей изнутри. Любая ссора грозит превратиться в катастрофу, потому что, обижая супруга, человек, по сути, наносит рану самому себе. Брак делает взаимопроникновение двух людей почти абсолютным, а два эгоизма мучают эту единую плоть, используя самые незначительные причины для ссоры.
Такая духовная коррозия может незаметно подточить и уничтожить самую горячую любовь. И сохранить ее можно лишь с Божией помощью.
Вот здесь и становится понятно, зачем нужны дары благодати, которые муж и жена получают в Таинстве брака. Для христиан любовь — не абстрактная субстанция, разлитая в воздухе. Это, скорее, способ бытия, уподобляющий человека Богу, который Сам есть — Любовь. И если супруги-христиане видят, что их грехи убивают в них способность к этому Богоподобному бытию, они знают, чем лечить этот недуг. Причащаясь в Таинстве Евхаристии пречистых Тела и Крови Христовых, члены Церкви непостижимым образом соединяют себя со Христом. И получают силы дальше бороться за свою любовь с собственным эгоизмом. А Венчание открывает для супругов возможность совместно приступать к Евхаристической чаше.
И если в обычном браке муж и жена вынуждены сами, из последних сил пытаться пронести свою любовь сквозь житейские бури и катаклизмы, то в христианском браке гарантия единства мужа и жены — в единении их со Христом, подающим им терпение и кротость, способность уступать в спорах и нести тяготы друг друга.
А чтобы окончательно понять разницу между Церковным браком и гражданским, следует просто посмотреть, каковы же свойства любви, подаваемой Христом верующим супругам. Апостол Павел пишет: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1Кор. 13, 4-7).
Пусть любой человек, сколь бы скептически он ни относился к христианству, попытается примерить эти характеристики к своему чувству. И стазу станет ясно, почему человеческая любовь так уязвима и хрупка, а Божественная — сильнее смерти.
И «Ты» и «Я» — перекипевший сон,
Растаявший в невыразимом Свете.
Мы встретимся за гранями времен,
Счастливые, обласканные дети.
(А.Белый)
В христианском браке муж и жена верят, что даже физическая смерть не разрывает единства их любви, и что, по слову святителя Иоанна Златоуста, «...в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг другом в великой радости».
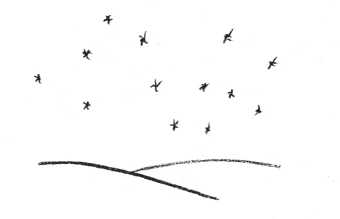
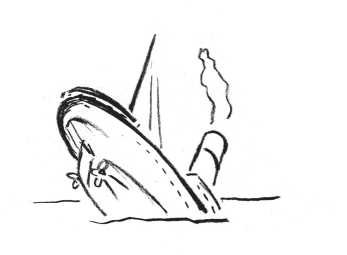
«Нет в жизни счастья» — несколько десятилетий назад синие пороховые татуировки с этой надписью частенько можно было увидеть в пляжный сезон на разрисованных организмах бывалых «сидельцев». И нельзя сказать, чтобы этот упаднический девиз выражал позицию одних лишь разочаровавшихся в жизни уголовников. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитые пушкинские строки: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». По сути — тот же пессимизм, само существование счастья здесь даже не ставится под сомнение, а прямо отрицается.
В духовном смысле между великим русским поэтом и татуированной шпаной — дистанция огромного размера, но каждый из нас, наверное, может определить свое место на этой дистанции между крайними ее точками. И у каждого найдется достаточно поводов усомниться в принципиальной достижимости счастья.
Получается какая-то парадоксальная ситуация: ведь все, абсолютно все люди стремятся к счастью, все считают его главной целью и смыслом своей жизни, стараются изо всех сил, порой рискуют, идут на лишения и жертвы ради того, чтобы стать счастливыми. А в результате — разочарование... Даже у Пушкина.
Бывают, правда, в жизни моменты, когда кажется, что счастье наконец-то пришло и уже никогда нас не оставит. Тут у каждого — свой опыт: первый поцелуй, покупка новой гитары, победа на соревнованиях, рождение ребенка, повышение должностного оклада или просто поездка с друзьями за город на шашлыки. На какое-то время человек может почувствовать себя счастливым, но, к сожалению, время это быстро проходит, а вместе с ним проходит и счастье. За первым поцелуем следует первая ссора, новый оклад перестает удовлетворять возросшие потребности, ребенок подрастает и начинает вредничать, рекорды забыты, шашлыки съедены, гитара валяется под кроватью.
Так, может быть, и вправду его нет, этого самого счастья? Может, это просто фикция, очередная романтическая выдумка человечества, призванная скрасить жестокую действительность, и нет в мире ничего, кроме законов природы, голой целесообразности и причинно-следственных связей?
Наверное, можно рассуждать и так. Но есть у человечества и еще одна очень важная интуиция, которую прекрасно сформулировал в рассказе «Парадокс» Владимир Галактионович Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Каждый из нас в самой сокровенной глубине своего сердца ощущает главное предназначение человека — быть счастливым, и каждый по мере сил пытается реализовать его в своей жизни. Почему же так плохо у нас это получается? Ответ прост: как птица не может летать, если она больна или ранена, так и человек несчастен именно потому, что повреждена его природа. Неспособность быть счастливым является симптомом этой по-врежденности, как слепота — симптомом поражения органов зрения. Ведь если человек ослеп и перестал видеть, это вовсе не значит, будто мир вокруг него исчез или необратимо изменился. Так и нынешнее наше несчастное состояние отнюдь не подтверждает правоту сентенции, тускло синеющей на татуированных телесах завсегдатаев тюрем и колоний.
Есть, конечно же, есть в жизни счастье! Ну а то, что мы не можем его воспринять, впитать его, наслаждаться им, — наша беда, наша проблема, наша болезнь. Ведь счастье — это совсем просто! Это полнота бытия, упоение жизнью, ощущение радости без каких-либо конкретных причин, уже от того только, что ты родился и живешь на свете. Но вот же — почему-то приходится буквально прорываться к такому, казалось бы, естественному состоянию. Как будто в зимнем троллейбусе изо всех сил дышишь на стекло, оттаиваешь его немеющей от холода ладонью, и вот, наконец, появляется маленькое окошко в мир, через которое видишь людей, дома, деревья... Но буквально на глазах его снова затягивает ледяная пелена, и опять ты сидишь, уставившись в заиндевевшее стекло.
Что же это за болезненное повреждение, мешающее людям быть счастливыми? В христианской традиции оно называется коротким жестким словом — грех. А в категориях, понятных неверующему человеку, наверное, точнее всего будет назвать эту болезнь — недостаточностью любви. Ведь человек счастлив лишь когда любит. А величина нашего счастья, если можно так выразиться, прямо пропорциональна глубине нашей любви. Чем сильнее любовь, тем больше счастье. Но любовь по природе своей — жертвенна, а значит, — чем больше любовь, тем на большие жертвы она подвигает любящих.
Вот здесь и кроется причина неуловимости и эфемерности счастья. Люди просто боятся жертв, которых неизбежно потребует от них большая любовь. И довольствуются любовью «маленькой», не понимая, что сами лишают себя возможности стать счастливыми. Чем меньше любовь, тем меньше счастье, и количественнокачественный скачок здесь невозможен в принципе.
Например, человек любит мороженое. Это вполне здоровое отношение к вкусному лакомству, и никакой жертвы подобная любовь не требует. Но счастье от очередной порции пломбира тает еще быстрее, чем само мороженое. А пятьдесят пломбиров подряд вместо непрерывного счастья гарантированно приведут на больничную койку.
Другой пример — человек любит музыку. Для счастья тут гораздо более оптимистическая перспектива: музыки на свете много и наслаждаться ею можно гораздо дольше, чем мороженым. Но такая любовь уже потребует определенных усилий: ведь для того, чтобы испытывать счастье от музыки, необходимо научиться понимать ее, разбираться в ее структуре, получить хотя бы элементарные сведения о предмете своей любви. Короче, такая любовь уже требует от человека жертв: времени, сил, внимания. И чем она выше и сильнее, тем большую степень жертвенности предполагает в любящем.
Любовь к женщине может сделать мужчину счастливым на всю жизнь. Но ради такого счастья он должен всю эту жизнь без остатка посвятить своей избраннице, делить с ней все удачи и радости, принимая на себя все ее проблемы, тяготы и недостатки. Это непросто, но такова цена счастья.
Чем сильнее любишь, тем большим готов пожертвовать, оторвать от себя. В Библии об этом ясно сказано в словах апостола Иакова: Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? (Иак 215-16).
Единственный признак и критерий настоящей любви — стремление к благу любимого, пускай даже ценой собственного комфорта и благополучия. А предельно возможной степенью такой любви Христос назвал способность пожертвовать самой жизнью ради тех, кого любишь: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13).
Так, в фильме «Титаник» тема любви достигает максимального накала вовсе не в сентиментальных сценах свидания, а в счастливой улыбке уже мертвого героя Леонардо ди Каприо, погружающегося в ледяную бездну. Легкомысленный игрок и художник погибает ради спасения любимой девушки, и эта гибель для него радостна, он умирает абсолютно счастливым человеком.
Но здесь-то и возникает главный вопрос к христианскому пониманию любви и счастья: как же я буду счастливым, если погибну? О какой полноте моего бытия может идти речь, если само это бытие прекратится вместе с моей смертью?
Наверное, проще всего было бы ответить, что личное наше бытие не уничтожается физической смертью, что после нее наша жизнь продолжится в иной, неведомой нам пока, форме... Жаль только, что проверить это утверждение экспериментальным путем невозможно, а принять его на веру способны далеко не все.
Но есть одна безусловная истина, о которой мы все стараемся поменьше думать, чтобы не расстраиваться и окончательно не утвердиться в мысли о том, что «нет в жизни счастья»: раньше или позже, но — неизбежно мы обречены на потерю всех земных радостей, которые делали нас счастливыми в этом мире.
Гастрит с холециститом вынудят гурмана и обжору питаться несладкой овсяной кашкой на воде; ценитель любовных утех когда-нибудь с ужасом обнаружит, что больше к ним не способен; красавица, всю жизнь любовавшаяся на свое отражение в зеркале, увидит однажды, что ее красота ушла. Даже самых любимых людей мы в конце концов потеряем, как ни прискорбно это сознавать. Наконец, придет время, когда у нас вообще ничего не останется из того, что делало нас хотя бы чуть-чуть счастливыми в жизни. Да и сама эта наша земная жизнь подойдет тогда к концу.
И вот здесь стоит, наверное, задуматься каждому: а смогу ли я оставаться счастливым или хотя бы надеяться на счастье в тот момент, когда смерть встанет совсем рядом и я буду чувствовать на себе ее холодное дыхание?
Что тогда мы увидим там, впереди, сквозь заиндевевшее стекло нашей угасающей жизни?

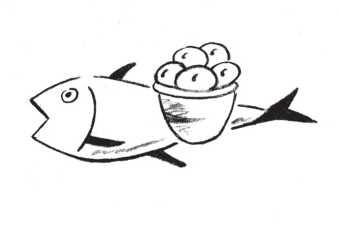
В последние годы у нас, в России, стало модным поститься. Великий Пост теперь соблюдают не только православные христиане, но и люди, весьма далекие от Церкви. Вместе с христианами они на семь недель ограничивают себя в употреблении определенных видов пищи, добросовестно соблюдают пост в гастрономической его части, но при этом не посещают богослужения, не молятся и не участвуют в Таинствах. Мотивы такого поведения понятны — нецерковные люди считают, что пост полезен для здоровья, и воспринимают его как некоторую разновидность диеты. С этим трудно не согласиться. Действительно, отказ от пищи животного происхождения помогает сбросить лишний вес, нормализует работу органов пищеварения, снижает уровень холестерина в крови... Все это так, поэтому постятся сегодня многие. О начале Великого Поста сообщают дикторы новостных радио- и телепрограмм, в ресторанах и кафе появляются специальные «постные» меню, а газеты и журналы публикуют разнообразные рецепты постных блюд.
Ничего предосудительного здесь, конечно, нет. Очень хорошо, что наш народ осознал наконец благотворность диетического питания и не уподобляется в этом вопросе гоголевскому Собакевичу, мечтавшему повесить на своих воротах немца, придумавшего диету.
С неверующими людьми все ясно — они заботятся о своем здоровье.
Но для чего постятся сами православные? Должен же быть в отказе христиан от мяса и молока какой-то особый, религиозный смысл. Да и многие нецерковные люди, быть может, неосознанно, но все же чувствуют, что пост — не только диета. Может быть, Богу не угодно, чтобы люди ели эти продукты, потому что они содержат в себе нечто, оскверняющее человека? Ведь и другие вероучения в той или иной степени предполагают отказ от мяса. Иудаизм запрещает есть мясо целого ряда животных, к примеру — свинину. В исламе уже не только употребление в пищу — даже случайное прикосновение правоверного к свинье является грехом. А религия кришнаитов вообще предполагает категорический отказ от мясных продуктов, приверженцы этого учения считают, что никакое животное не может служить пищей для человека.
И если православные христиане отказываются от животной пищи не навсегда, а лишь на время, то, может быть, их пост менее угоден Богу, может, стоит поститься как-то более радикально, например, по-кришнаитски?
Иногда одно и то же явление может иметь совершенно разные причины. И для того, чтобы дать верную оценку различным видам воздержания от мясной пищи в разных религиозных традициях, необходимо сначала выяснить — что же именно является побудительными мотивами такого воздержания?
Почему кришнаиты не едят мяса? Традиционное объяснение подразумевает, что во всех ведических религиях жизнь любого животного считается неприкосновенной, и даже смерть таракана, случайно раздавленного в темноте тапком, монахи-джайны, например, переживают как непреднамеренное убийство живого существа. Но причина такой щепетильности вовсе не в сентиментальной любви к братьям нашим меньшим.
Дело в том, что в религиях индуистского толка существует учение о реинкарнации, суть которого довольно точно сформулировал когда-то Владимир Высоцкий:
Так кто есть кто? Так кто был кем? — мы никогда не знаем,
«Кто был ничем, тот станет всем» — задумайся о том!
Быть может, тот облезлый кот был раньше — негодяем,
А этот милый человек был раньше — добрым псом.
Кришнаиты верят, что после смерти одного тела человек продолжает существование, переселившись в другое. Причем, не обязательно в человеческое: тот, кто жил неправедно, может получить новое воплощение в теле животного, насекомого или рыбы. Священные тексты вайшнавов прямо говорят, что: «...Питающийся плотью существ, рождается в животной форме жизни, где его и поедают те, кого он съел». С такими взглядами на фауну кришнаит, естественно, не может употреблять в пищу продукты животного происхождения. Вот только любовь к животным здесь совершенно не при чем.
Лишь в христианском мире могла появиться оптимистическая поговорка «Бог не выдаст — свинья не съест». А по религиозным представлениям кришнаитов, свинья неизбежно съедает в будущей жизни всех любителей жареной свининки. И даже сам Кришна не может ей в этом помешать.
В иудаизме и исламе причина отказа от некоторых видов мяса совсем иная: гнушаясь есть свинину или зайчатину, мусульмане и иудеи предполагают, что Бог создал животных, разделив их на «чистых» и «нечистых». Следовательно, тот, кто ест «нечистое» мясо — сам становится нечистым перед Богом. Такое мировоззрение имеет свои корни в особенностях их интерпретации Библейского текста, где действительно присутствует разделение животных на «чистых» и «нечистых». Ислам и иудаизм трактуют эти места Священного Писания буквально.
Христианство, же, напротив, усматривает в таком разделении всего лишь педагогический смысл. По словам святителя Фотия, Патриарха Константинопольского, ...чистое стало отделяться от нечистого не с начала мироздания, но получило это различие из-за некоторых обстоятельств. Ибо поскольку египтяне, у которых израильское племя было в услужении, многим животным воздавали божеские почести и дурно пользовались ими, которые были весьма хороши, Моисей, чтобы и народ израильский не был увлечен к этому скверному употреблению и не приписал бессловесным божеское почитание, в законодательстве справедливо назвал их нечистыми — не потому, что нечистота была присуща им от создания, ни в коем случае, или нечистое было в их природе, но поскольку египетское племя пользовалось ими не чисто, но весьма скверно и нечестиво. А если что-то из обожествляемого египтянами Моисей отнес к чину чистых, как быка и козла, то этим он не сделал ничего несогласного с настоящим рассуждением или с собственными целями. Назвав что-то из боготворимого ими мерзостью, а другое предав закланию и кровопролитию и убийству, он равным образом оградил израильтян от служения им и возникающего отсюда вреда — ведь ни мерзкое, ни забиваемое и подлежащее закланию не могло считаться богом у тех, кто так к нему относился.
Разделение животных на субстанционально «чистых» и «нечистых» для христиан категорически неприемлемо, это легко можно понять из слов св. апостола Павла о том, что ...нет ничего в себе самом нечистого (Рим. 14, 14) и что ...всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою (1Тим. 4, 4). Но, в таком случае, почему же православные все-таки воздерживаются в пост от мяса?
В житии свт. Спиридона Тримифундского есть поучительная история, открывающая православный смысл поста и показывающая правильное к нему отношение:
На первой неделе Великого Поста, в пятницу, пришел к свт. Спиридону странник, христианин. При епископе жила дочь его. Епископ говорит ей: «Нет ли у нас угощения страннику?». Дочь ответила: «Отец мой! Ты не вкушаешь ничего в эту неделю, и я стараюсь подражать тебе, поэтому у нас нет никакой пищи приготовленной; а есть от мясоеду остаток свиных мяс». Епископ говорит: «Поставь это мясо на стол и приготовь нам трапезу». Дочь исполнила приказание отца; угодник Божий пригласил к столу своего гостя и сам сел с ним, чтоб кушать. Странник сказал: «Я — христианин, и не ем мясного в Великий Пост». Епископ ответил: «Потому-то, что ты христианин, а не иудей, и должен ты есть; мы воздерживаемся от мяса не потому, чтоб оно было нечисто, или чтоб в этом была какая добродетель, как воздерживаются от него иудеи, но чтоб телеса наши не отягчились объядением».
В отличие от остальных мировых религий, отказ от мяса в Православии не несет в себе вероучительного смысла. Невкушение той или иной пищи не является для христиан самоцелью. Существует много причин, по которым человек может не соблюдать телесный пост, например, беременность, старость, нищета, болезнь. Во многих случаях врачи запрещают больным отказываться от скоромной пищи, и Церковь никогда не призывала нарушать их предписания. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал своей заболевшей сестре: «...Непременно вкушай говяжий бульон и другую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтоб непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтоб они на растительной пище постнаго времени прохлаждались и облегчались, а не потому, чтоб употребление мяса заключало в себе собственно какой грех или нечистоту. И потому удаление от мяса при необходимости и болезни есть грубый предрассудок русского человека, обременившего небесную религию многими своими национальными дебелостями».
Взгляд на скоромную (т.е. — непостную) пищу как на что-то нечистое, способное осквернить постящегося христианина, святитель Игнатий считал грубым суеверием и профанацией евангельского учения.
К сожалению, и сегодня в среде верующих людей можно столкнуться с подобным отношением к телесному посту. Вот человек Великим Постом съел кусочек домашнего печенья или пирога, и вдруг выяснилось, что эта пища была приготовлена на молоке и яйцах. Сразу же начинаются расстройства с переживаниями: «Ой, как же это я оскоромился! Теперь весь пост — насмарку». Оскоромился — звучит почти как «осквернился»! Человеку кажется, что смысл поста лишь в том и заключен, чтобы питаться одними овощами и готовить их исключительно на растительном масле. И даже случайно съеденный кусок скоромной пищи может, по его мнению, лишить пост некоего сакрального значения.
На самом же деле, никакой мистики в воздержании от пищи Церковь никогда не подразумевала. Отказ от мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения в православном понимании бесконечно далек от мусульманского страха перед «оскверняющей» свининой, и действительно в чем-то даже ближе к обыкновенной системе диетического питания. Но есть между постом и диетой существенная разница. Диета по медицинским показаниям обычно соблюдается человеком для исцеления телесных болезней. Цель христианского поста — исцеление болезней души.
Между режимом питания и состоянием души существует определенная связь: чем больше внимания человек уделяет своей плоти, тем меньше он заботится о душевной пользе. И речь здесь идет вовсе не о банальном обжорстве. Служить своему телу можно весьма самоотверженно и аскетично, но принцип обратной зависимости от этого не изменяется.
Есть такой странный вид спорта — бодибилдинг. Само название говорит о том, что главной целью в нем является строительство собственного тела, увеличение объема мускулатуры. Ежедневно по несколько часов культурист мучает себя на тренажерах, методично таскает железо, выполняет силовые упражнения, поглядывая в зеркало — есть ли результаты? Стало ли его тело более мускулистым, чем несколько дней назад? Культурист не стремится быть «самым-самым». При равном весе штангист — сильнее его, а уж отправить в нокаут стокилограммового качка может и квалифицированный боксер-средневес. Но культуриста это не смущает, у него другая задача — он растет, он увеличивает мышечную массу. Для строительства тела ему нужен материал, поэтому он строго соблюдает определенный режим питания: ест мясо, жует молочные смеси для детского питания, пьет протеиновые коктейли, одним словом — составляет свой рацион из продуктов, богатых животным белком. То есть — как раз из тех, от которых христианин в пост отказывается.
Такое различное отношение к одной и той же пище, очевидно, предполагает и различие поставленных целей. Культурист усиленно питается для того, чтобы поскорее нарастить мускулы и насладиться сознанием собственного превосходства над менее «раскачанными» согражданами. Христианин, напротив, ограничивает себя в пище и ослабляет свое тело, чтобы проще было увидеть в своей душе грехи и недостатки, понять, что ни о каком превосходстве над другими людьми даже речи быть не может, и попытаться с Божией помощью привести свой внутренний мир в более здоровое состояние.
И не случайно именно в первую неделю Великого Поста в православных храмах каждый день многократно звучит покаянная молитва Ефрема Сирина «Господи, Владыко живота моего...», которая заканчивается словами: «...даруй мне видеть прегрешения мои и не осуждать брата моего вовек». Оказывается, видеть свои грехи — не естественная способность человека, а — дар Божий. И постятся христиане как раз для того, чтобы сделать себя способными к восприятию этого дара.
Чем дальше мы удаляемся от источника света, тем чаще оступаемся, падаем в грязь и пачкаемся. Это, в общем-то, не так уж и страшно — можно ведь умыться, почистить одежду и опять быть в порядке. Но в том и проблема, что увидеть себя грязным в темноте невозможно. Для этого нужно вернуться к свету.
Человек часто не видит своих грехов, потому что грех — это уклонение от Божьей воли, отпадение от Бога. И чем больше мы грешим, тем дальше удаляемся от своего Создателя, рискуя уйти в такую духовную тьму, где уже и вовсе непонятно будет, в каком направлении возвращаться. Мы чувствуем, что много раз упали, что мы — в грязи, и понимаем, что, если ничего не изменить в своей жизни, то блуждание во мраке может закончиться для нас сломанной шеей. А выйти из тьмы уже не можем. И тогда нам остается единственное средство, дающее надежду на выход и спасение — позвать на помощь.
Бог не связывает нашу волю и дает нам свободу уйти от Него, когда мы этого захотим. Но Он никогда не забывает о Своих заблудившихся детях. Пусть мы не в силах вернуться к Богу из темных дебрей своей самости. Но мы всегда можем позвать Его, осознав свою беду и беспомощность. И Господь обязательно ответит на этот зов, коснется нас лучами Своей благодати и тогда, в этом свете Божией любви мы сможем увидеть, как искалечили и запачкали свою душу, блуждая в греховной тьме.
В Священной истории такой зов к Богу о помощи всегда сопровождался постом.
Если посмотреть упоминания о нем в Ветхом Завете, легко можно увидеть, что пост рассматривался людьми именно как средство, помогающее восстановить утраченное общение с Богом. Постился Моисей перед тем как слушать Бога на горе Синай, и весь народ Израиля постился с ним. Постились жители Ниневии, когда мера их грехов переполнила Божие долготерпение. Постились иудеи, возвращаясь из Вавилонского плена. Вообще пост объявлялся пророками и царями древнего Израиля великое множество раз. Сейчас, в эпоху Нового Завета пост соблюдают христиане, и смысл его во все времена остается тем же: пост сопровождает молитвенное обращение человека к своему Создателю.
Но неужели без поста Бог не услышит человека? Разве Всемогущий Творец Вселенной испытывает нужду в том, чтобы люди ограничивали себя в пище? Конечно, нет! Пост нужен не Богу, а нам самим. В книге Пророка Захарии Бог прямо говорит об этом иудеям: «...когда вы постились и плакали ... для Меня ли вы постились? для Меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» (Зах. 7, 5). Пост для человека — не более чем инструмент. Ослабив тело воздержанием от пищи, мы делаем свою душу более восприимчивой к общению с Богом. Но если, отказавшись от мяса и молока, человек не обращается к Богу в молитве, не кается в своих грехах, не стремится к соединению с Богом в таинстве Причастия, возникает вопрос — а зачем, собственно, он приобрел этот инструмент? Подобное отношение к посту можно сравнить с поведением незадачливого астронома-любителя, который много лет трудился, отказывал себе во всем, и наконец купил замечательный телескоп. Он очень им дорожил, сдувал с него пылинки, протирал кусочком замши фирменную оптику, сделал его главным украшением своего кабинета. Но за всю жизнь он так и не догадался направить свой телескоп в сияющее звездами небо. И ни разу не прильнул жадным взором к окуляру, мечтая, чтобы это прекрасное небо к нему приблизилось.
Пост может быть неугоден Господу, молитва не будет Им принята, зов к Богу останется без ответа, если наше благочестие не будет растворено любовью к окружающим нас людям. Деятельное выражение такой любви у христиан называется милостыней. И это не просто десятирублевка, брошенная в кружку нищего на церковной паперти. Милостыня заключается в том, чтобы участвовать в чужой беде, помогать тем, кому сейчас плохо, ущемлять себя ради других. Вот как говорит об этом Иоанн Златоуст: Смысл поста не в том, чтобы мы с выгодой не ели, но в том, чтобы приготовленное для тебя съел бедный вместо тебя. Для тебя это вдвойне благо: и сам ты постишься, и другой не голодает. Замену мяса рыбой в пост святитель объяснял тем, что рыба дешевле мяса, а сэкономленные деньги христианин может отдать тем, кто в них нуждается. Поэтому, когда сегодня в «постном» меню модного ресторана видишь какой-нибудь «шашлык из осетрины на шпажках», стоимостью «всего» в пятьсот рублей порция, невольно задумываешься о целесообразности такого интересного способа воздержания от мяса.
А на обложке книги, содержащей рецепты блюд постной кухни, можно прочитать и вовсе уж жизнерадостный заголовок: «Постимся постом приятным!». Очевидно, предполагается, что приятность здесь должен испытывать сам постящийся, отведав постной вкуснятины, приготовленной по предложенным в книге рецептам. И как-то даже не сразу приходит на ум, что пост — это жертва. Наша жертва Богу. И приятна она должна быть, конечно же, не нам, а Господу. Как об этом и поет Церковь в первый день Великого Поста в стихире на вечерней службе (откуда, собственно, и была бездумно выдернута фраза о «приятном посте»): «Постимся постом приятным, благоугодным Господу: истинный пост есть злобы отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, обвинений, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение — пост истинный есть, и благоприятный».
Легко заметить, что ни одного рецепта постных блюд здесь нет. Так же как и в замечательной кулинарной книге со странным названием нет того самого главного рецепта, о котором говорил святитель Иоанн Златоуст. А ведь у него все очень понятно сказано: перейди на более простую, дешевую пищу и употреби средства, высвободившиеся от такой перемены стола, в помощь тем, кто беднее и несчастнее тебя. Это и будет тот благоугодный и приятный Господу пост, к которому призывает христиан Церковь.
Словосочетание «блудный сын» давно стало именем нарицательным даже среди неверующих: любому культурному человеку этот евангельский сюжет знаком хотя бы по картине Рембрандта. Но далеко не все знают, что к разговору о смысле христианского поста история блудного сына имеет самое непосредственное отношение.
Дело в том, что началу Великого Поста в Церкви предшествуют несколько недель, когда верующие начинают готовить себя ко времени покаяния. Одна из них так и называется — Неделя о блудном сыне. В эти дни в храме читается притча из Евангелия от Луки, которая удивительно точно объясняет христианское понимание отношений между падшим человеком и его Создателем:
«.. .У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: Отче! Дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15, 11-24).
Несмотря на краткость, эта история содержит в себе важнейшую информацию об отношениях падшего человека и его Создателя. Своими грехами человек добровольно отлучает себя от Бога, как младший сын из притчи сам отлучил себя от отца. И в этом отлучении — причина всех человеческих бед, проблем и напастей. Ощущение тоски по иной реальности, щемящее чувство того, что в этом мире ты — не свой, что духовно ты ушел когда-то в далекую сторону и до сих пор остаешься на чужбине — вот, быть может, главное условие настоящего христианского покаяния. Потому что вернуться домой может лишь тот, кто понял, что ушел из дома.
Но когда же, в какой именно момент блудный сын из притчи пришел в себя и решил вернуться к оставленному им отцу? Ответ очевиден: он пришел в себя после того, как испытал недостаток в пище. То есть — после поста, хотя и вынужденного. А христиане постятся добровольно, не дожидаясь, пока грехи окончательно увлекут их в «страну далече», отнимут все полученные от Бога дары и доведут до полного свинства. Поэтому пост в Церкви — это своего рода точка возвращения на оставленную духовную родину и надежное средство для того, чтобы, подобно блудному сыну прийти, наконец, в себя.
Святитель Феофан Затворник писал, что наша жизнь без Бога подобна стружке, завивающейся вокруг собственной пустоты. Человек чувствует эту пустоту, она гнетет его и пугает. Изо всех сил старается он заглушить тягостное ощущение бессмысленности своей жизни различными удовольствиями — просмотром любимых телепередач, приятной истомой после сытного ужина, алкоголем, компьютерными играми... Он старается не думать о том, что смерть в конце концов отнимет у него все эти обезболивающие средства, и единственной доступной ему реальностью тогда окажется Бог. Будет ли эта встреча с Создателем радостной для того, кто всю свою жизнь так наивно пытался от Него спрятаться?
Порядок в своей душе следует наводить, пока жизнь еще не кончилась. В этом, собственно, и заключается главный смысл Великого Поста. Иоанн Златоуст пишет: Итак, что ты, брат, собрал при помощи поста? Не говори мне, что «я столь много дней постился, того и другого не съел, не пил вина, претерпел нечистоту», но покажи мне, сделался ли ты кротким, между тем как был гневливым, и сделался ли человеколюбивым, между тем как до того был жестоким, потому что, если ты упоен гневом, то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри — зависть и корыстолюбие, то какая польза от питья воды? Отказываясь в Великий Пост от мяса, вина и развлечений, верующий человек не совершает великого подвига. Он просто решается пожить без этого духовного наркоза хотя бы семь недель, чтобы наконец заглянуть в собственную душу. А там уже не просто пустота, там накопилось много всякой дряни, как это всегда бывает в хозяйстве с местами, куда мы редко заглядываем. Христианский пост — попытка разгрести эти греховные завалы, стремление наполнить свою внутреннюю пустоту любовью к Богу и ближнему, обращение к Христу за помощью в этом неподъемном для человека труде. Только при таком нашем отношении к посту он может настоящим духовным подвигом и перестанет быть хотя и полезной для организма, но совершенно бесполезной для души диетой.


Поминать умерших можно только когда веришь, что они — живы. Эта, парадоксальная, на первый взгляд, мысль подтверждается, тем не менее, даже не церковным учением, а обычной человеческой интуицией. «Все там будем...», — так звучит самая распространенная в нашем народе формула поминовения умерших. И нужно сказать, что это очень глубокое отношение — глядя на чужую смерть, помнить о своей собственной. Но есть один очень важный момент, который в этой формулировке никак не обозначен: а, собственно, где это — «там»? Что находится за чертой, которую уже перешел умерший, и которую рано или поздно предстоит пересечь каждому из нас? Если за ней лишь пустота, небытие и полное уничтожение человеческого самосознания, тогда сама фраза «все там будем.» лишается всякого смысла, поскольку никакого «там» в этом случае просто нет и быть не может. Получается, что, поминая наших умерших даже такой простой фразой, мы исповедуем свою веру сразу в три серьезных факта:
1. Биологическая смерть не уничтожает человеческую личность.
2. После смерти, лишившись тела, человек попадает в иной, неизвестный нам пока еще, но вполне реальный мир.
3. Переход в этот мир — объективно неизбежен для всех людей, независимо от их личного желания.
Когда близкий человек попадает в больницу, мы навещаем его, носим ему книги, фрукты, куриный бульон в баночке, рассказываем ему последние новости и, прощаясь, говорим, что завтра обязательно придем к нему снова. Если кто-то из дорогих нам людей находится в заключении, мы тоже знаем, как проявить свою любовь к нему. Нам известно, в чем он нуждается, мы собираем ему передачи и шлем посылки, пишем письма, ездим на свидания, короче — делаем все, чтобы помочь ему перенести тяготы лишения свободы.
Однако смерть родных всегда ставит нас в какой-то тупик. Нет, мы, конечно, не стали любить их меньше, горечь разлуки даже усилила наше чувство и помогла понять как дорог нам тот, кого смерть у нас отняла. Но что делать дальше, как эту нашу любовь выразить, как сделать, чтобы она дошла до любимого и помогла ему, или порадовала его там, где он оказался — этого мы не знаем. У нас просто нет опыта бытия там, за гранью земной жизни, мы даже представить себе не можем, что же происходит с человеком после смерти. А когда не хватает своего личного опыта, вполне разумно обратиться за помощью туда, где подобный опыт имеется — обратиться к Церкви, которая уже почти две тысячи лет поминает своих умерших и имеет огромное количество свидетельств действенности молитвенного поминовения усопших. Поэтому очень часто смерть близкого человека приводит в Церковь даже тех, для кого мнение Церкви никогда не являлось авторитетным во всех остальных вопросах их жизни.
Вообще, без веры в жизнь после смерти поминать умерших — довольно бессмысленное занятие. В советский период истории нашей страны была такая традиция — почитать память погибших в Великой Отечественной Войне минутой молчания. Для атеистического государства это был очень логичный ритуал. Сердце человека требовало: «Поблагодари этих людей. За твое спокойное и мирное существование они отдали самое дорогое, что у них было — свою жизнь. Ты навсегда в долгу перед ними, поблагодари их». Но разум возражал: «Как можно благодарить тех, кого нет? Какие слова можно сказать тому, кого не просто нет рядом с тобой, а— вообще нигде нет, как не было тебя самого до твоего рождения?». К небытию бессмысленно обращаться с какими бы то ни было словами, здесь действительно остается одно только скорбное молчание. Как некое торжественное признание неверующим человеком полного своего бессилия перед фактом смерти близких людей.
Для атеистического сознания возможны лишь бессловесные формы поминовения умерших, будь то минута молчания, или поминальная чарка — без тостов и не чокаясь.
Но если человек отказывается считать, что его близкие, умирая, растворились без следа в мировом пространстве, если он верит, что они живы, и надеется на будущую встречу с ними (пускай даже после собственной смерти), тогда, для выражения своей надежды, веры и любви ему просто необходимы какие-то слова. И простого, брошенного походя «...все там будем» здесь уже явно недостаточно. Нужны другие выражения — более точные и красивые, нужно понять — в чем смысл такого поминовения, нужно разобраться, наконец — что же происходит с человеком в этом самом загадочном «там», где все мы, в конце концов, должны будем оказаться.
Армянский поэт X века Григор Нарекаци (почитаемый в Армении как святой) писал:
Мне ведомо, что близок день Суда
И на Суде нас уличат во многом...
Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет Суд? Я поспешу туда!
Никто на свете не может предсказать с полной уверенностью посмертную участь того или иного человека. Но Церковь с уверенностью говорит о неизбежном для всех людей событии: после смерти каждый из нас обязательно встретится с Богом.
А вот станет ли эта встреча для человека источником вечной радости, или окажется для него мучительной и невыносимой — зависит уже от того, как сам он прожил свою жизнь. Если он готовил себя к этой важной встрече, стремился к ней, если всю жизнь главным критерием оценки своих поступков, слов и даже мыслей для него был вопрос: «А понравится ли это Богу?», то умирать такому человеку уже не очень и страшно. Нет, конечно, предстоящая встреча с Господом вызывает в его сердце волнение и трепет. Он лучше, чем кто-либо, знает, как часто его стремление жить праведно разбивалось о его же собственную лень, жадность, тщеславие; насколько неудачной была почти каждая его попытка сделать что-то ради Бога, а не ради собственных страстей и капризов. Но он знает также и другое. Пытаясь жить по заповедям Божьим, он с удивлением и радостью увидал, что Бог любит его даже таким слабым и несовершенным, не способным, по сути, ни на что доброе. Это реальное переживание Божьей любви — главная, самая дорогая ценность в жизни каждого верующего человека. Он научился видеть, с какой трогательной заботой и вниманием участвовал Господь в его земной жизни. И ему кажется нелепым даже предположить, что после смерти Бог отвернется от него и сменит эту любовь на бездушную холодную справедливость. Верующего человека волнует совсем другой вопрос: «А не отвернусь ли я сам от Бога при встрече? Не окажется ли вдруг так, что для меня есть на свете что-то более дорогое и важное, чем Бог?» Вот этого верующий человек боится по-настоящему. Но такой страх растворен надеждой. Ведь Бог, восполняющий наши недостатки и помогающий нам в земной жизни, может и после нашей смерти восполнить нашу немощь Своим Всемогуществом. Именно о таком христианском отношении к себе и к Богу говорил Борис Гребенщиков в одной из своих ранних песен:
...Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас, это — радость и страх.
Страх за то, что мы хуже, чем можем
И радость о том, что все
в Надежных Руках.
Отвернувшись от света, мы рискуем оказаться во тьме собственной тени. Если человек сделал главным содержанием своей жизни не стремление измениться к лучшему, не подготовку к посмертной встрече со своим Создателем; если он разменял свою жизнь на дешевые или дорогие развлечения, на упоение властью, деньгами или собственной гениальностью, тогда его ждут серьезные проблемы. Не научившись любить Бога, не увидав Его любви к себе при жизни, наглухо замкнувшись в скорлупу собственных страстей и желаний, человек не сможет и не захочет быть с Богом и после своей смерти.
Грех тем и страшен, что наслаждаться им человек может, лишь пока он жив, пока его душа не отделилась от тела. Назначение души — управлять телом, и только в их совокупном существовании человек может полноценно жить, действовать и изменять себя как в лучшую, так и в худшую сторону. Смерть отнимает тело у души и делает ее неспособной к какому либо действию, а значит и — к изменению. Душа не может больше ни грешить, ни каяться; и, какой она стала к моменту смерти человека, такой и пребудет в вечности. Чтобы это было понятнее, можно представить, что наша жизнь — авиарейс, тело — самолет, а душа — летчик, который знает, что запас топлива у него ограничен и позволяет пролететь, скажем, пять тысяч километров до пункта назначения. Если он не теряет связь с диспетчером и держит верный курс, то несмотря на нелетную погоду, плохое самочувствие и неполадки в двигателе, он все же дотянет до аэродрома. Или совершит аварийную посадку где-нибудь неподалеку, так что спасатели легко смогут его отыскать. Но когда летчик летитнаобум, куда глаза глядят, без ориентиров и целей и даже не задумывается, где он окажется, когда в баках кончится горючее... Скорее всего, такой горе-пилот окончательно заблудится, приземлится совсем уж невесть где, да там и сгинет без вести, потому что совершенно непонятно где искать того, кто летел неизвестно куда. А пешком ему оттуда уже не выбраться.
Господь сказал об этом предельно ясно: «В чем застану, в том и сужу». Это вовсе не означает, будто Богу безразлично, что там с человеком было перед смертью, и в каком состоянии он умер. Наоборот, Церковь говорит, что Господь призывает человека на суд в самый благоприятный для его посмертной участи момент. Каждый из нас умирает либо на пике своего духовного развития, либо когда Бог видит, что дальнейшая жизнь будет изменять его душу только в худшую сторону. А вот взять правильный курс и вывести себя на этот свой духовный максимум — человек должен уже сам. И никто за него не сможет проделать эту работу.
Но что же могут сделать близкие для такого потерявшегося летчика, чем они могут помочь ему? Они могут многое — раскалить докрасна телефон начальника аэродрома, до которого не смог долететь пропавший пилот, засыпать письмами министерство, стучать кулаками по столу в различных кабинетах и — требовать, требовать, требовать организации все новых спасательных и поисковых экспедиций. Право на такую настойчивость дает им любовь к пропавшему.
А наша любовь заставляет нас неотступно обращаться к Богу с просьбами о прощении грехов наших близких и об упокоении их «со святыми». В этом и заключается один из смыслов молитвенного поминовения усопших в Православной Церкви.
Святитель Игнатий Брянчанинов называл существование души в аду — бытием без бытия, странной формой жизни в отсутствие жизни. Эту неспособность грешной души к действию мы все, как ни странно, в разной мере испытали уже сейчас, при жизни. Наверное, любой человек хотя бы однажды переживал состояние глубокой депрессии, уныния. Когда лежишь на диване, отвернувшись к стене, и никого не хочешь ни видеть, ни слышать. Когда даже солнечный свет мешает жить, и ты бежишь от него, задергиваешь шторы, укрываешься с головой одеялом только чтобы не видеть мрака, овладевшего твоей душой. Ты еще не умер, но сил и желания жить дальше у тебя уже нет, и кажется, что так теперь будет всегда. И тут в твою темную комнату войдет мама. Которая не будет спрашивать, что с тобой случилось и даже не станет тебя утешать. Она просто сядет на краешек дивана, возьмет тебя за руку, погладит по голове, начнет говорить о чем-то совсем неважном ни для нее, ни для тебя... В общем, не сделает ничего особенного. Но ты вдруг почувствуешь, что черный мешок уныния, в котором ты провел несколько дней, расползается по швам, и ты снова способен жить.
Оказывается, любовь позволяет нам делиться с нашими близкими самым главным — жизненной силой, самой возможностью бытия. На этом принципе Церковь и основывает необходимость поминовения усопших, и возможность изменения посмертной участи тех, кого мы любим, за кого молимся. Да, душа после смерти не может сама изменить себя. Но она может измениться благодаря усилиям тех, кто остался на земле и помнит о ней. Дело в том, что Церковь — это не просто формальное объединение людей, верующих в Бога. Христиане составляют в Церкви единый организм, в котором состояние одного органа определяет самочувствие всех остальных. Все мы живые клеточки живого Тела Христова. Апостол Павел написал об этом удивительные слова: «...Вы — тело Христово, а порознь — члены (1Кор 12:27), еще: Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или так же голова ногам: вы мне не нужны (1Кор 12:21). Физическая смерть не отрывает человека от Тела Христова. Но те духовные болезни, которые он не долечил при жизни, теперь излечимы только усилием всего организма, поскольку сам для себя больной уже ничего сделать не в состоянии.
Как же один человек может духовно помочь другому, тем более — усопшему? Точно так же, как в организме одна клетка помогает другой, пораженной заболеванием. Чтобы подавить воспалительный процесс в одной части тела, организм включает иммунные процессы, которые все силы организма бросают на борьбу с заболеванием. Здоровые клетки берут на себя дополнительную нагрузку, чтобы помочь больным. Так, на войне бойцы не бросают раненого товарища, а бережно выносят его из-под огня, рискуя при этом собой. Так в походе груз подвернувшего ногу человека распределяется на всех.
Но помочь больному может только здоровый. Это главный принцип духовной поддержки. В этом суть молитвы за другого человека, живого или усопшего — неважно. Прежде всего, для помощи умершему нам и самим необходимо серьезно заняться своим духовным здоровьем, чтобы иметь возможность поделиться им с любимым человеком. Предположим, наш ближний был при жизни гневлив, любил злословить, пьянствовал и чревоугодничал, был жадным. Значит, мы должны научиться воздерживаться от гнева, удерживать свой язык от злых речей, соблюдать посты, раздавать милостыню и т.д. Проще говоря, нужно самому начать жить по-христиански и тем самым получить возможность делиться этой жизнью с нашими усопшими через молитву.
Любовь реализует себя в жертве. И если наше поминовение будет основано на таком христианском самоотвержении, оно станет для души умершего человека тем самым прикосновением любви, которое способно влить в него часть нашей жизни во Христе.
В разговоре о поминовении усопших очень часто упускается важный вопрос: а кому, собственно, больше нужно такое поминовение — им, или нам самим? Было бы бесконечной самонадеянностью и дерзостью утверждать, будто кто-то из наших умерших близких попал в ад, нуждается в помощи и его необходимо вымаливать. У христиан есть заповедь не судить ближнего при жизни. Тем более нелепо выносить приговор тому, кто уже окончил свое земное странствие и предстал перед судом Божиим. Мы можем беспокоиться за него, как родители беспокоятся за сына, уехавшего учиться в далекий город. Но мы не должны забывать, что у нас есть в этом городе богатый и любящий нас родственник. Причем, не просто богатый — он в этом городе самое главное лицо и решает там все вопросы, чего бы они ни касались. И мы не должны рвать себе сердце переживаниями — этот родственник позаботится о нашем сыне гораздо лучше, чем мы сами. Но эта забота нисколько не мешает нам посылать ему письма, посылки со всякими вкусностями и деньги на карманные расходы. Сын может ни в чем не нуждаться, но наш богатый родственник очень деликатен, он не лишает нас возможности проявлять свою любовь подобным образом. И когда мы звоним и просим его: «Ты, уж не оставляй там нашего мальчика, пожалуйста! Присматривай за ним, помогай, а то мы тут волнуемся!», это совсем не означает, что без нашего звонка сын остался бы без поддержки и внимания. Просто мы любим его, а он уехал и теперь находится далеко от нас. И что мы можем сделать еще, чтобы выразить свою любовь и заботу? Только звонить и слать письма с посылками. Так и молитва ко Христу за наших усопших нужна нам самим не меньше, чем тем, о ком мы молимся.
Потому что у всех нас есть такой богатый родственник. Это — Христос, Который и вочеловечился для того, чтобы сделать нас Своими родственниками по плоти. А родственников не судят беспристрастно, их судят — с любовью. Его суд — не наш суд. Достаточно вспомнить, сколько раз в Евангелии Христос оправдывает и защищает тех, кого люди осудили, причем совершенно справедливо.
Бывает, что уехавший сын и сам отправляет родителям богатые посылки и переводы. В истории Церкви немало примеров, когда молитвенное общение с усопшими помогало живущим решить свои земные проблемы. Вот несколько таких историй.
У одного священника умерла жена, которую он очень любил. Горечь утраты оказалась для него непосильной, и он начал пить. Каждый день он поминал ее в своих молитвах, но все глубже и глубже погружался в трясину алкоголизма. Однажды к этому священнику пришла прихожанка рассказавшая, что во сне к ней явилась его умершая жена и сказала: «Налей мне водки». «Но ведь ты же никогда не пила при жизни», — удивилась прихожанка. «Мой муж приучил меня к этому своим нынешним пьянством», — отвечала умершая.
Этот рассказ настолько потряс священника, что он навсегда бросил пить. Впоследствии он принял монашество. Скончался в сане епископа. Звали его — Владыка Василий (Родзянко).
Другой случай. Студент духовной академии шел на экзамен, недостаточно хорошо зная материал. В коридоре на стене висели портреты ученых и богословов, в разные годы преподававших в академии. Студент молитвенно обратился к одному из давно почивших преподавателей, с просьбой — помочь ему сдать экзамен. И на всю жизнь запомнил, насколько явной была эта помощь. Экзамен он сдал на «отлично», все время ощущая спокойную, доброжелательную поддержку того, к кому он обратился. Студент тоже стал монахом, а потом — епископом. Это — владыка Евлогий, архиепископ Владимирский и Суздальский. А на портрете был изображен преподаватель МДА митрополит Филарет (Дроздов), впоследствии, канонизированный как Святитель Филарет Московский (кстати, историю эту владыка Евлогий рассказал, когда Синод собирал материалы для канонизации свт. Филарета).
Удивительный случай молитвенного общения с усопшими описывает митрополит Сурожский Антоний. Однажды к нему обратился человек, который во время войны случайно застрелил любимую девушку, свою невесту. Одним выстрелом он разрушил все, о чем они так много вместе мечтали. Счастливую жизнь после войны, рождение детей, учебу, любимую работу... Все это он отнял не у кого-то, а у самого близкого и дорогого человека на земле. Этот несчастный прожил долгую жизнь, многократно каялся в своем грехе перед священниками на исповеди, над ним читали разрешительную молитву, но ничего не помогало. Чувство вины не уходило, хотя со времени того злополучного выстрела прошло почти шестьдесят лет. И Владыка Антоний дал ему неожиданный совет. Он сказал: «Вы просили прощения у Бога, которому не причинили вреда, каялись перед священниками, которых не убивали. Попробуйте теперь попросить прощения у самой этой девушки. Расскажите ей о своих страданиях, и попросите, чтобы она сама помолилась за вас Господу». Впоследствии этот человек прислал Владыке письмо, где рассказал, что сделал все, как тот советовал, и ледяная заноза вины, сидевшая в его сердце долгие годы, наконец, растаяла. Молитва убитой им невесты оказалась сильнее его собственных молитв.
Да и сам митрополит Антоний рассказывал, как в трудные минуты своей жизни он обращался к своей усопшей маме с просьбой помолиться за него, и много раз получал ожидаемую помощь.
Когда-то Владимир Высоцкий пел: «...Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие — как часовые». Уходя из этой жизни, наши любимые становятся ближе к Господу и могут ходатайствовать за нас перед Ним. Поэтому мы и молимся святым, которые канонизированы Церковью. Но нельзя забывать, что святыми Церковь считает не только внесенных в святцы прославленных угодников Божиих. Святыми в Церкви названы все христиане, освящающиеся Пречистыми Телом и Кровью Христовыми в таинстве Евхаристии. И если наш близкий человек при жизни был членом Церкви, исповедовался и причащался святых Христовых Тайн, тогда у нас нет достаточных оснований считать, что после его смерти он нуждается в нашем поминовении более чем мы в его молитвах за нас. Святитель Киприан Карфагенский писал: ...Не должно оплакивать братьев наших, по зову Господа отрешающихся от настоящего века. Мы должны устремляться за ними любовью, но никак не сетовать за них: не должны одевать траурных одежд, когда они уже облеклись в белые ризы.
Чувства, которые мы испытываем, когда умирает любимый человек, прекрасно выразил в своей «Балладе о прокуренном вагоне» поэт Александр Кочетков.
Как больно, милая, как странно
Срастясь листвой, сплетясь корнями
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой...
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами
Не зарастет на сердце рана,
Прольется пламенной смолой.
Смерть всегда покушается на самое дорогое — на единство нашей любви. Она пытается оторвать от нас тех, кто делил с нами горести и невзгоды, кто наполнял нашу жизнь смыслом и радостью. Мы давно срослись с ними, они стали неотделимой частью нас самих. И теперь, молясь за усопших, мы протестуем, мы просто отказываемся признавать законность и правильность этого разделения любимых людей на живых и мертвых. Бог не создавал смерти, и она не имеет ни силы, ни права на наших близких, потому что у Бога — все живы.
Огоньки свечей, которые мы зажигаем на панихиде, напоминают по форме слезы. Но слеза капает на землю, а пламя свечи всегда стремится вверх. Мы хороним наших близких в могилы, а сердца свои устремляем в небеса, ко Христу и просим, чтобы Он позаботился о тех, кто нам так дорог. А они, быть может, просят Бога позаботиться о нас здесь. Это единство взаимной любви во Христе умерших и живых людей и есть — Церковь Христова.
В том же стихотворении Александра Кочеткова есть еще такие слова: «С любимыми не расставайтесь, Всей кровью прорастайте в них!».
Православные христиане не расстаются со своими любимыми даже после их смерти. Каждый день, поминая усопших
в своих утренних и вечерних молитвах, мы вписываем их в круг нашей жизни. Как если бы они вдруг уехали в далекий край, и мы просто давно их не видели. Но при этом мы надеемся, мы очень верим, что когда-нибудь обязательно встретимся с теми, кого мы так любим, и кто так любит нас...
Потому что всех нас любит Бог.


В произведениях братьев Стругацких всегда есть какая-то недосказанность, отсутствие ясно выраженного отношения самих авторов к событиям, которые они описывают. Каждый раз, прочитав на одном дыхании очередной их роман, я чувствовал, что хитрые авторы меня опять обманули. Загадав кучу загадок, поставив массу вопросов, подняв множество проблем, они в финале никогда не дают готового решения своих ребусов. Наоборот — неожиданная развязка лишь добавляет загадочности, весь сюжет предстает совсем под другим углом зрения, но проблема все равно остается проблемой, а тайна — тайной. Вздохнуть с облегчением и сказать себе: «Ну вот, наконец-то все стало понятно!» — читатель Стругацких не сможет никогда, поскольку каждый их ответ порождает множество новых вопросов.
Наверное, по этой самой причине Стругацкие всегда были желанной мишенью для критиков самого разного толка. В советские времена литературоведы упрекали их в недостаточном соответствии Мира Полудня коммунистической идеологии. И это отчасти было верно, поскольку в Мире Полудня действительно нет комсомольских собраний, горкомов партии и всепланетных Ленинских субботников.
Зато уже в наше время мне не раз приходилось читать статьи авторов-христиан, которые технично, со знанием дела обличают Мир Полудня за его абсолютную безрелигиозность. И это тоже — правда. В мире Стругацких религия присутствует лишь на отсталых планетах, да и то — в карикатурных формах, вроде культа «святого Мики» в Арканаре. Земляне-коммунары не только не верят в Бога, но даже малейшей потребности в такой вере не испытывают. Для верующих людей такой вариант «светлого будущего человечества», безусловно, неприемлем, поскольку христианское понимание счастливого будущего подразумевает отношения Бога и человека с точностью до наоборот: «...Будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28). Все бедствия людей во все времена имеют, по христианскому вероучению, одну причину — отпадение сотворенного человека от своего Творца. Следовательно, построить рай, в котором нет Бога, человечество никогда не сможет по одной простой причине: ведь Рай — это, собственно, и есть присутствие Божие, где Бог — там и Рай. По-другому не получится.
И с этой позиции творчество Стругацких — идеальная мишень для любого верующего критика, который захочет попрактиковаться в доказательстве несостоятельности безбожного рая на Земле. Поводов к этому в цикле о Мире Полудня более чем достаточно.
Все это правильно. Но мне такой взгляд на творчество Стругацких кажется столь же однобоким и ущербным, как и былая критика их творчества со стороны коммунистических идеологов. Здесь упускается из виду один очень важный момент: все аргументы и факты, все этические и социальные противоречия Мира Полудня, которыми так лихо оперируют критики, взяты ими не откуда-нибудь, а из произведений братьев Стругацких. И рассыпаны эти противоречия по Миру Полудня не кем-то посторонним, а — щедрой авторской рукой. Так неужели же такие умные люди, как Стругацкие, не видели в своих работах нестыковок, очевидных для любого внимательного читателя? Сильно в этом сомневаюсь.
Нет, я, конечно, не собираюсь утверждать, будто братья Стругацкие — тайные христиане. Канонизировать их сквозного героя Леонида Горбовского (выражающего этические принципы самих писателей) было бы так же нелепо, как, например — принимать Максима Каммерера в комсомол. Просто Мир Полудня, на мой взгляд, — не утопия, и уж тем более — не замаскированная антиутопия. Это, скорее, некий мысленный эксперимент, результаты которого оказались неожиданными даже для самих авторов.
Стругацкие, по собственному их признанию, попытались описать мир, в котором хотелось бы жить им самим. Но на пути к этой романтической цели, по мере углубления в описание подробностей, они столкнулись с совсем неромантическими обстоятельствами существования этого, выдуманного ими же мира. Изобразить сам мир оказалось не так уж сложно. Тем более что социальноеустройствоитехническиедостижениячеловечества Стругацкие всегда показывают походя, вторым планом. Мир своей мечты авторы изображали не через описание «Всемирного совета» или различных «умных» железок — стреляющих, летающих и превращающих опилки в золото. Все это фон, нечто само собой разумеющееся. Главным же содержанием творчества Стругацких стали люди будущего, точнее — внутренний мир этих людей.
Авторы всерьез задались вопросом: какие же цели может поставить перед собой человечество после того, как решит все свои насущные проблемы? Ведь здоровые потребности человека удовлетворить не так уж и сложно. Допустим, все люди сыты, одеты-обуты, обеспечены жильем и работой по душе; войн нет и не предвидится; все человечество — одна семья... Что дальше? Неужели этот комфортабельный быт и есть — счастье? «Шестидесятников» Стругацких такое мещанское благополучие конечно, не устраивало. И они придумали своему сытому, невоюющему человечеству будущего новый вектор развития. Два основных устремления стали в Мире Полудня движущей силой, не дающей людям закиснуть в условиях полного комфорта.
Первое — неуемная жажда получения новых знаний (даже если оно сопряжено с риском для жизни).
Второе — «подтягивание» до коммунистического уровня всех гуманоидных цивилизаций, застигнутых людьми Полудня на феодальном или империалистическом этапе их развития.
Вот здесь Стругацкие и совершили свое главное творческое открытие, сделавшее их произведения живыми, увлекательными и любимыми для нескольких поколений читателей, и в то же время, разрушившее все надежды авторов на то, что Мир Полудня может рассматриваться как идеальный. Стругацкие изобрели Прогрессоров.
Сразу оговорюсь — из их текстов вовсе не следует, что большинство или хотя бы значительная часть людей Мира Полудня занималась прогрессорством. Более того—Прогрессоров там сравнительно немного, и отношение к ним далеко не всегда восторженное. А 99 процентов населения занимается совсем иными вещами — наукой, освоением космоса, воспитанием детей... И тем не менее, именно прогрессорство является смысловым центром большинства произведений Стругацких о XXII веке. Не звездные экспедиции и научные открытия (как, к примеру, у Ефремова), а именно Прогрессоры интереснее всего в Мире Полудня и читателям, и, очевидно, самим Стругацким.
Прогрессоры — передовой отряд специального назначения, который человечество Полудня кидает в котел феодальных разборок и империалистических войн. Прогрессор — диверсант наоборот. Внедряясь в общество «отсталой» планеты под личиной местного жителя, он так называемыми «микровоздействиями» незаметно интенсифицирует ход исторического процесса. Причем действует он исключительно ради блага местного населения. Никакой практической пользы для Земли и землян прогрессорская деятельность не имеет. Казалось бы — что может быть благородней! Альтруизм в кристально-чистом виде.
Но странное дело: все без исключения прогрессорские проекты, описанные Стругацкими, оканчиваются неудачей. Невероятно, но — факт: любимое детище авторов, могучие, умные и бесстрашные Прогрессоры ни разу не смогли выполнить свою работу должным образом.
Предтеча Прогрессоров, сотрудник Института экспериментальной истории дон Румата («Трудно быть богом»), одержимый жаждой мести после убийства любимой женщины, заваливает Арканарскую столицу трупами, и его приходится спешно эвакуировать на Землю, предварительно усыпив (а то бы и своим досталось на орехи).
Максим Каммерер («Обитаемый остров») устраивает на планете Саракш самую настоящую диверсию, безо всяких «наоборот» (взрывает гипноцентр, через который осуществлялась вся система государственного управления страной) и совсем не задумывается о последствиях своих действий. Правда, Максим на тот момент настоящим Прогрессором еще не стал, он действовал спонтанно, в силу сложившихся обстоятельств. Его тогдашняя концепция изменения жизни к лучшему предельно проста — взорвать и сжечь все, что, на его взгляд, не должно существовать, убить тех, кто, по его мнению, во всем виноват, а дальше... А дальше — все будет хорошо! Наверное... Когда-нибудь... И прогрессор-суперпрофессионал Рудольф Сикорски растерянно молчит, выслушав эту программу-минимум. Молчит, потому что сказать ему в сущности нечего. Если уж могущественная спецслужба Прогрессоров оказалась не в состоянии переиграть одного-единственного дилетанта, то как можно говорить об эффективности этой спецслужбы? В состоянии ли она справиться со своими грандиозными планами?
А уж чего «напрогрессировали» земляне на Гиганде («Парень из преисподней») — даже представить страшно. Корней Яшмаа, глава штаба Прогрессоров, считает, что прекратить империалистическую войну в Алайском герцогстве — безусловное благо. И прекращает. Силами вверенного ему контингента. И почему-то очень доволен тем, что натворил. А ведь по своим последствиям для местных жителей это — катастрофа, в сравнении с которой все террористические упражнения Каммерера на Саракше — детские игры в войнушку... Разоружив воюющие армии, Прогрессоры фактически передали брошенное оружие в руки населения. А уж как им распорядятся «дикобразы», не сдерживаемые больше требованиями армейской дисциплины — нетрудно представить. Стараниями Корнея империалистическая война перешла в гражданскую. Вместо воюющих армий алайцы получили стаю разрозненных вооруженных бандформирований, терроризирующих население по всей территории бывшего герцогства. Государственная инфраструктура разрушена, в стране бушуют эпидемии... Если это называть «микровоздействием», что же тогда считать «макро»? Неудивительно, что Корней сам отговаривает Гага от возвращения в этот «улучшенный» Прогрессорами мир.
В общем, ничего у Прогрессоров толком не выходит. Хотят как лучше, а получается — полный массаракш! Ни одной успешной операции. В нескольких произведениях подряд. Случайными поворотами сюжета такое не объяснишь, за этими совпадениями просматривается некая концепция. Почему, придя улучшать чужие миры, люди Полудня в этих самых мирах неизменно ухудшаются сами?
На мой взгляд, причина довольно проста: окунув своих Прогрессоров в «сумерки морали», Стругацкие вовсе не собирались показывать читателям положительные результаты их работы. А вот то, что происходит с человеком Полудня, оказавшимся за пределами взрастившей его социальной среды, авторы показали блестяще.
Стругацкие создали в своих романах новый, лучший мир. Но создать нового человека у них так и не получилось. Весь блеск гуманизма, все нравственное совершенство коммунаров оказались не более чем красивой оберткой, тоненьким культурным слоем, покрывшим их души в тепличных условиях Мира Полудня. И как только авторы погрузили их в нравственно-агрессивную среду отсталых планет, — эта культурная оболочка тут же начала с них сползать. Оказалось, люди Полудня чувствуют себя в «сумерках морали» как рыба в воде. Причем — как хищная рыба, поскольку они куда лучше туземцев подготовлены интеллектуально и физически. В произведениях Стругацких Прогрессоры легко адаптируются как к феодальному, так и к империалистическому устройству общества, но сами при этом сильно меняются в худшую сторону, а главное — стремительно теряют светлые черты «человека будущего». Причем, до такой степени, что на Земле их начинают бояться даже самые близкие и любящие люди. В земляничном соке на руках Руматы его друзьям мерещится кровь. И проблема тут заключается вовсе не в личности отдельно взятого Руматы, Каммерера или Сикорски.
Прогрессоры — та небольшая часть человечества Полудня, с которой авторы обстоятельствами сюжета смыли грим коммунарского благополучия. Но они — плоть от плоти этого человечества, они типичные, а в чем-то даже лучшие его представители. В них, словно в волшебном зеркале, люди Полудня вдруг увидели себя, увидели, что любой из них, окажись он на месте того же Руматы, наломал бы точно таких же дров.
Прогрессоры вроде бы несут людям других планет добро. Но чем они руководствуются при этом, что ими движет, любят ли они тех, кого собираются облагодетельствовать? Вот что думает о них Румата:
«...протоплазма, жрущая, размножающаяся протоплазма», «... жертвы, бесполезные жертвы»,
«...А ведь мне уже ничто не поможет, — подумал он с ужасом. — Ведь я их по-настоящему ненавижу и презираю... Не жалею, нет — ненавижу и презираю».
Румата, открывший в себе такие чувства к жителям Арканара, потрясен и растерян. А вот Макс Каммерер уже совершенно уверен в том, что:
«...существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был».
Разумеется, не ко всем местным жителям относятся эти жуткие определения. Есть среди них и те (их, правда, гораздо меньше), кого Прогрессоры любят и уважают. Но уже само это разделение людей на «своих» и «чужих» выглядит у Прогрессоров страшно. К чужим у тех, кому «трудно быть богом», ни любви, ни даже жалости нет и в помине. Ну, разве только чуть-чуть, самую малость (как например, у Каммерера, когда он заживо сжег вместе с прочими сотрудниками гипноцентра горничную, приносившую ему когда-то еду). Стругацкие не показали в своих романах победы таких «благодетелей», потому что их победа выглядела бы куда страшнее их неудачи.
В основе христианской этики лежит простая и очевидная истина — Бог не сотворил зла. Все, что сотворил Бог — «добро зело». Следовательно, все, что соответствует замыслу Бога о мире и человеке, является добром. А зло появилось как результат уклонения разумных и свободных в своем нравственном выборе существ от этого замысла.
Однако в Мире Полудня люди не верят в Бога. Стругацким нужно было придумать для него какие-то иные, нерелигиозные этические принципы. И они их уже совсем было придумали, но оказалось вдруг, что даже в пространстве художественного произведения эти принципы почему-то не работают. И вот что любопытно: авторы вовсе не скрывают этого от читателя. Правда, прямых определений добра Стругацкие не дают, а косвенно добром в Мире Полудня названо—развитие разума. Вот этическая система от дона Руматы: «...человек есть объективный носитель разума, все, что мешает человеку развивать разум, — зло, и зло это надлежит устранять». Но разум для человека — всего лишь инструмент. Безнравственный человек может натворить тем больше бед, чем сильнее он развил свои умственные способности, а умный мерзавец куда страшнее злого дурака. Тот же дон Рэба, главный злодей в Арканаре, — далеко не глупец. Ведь сумел же он расшифровать и переиграть Румату-Штирлица, несмотря на все могущество готовившей его земной цивилизации. А уж Колдун с Саракша будет поумнее многих землян, но вряд ли по этой причине его можно назвать добрым.
Впрямую добрым человеком Стругацкие называют, пожалуй, одного лишь Леонида Горбовского. Но именно на этом, столь любимом авторами герое они сами и разбивают в пух и прах предложенную ими же этическую схему «добро = разум». По словам Стругацких, Горбовский «...был как из сказки: всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и уж, конечно, не самое эффективное — самое доброе!»
Здесь авторы открытым текстом ставят мораль выше разума. Так что, если уж искать где-то источники моральных принципов человечества Полудня, то, конечно же, не у Руматы, а у дедушки Горбовского.
И тут Стругацкие устами своего любимца произносят удивительные слова: «...наука моральные проблемы не решает, а мораль — сама по себе, внутри себя — не имеет логики, она нам задана до нас, как мода на брюки, и не отвечает на вопрос: почему так, а не иначе». Вот здесь Стругацкие и задали между строк задачку, которую, по своему обыкновению, оставили без решения: а КЕМ же могла быть задана мораль до нас? Другими людьми? Но и у них тоже была мораль, такая же нерациональная, не имеющая внутри себя логики, так откуда же она у них-то появилась?
Есть только два подхода к такой головоломке — либо все же признать, что мораль имеет религиозную основу, либо оставить вопрос открытым. Стругацкие выбрали второй вариант. Но в правильно поставленном вопросе—три четверти ответа. А вопрос авторы поставили, как всегда, с исключительной точностью.
Сторонники «внерелигиозной» морали, скорее всего, тут же возразят, напомнив о золотом правиле этики: не делай другим того, чего не желаешь себе. Эта формула, казалось бы, должна работать и в абсолютно безрелигиозном пространстве Мира Полудня. Но в том-то и дело, что — не работает. Даже такому простому и понятному правилу этика коммунаров будущего не соответствует, и опять выявляет это несоответствие не кто-либо, а сами же Стругацкие. Их человечество будущего «прогрессирует» отсталые народы на других планетах тайно, не ставя в известность местных жителей о своих благих намерениях, и уж тем более — не спрашивая их мнения о целесообразности прогрессорских «микро» или «макро» воздействий. Но как только людям Полудня вдруг показалось, будто и на них самих пытаются воздействовать загадочные Странники, среди посвященных в проблему лиц начался переполох, переходящий в панику. Оказалось, люди Полудня смертельно боятся, что некая сверхцивилизация из столь же благих побуждений однажды «отпрогрессирует» их самих. Причем, боятся настолько, что Сикорски с перепугу убивает несчастного Льва Абалкина. Был ли Абалкин «автоматом Странников» или нет — непонятно. Но вот КОМКОН-2 (состоящий из бывших Прогрессоров) в этой ситуации и в самом деле действовал как «банда идиотов, обезумевших от страха».
Показательно, что острее всего боятся такого воздействия извне сами Прогрессоры: им ли не знать, каково оно на вкус — добро, насильно данное! Они сами много лет кормили этим «продуктом» других, и потому знают ему настоящую цену:
«Никто не считает, будто Странники стремятся причинить землянам зло. Это действительно чрезвычайно маловероятно. Другого мы боимся, другого! Мы боимся, что они начнут творить здесь добро, как ОНИ его понимают!
— Добро всегда добро! — сказала Ася с напором.
— Ты прекрасно знаешь, что это не так. Или, может быть, на самом деле не знаешь? Но ведь я объяснял тебе. Я был Прогрессором всего три года, я нес добро, только добро, ничего, кроме добра, и, господи, как же они ненавидели меня, эти люди! И они были в своем праве. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, а они вперлись и принялись творить добро. То самое добро, которое всегда добро. И делали они это тайно, потому что заведомо знали, что смертные их целей не поймут, а если поймут, то не примут...».
В этом отчаянном крике Тойво Глумова — еще одно авторское объяснение прогрессорских неудач. Стругацкие придумали новых героев — Прогрессоров, придумали им занятие — историческое микровоздействие, но так и не смогли сочинить для них морально-этического кодекса, который бы удовлетворял тому самому золотому правилу этики — не делай другим того, чего не желаешь себе. И здесь Стругацкие делают простой и честный вывод: если золотое правило не работает, значит, в действие вступает другой закон, гласящий: «за что боролись, на то и напоролись». Тойво Глумов («Волны гасят ветер») охотился за Странниками, а нашел люденов-нелюдей, и более того — сам стал одним из них.
Уже в самом авторском названии этих существ слышится какая-то гадливость. А ведь это всего-навсего бывшие люди, которые обнаружили и развили в себе третью импульсную систему, и, по собственному их признанию, перестали быть людьми. Людены — продукт развития земной цивилизации, сверхлюди, которые очень своеобразно относятся к породившему их человечеству: «Наиболее типичная модель отношения людена к человеку — это отношение многоопытного и очень занятого взрослого к симпатичному, но донельзя докучному малышу. Вот и представьте себе отношения в парах: люден и его отец, люден и его закадычный друг, люден и его учитель...»
О возможных вариантах сотрудничества с людьми люден Логовенко высказывается предельно категорично: «Боюсь, что вы нам полезны быть не можете. Что же касается нас... Знаете, есть старая шутка. В наших обстоятельствах она звучит довольно жестоко, но я ее приведу. «Медведя можно научить ездить на велосипеде, но будет ли медведю от этого польза и удовольствие?»».
В своем стремлении к ничем не ограниченному познанию человечество пришло у Стругацких к весьма невеселому результату. Часть его превратилась в нелюдей (хотя и со сверхвозможностями) оставшиеся же людьми вынуждены испытать беспримерное унижение, сознавая собственную неполноценность на фоне новоявленных «сверхлюдей».
Людены отсортировывают человеческий материал, пригодный для инициации «импульса Логовенко» тайно, по-прогрессорски. И не случайно именно Тойво Глумов (тот самый, который так боялся чужого добра) оказался завербованным Логовенко и, в конце концов — сам превратился в нелюдя. «Логовенко был очень убедителен. Суть: все не так просто, как мы это себе представляем... период стационарного развития человечества заканчивается, близится эпоха потрясений (биосоциальных и психосоциальных), главная задача люденов в отношении человечества, оказывается, стоять на страже (так сказать, «над пропастью во ржи»)».
Итак, Тойво Глумов стал люденом, чтобы «стоять над пропастью во ржи» — то есть, по сути, снова контролировать ход истории, теперь уже человеческой. Прогрессор победил в нем и любящего мужа, и просто — человека. И, кстати, совсем не исключено, что Тойво, Логовенко и им подобные все же научат медведя ездить на велосипеде, невзирая на самые горячие его медвежьи протесты. Потому что нести добро силой для прогрессора Глумова — профессиональная обязанность, переросшая в жизненный принцип.
Так Стругацкие замкнули круг в теме Прогрессоров. И я сильно сомневаюсь, чтобы им самим так уж хотелось жить в мире романа «Волны гасят ветер». Слишком рельефно они выявили этические проблемы мира Полудня, чтобы туда стремиться.
Впрочем, отношение авторов к созданному ими миру — их личное дело. Меня же гораздо больше интересует другой вопрос: есть ли в христианской традиции картина будущего земной цивилизации, которой бы мир, созданный творческой интуицией братьев Стругацких, соответствовал, а не противоречил?
Оказалось — есть. И угадать, где — совсем не сложно. Стругацкие изобразили мир, в котором люди безнадежно забыли о Воплощении и Крестной жертве Спасителя, в котором нигде не видно Церкви, в котором мерилом всего стал человек. Этот мир не знает войн и голода, но стоит на грани великих потрясений и катастроф. И спасать человечество от грядущих бедствий берется некий супермен-люден, выходец из человеческой среды, но уже не человек.
Тем, кто знаком со Священным Писанием, наверное, уже понятно, что я имею здесь ввиду. Христианское вероучение именно так описывает состояние человечества перед концом света, когда «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на Земле?» (Лк. 18, 8),
«...когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их пагуба» (1 Фес. 5, 3). Это будет время, когда Церковь уйдет в пустыню, и Господь будет питать ее там до Своего Второго пришествия. А над объединенным после «психосоциальных» и прочих потрясений человечеством встанет, как «над пропастью во ржи», сверхчеловек, которого, пользуясь терминологией Стругацких вполне можно назвать — люден. Или — нелюдь, поскольку, согласно Преданию Церкви, он появится на свет в результате некоего противоестественного ухищрения, и человеком в полной мере считаться уже не сможет. Церковь называет его — зверем, или — антихристом.
Поэтому, как мне кажется, в Мире Полудня у Стругацких нет ничего, что делало бы его неприемлемым для христианского сознания. Напротив, Христос прямо сказал своим ученикам: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21, 28).
И не так уж важно — предполагали ли сами Стругацкие такой вариант прочтения их книг. Хорошая литература отличается от плохой вовсе не жанром, и не партийной или религиозной принадлежностью. У современника Стругацких Владимира Высоцкого есть такие стихи:
...Но гениальный всплеск похож на бред,
В рожденьи смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса....
Хорошая литература всегда ставит перед читателем вопросы, а плохая — навязывает ему готовые ответы. Фантастика братьев Стругацких — настоящее, большое явление в русской литературе, серьезнейших вопросов там — пожалуй, не меньше, чем у Достоевского. А уж захочет ли их читатель жить в Мире Полудня или расценит его как наступающий конец света — его дело. Во всяком случае, Стругацкие не связывают своих читателей собственной трактовкой. И христианский ответ на поставленные ими вопросы вполне возможен.
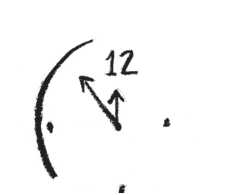

Когда в разговоре о кризисе нашей культуры звучит слово «почва», я всякий раз испытываю какое-то настороженное недоумение. Нет, против самого слова я, конечно же, ничего не имею, тем паче что и термин «культура» при всем многообразии его значений изначально относился именно к области сельского хозяйства и означал в Древнем Риме не что иное, как возделывание все той же почвы. То есть связь между двумя этими понятиями для меня очевидна и бесспорна.
Но вот что подразумевается под «почвой» в сегодняшних культурологических обсуждениях, понятно бывает не всегда. Ну, в самом деле, какой смысл может стоять за таким, например, выражением: «Нужно вернуться к почве»? Или: «Без почвы нет культуры»? Конечно, ясно, что речь здесь идет отнюдь не о земле из цветочного горшка на нашем подоконнике. Но вот дальше открывается широчайший простор для интерпретаций самого разного рода, в которых очень легко запутаться и потеряться.
Может быть, имеется в виду почва в значении «мать сыра земля», то есть та метафизическая субстанция, от которой, согласно языческим верованиям, брали силу былинные богатыри? Этот смысл отбрасываю сразу по понятным причинам.
Далее на память приходит известный вялотекущий конфликт «почвенников» и «западников» в советской литературе. Тут тоже вряд ли получится найти внятное определение для нынешних споров о почве, поскольку за всеми этими спорами русская деревня, увы, потихоньку сошла на нет, и увидеть в ней сегодня питательную среду для русской культуры вряд ли сумеет даже самый оголтелый оптимист.
Есть еще одно распространенное ныне понимание: почва как эквивалент традиции, некий пласт культурных наслоений, сформированный трудами множества поколений наших предков. Здесь меня смущает сразу несколько моментов. Прежде всего, сокровищница русской культурной традиции вряд ли может рассматриваться в данном контексте как почва, поскольку и сама эта традиция должна была на чем-то вырасти. Ведь не может же культура быть почвой для себя самой! Да и сам принцип трансляции наиболее здоровых культурных явлений из прошлого в настоящее вовсе не гарантирует сохранности культуры в целом. Даже Ленин после революции призывал коммунистов брать из старой культуры все самое лучшее. И ведь действительно брали! Сочиняли «моральный кодекс строителя коммунизма», на 80% состоявший из подредактированных библейских истин, экранизировали лучшие образцы русской литературной классики и даже вводили в школьную программу труды «религиозного мракобеса» Достоевского. А в результате всех этих манипуляций получили все тот же кризис культуры, причины которого мы и пытаемся сегодня определить. Поэтому отождествлять почву с культурной традицией мне бы тоже не хотелось.
Наконец, очень тонкое определение почвы в культуре, которое с легкой руки отца Павла Флоренского получило довольно широкое распространение: культура как производное от культа. То есть любая культура жестко связана с определенным религиозным культом, который и является для этой культуры почвой, ее питающей. Трудно отказать этой мысли в формальном изяществе, однако и здесь возникает серьезное противоречие: сам культ в религиозной традиции тоже ведь является скорее внешним ее выражением и оформлением, нежели содержанием и сутью. Никому же не придет в голову утверждать, будто сущность христианства заключается, скажем, в богослужебном уставе той или иной Поместной Церкви. По отношению к содержанию любой религии ее культ всегда будет вторичным, производным от этого содержания. Так что вывести культуру напрямую из культа тоже не получится.
Но что же тогда такое эта самая «почва», на которой вырастают все добрые и не очень добрые явления, составляющие сложное, многоплановое пространство человеческой культуры? На мой взгляд, ответ прост, но для нас малоутешителен: с достаточным основанием такой почвой можно считать лишь дух человека, формирующий это пространство в соответствии со своими устремлениями. Наш дух и есть та самая почва, растящая и питающая все без исключения проявления нашей культуры. Которая, в сущности своей, и является деятельностью человеческого духа, выраженной в формах, доступных объективному восприятию. Каков дух народа, такова и его культура. Доказывать эту очевидную истину, наверное, нет нужды. Как говорится в известной пословице — неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
Тут-то, казалось бы, самое время гневно обличить все безобразия, которыми так богата наша сегодняшняя культурная действительность. От рисунков и надписей на стенах подъездов до эпатажных премьер в столичных театрах — везде, куда ни глянь, такие нынче зияют проявления человеческого духа, что тошно делается. Есть, есть, где развернуться возмущенному критическому перу! Однако громить откровенные извращения в культуре мне как-то не хочется. Почему? А потому что грязь есть грязь, в какой ты цвет ее ни крась, как сказал когда-то Александр Галич. Мы ведь хотя и говорим здесь о кризисе, но все же о кризисе культуры, а не о продуктах ее распада.
Думаю, сейчас гораздо важнее обозначить некие тенденции в культурной жизни, которые сами по себе еще не являются чем-то разрушительным, но прямо указывают на опасное направление развития всей культуры в целом. И одним из таких направлений мне видится кризис того образа героя, который предлагает нам современная литература и киноискусство. Ведь для всех очевидно, что образ героя книг и фильмов за последние десятилетия существенно изменился, но только не всем понятно, в чем суть этой перемены. Вот об этом и хотелось бы порассуждать.
Проще всего сказать,что герой современных русских фильмов все больше становится похож на героя фильмов западных. Но в чем состоит принципиальная разница этих двух культурных типов, определить будет гораздо сложнее. Наш герой стремится к добру? Так ведь и западный тоже не злодей. Наш герой способен на подвиги? Ну уж их-то западный совершает в гораздо большем количестве. Наш герой жертвует собой ради других? И тут все в порядке: западный это делает ничуть не хуже нашего. Так в чем же их различие? Какие характеристики героя традиционной русской культуры сегодня исчезают из его образа, если он по-прежнему продолжает оставаться благородным, добрым и самоотверженным? Полагаю, именно те, по которым Михаил Михайлович Бахтин проводил границу между героем эпоса и героем романа. Известный русский философ и культуролог писал, что в романе герой «...должен быть показан не как готовый и неизменный, а как становящийся, изменяющийся, воспитуемый жизнью». На мой взгляд, это и есть главная отличительная черта героя в русской драматургии: острое ощущение своего несовершенства, способность и готовность к перемене, а порой даже откровенное желание стать другим, не таким, каков он есть сейчас.
Западный же герой более близок к эпическому изображению человека, который, по словам Бахтина, «.завершен на высоком героическом уровне, но он завершен и безнадежно готов, он весь здесь, от начала до конца, он совпадает с самим собою, абсолютно равен себе самому». Западному герою нечего менять в себе самом, поэтому вся его энергия направлена на изменение мира вокруг себя. И не так уж важно, кем он будет — плохим парнем с окраин Лос-Анджелеса или обыкновенным поваром на боевом корабле — это, в принципе, не имеет особого значения. Плохой парень может за полтора часа укокошить несколько десятков совсем уж плохих парней, а судовой повар за это же время успеет освободить захваченный террористами линкор. И мы поймем к концу фильма, что плохой парень оказывается не так уж и плох на фоне откровенных мерзавцев, а за мирным обличьем судового повара на горе всем террористам скрывался невероятно крутой ветеран спецназа без страха и упрека. Вся штука в том, что мы видим в западном кино лишь раскрытие тех качеств героя, которые авторы сначала тщательно от нас прятали — ну, чтобы интереснее было смотреть! Но сам герой в изменяющихся обстоятельствах сюжета остается безнадежно неизменным и законченным. Он весь устремлен вовне, вся его экранная жизнь — сплошное действие, без малейших признаков рефлексии.
В русской же традиции типичный герой выглядит принципиально иначе. Сюжет фильма или книги для него лишь декорация, на фоне которой происходит главное — мучительная попытка героя изменить себя самого. Причем совсем не обязательно эта попытка в итоге оказывается успешной. Ведь нельзя же сказать, будто Родион Раскольников в финале романа покаялся и стал добрым христианином. Нет, это совершенно опустошенный человек, которому предстоит еще очень и очень долгий путь к собственному возрождению. Или авторитетный вор Егор Прокудин из шукшинской «Калины красной»: он ведь тоже не смог, не успел стать не героем даже — обыкновенным крестьянином. И что же он такого героического совершил за полтора часа экранного времени, почему этот образ столько лет царапает душу каждого зрителя? Ответ простой: герой Шукшина очень хотел измениться, до физической боли хотел, до слез, до крика, до смерти. И это искреннее стремление человека стать лучше, чем он есть, не оставляет равнодушным даже самого бестолкового современного тинейджера.
...Но вот уходят, уходят с наших экранов Прокудины и Раскольниковы, из последних сил старавшиеся спасти свои искалеченные души. А на их место приходят симпатичные, эпически-целостные и по-западному законченные персонажи, готовые спасти хоть весь мир и нисколько не сомневающиеся в том, что уж с душой-то у них как раз все в полном порядке. В этой подмене героя мне и видится грозное предвестие кризиса — куда более глубокого, чем просто культурный. Ведь, как уже говорилось, культура лишь отражает жизнь народного духа. И если героем наших книг и фильмов становится человек, которому нет нужды изменять в себе что-либо, — значит, и сами мы потихоньку утрачиваем потребность в перемене своего сердца, своих мыслей. А значит — становимся неспособными к покаянию в христианском смысле этого слова.
Не из этой ли внутренней успокоенности на свой счет вырастают все современные конфликты и раздоры в православной среде? Ведь каждый, буквально каждый из нас абсолютно точно знает, что именно нужно изменить в мире и в других людях для того, чтобы засияла, наконец, вокруг нас Русь Святая. Видимо, сегодня в определенном смысле сбываются слова Владимира Соловьева, писавшего когда-то о христианстве: «.хватит бегать от мира, пора идти в этот мир и преображать его». Очень похоже, что теперь христиане и впрямь готовы со всем усердием преображать мир, окружающих, политику, культуру — всё что угодно. Кроме собственного сердца. Но если мы не сосредоточим свое внимание именно на этой важнейшей для нас почве, если не станем именно ее возделывать в первую очередь, то, боюсь, все наши усилия по преображению мира окажутся тщетными.
И не спасут нас даже самые правильные идеологии и самые традиционные культурные формы, если мы так и будем пытаться натянуть их на свою кривую, неисправленную покаянием жизнь. Себя нужно нам менять с Божией помощью, а не мир вокруг себя! Лишь эта перемена может оказаться спасительным выходом из культурного и всех прочих кризисов, в которые мы уже вляпались сегодня и еще не раз вляпаемся в будущем. Потому что именно дух наш творит себе формы во всем, чем бы мы ни занимались. Каков дух, такова и культура, и экономика, и политика, такова вся наша жизнь.
И. А. Ильин на исходе долгих лет жизни на чужбине в 1954 году писал: «После того что произошло в России, мы, русские люди, не имеем никакого основания гордиться тем, что мы ни в чем не передумали и ничему не научились, что мы остались верны нашим доктринам и заблуждениям, прикрывавшим просто наше недомыслие и наши слабости. России не нужны партийные трафареты! Ей не нужно слепое западничество! Ее не спасет славянофильское самодовольство! ...Мы должны заново спросить себя, что такое религиозная вера? Ибо вера цельна, она строит и ведет жизнь; а нашу жизнь она не строила и не вела». Дай Бог, чтобы эти горькие слова, сказанные русским философом о своем поколении, для нашего поколения не оказались пророческими.
Когда Владимир Набоков преподавал славистику в Корнельском университете, он попытался дать американским студентам внятное определение русского понятия — «хамство». Но так и не сумел этого сделать. Зато Сергей Довлатов великолепно определил хамство как — торжествующую безнаказанность. И, по-моему, лучше не скажешь.
Хамство обязательно предполагает заведомую беспомощность жертвы. Ведь не случайно хамят обычно женщинам, старикам, рассеянным интеллигентам в очочках. Попробуйте, например, как-нибудь вечером обхамить компанию подвыпивших гопников в Бутово. Или, скажем, бригаду омоновцев во время рейда на рынке. Или хотя бы своего начальника на работе. И сразу станет ясно, что Довлатов безнадежно прав. Хамство действует тольков одном направлении и возможно лишь со стороны сильного по отношению к слабым и беззащитным. То есть к тем, о ком заранее известно, что они безропотно примут все сказанное и сделанное в их адрес. Тем оно и мерзко...
Понятно, что абсолютного равенства среди людей нет и быть не может. В любой житейской ситуации всегда кто-то оказывается хозяином положения, а кто-то — от него зависит. И каждый на собственном опыте знает, как гадко и больно бывает на душе, когда тебя обижают, точно зная, что ты не в состоянии достойно ответить на оскорбление. Но до чего же трудно бывает порой увидеть человека в том, кто слабее тебя...
Возмущаясь чужим хамством, люди часто не замечают, что и сами порой ведут себя столь же возмутительно. Пожалуй, лучше всего это можно увидеть на примере отношения родителей к детям. Взрослые ведь запросто могут прикрикнуть на ребенка, могут обозвать его грубым словом. Могут даже ударить. И нет для них в этом ничего особенного. Ведь — за дело же! В воспитательных же целях! И для его же, сопляка, пользы. Но стоит ребенку обидеться и в сердцах крикнуть только что оскорбившей его маме: « Сама дура!», как тут же этот его неуклюжий и беспомощный детский протест пресекается самым решительным и печальным для бунтующего «грубияна» образом.
Узнаваемая картина, правда? Так вот, по-моему, это она самая и есть — заведомая безнаказанность, торжествующая над заведомой беззащитностью. То есть — обыкновенное хамство. Просто мы, взрослые, редко задумываемся о таких вещах. Нам кажется, что любое наше действие по отношению к собственному ребенку априори продиктовано одной лишь родительской нашей любовью, и потому никак не может быть греховным. А ведь может, увы. Да еще как может! Ну, кому из родителей не случалось хотя бы иногда срывать свое раздражение на ребенке, случайно подвернувшемся под горячую руку? Наверное, очень немногим. По-человечески тут все понятно: стрессы, усталость, недомогание, бесконечные проблемы на работе — да мало ли у взрослого человека может найтись причин для раздражительности! Дело ведь житейское. Бывает, что и сорвешься...
Все так. Но есть тут одно печальное обстоятельство: мы никогда, или почти никогда, не просим у детей прощения за эти свои срывы. Считается, что это — непедагогично, ведь взрослый в глазах детей всегда должен оставаться образцом поведения. А значит взрослый всегда прав, что бы он ни сделал. И получается, что если папа или мама наорали на ребенка, — значит, он сам в этом и виноват, поскольку довел своих несчастных родителей до белого каления, следовательно — другого обращения попросту не заслуживает. Такая вот нехитрая философия самооправдания.
А если спокойно разобраться, так чего он там натворил-то такого уж страшного, ребенок наш, чтобы мы на него голос повышали? Ну, подумаешь — брюки порвал, пускай даже новые. Ну, уроки не сделал вовремя. Или в комнате не убрался. Или — в школе набедокурил. А может, нам что-то обидное ляпнул, не подумавши. Вот ведь тоже еще — трагедия! Да если бы все наши беды сводились лишь к таким вот ребячьим «преступлениям», впору было бы только судьбу благодарить и радоваться. Конечно, сами-то мы прекрасно понимаем, что причина нашей несдержанности вовсе не в этой детской мелочевке, что виной всему как раз — наши взрослые проблемы и заботы, которые и доводят нас до такого неуравновешенного состояния. Только ведь ребенку от этого нашего понимания ничуть не легче. Правда, он пока еще не прочитал Довлатова и потому не знает, что такое — «хамство». Он лишь видит, что самый близкий и родной человек его обругал, наорал, может быть, даже ударил... Практически — ни за что. За какую-то, в сущности, ерунду, которую легко можно было уладить без крика и бурных эмоций. И сколько же тогда нужно детям мудрости и сердечной глубины, чтобы за этими нашими истериками разглядеть истинную их подоплеку и. простить нас! Простить, хотя мы вовсе не просили их об этом прощении и принимаем его, как нечто само собой разумеющееся. Вроде бы, так уж оно от века заведено: родители устраивают детям «втык» — дети принимают его к сведению, и дальше жизнь спокойно течет своим чередом. Хотя, на самом деле все обстоит совсем иначе. Ведь ребенок — такой же человек, как и мы, только пока еще маленький. От хамского отношения к себе он испытывает точно такую же обиду и боль. И только безграничная способность детского сердца к прощению позволяет ребенку продолжать нас любить, несмотря на все наши безобразные выходки, за которые любой взрослый давно бы уже прекратил с нами здороваться.
Всем известны слова Христа: Если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф 18;3). Но о чем это сказано? Ведь очевидно же, что не о детских капризах, шалостях и слабом знакомстве с житейскими реалиями. Господь призывает нас уподобляться детям именно в этом удивительном их качестве — любить и прощать даже своих обидчиков. Уподобляться в том самом детском беззлобии и всепрощении, которое мы так упорно игнорируем даже в собственном ребенке, столько раз прощавшем нам наше хамство и беспардонность.
Конечно, со всеми этими соображениями можно поспорить. Например, в том смысле, что библейскийХам (по имени которого, собственно, и был назван этот порок) пытался опозорить не кого-нибудь, а своего отца, ослабевшего от молодого вина и уснувшего без одежды. Следовательно, хамством являются лишь те безнравственные поступки, которые дети совершают по отношению к своим родителям, но — никак не наоборот.
Что ж, наверное, можно рассуждать и так. Но мне кажется, что и в этом случае довлатовское определение все равно будет более точным. Ведь потому и потешался Хам над наготой своего спящего отца, что в тот момент чувствовал полную свою безнаказанность. А Ной тогда оказался слабым и беспомощным. Точно таким же, какими бывают наши дети, когда мы устраиваем им очередную хамскую выволочку за их мелкие детские провинности.
Однако, главная трагедия хамства заключается даже не в торжестве его безнаказанности, а как раз, наоборот —
в ложности этого ощущения собственной неуязвимости, которым всяк хамящий склонен себя обманывать. Потому что каждому человеку раньше или позже, но обязательно придется отвечать перед Богом за все свои грехи. В том числе—и за хамство. И тогда будет уже совсем не важно — кому мы нахамили когда-то: своим ли детям, своим родителям или просто постороннему человеку, случайно попавшему нам под горячую руку. Важно будет другое: сумеют ли люди, обиженные нами, найти в себе достаточно любви, чтобы оказаться на Божием Суде не обвинителями нашими, а заступниками и молитвенниками? Смогут ли они простить нас тогда? Простить так же, как наш ребенок прощает нам сегодня нашу грубость и несдержанность. Которые, до поры, остаются безнаказанными.
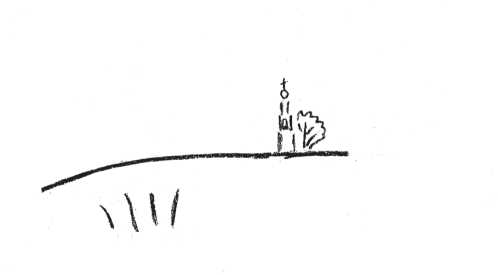
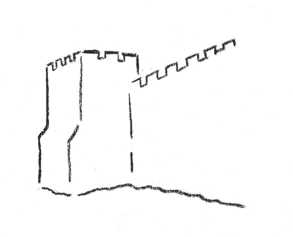
В Церковь я пришел, когда мне было 23 года. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был прочитан мной к этому времени раз десять, стал любимой книгой, и, безусловно, явился одним из факторов, повлиявших на моё обращение в православную веру. Но когда я по-настоящему уверовал во Христа как в Бога, то положил книгу на самую дальнюю полку, где она и пролежала благополучно нетронутой до тех пор, пока, я её кому-то не подарил.
Нет,это не было решительным отказом от чего-то, что я посчитал для себя «нечистым». В неофитском порыве я выкинул из дома целую кучу действительно грязных книг, но вот булгаковский роман... Там была какая-то двойственность, которую мне очень трудно было сформулировать. В общем, я не понял тогда, как к нему отнестись с христианских позиций. И, полагаю, в этом своём недоумении оказался далеко не одинок. Наверное, нет в России верующего человека, который, прочитав эту книгу, хоть однажды не задался бы вопросом: можно ли сказать, что роман «Мастер и Маргарита» является произведением христианской культуры, или, наоборот, не может быть отнесен к таковой? Потребность в спокойном и компетентном исследовании этой проблемы назрела достаточно давно.
Поэтому работу Андрея Кураева «Мастер и Маргарита: за Христа или против?» с полным на то основанием можно назвать — долгожданной. Во всяком случае, я, узнав, что о. Андрей работает над этой темой, ждал выхода книги с нетерпением. Но когда прочёл ее, то просто растерялся: обещая ответить на вопрос, вынесенный в название книги, о. Андрей вместо этого ещё больше усложнил ситуацию.
Сразу хочу объясниться: мне очень нравится творчество о. Андрея Кураева, я люблю все, что он написал, и глубоко уважаю этого автора. Книга, о которой идет сейчас речь, для меня так же интересна и значима, как и любая из его предыдущих работ. Просто, на мой взгляд, она — не закончена. И я надеюсь, что о. Андрей простит мне попытку хотя бы обозначить вопросы, ответив на которые, как мне кажется, он мог бы внести полную ясность в предмет своего исследования.
Итак. В самом начале книги о. Андрей говорит, что этой работой он хочет оправдать свою давнюю любовь к роману Булгакова. Тут же ставит перед собой пять вопросов, ответы на которые, по его мнению, помогут это сделать. Вот эти вопросы:
1. «Имею ли я право продолжать с любовью относиться к булгаковской книге, несмотря на то, что за эти годы я стал ортодоксальным христианином?»
2. «Может ли христианин не возмущаться этой книгой?»
3. «Возможно ли такое прочтение булгаковского романа, при котором читатель не обязан восхищаться Воландом и Иешуа, при этом восхищаясь романом в целом?»
4. «Воланд — оппонент автора или резонёр, которому доверено озвучивать авторскую позицию?»
5. «Возможно ли такое прочтение романа, при котором автор был бы отделён от Воланда?»
Мне думается, что в книге он ответил лишь на два последних вопроса, причём сделал это, как всегда — блестяще! По существу, вся книга — это великолепная апология личности М.А. Булгакова и мотивов, которыми он руководствовался, создавая роман «Мастер и Маргарита».
Но есть ещё три вопроса. Правда, с первыми двумя проблем не возникает. Автор не стал отвечать на них, скорее всего потому, что для ответа совсем необязательно даже знать содержание романа. Православие не ограничивает христианина в правах — напротив, расширяет их. Ну, в самом деле, вспомним: «всё мне можно, но не все полезно». Став ортодоксальным христианином, Андрей Кураев может с любовью относиться к чему угодно, если не усматривает в этом вреда для себя, и булгаковская книга не является тут исключением из общего правила.
Может ли христианин не возмущаться этой книгой?
В принципе — может. Христианин призван к любви, миру и радости, а не к возмущению. В истории Церкви были христиане, которые не возмущались даже при виде настоящей нечистой силы, что уж тут говорить о нарисованной.
Вот с третьим вопросом посложнее. В художественном творчестве есть такие же непреложные законы, как и в любой другой сфере человеческого бытия. Воспринимая любое драматургическое произведение, читатель или зритель всегда, пускай даже неосознанно, отождествляет себя с положительным персонажем (помните, у Высоцкого:
И злодея следам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить,
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.)
Это основной механизм воздействия художественной литературы на читателя. Если такого отождествления не происходит, книгу до конца можно прочесть только из-под палки, потому что никакого интереса она у читателя не вызовет. Но, по определению о. Андрея (с которым я категорически согласен), положительных персонажей в романе нет вообще. Поэтому восхищение самим романом в целом без восхищения героями, которых, хотя бы условно можно было бы считать положительными, представляется мне довольно замысловатым интеллектуальным упражнением, которое, впрочем, при определённом навыке всё-таки можно исполнить.
Вот тут и возникает первый вопрос к о. Андрею: а зачем, собственно, христианину восхищаться романом без положительных персонажей?
В литературе есть совсем немного жанров, в которых присутствие положительных персонажей необязательно и одним из этих жанров, безусловно, является сатира. Роман Булгакова о. Андрей прямо относит к сатире, направленной против вульгарной атеистической пропаганды и прямо адресованной к духовным родственникам Булгакова — белой церковной интеллигенции (здесь, и далее я буду пользоваться формулировками о. Андрея не из иронических соображений, а потому что считаю эти формулировки очень точными и не вижу смыслапортить их своей интерпретацией). Остальных читателей романа о. Андрей определяет как две категории Шариковых. Те, кто попримитивнее, возмущались этой сатирой; те, в чьей крови всё же были гены «водолаза» — радовались ей. Но только свои, «белые» могли прочитать роман, как произведение христианское.
Я безо всякого смущения отношу себя к «потомкам водолаза». Родившись, и будучи воспитан «красным», я не могу с уверенностью сказать, какого я сейчас цвета. Но зато совершенно точно знаю, что к белой церковной интеллигенции начала двадцатого века я не отношусь ни каким боком. Не будем кривить душой: водолазы-полукровки в принципе не способны к прочтению романа Булгакова с христианских позиций. По той простой причине, что этих позиций у них ещё нет. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что любой христианин, осознающий роман как этап на своём пути к Церкви, тогда, в юности, видел персонажей Булгакова совсем не так, как сам Михаил Афанасьевич. Меня, например в свое время поразил просто сам факт изображения Христа как реальной исторической фигуры. Но и в голову мне не могло прийти критически сопоставить Иешуа и Христа Евангелия, хотя бы потому что тогда я был знаком лишь с персонажем булгаковской сатиры. И воспринимал его как настоящего Христа, а вовсе не как карикатуру на толстовское прочтение Евангелия. А сегодня, став христианином, я прекрасно осознаю кощунственость толстовской трактовки и без расшифровки Булгаковских иносказаний.
Получается парадокс: те, кто нуждается в проповеди Евангелия — еще не в состоянии правильно прочесть роман Булгакова, а те, кто может прочитать его верно — уже не нуждаются в подобных формах проповеди.
Сатира пишется на злобу дня. Но все то, что Михаил Афанасьевич Булгаков стремился донести до читателя и так тщательно маскировал от цензуры, сегодня стало очевидным для всех. Сатанинской подоплеки воинствующего безбожия в истории России не увидели, наверное, только слепые. Сегодня в обществе на повестке дня совсем другая беда: подсознательное, или вполне осознанное почитание сатаны множеством его поклонников. Поэтому сатиру Булгакова в наши дни можно считать несвоевременной с достаточным на то основанием. Но безупречная композиция, прекрасный язык Булгакова, который действительно ближе к поэзии, чем к прозе, и прочие художественные достоинства романа формально делают его достоянием русской культуры. Подчёркиваю — только формально, т.к. содержание его (сатира против грубого атеизма двадцатых годов) могло восприниматься адекватно лишь в контексте того времени. В этом, наверное, главная причина двойственности восприятия романа: он был написан для одной аудитории, а читается совсем другой, независимо от того — советская ли это диссидентствующая интеллигенция, или современные граждане демократической России.
В одном из своих выступлений на радио «Радонеж» о. Андрей высказал очень интересную мысль о том, что, по большому счёту, смысл любого чтения заключается в постепенном раскрытии для себя личности автора через понимание его идей, образа мысли и т.д. Анализируя текст романа, о. Андрей открыл для меня совсем другого Булгакова, нежели тот, которого сейчас преподают в средней школе, за что я очень ему благодарен. Но вот тут-то и возникает у меня второй вопрос к о. Андрею: а возможно ли такое прочтение, при котором сам роман существовал бы вне всякой связи с личностью Булгакова и при этом все-таки не воспринимался бы как антихристианское произведение?
Ведь большинство читателей не обладают интеллектом о. Андрея или Н.А. Бердяева, и просто не смогут сделать вывод о существовании Бога, исходя из неизмеримого могущества зла в мире. Издавать же роман в комплекте с комментариями о. Андрея в наше толерантное и политкорректное время вряд ли рискнёт даже очень смелый редактор.
Таким образом, огромное количество невоцерковлённых читателей остаются один на один с текстом романа, без квалифицированной его критики и понимания авторских мотивов к написанию этой книги. И прежде чем познакомиться с её автором, знакомятся с её героями и персонажами.
Так кто же является главным героем «Мастера и Маргариты»? Тут двух мнений быть просто не может. Конечно, Воланд. То есть—дьявол. По определению о. Андрея, он изображён в романе предельно реалистично. Но давайте попробуем разобраться — что же такое реализм применительно к изображению дьявола?
Дьявол — единственный реальный обитатель духовного мира, представленный в романе. И если и Иешуа, и Левий Матвей, и Ершалаим — всего лишь морок, наваждение, плод воспаленного воображения Мастера, то дьявол со своей пристяжью — как раз и есть тот, кто заморочил в романе безбожных москвичей и внушил бедному Мастеру идею кощунственного переложения Евангелия. Все прочие герои — выдумка Булгакова, и лишь дьявол — единственный персонаж романа, который не является только литературным героем. Поэтому вопрос о реалистичности образа дьявола в романе, представляется мне ключевым для того, чтобы выяснить, наконец: за Христа «Мастер и Маргарита», или всё-таки не очень.
В православной традиции демоны определяются как существа безобразные, т.е. образа не имеющие. Подвижники, многократно видевшие искушавших их злых духов, описывают их в виде призраков, принимающих любое обличье, но я нигде не встречал у святых отцов описания демонов, как таковых (т.е. реалистичного). Когда Мотовилов стал, любопытствуя, расспрашивать преподобного Серафима об истинном облике демонов, святой с негодованием сказал, что они — гнусны. И всё. Более никаких описаний. Думается, это вовсе не заговор молчания посвящённых. Просто невозможно описать то, что не имеет внешности. Поэтому и в иконном письме бесы изображаются маленькими тёмными безликими фигурками.
В романе же они выписаны ярко, фактурно, с преувеличенным вниманием к деталям. При этом никакой гнусности в них вовсе не наблюдается, наоборот, они довольно симпатичны и привлекательны. Никакого реализма в православном понимании здесь, по-моему, нет и в помине. Есть лишь набор личин, масок ни одна из которых не показывает нам подлинного образа их носителей.Но даже если предположить, что дьявол изображен Булгаковым предельно реалистично, было бы разумно задаться вопросом: а насколько безопасно такое изображение с духовной точки зрения?
В христианской аскетике есть общее правило поведения для человека, которому явился демон. Правило очень простое, но категоричное: не вступать с этим «явлением» в разговор и не рассматривать явившегося, поскольку, бес может прельстить или испугать человека принимаемыми образами, может убедить или переубедить человека в чём угодно, так как логический аппарат у него неизмеримо более мощный, но может он всё это только при условии проявленного к нему интереса со стороны человека. Все «чудеса», все аномальные явления и «необъяснимые происшествия» творятся бесами именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Иначе их просто невозможно заметить.
Святые отцы предостерегают от интереса к демоническим выходкам, т.к. внимание — это та самая дверь, через которую демоны могут войти в душу человека. Но ведь в нашем случае внимание человека отдано не «всамделишним» демонам, а всего лишь образам, выписанным гениальным пером Булгакова. Уместны ли здесь святоотеческие правила? Попробуем разобраться.
У о. Андрея есть очень подробное описание языческих практик, при которых злые духи вселялись в неодушевленные предметы, что называется, «по просьбе публики». Там используется, — правда, с точностью до наоборот, — всё тот же святоотеческий принцип: внимание, отданное злым духам, даёт им возможность действовать в мире людей. Судите сами: «...психическая энергия, которую поклонник вкладывает в некий мыслеобраз, концентрируется в этом образе и постепенно отчуждается от мыслящего...». Или: «...божества создаются направленным к ним поклонением; это аккумуляторы, собирающие в себе энергию поклонения...», «...сообщенная предмету жизнь поддерживается ежедневными ему поклонениями...». В сущности, он «питается сосредоточенной на нём концентрацией мысли...».
Не могу не привести здесь комментария о. Андрея к этим практикам: «Если не знать этих языческих верований в статуи как место обитания божеств и как источник магических воздействий на человека, то будет непонятно то дерзновение, с которым христиане врывались в языческие храмы и разрушали статуи. С точки зрения «светской», это поведение кажется варварством, разрушением памятников искусства «церковными мракобесами». Но христиане видели в этих статуях именно то, что видели в них сами же язычники — не произведения искусства, а колдовские талисманы...»
Разумно было бы предположить, что и усиленное внимание читателей к образу дьявола в романе «Мастер и Маргарита» может действовать так же, как в языческих оккультных практиках. Иначе говоря, вполне реальный дьявол может питаться сосредоточенной на нем концентрацией мысли многочисленных поклонников романа. Сам Михаил Афанасьевич, конечно, ничего подобного не имел в виду. Просто в своем творчестве он следовал не православной, а светской культурной традиции. А уж там-то эстетизация дьявола давным-давно идёт полным ходом.
Антропоморфные изображения нечистых духов задолго до Булгакова обрели свою нишу в европейском искусстве: и обаятельный проказник Мефистофель, и тоскующий демон Лермонтова, перекочевавший потом на гениальные полотна Врубеля... Не хочется тратить время на их перечисление. Всё это очень печально, прежде всего, потому что все эти образы — ложные. В демонах нет ни обаяния, ни элегантности, ни искрометной иронии, ни страданий неразделенной любви: Там вообще ничего нет, кроме ненависти ко всему, что имеет бытие и является творением Божиим. Все прочие качества — романтизация демонических, или страстных начал в самом человеке. Для того, чтобы понять какие личные качества присутствуют в демонах на самом деле, достаточно хотя бы однажды увидеть одержимого злым духом человека в приступе беснования. Зрелище жуткое, но запоминающееся на всю жизнь и очень убедительное.
Когда-то в ярмарочных балаганах чертей изображали в виде козлоподобных сатиров. И никому в голову ни могло прийти рассматривать их чувства, интеллект или каким-либо иным способом попытаться проникнуть в «сложный внутренний мир» демона. Но когда на оперных подмостках в исполнении лучших актеров появился Мефистофель, ситуация качественно изменилась. В лице человекоподобного беса искусство получило весьма сомнительное приобретение, поскольку человек в своём нынешнем, падшем состоянии невольно стремится к всевозможной чертовщине по причине сходства страстей, действующих и в демонах и в людях. Чтобы противостоять этому влечению, необходимо сознательное волевое усилие, основанное на знании Евангелия и опыте личной молитвы.
Но тогда как читать «Мастера»? Пропуская описания, рассуждения и диалоги с участием дьявола? Немного же тогда останется от романа о дьяволе. Или полемизируя с ним и оспаривая его тезисы, как это делает о. Андрей? Вряд ли это можно назвать безопасным занятием для читателя, богословски и духовно менее подготовленного, чем тот же Андрей Кураев. Парадокс читательского восприятия Воланда — в том, что он — единственный персонаж романа, который действует вполне адекватно своей сущности. Сущность беса — зло, без малейших проблесков добра. И когда Воланд творит явное зло, мы не воспринимаем это как отклонение от нормы: ведь чего же еще кроме зла можно ожидать от дьявола? Когда Воланд лжет, это тоже выглядит вполне органично, ведь он — «отец лжи».
Но как же безответственно было выпускать такое существо в культурное пространство романа! Да еще такого, в котором не только нет Бога, но и просто ни одного положительного персонажа не наблюдается.
Есть вещи и понятия, несовместимые в определенном контексте с пользой для человека. Нельзя, например, использовать цианистый калий для приготовления пищи. Ни в какой форме. Нельзя использовать огнестрельное оружие для убеждения других в правоте собственных идей. Нельзя использовать водородную бомбу в мирных целях. Пусть немного нелепо звучит тавтология, но всё, что несет смерть — смертельно опасно. А ведь дьявол — человекоубийца по определению, и других целей в его деятельности просто нет.
В одной из своих книг, полемизируя с протестантами, о. Андрей определяет Евангелие как словесную икону Христа. Не является ли по этой же логике роман Булгакова о дьяволе словесной иконой дьявола? Если воспользоваться методом «приведения к абсурду», то способ душеполезного чтения этого романа можно выразить в виде молитвы перед иконой, на которой изображен только дьявол, но нет ни Бога, ни святых. Глядя на такую икону, наверное, можно вспоминать о бытии Бога, но это будет уже чем угодно, только не христианством.
После прочтения книги о. Андрея возникает вопрос гораздо более важный, чем те, на которые он взялся ответить. Всякий ли консерватизм своей любви следует оправдывать христианину? Для чего члену Церкви Христовой с любовью относиться к этой булгаковской книге? Ну, ведь не для того же, чтобы, определив для себя «Пилатовы главы» как — кощунственные, иметь возможность полюбоваться красотой и поэтичностью изображения Ершалаима в этих самых кощунственных главах. Наверное, христиане, разбивавшие идолов в языческих храмах, тоже не лишены были чувства прекрасного. Но духовный вред в их понимании все-таки был более значим, чем эстетика.
Общий смысл христианского понимания искусства вполне укладывается в формулировку Аристотеля. Он утверждал, что цель искусства — не в занимательности и развлечении, а в нравственном совершенствовании человека. И по большому счёту, наверное, не так уж важно соотношение личности М.А. Булгакова и инфернальных персонажей, созданных его творческим воображением. Это его личная проблема, и меня, как читателя и христианина, она не особенно волнует. Гораздо важнее, по-моему, другое. Что же все-таки получилось у него в конце концов, после всех этих мучительных правок, сжиганий и переписываний? Является ли роман о дьяволе произведением искусства в христианском понимании, или нет? И если да, то каким образом он может способствовать нравственному совершенствованию человека вообще, а христианина — тем более?
Мне кажется, пока о. Андрей Кураев не ответит ясно и определенно на эти вопросы, его книгу нельзя считать законченной. А ответить надо. Потому что «Мастер и Маргарита» — это не «Гарри Поттер». Мне очень понятен и близок миссионерский пафос о. Андрея, когда он стремиться ввести в христианское культурное пространство всё, что имеет хотя бы какое-то к тому основание. И когда в статье «Гарри Поттер: попытка не испугаться» он нашел в христианской традиции промежуток между людьми и ангелами, благодаря которому сказочных героев можно не считать бесами, я от души был ему благодарен. Но Воланд со свитой — не сказочные герои, а вполне реальные обитатели духовного мира, пусть и одетые в художественный камуфляж писательским талантом М.А.Булгакова. И тут очень важно задаться вопросом: а не является ли интерес к роману о дьяволе одной из форм интереса к самому дьяволу? И если это действительно так, то насколько безопасно с пиететом относиться к этому роману?
Поскольку эти вопросы подспудно присутствуют в книге о. Андрея, думается, вряд ли кто-то сможет ответить на них лучше, чем он сам.


В истории русской литературы трудно отыскать тему более тяжелую и печальную, чем отлучение Льва Николаевича Толстого от Церкви. И в то же время нет темы, которая породила бы столько слухов, противоречивых суждений и откровенного вранья.
История с отлучением Толстого по-своему уникальна. Ни один из русских писателей, сравнимых с ним по силе художественного дарования, не враждовал с Православием. Ни юношеское фрондерство Пушкина, ни мрачный байронизм и нелепая смерть на дуэли Лермонтова не вынудили Церковь перестать считать их своими детьми. Достоевский, прошедший в своем духовном становлении путь от участия в подпольной антиправительственной организации до пророческого осмысления грядущих судеб России; Гоголь, с его «Избранными местами из переписки с друзьями» и «Объяснением Божественной литургии»; Островский, которого по праву называют русским Шекспиром, Алексей Константинович Толстой, Аксаков, Лесков, Тургенев, Гончаров... В сущности, вся русская классическая литература XIX века создана православными христианами.
Наэтом фоне конфликтЛьваТолстого с Русской Православной Церковью выглядит особенно угнетающе. Наверное, поэтому в России любой интеллигентный человек вот уже более ста лет пытается найти для себя объяснение трагическому парадоксу: Толстой — величайший из отечественных литераторов, непревзойденный мастер слова, обладавший потрясающей художественной интуицией, автор, при жизни ставший классиком... И в то же время — единственный писатель, отлученный от Церкви.
Вообще русскому человеку свойственно становиться на защиту гонимыхиосужденных.Причемневажно,зачтоименноихосудили и почему гонят. Пожалуй, главная черта нашего национального характера — сострадание. А пострадавшей стороной в истории с отлучением для большинства людей, безусловно, представляется Толстой. Его отношения с Церковью часто воспринимаются как неравный бой героя-одиночки с государственным учреждением, бездушной чиновничьей машиной.
Пожалуй, наиболее полно эту точку зрения выразил замечательный писатель Александр Куприн в своем рассказе «Анафема». Сюжет рассказа прост: протодиакон кафедрального собора отец Олимпий на богослужении вынужден провозглашать анафематствование своему любимому писателю Льву Толстому. Читая по требнику XVII века чудовищные проклятия, «которые мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства», протодиакон вспоминает прекрасные строки Толстого, прочитанные накануне ночью, и делает свой выбор — вместо «анафемы», провозглашает графу Толстому «многая лета».
Купринского протодиакона можно понять. Вот небольшой отрывок из рассказа, где автор описывает процедуру анафематствования Толстого:
«Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафематствовал и отлучил от церкви: ... магометан, богомилов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере...»
Далее у Куприна следует описание проклятий, адресованных персонально Льву Николаевичу Толстому.
«...Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятство, а анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удавление, Симона волхва погибель, ариево тресиовение, Анании и Сапфири внезапное издохновение. да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не приимет, и да будет часть его в геене вечной и мучен будет день и нощь».
Такие вот ужасные слова в адрес великого писателя. Но не спешите ужасаться. Дело в том, что весь этот кошмар, приписываемый Куприным «узкому уму иноков первых веков христианства», является от начала и до конца его собственным вымыслом. И дело даже не в том, что ну никак не могло появиться в требнике семнадцатого века имя Емельяна Пугачева, который родился и жил в восемнадцатом столетии. И не в том, что, начиная с 1869 года, анафематствование отдельных лиц в России было прекращено вовсе.
Просто ни в одном из многочисленных печатных и рукописных чинов анафематствования, составленных Русской Православной Церковью за несколько веков, нет ничего даже отдаленно похожего на проклятья, которые Куприн извергает на Льва Николаевича от лица Церкви. Все эти жуткие заклинания не более чем плод буйного воображения расцерковленного российского интеллигента начала двадцатого столетия. Ни в одном из храмов Российской империи анафема Толстому не провозглашалась. Все было гораздо менее торжественно и более прозаично: газеты опубликовали Послание Священного Синода. Вот его полный текст:
Cвятейший Всероссийский Синод верным чадам православныя кафолическия греко-российския Церкви о Господе радоватися.
Молим вы, братие, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, ему же вы научитеся, и уклонитеся от них (Римл. 16:17).
Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере во Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви Святой, которая пребудет неодоленною вовеки. И в наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь Святая. В своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской; отвергает личного Живого Бога, во Святой Троице славимого, создателя и промыслителя Вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человек и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает божественное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы, Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отверг себя сам от всякого общения с Церковью Православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем перед всею Церковью к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.
Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2:25). Молимтися, милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.
Подлинное подписали:
Смиренный АНТОНИЙ, митрополит С.-Петербургский и Ладожский.
Смиренный ФЕОГНОСТ, митрополит Киевский и Галицкий.
Смиренный ВЛАДИМИР, митрополит Московский и Коломенский.
Смиренный ИЕРОНИМ, архиепископ Холмский и Варшавский.
Смиренный ИАКОВ, епископ Кишиневский и Хотинский.
Смиренный ИАКОВ, епископ.
Смиренный БОРИС, епископ.
Смиренный МАРКЕЛ, епископ.
2 февраля 1901.
Совершенно очевидно, что даже намека на какое-либо проклятие этот документ не содержит.Русская Православная Церковь просто с горечью констатировала факт: великий русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой перестал быть членом Православной Церкви. Причем отнюдь не в силу определения вынесенного Синодом.
Все произошло гораздо раньше. В ответ на возмущенное письмо супруги Льва Николаевича Софьи Андреевны Толстой, написанное ею по поводу публикации определения Синода в газетах, Санкт-Петербургский митрополит Антоний писал:
«Милостивая государыня графиня София Андреевна! Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живого, Искупителя и Спасителя нашего. На это-то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию. И не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а от того, что отвратился от Источника жизни вечной».
Сострадание гонимым и сочувствие обиженным — конечно, благороднейшие порывы души. Льва Николаевича, безусловно, жалко. Но прежде, чем сочувствовать Толстому, необходимо ответить на один очень важный вопрос: а насколько же сам Толстой переживал по поводу своего отлучения от Церкви? Ведь сострадать можно только тому, кто испытывает страдания. Но воспринял ли Толстой отлучение как некую ощутимую для себя потерю?
Тут самое время обратиться к его знаменитому ответу на определение Священного Синода, который был также опубликован во всех русских газетах. Вот некоторые выдержки из этого послания:
«...То, что я отрекся от Церкви называющей себя Православной, это совершенно справедливо.
...И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения.
...Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.
...То, что я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении первого человека, историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо.
...Еще сказано: «Не признает загробной жизни и мздовоздаяния».
Если разумеют жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями/дьяволами и рая — постоянного блаженства, — совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни...
...Сказано также, что я отвергаю все таинства... Это совершенно справедливо, так как все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учениюколдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия...»
Наверное, этих признаний вполне достаточно для того, чтобы убедиться: по существу дела у Льва Николаевича к Определению Синода претензий не было. Были претензии к формальной стороне. Толстой сомневался в каноничности этого определения с точки зрения церковного права. Проще говоря, Лев Николаевич был уязвлен именно тем, что о его отлучении не было громогласно объявлено со всех кафедр Русской Православной Церкви. То есть жалел он как раз о том, что не произошло процедуры, которую описал Куприн в своем рассказе. Вот как описывает отношение Толстого к Определению секретарь Толстого, В. Ф. Булгаков:
«Лев Николаевич, зашедший в «ремингтонную», стал просматривать лежавшую на столе брошюру, его «Ответ Синоду». Когда я вернулся, он спросил:
— А что, мне анафему провозглашали?
— Кажется, нет.
— Почему же нет? Надо было провозглашать... Ведь как будто это нужно?
— Возможно, что и провозглашали. Не знаю. А Вы чувствовали это, Лев Николаевич?
— Нет, — ответил он и засмеялся».
Не вдаваясь в подробности и оценку религиозных воззрений Льва Толстого, можно, тем не менее, ясно увидеть, что эти воззрения не совпадали с Православным вероучением.
Со стороны Церкви он получил всего лишь подтверждение этого различия. Напрашивается такое сравнение: мужчина много лет как оставил свою семью. Живет с другой женщиной. И вот, когда первая жена подала на развод и получила его, этот мужчина начинает возмущаться юридическими огрехами в процедуре развода. По-человечески все понятно — чего в жизни не бывает... Но сочувствовать такому человеку, по меньшей мере, было бы странно.
Толстой страдал не от формального отлучения. До самой смерти он не был окончательно уверен в правильности избранного им пути конфронтации с Церковью. Отсюда и его поездки в Оптину пустынь, и желание поселиться в монастыре, и просьба прислать к нему, умиравшему на станции Астапово, оптинского старца Иосифа (тот болел, и в Астапово послан был другой старец, Варсонофий). И в этой своей раздвоенности Лев Николаевич действительно глубоко несчастен и заслуживает самого искреннего сочувствия. Но бывают в жизни человека ситуации, когда никто на свете не в состоянии ему помочь. Кроме него самого...


Со времен Евангельских событий человечество не знает имени более позорного и низкого, чем имя Иуды Искариота. Историю о том, как один из ближайших учеников Христа за тридцать сребреников предал своего Божественного Учителя на распятие, знают сегодня даже люди, ни разу в жизни не державшие в руках Библию. Но у тех, кто читал Евангельский рассказ о предательстве Иуды, неизбежно возникает ряд вопросов. Поступки Иуды поражают какой-то удивительной внутренней непоследовательностью. Ведь даже в предательстве должна быть определенная логика. А то, что сделал Иуда, настолько противоречиво и бессмысленно, что не укладывается даже в логику предательства. Впрочем, до определенного момента его действия понятны.
Задумав предать Христа, Иуда идет к первосвященникам и говорит: что вы дадите мне, если я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Христа. (Мф 26:15-16) Случай подвернулся на следующую же ночь. Иуда приводит вооруженный отряд воинов и слуг первосвященников в Гефсиманский сад, где обычно проводили ночь Христос и апостолы. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? (Мф 26:48-50)
И вот тут возникает вопрос: почему для того чтобы указать на Христа, Иуда избрал такой вызывающе-наглый способ? Ведь обычно предатель стыдится даже просто взглянуть в глаза своей жертве. А здесь он открыто приветствует Христа, ничуть не скрывая своих намерений отдать Его в руки слуг первосвященников. Такое поведение можно было бы объяснить полным безразличием Иуды к судьбе преданного им Христа. Но есть обстоятельство, которое не позволяет так упрощенно трактовать Иудин поцелуй. Потому что узнав об осуждении Христа на смерть, Иуда повесился. Вот как описывает это Евангелист Матфей:
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. (Мф. 27:3-5).
Получается парадокс. Если Иуда ненавидел Иисуса или просто окаменел сердцем и был к Нему равнодушен, то почему он покончил с собой? Ведь только смерть того, без кого жизнь теряет всякий смысл, может толкнуть человека на самоубийство. Выходит, Иуда любил Христа? Но тогда почему он с такой легкостью отдал Иисуса в руки тех, кто приговорил Его к мучительной смерти?
История с платой за предательство только усугубляет недоумение. Евангельский текст недвусмысленно свидетельствует, что Иуда предал своего Учителя за тридцать сребреников. Но если они были целью и причиной предательства Иуды, то почему же после исполнения своего замысла он с такой легкостью возвращает эти сребреники? А если они не были для Иуды ценностью, то ради чего тогда он пошел на предательство, стоившее жизни ему самому?
Все эти вопросы возникают оттого, что любое предательство — это тайна больной души. Предатель вынашивает в сердце свои преступные планы и тщательно прячет их от окружающих. Иуда никому так и не открыл своих намерений до самой своей бесславной гибели. И о том, что происходило в его душе, Евангелисты, конечно же, не могли знать в точности. Евангелие рассказывает о предательстве очень скупо и это вполне естественно, потому что Евангелие — это история нашего спасения, а не история предательства Иуды. Евангелистам ученик-предатель интересен только в связи с Крестной Жертвой Спасителя, но никак не сам по себе. Причины, детали и подробности падения Иуды остаются тайной. Однако это тайна всегда волновала людей. Еще апостолы, когда Господь предупредил, что один из них предаст Его, стали спрашивать каждый про себя самого: «Не я ли?» И во все времена каждый христианин, читая Евангелие, задается тем же вопросом: «А я никогда не предавал Христа своими грехами? Не уподобился ли Иуде?» Так что вопрос о мотивах этого предательства не такой уж отвлеченный, каким может показаться на первый взгляд. Попытаться выяснить их следует уже хотя бы для того, чтобы самому незаметно не подпасть их действию.
В Евангелии об Иуде сказано очень немного, поэтому попытка осмыслить его предательство всегда предполагает определенную реконструкцию недостающих фактов. Это толкование, конечно, не может претендовать на роль истины в последней инстанции, но некоторые сведения об Иуде, данные в Библии, могут помочь пролить свет на его мрачную историю. И один такой факт, не зная которого совершенно невозможно понять внутренних побуждений Иуды, приводит в своем Евангелии апостол Иоанн.
Дело в том, что Иуда был — вор.
Вот что Библия говорит о воровстве Иуды: Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали (Ин.12:3-6). В греческом подлиннике Евангелия об этом сказано еще категоричнее, потому что словоупотребление греческого языка позволяет понимать слово, переведенное как «носил», в значении — крал.
Иуда был казначеем апостольской общины. В его распоряжении были довольно значительные суммы, так как среди почитателей Иисуса были богатые женщины, исцеленные Им от злых духов и неизлечимых болезней. Все они служили Христу своим имением. Но так как Господь был абсолютно равнодушен к богатству, пожертвованные деньги большей частью раздавались нищим, за исключением небольших расходов на пропитание самого Христа и его учеников. Вел денежные дела апостолов — Иуда. Раздаваемые нищим суммы не были подотчетными, никто не смог бы проверить, раздал ли Иуда деньги, или присвоил часть их себе. Эта бесконтрольность, очевидно, в недобрый час и соблазнила сребролюбивого Иуду. Тратить украденные деньги открыто он, конечно же, не мог. Перекладывать их из ящика в свой карман было бы глупо и неудобно. Очевидно у него было какое-то укромное место, где он хранил наворованное богатство. Об этом кладе как об одной из причин предательства Иуды прямо говорится в литургическом предании Церкви. Вот что поет Церковь в Святой и Великий Четверг на Страстной неделе в одной из стихир утреннего Богослужения:
«Иуда, раб и льстец, ученик и наветник, друг и диавол, от дел явися: последоваше бо Учителю, и на него поучашеся преданию, глаголеша в себе: — предам Того, и приобрящу собранная имения ( богатства)...»
Невозможно выяснить точно, когда он впервые запустил руку в апостольскую казну. Но в том, что Иуда украл оттуда гораздо больше, чем тридцать сребреников, можно не сомневаться. Понятно также, что воспользоваться наворованным богатством Иуда мог лишь при одном условии: если апостольская община прекратит свое существование. И он добился своего. После ареста Христа даже самые верные и преданные Ему ученики в страхе разбежались кто куда. Пока все достаточно логично. Но с этого момента в поведении Иуды снова можно наблюдать удивительную несообразность. Вместо того чтобы спокойно забрать припрятанное сокровище, присовокупив к нему плату за предательство, и зажить, наконец, в свое удовольствие, вор и предатель вдруг кончает жизнь самоубийством.
Объяснить это можно по-разному. Бесспорным является здесь сам факт: и тридцать сребреников, и наворованные ранее деньги внезапно перестали быть для Иуды главной ценностью в жизни. Но что же могло обесценить в глазах вора состояние, которое он планомерно накапливал в течение трех лет? Ответ напрашивается сам собой. Дороже больших денег для вора и сребролюбца могут быть только... — очень большие деньги.
Уеники признали в Христе — Мессию. Но так же, как все иудеи, они видели в Мессии земного правителя, который, придя к власти, сделает Израиль самой сильной и богатой страной на земле. Мессия-царь должен был, по их представлениям, подчинить себе все народы мира. И все многочисленные притчи и объяснения Христа о том, что Царство Его — не от мира сего, так и не смогли переубедить апостолов. До самого Вознесения Его они были уверены, что Господь станет, наконец, земным царем Израиля. Себя же ученики Христа видели ближайшими помощниками и соправителями Мессии и даже спорили о том, кто из них будет главнее в этом новом правительстве Израильского царства. Сребролюбивый Иуда, конечно, не был исключением в этом общем для апостолов ожидании высоких постов при будущем владыке Вселенной.
Если Мессия станет царем, то он, Иуда, очевидно должен стать царским казначеем, то есть — самым влиятельным человеком в Израиле после Мессии. В своих мечтах Иуда уже представлял, как распоряжается не апостольским денежным ящиком, а казной самого богатого государства за всю историю человечества.
Став вором, Иуда поначалу строил планы предательства Христа с целью приобретения собранных денег, как об этом поет Церковь. Но имя Христа становилось в среде народа Израилева все более славным. После небывалого чуда — воскрешения мертвого Лазаря — даже те иудеи, которые раньше пытались побить Христа камнями, увидели в Нем — Мессию. Когда Иисус входил в Иерусалим, жители столицы оказывали Ему царские почести, устилая Его путь своими одеждами. После такого приема предавать будущего царя ради украденных у апостолов денег практичному и жадному Иуде стало просто невыгодно. Сребролюбие и воровство постепенно выжгли его душу настолько, что даже Мессию-царя он собирался использовать лишь как средство для удовлетворения своей страсти к богатству.
И вдруг оказалось, что Христос вовсе не собирается царствовать. Израильская казна, до которой оставалась лишь пара шагов, вновь становилась для Иуды недосягаемой. Нужно было срочно принимать какое-то решение, чтобы исправить ситуацию. И решение было принято. А подсказал его предателю тот, кого Христос называл — «человекоубийцей от начала». Правда, Иуда не знал тогда, что этот подсказчик в конце концов загонит в петлю и его самого.
Все толкователи Священного Писания единодушно утверждают, что Иуда предал Спасителя по прямому внушению диавола. Евангельский текст прямо свидетельствует об этом: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им» (Лк. 22:3-4). В православной аскетике действие диавола на душу человека описывается следующим образом. Злой дух получает доступ к человеку через его страсти (то есть — больные наклонности души). Мысленно он нашептывает, как лучше человеку удовлетворить его нездоровые желания, и шаг за шагом ведет свою жертву к гибели. Причем, сначала диавол уверяет человека, что грех не так уж и велик, а Бог милостив и все простит. Но потом, после совершения греха, злой дух ввергает человека в бездну отчаяния, внушая ему, что грех его безмерен, а Бог неумолим. Что же нашептал сатана Иуде, каким посулом соблазнил его на предательство Христа?
Самой большой страстью Иуды была любовь к богатству — сребролюбие. А самым заветным желанием, возможно — должность министра финансов в царстве Мессии, где он смог бы воровать такие суммы, которые самым удачливым ворам мира не могли привидеться даже в самых сладких снах. И эта заветная цель была уже совсем близко.
Но Христос не спешил становиться религиозным и политическим лидером Израиля. Придя в Иерусалим, Он не стал изгонять первосвященников и старейшин, чтобы по праву занять их место. Все планы Иуды рушились.
В этот момент сатана, очевидно, и дал ему подсказку, толкнувшую того на предательство. Иуда знал, что первосвященники и фарисеи, боясь Иисуса, распорядились, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его (Ин 11:57). Иуда знал также, что Христос уклонялся от прямого конфликта с властями.
И вот, подстрекаемый сатаной, он решает предать Христа, для того чтобы спровоцировать открытое столкновение первосвященников с Мессией. Победа Иисуса в этом конфликте не вызывает у него сомнения. Ведь он видел всю силу Мессии, видел, как по Его повелению воскресают мертвые, как Ему повинуется буря, как злые духи беспрекословно подчиняются Ему... Кто же сможет убить Мессию? Достаточно одного Его слова, и даже несокрушимые железные легионы Рима развеются без следа, как ворох сухих листьев на осеннем ветру!
Ослепленный жаждой богатства и нашептываниями сатаны, Иуда предает Христа. Но при этом даже мысли не допускает, что Его могут убить. Ведь в Иисусе, победившем первосвященников, была вся его надежда, все планы, все упование на будущее.
Хотел ли Иуда смерти Христа? Нет, потому что это было ему невыгодно. Любил ли Иуда Христа? Нет, Иисус был для него всего лишь средством к приобретению сказочного богатства. При таком мотиве предательства становится понятным странный способ, избранный предателем, чтобы ночью в Гефсиманском саду указать стражникам на Христа. Поцелуем Иуда просто засвидетельствовал почтение царю, который вот-вот победит своих врагов.
Сатана внушил Иуде, что Христос непременно примет вызов, низвергнет первосвященников, сметет римских оккупантов и Сам воцарится в Израиле.
Но он обманул Иуду, как и должен был обмануть отец лжи — несчастного, погрязшего в болоте своих страстей и ослепшего от блеска призрачных сокровищ человека. Мысль о том, что Спаситель откажется от Крестного Подвига, соблазнившись земным царством, действительно — сатанинская. Этой мыслью диавол уже искушал Христа в пустыне, перед выходом Его на проповедь Евангелия. Эту же мысль злой дух пытался внушить апостолу Петру, когда тот стал отговаривать Христа от Искупительных страданий, и тут же получил от Него жесткую отповедь: ...Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф 16:23). Спаситель хорошо знал, кто пытался говорить с Ним через самого преданного ученика.
Также знал он и кому поверил Иуда. Перед самым приходом предателя с отрядом стражников Иисус сказал ученикам: Уже немного Мне Говорить с вами; ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего (Ин 14:30). Князем мира сего Христос называл, конечно же, не Иуду, а сатану. Который, в очередной раз — теперь уже через ученика-предателя — хотел искусить Спасителя соблазном земного владычества. Но Господь продолжил Свой Крестный Путь, ради которого и пришел в этот мир. Сатана остался ни с чем, а вместе с ним обанкротился и Иуда.
Христос действительно поверг наземь воинов, пришедших его арестовать. Но сделал это лишь для того, чтобы дать уйти ученикам, которые тоже могли пострадать. А после дал себя связать, покорно проследовал до места судилища и к утру, с нарушением практически всех норм иудейского законодательства, был осужден на смерть.
Когда Иуда узнал о смертном приговоре, вынесенном Христу, то понял, что все его планы рухнули, что он стал виновником смерти величайшего праведника, что потерял право именоваться учеником Мессии... Но самой страшной потерей для него, наверное, было то несбывшееся богатство, которое он уже считал своим. В мечтах Иуда уже распределял финансовые потоки, идущие в казну Мессии со всех концов света. Что, в сравнении с этим богатством, тот клад, который был накоплен вором и предателем за годы проповеди Христа? И, тем более — жалкие тридцать сребреников?. Он и взял-то их лишь для того, чтобы не спугнуть первосвященников, чтобы поверили они в искренность намерения отдать им Учителя.
Все кончилось для Иуды, все, ради чего он жил, оказалось призраком и ложью, глумливой насмешкой дьявола. И когда в Евангелии мы читаем, что Иуда раскаялся, не нужно обманываться благородным звучанием этого слова.
Предатель оплакивал не Мессию, безвинно отданного им на смерть. Он оплакивал свою несостоявшуюся должность казначея Мессии, которую, как ему казалось, он сам у себя отнял, предав Христа на смерть. Эту потерю он пережить не смог. А на подлинное покаяние оказался неспособен.
Закончить печальный рассказ о предательстве Иуды можно словами свт. Иоанна Златоуста:
«Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою? Таково тиранство сребролюбия! Ни серебром не воспользовался, ни жизнию настоящею, ни жизнию будущею, но... удавился.»

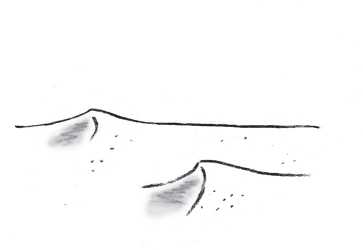
Церковь учит, что только после Христа для людей открылись ворота Рая. Есть мнение, что даже все библейские праведники и пророки неизбежно оказывались в аду после своей смерти. Но в Библии ясно сказано, что ветхозаветный пророк Илия вознесся на Небо. А в известной притче о богаче и Лазаре Христос говорит, что после смерти лишь богач попал в муку, Лазарь же утешился. Как все эти утверждения соотносятся друг с другом?
Олег Антипов, г. Тула
Где оказывались умершие праведники до пришествия и искупительного подвига Христова — в аду или в раю? На этот вопрос очень трудно ответить однозначно. С одной стороны, христианское вероучение со всей определенностью утверждает, что Рай стал доступен людям лишь после Крестной Жертвы Спасителя. Следовательно, все люди дохристианского мира, даже ветхозаветные праведники, патриархи и пророки, после смерти неизбежно оказывались в аду. Такое рассуждение не противоречит Преданию Церкви, которое гласит, что Христос вывел из ада всех, кто оказался достоин спасения.
Но, с другой стороны, в том же Предании мы имеем ряд свидетельств, которые можно понять совершенно противоположным образом. Например, по слову Писания пророк Илия понесся в огненной колеснице на небо (4 Цар 2:11). Как понимать этот факт библейской истории в рамках учения о схождении во ад всех без исключения ветхозаветных праведников? Ведь нелепо было бы предполагать, будто упомянутая колесница пылала «адским огнем», а слово «небо» в данном случае нужно считать метафорой, на самом деле означающей преисподнюю. А ведь есть еще притча о богаче и Лазаре, где говорится о непреодолимой пропасти, отделяющей Авраама и прочих праведников от находящихся в мучении грешников:
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк 16:19-31).
И эту притчу Христос говорил фарисеям еще до Своего схождения во ад, когда пророки и патриархи еще не были освобождены Им из плена преисподней. Так куда же все-таки попал Лазарь — в Рай, или в ад?
Евангелие не говорит, что Лазарь после смерти оказался в Раю. В Писании сказано лишь, что он ...был отнесен ангелами на лоно Авраамово. Но вряд ли мы сможем найти у различных толкователей Библии единое мнение о местонахождении этого загадочного «лона».
Самый типичный вариант объяснения дает архиепископ Аверкий (Таушев):
«После смерти Ангелы отнесли душу Лазаря на лоно Авраамово. Не сказано «в рай», потому что рай был отверзт только страданиями и воскресением Господа Иисуса Христа, но выражается лишь та мысль, что Лазарь, как истинный сын Авраама, разделил с Авраамом его посмертный жребий, улучив состояние, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех праведников. Лазарь заслужил эти «вечные кровы», без сомнения, своим тяжким и безропотным страданием. «Умер и богач, и похоронили его». Упоминается о похоронах, вероятно, потому, что они были роскошны, в то время как труп Лазаря был просто выброшен на съедение диким зверям. Но богач оказался в аду в муках».
Здесь снова возникает неопределенность — богач оказался в аду, а Лазарь заслужил «вечные кровы», которые, однако. не являются Раем. И посмертный жребий Авраама (а вместе с ним и Лазаря) заключается лишь в утешительных надеждах на будущее блаженство. По-прежнему остается непонятно: что же такое «лоно Авраамово» — некая часть ада, специально оборудованная для избранных, или же вообще какое-то третье, неизвестное Церковной традиции место, которое невозможно идентифицировать ни с адом, ни с Раем?
Наверное, главной сложностью в понимании этого непростого вопроса является отсутствие у нас ясного представления о том, что же такое — Рай и ад. Даже в святоотеческом наследии можно найти весьма различные определения этих реалий посмертного бытия человека. И если мыслить об аде и Рае лишь в пространственных категориях — как о территориях, которые в принципе не соприкасаются друг с другом, то все противоречия, уже рассмотренные здесь, становятся просто неизбежными. Но существует и другое понимание, которое позволяет эти противоречия успешно разрешить.
Преподобный Исаак Сирин пишет: Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Но удивительное дело — рассуждая об аде, Исаак Сирин говорит практически то же самое: ад — это действие божественной любви:
Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, язвительнее всякого наказания.
По мысли преподобного, ад и Рай являются различными способами восприятия одной и той же реальности — любви Божией. И это далеко не единичное мнение, пускай даже и очень почитаемого Отца.
Святитель Григорий Палама тоже настаивал на таком понимании действия любви Божией. Обращаясь к словам Иоанна Предтечи, сказанным им о Христе, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф 3:11; Лк 3:16), святитель Григорий полагает, что люди воспримут соответственно своему устроению либо просвещающее, либо мучающее свойство благодати. Вот его слова: Он, говорит Предтеча, будет крестить вас Духом Святым и огнем, являя просвещающее и мучающее свойство, когда каждый человек будет получать соответствующее своему расположению.
У некоторых святых Отцов ясно выражена мысль о том, что рай и ад существуют лишь с точки зрения человека, но не с точки зрения Бога. Конечно, и рай, и ад существуют реально, существуют как два различных образа бытия людей и ангелов. Но не Бог сотворил это различие, а сами люди и ангелы, различным образом воспринимающие Любовь Божию, щедро изливаемую Им на всех без исключения в каждый момент нашего существования, земного или посмертного.
В самом деле, даже если рассматривать ад как некое пространство, которое Господь по своему милосердию выделил в мироздании для тех разумных существ, которые не захотели иметь общение со своим Создателем, то все же неизбежно придется признать факт присутствия Вездесущего Бога и в этом пространстве. Псалмопевец Давид говорит: Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. (Пс 138:8) А уж после сошествия Христова во ад было бы и вовсе странно говорить об аде как о «месте, лишенном Бога».
Поэтому даже до Искупительного подвига Спасителя посмертная участь людей могла быть для них и утешительной, хотя бы в ту меру, которая была тогда доступна падшему, не исцеленному человеческому естеству. Лоно Авраамово не было местом блаженства в христианском понимании. В Евангелии ясно сказано, что Лазарь не блаженствует, а лишь утешается. А о том, что смерть и до пришествия Христова могла быть для человека утешением, есть множество свидетельств в Церковном Предании. Например, Святитель Кирилл Иерусалимский пишет: Смертью Законодатель останавливает распространение греха и в самом наказании являет человеколюбие. Так как Он, давая заповедь, с преступлением ее соединил смерть, и поскольку преступник подпал этому наказанию, Он и устраивает так, что самое наказание служит спасению. Ибо смерть разрушает нашу животную природу и таким образом, с одной стороны, останавливает действие зла, а с другой — избавляет человека от болезней, освобождает от трудов, прекращает его скорби и заботы и заканчивает страдания. Таким-то человеколюбием растворил Судия самое наказание. Лазарь много страдал в своей жизни, но смерть прекратила его страдания и поэтому послужила для него утешением».
Однако не стоит видеть в различии судеб Лазаря и богача лишь принцип голой симметрии по принципу: «страдал в земной жизни — наслаждаешься в загробной, и — наоборот».
В муку после смерти вполне мог попасть нищий, а утешаться мог и богатый человек, ведь и сам Авраам был далеко не беден в своей земной жизни. Причина столь разной участи вовсе не в имущественном цензе и не в социальной принадлежности. Более того — в притче о богаче и Лазаре Христос предложил фарисеям ситуацию, которая полностью противоречила всем их представлениям о соотношении богатства и благочестия. Дело в том, что древние иудеи считали богатое имение человека прямым указанием на его праведную жизнь: иначе — почему бы Бог дал ему это богатство? Но Христос вопреки этому убеждению рассказывает им об утешающемся на лоне Авраамо-вом бедняке и о страдающем в мучениях состоятельном человеке. Так что же становится причиной, которая одних людей после смерти приводит в муки, других — в утешение?
Здесь самое время вспомнить мысли святых Отцов о различном действии любви Божией на посмертное бытие человека в зависимости от его духовного устроения.
Каким было устроение Лазаря, предположить совсем нетрудно. Он всю жизнь провел в нищете, болезнях, лишениях, но при этом, очевидно, не роптал на Бога и людей, не осуждал никого, и даже богача, который равнодушно проходил мимо его беды каждый день, он просил лишь о мизерном пропитании в виде объедков. Говоря языком православной аскетики, Лазарь сумел использовать свое бедственное положение для борьбы со страстями. И после смерти оказался свободным от действия этих страстей.
Но что сделал со своей душой богач за время своей земной жизни? Человек каждый день пиршествовал блистательно, привык к роскоши, вкусной еде, дорогим винам, не мыслил себе жизни без удовлетворения множества своих прихотей. И вот он умирает, в один момент лишившись всего, что обеспечивало ему это удовлетворение. В загробном мире нет ничего, что могло бы сделать его счастливым. Его терзают неудовлетворенные желания и сознание того, что все цели, которые он ставил перед собой в земной жизни, оказались ложными, а все его достижения и богатства — абсолютно бесполезными в этой новой и страшной для него ситуации...
Согласно преподобному Григорию Синаиту ...огонь, тьма, червь и тартар, составляющие ад, есть разнородное сладострастие, всепоглощающая тьма невежества, неутолимая жажда чувственного наслаждения, трепет и зловонный смрад греха. Все эти адские состояния души несчастный богач старательно развивал в себе всю свою жизнь, а после смерти они стали для него мучительным пламенем страстей, которые совершенно невозможно удовлетворить человеку, лишенному тела. Такое существование нельзя назвать иначе как адской мукой.
Но, кроме чувственных страстей, этот бедный человек развил в себе еще одну страшную духовную болезнь — зависть. Которая, по определению Иоанна Златоуста, есть. почитание чужих несчастий своим счастьем, а благополучие других — своим злополучием. Не столько бедный огорчается своею бедностью, сколько завистливый — благополучием ближнего: что может быть гнуснее этого?
Богач просит Авраама: Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Но ведь совершенно очевидно, что это не принесет ему облегчения, капля воды на пальце Лазаря не сможет утолить его жажды к чувственным наслаждениям, которых он оказался лишен. В чем же причина такой странной просьбы?
Святитель Илия Минятий объясняет это следующим образом:
«...И вот почему он требует, чтобы пришел Лазарь к нему хотя бы на время, чтобы и Лазарь пришел разделить с ним муки, чтобы он удалился от лона Авраамова. И если бы удалось ему это, он, вероятно, почувствовал бы некоторую отраду. Чтобы удостовериться в этом, обратите внимание на следующее: когда богач услыхал от Авраама, что Лазарю идти в ад к нему нельзя, ибо между ними установлена великая пропасть, он стал говорить: молю тя убо, отче, да пошли его в дом отца моего (Лк 16:27). Этими словами он как бы говорил: если нельзя прислать его сюда, чтобы он стал участником моих мучений, то пошли его хотя бы в мой дом, то есть в мир, в прежнюю жизнь, в прежние несчастья, только удали его от блаженства в твоем лоне. Да, повторяю, завистью он распаляется более, нежели геенной. Казалось бы, богачу следовало скорее проситься самому на лоно Авраамово, а не Лазаря привлекать на муку. Но завистливый не ищет своего блага, не стремится из состояния мучения к блаженству. Зависть не умеет предпочитать полезное. Она ищет другому зла, чтобы видеть ближнего в муке. Цель зависти — видеть, как тот, на кого направлена зависть, из счастья впадает в несчастье. Богач хочет видеть Лазаря в аду больше, чем себя в раю. Почему? Потому что зависть есть печаль о благополучии ближнего. Богословы доказывают, что наибольшая мука для содержимых в аду будет — сознавать, что на веки ими все это по своей вине утрачено, а святые вечно наслаждаются, отсюда произойдет плач и скрежет зубов, здесь-то они и найдут для себя величайшую муку из всех мук». Понятно, что человек с таким страшным устроением души и Любовь Божию воспринимал как неугасимый огонь, опаляющий его совесть.
Так было ли лоно Авраамово частью Рая? В христианском понимании — нет. Дело в том, что Рай, Царство Божие, — это та полнота единения твари и Творца, к которой призваны все люди. А всю высоту этого призвания прекрасно выразил святитель Афанасий Великий в своей знаменитой формуле: Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Но до исправления Христом человеческого естества больная природа человека в принципе была не способна к столь тесному единению со своим Создателем. Поэтому никакое состояние человека в дохристианский период невозможно считать в полной мере — райским. И Авраам, и Илия, и Лазарь, и все прочие праведники Ветхого Завета в посмертном своем бытии уповали на пришествие Спасителя, после которого они смогли бы, наконец, соединиться с Господом в той мере, которую Евангелие называет — Царствием Небесным.
Но и «филиалом ада» однозначно считать лоно Авраамово все же не следует. Линейная логика здесь вообще неприменима, поскольку в данном случае мы говорим не о пространстве, а скорее — о состоянии души умершего человека. Вот как писал об этом Блаженный Феофилакт: «Лоном Авраамовым» называют совокупность тех благ, какие предложат праведникам по входе их от бури в небесные пристани; поелику и в море заливами (лоном) мы обыкновенно называем места удобные для пристани и успокоения. Поэтому на вопрос: «является ли лоно Авраамово частью ада или Рая?» можно ответить лишь парадоксом: часть Неба всегда находится в аду. По слову святителя Иоанна Златоуста, рассуждавшего о темницах адовых: Они были поистине темными, пока не сошло туда Солнце справедливости и не осветило и не сделало ад небом. Ибо где Христос, там и небо.


Здравствуйте, журнал «Фома». Меня очень интересуют признаки конца света, описанные в Новом Завете. Но в Евангелии от Луки есть место, понять которое я не смогла. Рассказывая о последних днях мира, Христос говорит: «...Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него...». Получается, что Христос предупреждает о наступающем конце света лишь тех, кто будет находиться в Иудее. А что же тогда делать всем остальным? И в какие горы бежать?
С уважением, Анжела, город Чебоксары
В этом евангельском эпизоде есть еще один непонятный момент. Разговор Христа с учениками начался с того, что некоторые из них стали восхищаться величием и богатством Иерусалимского храма. Христос же сказал, что все это великолепие будет разрушено, и от храма не останется камня на камне. Ошеломленные ученики принялись расспрашивать — когда это случится и по каким признакам можно будет узнать о приближении этих грозных событий. Но вместо прямого и понятного всем ответа Христос почему-то начинает рассказ о конце света и признаках Своего второго пришествия. В числе прочих знамений последних времен Он упоминает и Иерусалим, окруженный войсками.
Однако после разрушения Иерусалимского храма прошло вот уже почти две тысячи лет, а последние времена все еще так и не наступили. И сегодня у людей, читающих Евангелие, закономерно возникает вопрос: о чем же, собственно, рассказывал Христос ученикам на склоне Елеонской горы, когда связал воедино грядущее уничтожение храма и конец мировой истории?
Для того, чтобы понять слова Христа, необходимо сначала ответить на другой важный вопрос: кому были адресованы эти слова? Казалось бы, тут все ясно — говорил Он со своими учениками, будущими апостолами, которые потом, после Его Воскресения проповедовали Евангелие в разных странах мира. Но не надо забывать, что ученики Христа по вере были иудеями. А религиозные взгляды иудеев в те времена настолько отличались от современного христианского мировоззрения, что здесь необходимы некоторые пояснения.
Средоточием религиозных упований древних евреев было ожидание Мессии — помазанника Божия. После падения Иудейского царства это слово стало обозначать для них царя, который восстановит славу Дома Израилева и сделает Иудейское царство самым могучим государством мира, подчинив ему все прочие народы. Таким образом, ожидаемый Мессия виделся иудеям прежде всего, как — выдающийся государственный деятель. И в этом смысле ученики Христа не были исключением в среде своих соотечественников. На протяжении всех трех лет проповеди Спасителя они с нетерпением ждали, когда же Он, наконец, объявит себя Царем Иудейским, прогонит римских оккупантов и начнет править народом Израиля. До самого Его распятия они не могли понять смысл Его притч о том, что Царство Божие — не от мира сего. И даже когда воскресший Христос собрал Апостолов перед Своим Вознесением, они задали ему единственныйвопрос: ...не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? (Деяния, 1:6). Поэтому слова Христа о разрушении храма прозвучали для них как гром с ясного неба. Нет, ученики, конечно, знали, что Иерусалимский храм уже был когда-то разрушен Навуходоносором и после окончания Вавилонского пленения вновь восстановлен. Так что, потенциальная возможность разрушения храма вряд ли могла их смутить сама по себе.
Но когда об уничтожении храма говорит Сам Мессия... Если бы Христос прямо сказал им, что храм и сам Святой город будут разрушены уже через сорок лет, ученики просто не поняли бы, о чем идет речь. Пришествие Мессии и восстановление Иудейского царства для иудеев было кульминационным актом мировой истории, после которого Израиль навсегда должен был стать непобедимым владыкой мира. Иерусалимский храм же после явления Мессии, по их представлениям, мог быть разрушен лишь в одном случае: если вместе с ним рухнет весь мир. Именно поэтому Христос искусно совместил рассказ о грядущем падении Иерусалима с описанием признаков последних времен. Зная о религиозных воззрениях учеников, Христос не хотел их смущать. Но рассказать им о грядущем разрушении храма и захвате Иерусалима язычниками посчитал необходимым, пускай даже в такой прикровенной форме. Смысл этого пророчества станет понятен лишь через три с лишним десятилетия, и чтобы понять его, нужен небольшой экскурс в израильскую историю той эпохи.

В 64-M году прокуратором Иудеи был назначен Гессий Флор. Жестокость нового римского наместника во много раз превзошла бесчинства всех его предшественников. Достаточно сказать, что именно Гессий Флор отменил в Иудее местное самоуправление, именно он разграбил сокровищницу Иерусалимского храма, а после этого буквально завалил улицы города трупами иудеев, которые посмели возмутиться таким святотатством. В конце концов, чинимые им насилия, вызвали в Иерусалиме открытое вооруженное восстание, в результате которого наместник в 66-м году отступил в Кесарию.
Получив известие о событиях в Иудее, римский наместник Сирии Цестий Галл во главе крупного войска вторгся в ее пределы. Сломив сопротивление в провинциях, Цестий подошел к Иерусалиму, и через несколько часов римляне уже подступили к Верхнему городу (одна из частей Иерусалима). Казалось, город неминуемо падет, так как среди его защитников были серьезные разногласия, а, главное, римляне значительно превосходили их по численности. Но в тот самый момент, когда римская армия была готова к последнему штурму, а восставшие иудеи — к смерти, Цестий совершенно неожиданно для всех вдруг отдает приказ отступить. Причину этого отступления историки не могут внятно объяснить и по сей день.
При виде уходящих римских солдат, иудеи ободрились и воспряли духом настолько, что, предприняли дерзкую контратаку и нанесли римлянам сокрушительное поражение, вынудив Цестия с позором бежать. Преследуя врагов, иудейские воины с такой безумной яростью обрушивались на врага, что римлянам грозило полное уничтожение. Сам Цестий едва уцелел во время этой погони. Без существенных потерь торжествующие иудеи с богатыми трофеями возвратились в Иерусалим. Жители города решили, что это — окончательная победа и римскому владычеству в Иудее пришел конец. Людей охватило невероятное воодушевление. Казалось, что сбываются древние пророчества, вот-вот придет «настоящий» Мессия и наконец-то сделает Израиль самым сильным государством мира. В том, что могучий Рим вынужден был надолго отступить (ответный удар последовал лишь спустя два года), иудеи видели прямое действие Божие.
И лишь Иерусалимские христиане не участвовали в общих торжествах и приготовлениях к дальнейшей войне с Римом. Осаду Иерусалима Цестием они восприняли как предсказанный Спасителем знак приближающегося уничтожения города: Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. (От Луки 21:20-24)
Обещанное знамение было дано: весь иудейский народ увидел Иерусалим, окруженный войсками. Теперь всякий человек, внявший заботливому предостережению Христа о грядущих на иудеев бедствиях, имел возможность спастись. Наверное, это было очень нелегким решением — вопреки всеобщему ликованию, невзирая на кажущуюся победу, все же поверить пророчеству. Ведь речь шла не просто о каком-то внутреннем несогласии с большинством, а о поступке, выглядевшем в глазах окружающих более чем странно. Бежать из Иерусалима, когда лишь миг остался до полной и окончательной победы? Соотечественники вполне могли принять иерусалимских христиан за изменников и дезертиров, но события приняли такой странный оборот, что ни иудеи, ни римляне не могли помешать исходу христиан.
Дело в том, что войска Цестия окружили город во время праздника кущей, когда почти все жители Иудеи собрались в Иерусалим, где и пребывали все время осады, а после изгнания римских войск остались здесь же праздновать победу. Поэтому по всей Иудее некому было препятствовать бегству христиан.
И те, не теряя времени, переправились за Иордан, где пристанищем для них стал город Пелла.
Это чудесное спасение христианской общины Иерусалима и было одним из следствий пророчества, которое Христос через Апостолов дал Церкви. Предвидя все ужасы и бедствия, которые должны были обрушиться на Иерусалим, Христос желал спасти всех жителей города. Ведь слова Его были адресованы не только ученикам и последователям, но всем иудеям вообще: Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него (Лук 21:21) Увы, спастись сумели лишь те, кто верил словам Спасителя больше, чем собственным глазам.
Судьба оставшихся в городе жителей Иерусалима оказалась настолько страшна, что вряд ли в последние времена перед концом света людям придется испытать нечто более ужасное. В этом, очевидно, еще одна причина соединения признаков разрушения храма и конца света в словах Христа: ...Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира... (Мф 24:21)
В 67-м году в Иудею, по приказу разгневанного иудейским восстанием императора Нерона, был направлен лучший полководец империи — Веспасиан, получивший неограниченные полномочия для усмирения мятежа. Имея под своим началом три легиона и многочисленные вспомогательные группы, он огнем и мечом прошел по Палестинской земле. В период 67-68 годов он полностью взял под свой контроль все населенные пункты в Иудее и начал приготовления к захвату Иерусалима. Однако известие о смерти Нерона нарушило его планы. Веспасиан отступил в Кесарию и стал ожидать дальнейшего развития событий в Риме. Его ожидание окончилось триумфом: Веспасиан был избран новым императором и вместе со своей торжествующей армией отправился в столицу принимать власть. Почти на два года римские войска оставили Иерусалим в покое.
Но отступление римлян не принесло облегчения его жителям. Со времени изгнания войск Цестия Галла город терзала гражданская война, вызванная противостоянием двух религиозных партий иерусалимской знати — зелотов и сикариев. А после ухода армии Веспасиана к этим бедствиям прибавились нападения на Иерусалим огромной армии разбойников, для которых город, раздираемый политическими распрями, был желанной добычей. От бесконечных междоусобиц и нападений более всего страдали мирные жители. Но все страдания померкли перед тем ужасом, в который повергло город возвращение римских войск.
Став императором, Веспасиан решил навсегда покончить с мятежом в Иудее и послал туда своего сына Тита уже с шестью легионами. Это было огромное войско, и противостоять ему иудеи не могли. Но вожди зелотов все же решили вести войну до конца, фактически обрекая всех жителей Иерусалима на мучительную смерть.
Тит начал осаду весной 70 года, и город снова оказался окружен войсками. Это было время Пасхи, в Иерусалиме собралось более миллиона иудеев. Продовольственных запасов при разумном распределении хватило бы на достаточно продолжительное время, но они очень быстро оказались уничтожены воюющими между собой партиями. В осажденном Иерусалиме начался голод. Люди грызли ремни, обувь и другие кожаные вещи. Под покровом ночи отчаявшиеся смельчаки тайком пробирались за городские ворота, чтобы собрать какие-нибудь дикорастущие растения, пригодные в пищу. Их вылавливали римские солдаты и умерщвляли самым зверским образом, а те, которым удавалось вернуться, подвергались нападению и грабежу от своих же соотечественников. Зелоты, захватившие власть в осажденном городе, отбирали у голодных последние крошки, действуя жестоко и безжалостно. Казалось, вместе с голодом погибло естественное чувство привязанности и любви людей друг к другу. Мужья обкрадывали своих жен, жены — мужей, дети вырывали пищу изо рта престарелых родителей.
По приказанию Тита римские легионеры возвели вокруг огромного города сплошной частокол, вырубив для этого все леса в окрестностях Иерусалима. Цветущая некогда местность превратилась в безжизненную пустыню. Блокада стала полной. Римские начальники пытались устрашить иудеев и тем самым заставить их сдаться. Несчастных, пытавшихся выбраться из опустошаемого голодом и болезнями Иерусалима, бичевали, мучили, а затем распинали перед городской стеной. Ежедневно так умерщвлялись десятки человек. Эта страшная работа продолжалась до тех пор, пока вся долина Иосафата и Голгофы не покрылась таким множеством крестов, что между ними едва можно было пройти.
Осенью 70 года римские легионеры ворвались в ослабленный многомесячной осадой Иерусалим. Озлобленные упорным сопротивлением иудеев, солдаты убивали жителей, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. Пророчество Христа полностью сбылось. Город был сожжен, храм разрушен до основания. Количество погибших при осаде иудеев достигло 1.100.000 человек, еще около ста тысяч человек были взяты в плен и проданы в рабство. И только иерусалимских христиан, поверивших пророчеству Спасителя и бежавших из города, не коснулись все эти ужасные бедствия. Вера в истинность слов Христа спасла им жизнь.
Рассказ о падении Иерусалима — один из тех случаев, когда евангельское повествование пересекается с историческими свидетельствами нехристианских авторов. Осаду Иерусалима описывали многие историки, самые известные из которых — Тацит и Иосиф Флавий. А в Новом Завете пророчество Христа о разрушении храма приводят три Евангелиста — Матфей (24-я глава), Марк (13-я глава), и Лука (21я глава). И только в Евангелии от Иоанна нет упоминания об этом пророчестве. Объясняется это очень просто. Три первых Евангелия написаны до предсказанных Христом событий, а их авторы приняли мученическую кончину за несколько лет до разрушения Иерусалима. Для них описываемый разговор Христа с учениками так и остался не совсем понятным пророчеством, которое они передали в Евангелии без всяких объяснений. Апостол же Иоанн прожил до глубокой старости и видел, как это пророчество полностью сбылось в истории. В своем Евангелии, написанном им уже на склоне дней, он не упоминает слова Спасителя о разрушении Иерусалима, потому что одна из целей этого пророчества к тому времени уже оказалась достигнутой — иерусалимские христиане были спасены.
Конечно к нам, живущим в XXI веке, слова Христа о бегстве из осажденного Иерусалима в горы, явно не относятся. И все-таки — упоминание о признаках последних времен сегодня волнует людей так же, как когда-то волновало Апостолов. Ведь все, что сказано Богом, актуально не только в контексте какой-то определенной исторической эпохи. Каждое слово Христа продолжает звучать в Вечности. И главное в этой истории, пожалуй, то, что Господь дает понять людям: Он любит их, Ему их очень жаль, в какую бы безнадежную катастрофу они себя ни ввергли — будь то гибель Иерусалима или конец света — Бог всегда протягивает попавшим в беду людям руку помощи. И только от нас самих зависит — что же окажется ближе нашему сердцу: поверить Господу, как поверили иерусалимские христиане, или, не поверив — погибнуть, как все прочие жители Иерусалима.
В этом и будет заключаться выбор людей в последние времена. Перед концом света те, кто не захочет принять спасение от Христа, будут ...издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную (Лк. 21:26). Тем же, кто сохранит веру, Христос говорит: Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше (Лук 21:28). Одни и те же признаки приближающегося финала человеческой истории будут действовать на людей совершенно по-разному. Для одних эти приметы станут причиной страха, уныния и жестоких страданий. Для других — радостным известием о скором прекращении всех бед и несчастий человечества, о грядущем наступлении новой эры.
От нас требуется лишь определиться — в чьем стане мы хотим оказаться, если доживем до последних времен. И даже если конец света наступит очень нескоро, необходимость такого выбора все равно возникнет для любого человека, раньше или позже. Потому что для каждого из нас такой конец неизбежно наступит в момент нашей смерти. И тогда даже Всемогущий Бог не сможет спасти нас без нашего согласия. Но тем, кто поверил Христу, уже не надо будет бояться конца света. Даже видя его приближение, верующие люди станут приветствовать друг друга радостным восклицанием первых христиан: «Маранафа» — Господь грядет!
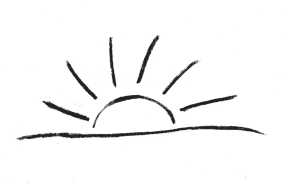

«Прочитал в сборнике афоризмов слова Иисуса Христа «Где будет труп, там соберутся орлы». Фраза меня заинтересовала. Я нашел ее в Евангелии от Матфея и с удивлением обнаружил, что эти слова сказаны Христом о признаках конца света. Пожалуйста, не могли бы вы рассказать об этом подробнее. Я человек нецерковный, но мне это очень интересно».
Владимир, студент, Калуга
Пророчества о кончине мира волновали читателей Евангелия во все времена. Описание признаков последних времен, данное в Священном Писании, никогда не оставляло равнодушными даже людей, считающих себя неверующими и скептически относящихся к христианской религии. Ведь все мы — и верующие, и неверующие — живем под одним небом на одной, общей для всех нас земле. Наверное, любой человек, узнав из Евангелия о признаках грядущего конца света, хотя бы как-то пытался осмыслить прочитанное применительно к своему времени. Ведь этот мир — наш дом. А когда человек вдруг узнает, что в его доме может случиться пожар, он обязательно проверит — не тянет ли дымом из какого-нибудь укромного уголка. Проверит просто так, на всякий случай, даже если не очень верит в реальную возможность возгорания. Поэтому интерес к теме конца света вполне оправдан даже с позиций обыкновенной житейской логики.
Однако любые попытки рассматривать евангельские пророчества вне контекста, в котором они были произнесены, заранее обречены на неудачу. Евангелие — не сборник афоризмов. Это описание земной жизни Иисуса Христа, составленное апостолами, скорее — как исторический документ, чем — как поэтическое произведение. А значит, всякое событие в Евангелии неразрывно связано с обстоятельствами, предшествовавшими этому событию.
Фраза Христа «где будет труп, там соберутся орлы» действительно стала афоризмом. Но для того, чтобы открылся пророческий смысл этих слов, необходимо вспомнить, где, когда и по какому поводу Христос их говорил.
За два дня до праздника иудейской Пасхи Иисус последний раз посетил Иерусалимский храм. Там Он очень жестко обличил иудейских начальников за лицемерие и искажение самой сути Закона, а закончил свою речь словами, смысл которых тогда не поняли даже Его ученики: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст (Мф 23:3738). После этого Христос вышел из Иерусалимского храма, чтобы уже никогда больше туда не возвращаться.
А когда ученики, смущенные категоричностью слов Учителя, попытались обратить его внимание на великолепие и монументальность храмовых зданий, Он сказал им еще более страшное определение о восхищавшем их Храме: ...Видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено (Мф 24:2). Христос и Его ученики вышли из города и расположились на склоне Елеонской горы, откуда открывался великолепный вид на Святой Город. Прямо перед ними возвышался огромный храм, сияющий на солнце золотом украшений и белизной мраморных плит. Потрясенные словами Христа о разрушении храма, ученики приступили к Нему и стали спрашивать: ...Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? (Мф 24:3) Апостолы объединили эти два вопроса, так как полагали, что лишь конец света может стать причиной разрушения Иерусалимского храма. Христос не стал их в этом разубеждать. Грядущая судьба Иерусалима была Ему открыта, но это была настолько страшная судьба, что ученики вряд ли смогли бы вынести подробный рассказ о ней. И Христос просто ответил на заданный вопрос, искусно вплетая признаки падения Иерусалима в повествование о приметах последних времен. Тогда и прозвучала знаменитая фраза о трупе и орлах.
Существует много мнений о знамениях конца света. Все они в той или иной степени спорны, поскольку это событие в истории человечества еще не наступило. Однако уже сегодня есть все основания утверждать, что слова Христа «где будет труп, там соберутся орлы» не относились к кончине века, а предвещали величайшую трагедию еврейского народа — разрушение Иерусалима.
Словами о трупе и орлах Христос прикровенно ответил на вопрос учеников об уничтожении Иерусалимского храма. Но чтобы понять эти слова, нужно хотя бы немного узнать об истории его создания и выяснить — что же представлял собой Иерусалимский храм в евангельские времена.
Существует распространенное мнение, согласно которому Иерусалимский храм во времена Христа был точной копией храма, построенного царем Соломоном. Это не совсем верно. И, хотя изначально второй храм действительно был задуман как повторение первого, различий между ними было намного больше, чем сходства.
Храм Соломона был, по современным меркам, не так уж велик: 27 метров в длину, 9 метров в ширину и 13,5 метра в высоту. Но при столь скромных размерах храм был невероятно дорогим сооружением, поскольку практически весь был покрыт золотом и резными панелями из дорогих пород дерева. Внутреннее его убранство составляли литые украшения из золота и драгоценных камней. Все богатство израильского народа в эпоху его величайшего расцвета было использовано Соломоном для этого строительства.
Но, конечно же, не роскошь отделки была главной ценностью первого храма. Бесценной святыней Дома Божия был Ковчег Завета, в котором хранились скрижали — каменные доски, на которых были высечены заповеди, данные Богом народу Израиля через пророка Моисея. Ковчег находился в Святая Святых — самой главной части храмового здания.
При освящении первого храма происходили удивительные события и знамения. Вот как об этом говорит Библия: Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа...(2Пар 7:1-2) Облако славы Божией стояло над ковчегом несколько столетий. Первосвященники обращались в построенном Соломоном храме к Богу и слышали голос с неба, возвещавший волю Господа. Любой человек, войдя туда, ощущал реальность Божьего присутствия. Так продолжалось до тех пор, пока грехи израильского народа не отвратили от него милость Господа.
В 587 г. до Р.Х. войска вавилонского царя Навуходоносора захватили Иерусалим и разрушили храм Соломона. Большинство жителей Израиля были угнаны в рабство, и находились там почти пятьдесят лет, пока персидский царь Кир не позволил иудеям вернуться из Вавилона в Иерусалим, разрешив им восстановить храм. Израильтяне тотчас же принялись за работу, но вскоре их энтузиазм угас. Только упреки пророков Аггея и Захарии побудили их продолжить строительство, и в 515 г. до Р.Х. второй храм был построен. Он во всем повторял планировку первого, но, конечно же, уступал ему в роскоши. Еврейский народ, вернувшийся после многолетнего пленения на свою разоренную и опустошенную землю, был попросту не в силах украсить свой храм так же, как сделал это при Соломоне, во времена своего величайшего расцвета и благоденствия. Иудеи очень печалились о скудости строящегося ими Дома Божия, но Господь утешил их, возвестив через пророка Аггея: ...Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?Но... Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего (Агг 2:3-9).
Пять столетий храм простоял без существенных изменений. Но в 19 г. до Р.Х. царь Ирод Великий начал грандиозную реконструкцию храмового комплекса. Незаконно захвативший иудейский престол Ирод (который даже не был евреем по крови), хотел завоевать симпатии народа и всем показать свое усердие к главной иудейской святыне. Основное здание храма было перестроено уже около 9 г. до Р.Х., но работы продолжались еще несколько десятилетий. Обновленный храм вдвое превосходил предыдущие по размерам и высоте, а по количеству украшавшего его золота вряд ли уступал храму Соломона. Самая впечатляющая деталь нового храма — платформа площадью 14 гектаров — частично сохранилась до наших дней. На ней собирались паломники и приносились жертвы. Для устройства платформы Ирод расширил вершину храмовой горы, сделав насыпь и укрепив ее мощной каменной кладкой. Южный край платформы отвесно поднимался над землей почти на 40 метров. Один из его углов, вероятно, и был тем «крылом храма», с которого сатана, искушая Христа, предлагал Ему броситься вниз.
Строительство велось с большим размахом, Ирод щедро отпускал на строительство средства из царской казны, и даже римский император почтил обновляемый храм своими дарами — из Рима были доставлены огромные плиты белого мрамора. Вероятно, как раз на них и обращали Апостолы внимание Спасителя, говоря: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!» Этим строительством Ирод хотел укрепить свой авторитет среди иудеев, и, в известном смысле, он достиг цели. Обновленный храм стал предметом гордости и восхищения всего еврейского народа, поскольку действительно превосходил своим великолепием даже роскошный храм Соломона. Но все же не в размерах и не в богатстве убранства было главное отличие храма, перестроенного Иродом, от первого Иерусалимского храма.
Святое Святых, главное помещение второго, восстановленного храма, было наглухо отделено от остального мира плотной завесой из тяжелой ткани. Никто из иудеев не смел входить туда, и лишь первосвященник один раз в году имел право молиться за таинственной завесой. По античному миру ходили самые нелепые слухи о том, что же находится в самом сокровенном месте иудейской религии. Язычники предполагали, что там находится статуя еврейского Бога из чистого золота. И когда в 63 г. до Р.Х. римский полководец Гней Помпей захватил Иерусалим, он на правах победителя потребовал, чтобы его отвели в Святое Святых. Но войдя туда, Помпей был поражен и разочарован. Он ожидал увидеть все что угодно, кроме того, что ему вдруг открылось. Святое Святых оказалось небольшой пустой комнатой без окон, в которой вообще ничего не было. Эта пустота и была главным отличием второго храма от первого.
Освящение нового храма не было отмечено проявлением сверхъестественного могущества, как это происходило в первом храме. Огонь с неба не уничтожил жертву на жертвеннике. Облако славы Божией не сошло, чтобы наполнить новое святилище. Оно больше не покоилось между золотыми херувимами во Святом Святых; там не было ни Ковчега Завета, ни престола благодати, ни скрижалей, которые были утрачены в годы вавилонского пленения. Но в чем же тогда была слава второго храма, предсказанная пророком Аггеем?
Первый храм мечтал построить царь Давид-псалмопевец и не смог сделать этого. Вот его горькие слова: Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь (1Пар 28:3). Если даже пророк Давид был признан Господом недостойным строить храм,что же тогда можно сказать о царе Ироде, который в поисках родившегося Христа залил город Вифлеем кровью младенцев и на все времена сделал свое имя символом убийства и бессмысленной жестокости? Конечно же, не богатые дары языческого императора и щедрость царя-детоубийцы должны были сделать второй Иерусалимский храм более славным, чем первый. Главной святыней нового храма должен был стать Тот, о ком Бог через пророка Аггея сказал: ...и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою... (Агг 2:7). Этот храм был построен для того, чтобы по исполнении времен в него вошел Христос, воплотившийся Бог, Которому уже полтора тысячелетия поклонялся народ Израиля.
Иудеи гордились своим храмом, но гордость и стремление к земному величию ослепили их разум, а истинное значение пророческих слов осталось для них неразгаданным. Второй храм был освящен не облаком славы Господней и не попаляющим жертвы огнем с неба, но — непосредственным присутствием в нем Того, в Ком обитала вся полнота Божества. Пророчество Аггея сбылось: Желаемый всеми народами пришел в храм, учил и исцелял в его святых дворах. И только это Божественное присутствие Христа недолгое время делало второй храм более славным, чем первый.
Но Израиль отверг предлагаемый Небом дар. Слава Божия отошла от роскошного храма именно в тот день и час, когда Божественный Учитель навсегда покинул его. Так исполнились пророческие слова Христа: «Вот, оставляется вам дом ваш пуст».
Через три дня Желаемый всеми народами был распят по беззаконному приговору иудейских старейшин. В то мгновение, когда Спаситель умер на кресте, завеса в Иерусалимском храме разодралась пополам и зияющая пустота иудейского святилища, поразившая когда-то Помпея, открылась теперь уже всему миру на все времена.
Со смертью Христа умерла и сама религия иудеев, так как все, что она обещала людям оказалось уже исполненным. С Воскресением Христовым новая вера явила себя миру — вера, в которой уже не одни только иудеи, но — все народы Земли могли соединиться со своим Творцом. А мертвую веру иудеев и их мертвый храм, из которого ушел не принятый ими Господь, ожидала участь всякого мертвого тела. Ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
Иудея после распятия Христа уже никогда не жила спокойно. Религиозные представления иудеев начали вырождаться в политические амбиции. Одно восстание следовало за другим, внутри еврейского народа то и дело возникали различные партии, враждующие между собой и не щадящие собственного народа ради политической выгоды. Иерусалим сотрясали непрерывные вооруженные столкновения, провоцируемые мятежниками, и даже в храме люди погибали от мечей своих же соотечественников. В городе вспыхивали эпидемии, в окрестностях Иерусалима огромная армия разбойников ожидала удобного момента, чтобы захватить город, раздираемый междоусобицами. В прокураторство Гессия Флора в Иерусалиме вспыхнуло давно назревавшее восстание. Осенью 66 года римский гарнизон был перерезан, мятеж охватил всю Иудею и соседние области. Попытка сирийского легата Цестия Галла вновь овладеть святым городом потерпела неудачу. Но именно тогда, в период удавшегося национального восстания, Иерусалим в очередной раз сделался жертвой партийных раздоров и террора. Первосвященник Анания и все вожди храмовой аристократии были перебиты мятежниками; разбойники и фанатики оспаривали друг у друга храм и укрепления; всюду царила анархия, пожары, убийства. Святой город стал похож на преддверие ада...
И тогда вокруг Иерусалима собрались орлы. Их было всего шесть, но для Иудейской столицы это означало верную гибель.
В конце второго века до Р.Х. римский консул Гай Марий произвел в государстве широкомасштабную военную реформу, в результате которой армия стала профессиональной, а основой ее сделались — легионы. До реформы так назывались отряды ополченцев, которые каждый город собирал из своих жителей при нападении врагов на Рим. Но при Гае Марии легион превратился в мощную войсковую единицу, сопоставимую по ударной силе с современной дивизией. Это были, по сути — маленькие армии, в составе которых насчитывалось 5-6 тысяч хорошо обученных солдат, спаянных воедино железной дисциплиной.
Именно в легионах Гая Мария возник удивительный феномен войсковой религии, отличавший легионеров от всех прочих граждан Рима. Основу армейского культа составляло почитание главного божества империи — Юпитера. Каждый год третьего января, в день принесения присяги, на легионном плацу торжественно устанавливали новый алтарь в честь Юпитера, а старый алтарь зарывали в землю (впоследствии, несколько таких алтарей было обнаружено при раскопках военных лагерей римлян в Британии). Символом Юпитера был орел — скульптурная фигура гордой птицы на древке. Это была самая главная святыня легиона, потеря которой вела к его расформированию и казни каждого десятого солдата подразделения, утратившего свой священный знак. Поэтому, в сражении легионного орла охранял специальный отряд, первая — тысячная когорта под руководством центуриона-примипила. Орлы отливались из бронзы и покрывались золотом. В эпоху принципата легионный штандарт представлял собой прикрепленную к длинному древку фигурку орла в вертикальном положении, с распростертыми крыльями и удлиненным хвостом(повторенным впоследствии на германском гербе). После реформ Константина Великого орлы на штандартах сохранились, но их стали изображать горизонтально (как впоследствии на гербе США).
Римский легион в те времена был страшной силой, которой почти невозможно было противостоять в бою. Двух легионов, как правило, было достаточно, чтобы обеспечить победу в любом сражении. Если же этого оказывалось недостаточно (что бывало крайне редко), приходил третий легион и подавлял любое сопротивление.
Но в 70-м году сын Римского императора Тит привел к Иерусалимским стенам шесть легионов. Шесть золотых орлов стояли на длинных древках вокруг Святого города. После этого у защитников Иерусалима не оставалось никаких шансов на спасение. Город был обречен.
Римское войско никогда не устраивало резню ради резни.
Главной задачей легионов в Иудее было наведение порядка, а не карательные акции. Тит много раз пытался убедить иудейских вождей сдать город, чтобы сохранить жизнь огромному количеству мирных граждан. Но ослепленные сознанием своей «богоизбранности» мятежники продолжали держать оборону. Упорство вождей дорого обошлось простым жителям Иерусалима. В городе начался страшный голод. Озлобленные бессмысленным сопротивлением, римляне беспощадно уничтожали тех смельчаков, которые, рискуя жизнью, пытались добыть за пределами городской стены жалкие крохи съестного. Их подвергали бичеванию и распинали. Десятки тысяч крестов с распятыми на них иудеями были воздвигнуты вокруг осажденного города. На трупы несчастных в долину Иосафата и к Голгофе слетелось огромное количество стервятников. Так пророчество о трупе и орлах получило еще одно, страшное в своей буквальности, исполнение.
Наконец, 9-10 числа месяца Авы 70-го года, в тот же самый день, когда и Навуходоносор взял когда-то Иерусалим, Тит ворвался в город. Происшедшие затем события представляют собой страшную бойню, устроенную римлянами, в результате которой, помимо мужского населения города были истреблены десятки тысяч женщин и детей. Всего же при осаде Иерусалима и последовавшей затем жесточайшей битве погибло более миллиона человек; а около ста тысяч оставшихся в живых были уведены в плен, проданы как невольники; отправлены в Рим, чтобы служить позорным украшением триумфальной процессии Тита, а впоследствии оказаться брошенными в амфитеатры на растерзание диким зверям. Уцелевшие жители Иерусалима, как бездомные скитальцы рассеялись по всей земле. И город, и великолепный Иерусалимский храм были разрушены до основания в буквальном смысле слова. Приказ императора гласил не оставить от иудейской столицы камня на камне. Так сбылось еще одно горькое пророчество Христа. Римские солдаты вспахали даже само место, где раньше стоял Иерусалим.
В 130 г. император Адриан распорядился построить на развалинах Святого города римское поселение и назвать его Элия Капитолина. Так погиб ветхозаветный Иерусалим. А на месте Иерусалимского храма было воздвигнуто капище Юпитера, украшенное изображениями... орлов — грозовых птиц с пучками молний в когтистых лапах.
«Где будет труп, там соберутся орлы» — эти слова были сказаны Христом о падении Иерусалима, но в ряду примет последних времен они оказались совсем не случайно. Пророчество, уже сбывшееся в истории, свидетельствует и об истине слов, сказанных Спасителем о кончине мира. Ведь не Господь погубил Иерусалим, напротив, Он все сделал, чтобы спасти его. ...И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего (Лк 19:41-44)
Причиной гибели Иерусалима стала полная утрата духовных ориентиров вождями ветхозаветного иудаизма. После отвержения пришедшего Мессии-Христа религиозные вожди народа почти сорок лет вели Израиль в пустоту, пока не привели его к катастрофе.
Последние времена, по христианскому вероучению, наступят при сходных обстоятельствах и по сходным причинам: люди отвернутся от своего Творца и попытаются жить по собственным законам вопреки заповедям Божьим. Тогда, — точно также, как и в случае с падением Иерусалима, — совсем не Бог уничтожит этот мир. Упорствующих в грехе людей Господь просто предоставляет их собственной воле, которая и становится причиной их гибели. Конец света окажется закономерным результатом полного и окончательного отпадения людей от Источника их собственного бытия. То есть — духовной смертью человечества. И не так уж важно, какие орлы соберутся тогда над его трупом.
Гораздо важнее помнить, что конец света — не гибель мира, а всего лишь уничтожение того, что уже и так мертво. А потом — через конец нынешнего, «ветхого» мира и Суд Божий — наступит новая эпоха в обновленном мире, где уже не будет зла, не будет болезней и обид; где будет обитать лишь любовь людей к своему Создателю и друг кдругу.И это не прекрасные, но безосновательные мечты, а твердое обещание Христа, произнесенное одновременно с Его пророчеством о гибели Иерусалима — тем самым, которое уже сбылось в истории с буквальной точностью.

УДК 82-97+82-312.2 ББК 86.372 Т 48
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви № ИС10-09-0559
Ткаченко А.
Т 48 Слёзы, летящие к небу: Зачем современному человеку христианство? — М.: Никея, Фома, 2011. — 192 с.
ISBN: 978-5-91761-095-5
У каждого человека есть вопросы, на которые трудно найти ответ самостоятельно. Новая книга Александра Ткаченко — это простой и ясный рассказ об истинах христианского вероучения, размышления автора о путях развития современной культуры. Равнодушным эта книга не оставит никого.
УДК 82-97+82-312.2 ББК 86.372
© ООО «Никея», 2011 © ИД «Фома», 2011
ISBN: 978-5-91761-095-5 © Ткаченко А., 2011
Литературно-художественное издание
Ткаченко Александр
Слёзы, летящие к небу Зачем современному человеку христианство?
Текст печатается в авторской редакции и орфографии Макет верстки Юрий Курбатов Художник Ксения Наумова Дизайнер Максим Пименов Художественный редактор Анна Носенко
Подписано в печать 04.06.2011. Формат 60x90 */16 Печ. л. 12,0. Гарнитура NewtonC. Бумага офсетная. Тираж 10 000 экз. Издательство «Никея»