Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)

О судьбе Церкви в советские годы написано немало, издано множество документов и воспоминаний. Могут ли девять небольших историй открыть что-то новое? Мы — автор и издатели этой книги — убеждены, что могут. Путь каждого человека уникален, и мы не боялись повториться. Но главное, собранные под одной обложкой, эти интервью прочитываются иначе, чем каждое по отдельности. Не претендуя на полноту охвата, мы тем не менее старались побеседовать с людьми самыми разными. Поэтому в книге вы найдете рассказы не только известных священников, но и простых прихожан, обычно остающихся в тени. Православие с колыбели или мучительный экзистенциальный кризис, приведший к Богу? Репрессии, погибшие в лагерях родственники, вызовы на Лубянку или внешне спокойная жизнь без преследований и угроз? У каждого из наших героев свои ответы на эти вопросы. Но именно в таком калейдоскопе несхожих обстоятельств высвечивается то главное, что помогает понять, как люди Церкви в советские времена сохранили веру.
Книга предоставлена издательством «Никея», бумажную версию вы можете приобрести на сайте издательства http://nikeabooks.ru/.
Никея
Серия «Люди Церкви»
Ольга Гусакова
о жизни Церкви в советское время
Москва • «Никея» • 2014
УДК 238.2 ББК 86.372 Г 96
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС14-321-2593
В книге использованы фотографии из личных архивов героев, из приходского архива храма Покрова Божией Матери села Акулова, а также фотографии Р. Захарова, А. Героева, В. Нефедова,
А. Новик, А. Дуковского
Гусакова О. В.
Г 96 Хранители веры. О жизни Церкви в советское время. — М.: Никея, 2014. — 416 с.: ил.—(«Люди Церкви»).
ISBN 978-5-91761-270-6 Двадцатый век для России стал временем испытания подлинной веры и принес Церкви сонм новомучеников и исповедников. Но помимо них были еще тысячи христиан, пронесшие православную веру сквозь десятилетия атеизма. В книге собраны интервью именно с такими людьми. Это священники и миряне, напрямую столкнувшиеся с гонениями или прожившие внешне спокойную жизнь. Их объединяет главное — Христос, веру в Которого они сохранили в советские годы.
УДК 238.2 ББК 86.372
© Издательство «Никея», 2014
ISBN 978-5-91761-270-6
Благодарим издательство "Никея" за предоставленную для библиотеки электронную версию книги.
www.nikeabooks.ru
Идея создания этой книги возникла из печального наблюдения: с каждым годом рядом с нами остается все меньше людей, способных поведать о жизни Церкви в советское время. Иногда уже в ходе работы над книгой оказывалось слишком поздно: батюшка с удивительной судьбой, близко знавший многих подвижников XX века, в силу возраста не смог подробно рассказать о себе; инокиня, принявшая тайный постриг в 1960-е годы, ушла из жизни, успев провести с нами лишь одну встречу, и ее повествование так и осталось незавершенным... Казалось бы, проще обстоит дело с людьми более молодыми, родившимися после войны. Но, как выяснилось, многие из них пришли в Церковь лишь после перестройки. Потому особенно ценны истории людей, выросших в Православии или обратившихся к нему в период, когда быть христианином значило не просто плыть против течения, но нередко — рисковать многим.
Выступая отчасти автором, отчасти редак-тором-составителем данной книги, я хочу поблагодарить Марину Нефедову за предоставленную расшифровку рассказа Феодоры Никитичны Кузовковой, в более краткой редакции опубликованного в журнале «Нескучный сад», и за интервью с протоиереем Иоанном Каледой, проведенное специально для этого сборника; Арсения Загуляева за его беседу с Андреем Борисовичем Зубовым, а также всех, кто принял участие в работе над книгой.
О судьбе Церкви в советские годы написано немало, издано множество документов и воспоминаний. Могут ли девять небольших историй открыть что-то новое? Мы — автор и издатели этой книги — убеждены, что могут. Путь каждого человека уникален, и мы не боялись повториться. Но главное, собранные под одной обложкой, эти интервью прочитываются иначе, чем каждое по отдельности. Не претендуя на полноту охвата, мы тем не менее старались побеседовать с людьми самыми разными. Поэтому в книге вы найдете рассказы не только известных священников, но и простых прихожан, обычно остающихся в тени. Православие с колыбели или мучительный экзистенциальный кризис, приведший к Богу? Репрессии, погибшие в лагерях родственники, вызовы на Лубянку или внешне спокойная жизнь без преследований и угроз? У каждого из наших героев свои ответы на эти вопросы. Но именно в таком калейдоскопе несхожих обстоятельств высвечивается то главное, что помогает понять, как люди Церкви в советские времена сохранили веру.
Надо признать, определение «хранители веры» героям собранных здесь интервью показалось пафосным, ведь сами они героями себя вовсе не ощущают. Однако мотив сохранения Православия, преемственности церковных традиций отчетливо звучит в большинстве бесед. Живой пример родителей и близких, опыт духовных наставников, связь поколений и трагедия разрыва этого преемства — среди ключевых тем книги. Поэтому ее название справедливо можно отнести не только к титульным героям девяти историй, но и к тем, о ком они вспоминают: прославленным новомученикам, подвижникам и духовникам XX века и еще многим людям — известным и не очень. И все же в каждом интервью звучит живой голос одного конкретного человека — рассказчика, а расспрашивая его о, казалось бы, ушедшем прошлом, мы в конечном счете задаем очень важные вопросы самим себе. Надеюсь, и читатели увидят в этой книге не только воспоминания о советской эпохе.
Ольга Гусакова
Протоиерей Валериан Кречетов

В наши времена верующих просто сажали. Поэтому отец сказал нам прямо: «Собираетесь священниками быть? Готовьтесь к тюрьме».
Протоиерей Валериан Кречетов (род. 1937) — один из старейших клириков Московской епархии, авторитетный духовник, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово Одинцовского района. Рукоположен в 1969 году, в 1973 году окончил Московскую духовную академию.
— Отец Валериан, расскажите, пожалуйста, о своей семье.
— Мама моего отца, моя бабушка Мария Арсеньевна Морозова, происходила из старообрядческого купеческого рода Морозовых.
Дед Валериан Петрович и прадед Петр Гаврилович были из города Обоянь, из-под Курска. Приехали в Москву. И вот Петр Гаврилович стал специалистом по шерсти, выражаясь современным языком, товароведом. Он был арбитром в спорах между купцами. Представляете, что это такое? Он неподкупным был совершенно. Его очень любили и уважали в своей среде. А его сын Валериан Петрович стал специалистом по хлопку, текстилю. Валериан Петрович два года жил в Англии, в Ливерпуле. Затем ездил по Европе и овладел четырьмя языками: английским, немецким, французским и итальянским. И вот как раз
Валериан Петрович (мой дед) женился на Марии Арсеньевне Морозовой (моей бабушке), которая была из старообрядческой семьи.
Ее отец Арсений Иванович Морозов владел Богородской мануфактурой, поддерживал старообрядческую общину. И когда его дочь решила выйти замуж не за старообрядца, он, конечно, был против. Но они тайно венчались, вступили в брак вопреки воле родителей. И Арсений Иванович потом жалел, что сначала не принял своего зятя. «Зря я, — говорит, — упирался. Можно было Валериана вместо себя хозяином мануфактуры оставить». Самому же Арсению Ивановичу уже после революции Виктор Ногин1, который был рабочим на мануфактуре в Богородске, а затем советским деятелем, предлагал остаться на фабрике управляющим. Но Арсений Иванович отказался: «Нет, я с вами не смогу работать». Он отдал все это производство и умер своей смертью в 1932 году, его никто не тронул.
Дедушка, Валериан Петрович, по характеру был очень прямолинейный человек. Во время войны он жил с нами — мы были в оккупации под Волоколамском, село Ильинское. Так вот, дед на разных языках говорил, потому он с немцами общался и способствовал освобождению некоторых людей. Но некто сотрудничавший с немцами, прислуживавший им, оклеветал деда, сказал, что он предатель. Его забрали, так он и не вернулся. Мы не знаем, где он умер.
И вот у бабушки и дедушки родился сын Михаил, мой отец. Когда вырос, стал бухгалтером, специалистом в сфере хлопкового производства. Кстати, много лет позже, будучи уже священником, папа увидел экономические сводки одной из советских фабрик трикотажа. Он сказал: «Нерентабельно работают». То есть он с первого взгляда мог определить нерентабельность производства.
А мама, Любовь Владимировна, была родом из Коломны. Ее отец, Владимир Васильевич Коробов, — инженер. А мамин дед по матери, Илья Николаевич Серебряков, был молочным братом И. С. Тургенева, и потом управляющий его имения.
Моя мама до девяноста лет прожила. Она была физически очень сильным человеком, в детстве занималась спортом — фигурным катанием, акробатикой, гимнастикой. Гроза улицы была, трепетали ее все. А в пятнадцать лет она решительно повернулась и стала ходить в церковь и петь на клиросе. И вот с пятнадцати до девяноста лет — семьдесят пять лет — пела она в церкви. В 1947 еще году, то есть в сорок четыре года, она с нами на коньках каталась на реке. Мы ей только помогали коньки к валенкам прикручивать.
Папа тоже был спортивный, развитый физически — занял как-то первое место в московских соревнованиях по академической гребле. Он был загребным в восьмерке, задавал темп. Он и боксом немножечко занимался, был знаком с Константином Градополовым2 — известнейшим боксером двадцатых годов. Так что родители оба спортивные были люди.
— А как ваш папа к вере пришел?
— Это было мгновенное действие благодати Божией...
Мой отец родился в 1900 году, то есть его молодость как раз пришлась на послереволюционные годы, и под влиянием новых веяний он отдалился от Церкви. И вот как-то, это было, наверное, в 1922 году, мама, моя бабушка, попросила его Великим постом пойти в церковь причаститься. Сказала: «Миш, я тебе в ноги поклонюсь, только сходи причастись постом». «Ну что ты, мама, я и так схожу», — ответил он и пошел на Арбат в храм святителя Николая в Плотниках к отцу Владимиру Воробьеву3 (деду нынешнего ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева). Маму очень уважали в семье, потому он и пошел. Пришел на исповедь. А мыслей о покаянии у него никаких не было: стоял рассматривал девушек в храме. Подошла его очередь исповедоваться, священник спрашивает: «Ну что скажете, молодой человек?» Папа отвечает: «Мне нечего сказать, я не знаю, что сказать». — «А что же вы пришли?» — «Меня мама попросила». Тогда священник помолчал немного и ответил: «Это очень хорошо, что вы маму послушали», — накрыл его епитрахилью и начал читать разрешительную молитву. И вот он рассказывал, что и сам не понял, что с ним произошло: зарыдал, благодать почувствовал, слезы полились, как из крана вода течет, и, когда шел обратно, мир для него враз стал совершенно иным. Так благодать Божия мгновенно подействовала. Наверное, и мать за него молилась.
С этого времени отец стал ходить в церковь. В этом храме он познакомился со своей будущей женой, моей мамой. Она не только пела в хоре, но потом и управляла хором, хотя не училась этому специально.
И они стали общаться. А он же мастер спорта, чемпион Москвы по академической гребле. И мама, которая была острая на язык, как-то ему говорит: «А вы плавать-то хоть умеете?» Мастер водного спорта — и не умеет плавать! Он думает: «Ух какая девица! Никогда на такой не женюсь!» Но оказалось, лучше-то ведь ее нет!
При этом я не помню, чтобы мама про кого-нибудь сказала плохо, кого-нибудь осудила. Папа любил приговаривать: «По имени твоему тако и житие твое». А саму ее звали Любовь.
—Батюшка, ваш папа был репрессирован, расскажите об этом подробнее.
— Да, с 1927 по 1931 год он находился на Соловках, где был лагерь — СЛОН4, и в Кеми. Город Кемь расположен на полуострове, который вдается в Белое море, там тоже была зона.
Когда он был в лагере, ему в видении, как он нам рассказывал, открылся тот, иной, мир. Папа начинал рассказ так: «Был закат, я смотрел на море... И вот небо открылось и закрылось. Я увидел тот мир. Он был более реальный, чем наш». Это свидетельство отца, как Господь давал откровения в тех местах. Господь подкреплял верующих, бывших в заключении, давал откровения.
А того, что тот мир реален, свидетельств очень много и в моей жизни было. Я не раз рассказывал, как Господь сподобил меня общаться с Владимиром Петровичем Седовым, дальним родственником митрополита Филарета (Дроздова)5. Он однажды мне сказал: «Я всегда был глубоко верующим, а теперь я не верую — я знаю. Ведь так вот, как я с вами говорю, я говорил с человеком с того света в течение часа». Дело в том, что ему явился митрополит Филарет и беседовал с ним. Причем о конкретных вещах. Митрополит Филарет просил восстановить могилу его матери — Евдокии Никитичны Дроздовой — и сказал, где она расположена. И действительно, могила находилась именно там, где указал митрополит.
И я такие свидетельства того мира очень часто встречаю. И связь двух миров настолько конкретна, что удивляешься. Как повторяла Елена Владимировна Апушкина, моя теща, которая сама прошла годы ссылки в Казахстане, «с испытанием посылается избытие». То есть параллельно какому-то испытанию идет помощь. Это факт.
Так вот, отец мой в Кеми сидел вместе со свя-щенноисповедником епископом Коломенским
Феодосием (Ганицким)6, который умер на свободе потом в 1937 году. И как-то у них состоялся такой диалог. Папа спрашивал владыку: «Как мне быть?» — «Положитесь на волю Божию». — «Я положился». — «А чего ко мне пришел? В лучших руках дело». Такие были люди...
Самое удивительное, что почти через восемьдесят лет я участвовал в освящении престола именно в этих местах, где сидел мой отец. У Господа было устроено так, что мой отец должен был жениться, а младший из его сыновей должен был служить там, где он был зэком.
Однако отец нам почти никогда не рассказывал о тюрьме. Ведь там было очень страшно. Я уже сейчас читал о Соловецком лагере, как там издевались над заключенными, он же никогда нам ничего не рассказывал. Вероятно, чтобы нас заранее не устрашать. Как отец Иоанн (Крестьянкин)6 7 сказал: «Часто люди мучаются от ожидания того, что будет». То есть мучаешься только от ожидания событий. Поэтому папа нас не пугал. Ну и, может быть, еще для того, чтобы у нас не было ненависти к власти. Он не воспитывал нас в ненависти к власти. Никогда. И у него ее не было.
—А как ваш отец стал священником?
— Ему еще в тюрьме предсказывали, что он будет священником. И супруга на него повлияла. Нас было трое детей в семье, отцу сорок девять лет, а чтобы стать священником, ему надо было учиться. И вот он говорит жене: «Как же я пойду учиться, а ты с тремя детьми останешься?» — «А ты не беспокойся. Я справлюсь. Ты иди учись». Очень сильная была женщина!
А ведь она замуж за него выходила, когда он был еще на поселении после тюрьмы. Они венчались на Соломбальских островах, сейчас это часть Архангельска, и какое-то время после свадьбы жили там. А потом, когда он был на войне, она написала письмо: «Запомни, где бы ты ни был, что бы с тобой ни было, хоть без рук, без ног, я тебя разыщу и привезу тебя. Иди исполняй свой долг». И это письмо папа носил всю войну с собой.
Мама была очень смелая. Когда была война, она давала сигналы партизанам, есть немцы или нет. Вывешивала белье. Если бы это раскрылось, то смерть была бы всей нашей семье. Но она все же делала это, хотя трое детей на ее руках были.
— Как же она страх преодолевала?
— У нее вера была очень крепкая. Ей было видение, что православная вера будет на Руси процветать. И, переживая годы гонений на Церковь, она ждала, что скоро будет возрождение Православия.
— Вы в Зарайске жили после войны?
— Так мы же в Зарайск вернулись во время войны после оккупации, когда освободились, и потеряли все. Я и брат Николай родились в Зарайске, сначала он, потом я. Отец ведь поселился здесь после заключения, потому что в Москве не имел права жить. Мне с самого моего рождения была явлена настоящая милость Божия. Меня крестили в зарайском храме Нерукотворного Спаса на Спасской улице, и восприемником был сторож храма — заштатный священник, отец Михаил Рождествин. В апреле 1937 года меня крестили, а осенью того же года он был расстрелян в Бутове8. Господь сподобил меня такой милости — во младенчестве меня носил на руках будущий священномученик.
В 1939 году отцу предложили место под Волоколамском, в селе Ильинское. Это недалеко от знаменитого Дубосеково9, в тех краях где-то. И мы туда переехали. Два года прошло, и началась война. Папа добровольцем ушел на фронт. А мы с мамой остались и через некоторое время попали в оккупацию. Немцы пришли, дом сожгли. Мы валялись где-то на снегу. Стрельба шла, гранаты рвались. Но нам, мальчишкам, интересно было. «Не поднимай голову, застрелят!» — кричали нам. Мальчишки ведь есть мальчишки, хоть пятилетний, а все равно ему интересно. Потом в войну играли. А ведь все было очень серьезно — в той местности оставались после оккупации мины, они взрывались, погибало много людей.
— Расскажите, пожалуйста, о ваших семейных традициях.
— Мы церковной жизнью жили, то есть Рождество, Святки, Пасха... Мы жили по церковным праздникам, у нас светских праздников не было.
Вообще, устои-то в семье были серьезные. Еще дед моему отцу говорил: «Не ходи в тот дом, в котором есть девушка, на которой не собираешься жениться». То есть даже не ходить в этот дом, чтобы не давать повода девушке переживать и не бросать на нее тень. Я помню, один случай был на Урале, где я работал. Мне было трудно, общаться не с кем. А там была одна семья верующих. Хозяин бухгалтером работал. В семье было две дочери и три сына. Бабушка их, Галина Степановна, была женой царского офицера. И у нее на руках умерли пятеро детей ее. Одна дочка осталась. Следующий муж дал этой женщине свою фамилию, чтобы скрыть ее прошлое, дабы избежать неприятностей. Она Шаляпина видела, при царском дворе бывала. Интересная такая старушка. Ну, мне было интересно общаться, я ходил туда. Я просто ходил и не думал, что могут быть какие-то последствия. А потом как-то на Новый год собрались все, а я смотрю, одна из дочерей что-то в слезах. Думаю: «Кто ж ее обидел? Что такое?» А мне говорят: «Ты что, не понимаешь, что ли?» — «Не понимаю». А девушка, видимо, решила, что у меня намерения по отношению к ней. для нее мои посещения были важнее, чем для меня, ей не все равно было. Так я невольно заставил человека страдать. Это стало для меня уроком, это у меня осталось на душе тогда.
А что касается детства, я особенно и не помню, чтобы мы праздновали дни рождения, к примеру. Очень скудно жили, чего там праздновать-то? А вот на большие церковные праздники — Рождество, Пасху, День Святой Троицы — к нам собиралось много народу, батюшки приходили.
Мы вообще очень ценили, когда семья собиралась. Папа, бывало, сидит с нами: «Как я мечтал, когда был на войне, что я буду рядом с семьей своей сидеть». После войны мы жили в Зарайске, на берегу реки Осетр,—домик был с соломенной крышей. Керосиновая лампа горит, вьюга за окном. И вот мы сидим за столом. Откуда, каким образом у нас появилась семиструнная гитара? Не знаю. Но помню, папа играл на гитаре и пел. И мы, мальчишки, пели романсы, русские песни, духовные стихи. Мама подпевала. У нас была традиция петь под гитару.
Потом, когда папа ушел в семинарию, мы, мальчишки, стали сами собираться и петь. Тут Николай, брат мой, сейчас он тоже священник10, освоил гитару. А потом и я начал вспоминать аккорды, и так, на трех аккордах, как Паганини на одной струне,

Родители — протоиерей Михаил и Любовь Владимировна Кречетовы. 1962 г.

всю жизнь играю и пою. Так у нас было всегда. Такие были традиции.
— Батюшка, а вас воспитывали как-то по-особенному, что вы стали священником, богослужение полюбили?
— Дело все в том, что мы регулярно все бывали на службах. Когда переехали в Зарайск, я уже в возрасте шести лет начал в церкви прислуживать. Народу очень мало было, молодежи совсем не было. Нас — несколько мальчишек, в том числе мы, три брата, и читали, и пели. А поскольку мы в семье пели, то и в церкви пели. А другие мальчишки нас обижали, потому что мы ходили в церковь, они нас били, кричали: «А, попы!» Дразнили. А служили тогда священники, вышедшие из тюрем и лагерей, и молодые батюшки — горящие такие были!
Каждые субботу и воскресенье, во все праздники мама меня будила: «Валюшка, вставай». Встаешь и опять — бух, спать падаешь. Она рубашку наденет, я снова — бух, спать. Постепенно начинаешь просыпаться. Затем тащат куда-то, особенно зимой: по снегу, в метель. Летом, конечно, легче, но идти самому не всегда хотелось: рядом река, хотелось покупаться, побегать. А тут надеваешь обувь, как кандалы, и идешь на службу, думаешь, что это все-таки нужно. А оттуда уже радостный возвращаешься. Вот туда вроде идешь — тяжело, а оттуда — душа радуется...
Вот так с детства мы приучились к службам.
А потом большую школу дала моя теща — Елена Владимировна Апушкина, духовное чадо сначала отца Алексия Мечёва11, затем его сына — отца Сергия Мечёва12.
— Она была свидетелем церковной жизни двадцатых — тридцатых годов прошлого столетия...
—Да! Конечно... Она мне очень много объясняла, рассказывала об отце Сергии, о том, какая духовная школа была в том храме на Маросейке. Это, конечно, очень большую, неоценимую пользу мне принесло, особенно для понимания значимости богослужения.
11 Протоиерей Алексий Мечёв (1859-1923) — один из известнейших московских священников — подвижников начала XX столетия. С 1893 г. — священник храма свт. Николая в Клённиках на Маросейке, в котором прослужил до конца жизни. Здесь благодаря его пастырской деятельности, поразительной любви к Богу и людям постепенно образовалась значительная община прихожан, многие из которых также послужили Церкви в период богоборчества. Прославлен в лике святых в 2000 г.
12 Протоиерей Сергий Мечёв (1892-1942) — сын отца Алексия Мечёва. В 1919 г. рукоположен в священники, до 1929 г. служил в храме свт. Николая в Клённиках на Маросейке, с 1923 г. его настоятель. В 1927 г. отказался поддержать Декларацию митрополита Сергия (Страгородского), призывавшую к лояльности советской власти; примкнул к течению так называемых «непоминающих»; с 1929 г. несколько раз был арестован, с 1937 г. жил нелегально, встречался с духовными чадами, тайно служил литургию, благословлял на тайное священство и монашество. В июле 1941 г. снова арестован и 6 января 1942 г. расстрелян в Ярославской тюрьме. Прославлен в лике священномученика в 2000 г.
На самом деле наше православное богослужение настолько глубоко, настолько оно красиво... Только в полноте его мало кто знает. Там такая красота раскрывается!
—А почему, как вы думаете, происходит так, что мы часто не чувствуем красоту богослужения?
— Мир открывается тому, кто по миру ездит. Так и с богослужением. Понимаете, нужно этим жить, а не приходить в церковь от случая к случаю.
Я общался с владыкой Стефаном (Никитиным)11, который тоже ходил на Маросейку к отцу Алексию и отцу Сергию Мечёвым. Им был дан завет: никогда никуда не ходить под праздники, под воскресенья, ни у себя ничего не устраивать — никаких праздников, мероприятий. Потому что шли в церковь.
Ведь в Церкви во всем определенный смысл. Например, предпразднство, к празднику готовятся. А затем праздник проходит, но начинается попразднство. И человек еще продолжает как
бы жить этим праздником. То есть праздник расширяется. Чем больше праздник, тем предпраздн-ство и попразднство длиннее. Устав очень премудро составлен и поучительно. Ну, я уж не говорю о церковном пении. От некоторых песнопений просто душа замирает! Вот от великопостных — особенно.
А светилен праздника Успения: «Апостоли от конец совокупльшеся зде в Гефсиманийстей веси погребите тело Мое. И ты, Сыне и Боже мой, приими дух мой». (Поет.) Я помню, как служил эту службу отец Сергий Орлов12, который был настоятелем нашего храма в Акулове почти тридцать лет. Хор тихо поет светилен, тишина кругом, а я смотрю — у отца Сергия слезки по щекам текут. Очень умиротворяющие песнопения.
Почему напевы церковные протяжные? Они дают возможность задуматься, сосредоточиться
на чем-то высоком, понимаете? Кто-то из отцов говорил: «Если я больше увлекаюсь звучанием, чем содержанием, я тяжко согрешаю». А почему чтение монотонное? Оно никому ничего не навязывает, а позволяет человеку сосредоточиться на том, что ему ближе. Вот в этом особый смысл богослужения.
— И все-таки: родители воспитали вас в вере единственно собственным примером или они что-то рассказывали, чему-то учили?
— Папа мой говорил: «Нужно не верить в Бога, а верить Богу». Потому что дело все в том, что верить в Бога, просто верить в то, что Бог есть, недостаточно. Бесы тоже веруют и трепещут. Ведь сказано: «Имейте веру Божию». Не просто имейте веру, а имейте веру Божию.
Даже, бывает, и верующие люди начинают обсуждать какие-то вопросы, и так судят, и эдак, но все с точки зрения земного знания. И вот мой духовный отец в таких случаях говорил: «Вы договорились до того, что про Бога забыли». И мой папа вот это же говорил, только другими словами. чего-нибудь начнем рассуждать, а он заметит: «Ну да! А Бог-то? Забыли, что ли, про Бога?» Без Бога-то ничего нет и быть не может.
— Наверное, этому доверию Богу можно научиться? Вот ваш отец прошел такой путь — от блестящего спортсмена из зажиточной семьи до узника Соловков, потом война, священство... Как можно научиться такой вере? И вообще — можно ли учиться таким вещам?Или это Бог дает?
— Можно, можно. Бог-то дает, но не все учатся. В школе-то всех учат, но не все же учатся — преподаватель всем говорит, всем преподает, а учатся немногие. Так и с верой: Бог дает, да не все учатся. Но опять-таки: почему-то одним дано, а другим не дано.
—Да, почему?
— А это уже всеведение Божие. Это выше нашего разумения. Господь мог бы дать всем. Но многим кое-что дано, а они и этого не используют. Зачем еще больше давать, если это еще не используют? Поэтому не дается, толку-то никакого нет. Можно одарить всеми талантами, да мы и одного-то как следует не развиваем.
А как вере научиться? Один из псалмов пророка Давида такие слова содержит: Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой; посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. Иуны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния; поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся (Пс. 142: 3-5). Если будешь внимательным, то увидишь, как Господь избавляет от таких безвыходных ситуаций. И научишься вере Божией.
—Расскажите, пожалуйста, подробнее: вы, все три брата, помогали в храме, учились в школе, потом в институте?
— Да, все трое. Старший, Петр (недавно скончался), вообще очень серьезно относился к своим обязанностям. Когда мы, младшие, начинали баловаться, как дети, он нас строго останавливал.
— А почему Петр не стал священником, а вы с отцом Николаем стали?
— Это надо было спрашивать его, конечно. Но мы все имели в виду, что каждому из нас нужна профессия, отец нам говорил: «Служение священническое — это не профессия. Это служение. А профессию должны иметь». Апостол Павел делал палатки, почти все святые имели земные профессии, за счет которых они жили. Служение Богу само по себе никогда не было профессией, которая давала доход. Когда апостолы ходили с Господом, их, конечно, кормили везде, потому что Он—Учитель, проповедник, а они — Его ученики, и это было выражением почтения и благодарности. Но вообще-то, апостолов Господь призвал от рыбной ловли, рыбаки они были. А как только они погребли своего Учителя, то опять пошли рыбу ловить. Одно из первых явлений Спасителя было на апостольской рыбной ловле. Апостол Павел прямо пишет, что он никогда никого не обременял, питался трудами рук своих. Один из известных всемирных святителей, Спиридон Тримифунтский, пас овец, даже будучи уже архиереем.
Такие вещи, как образование, профессия, необходимы, потому что человек должен чувствовать себя в этой жизни в земном смысле обеспеченным чем-то. Если нет профессии, кем же ты будешь, в каком качестве среди людей? Только человеком, который нагружает других? Ну а в наши времена верующих просто сажали.
Поэтому отец сказал нам прямо: «Собираетесь священниками быть? Готовьтесь к тюрьме». Нужно было приобрести профессию, которая будет пригодна в тюрьме. Первая — врач, потому что он везде нужен. Но тут мне папа сказал: «Может быть, ты не выдержишь. Это слишком — резать трупы...» И мы с братом Николаем поступили в Лесотехнический институт, потому что заключенных на лесоповал посылали — в Сибирь, на Дальний Восток, на Север и в другие места. А старший брат, Петр, хотел попробовать себя на научном поприще, физиком стать. Он школу окончил в 1950 году. У нас пять лет разница. Когда мы были в оккупации, он потерял один учебный год, не мог учиться. Так вот, он решил поступить в МГУ. Но у него наивное было представление: он в анкете написал, что отец в семинарии учится. Естественно, его тут же «срезали», не поступил.
Мы не были ни пионерами, ни комсомольцами. Мы ходили в церковь, прислуживали. Он учился хорошо, в школе мог по своему усердию получить медаль, но из-за того, что он не был комсомольцем, ее не получил.
— Вы сознательно все трое не вступали в пионеры и комсомол?
— Конечно, сознательно. Меня спрашивали: «Почему ты против вступления?» Я отвечал вопросом на вопрос: «А может в пионерах быть тот, кто ходит в церковь?» — «Нет». — «Так я же
хожу, значит, вы не можете меня принять». И когда спрашивали, почему я против, было понятно, что если я выскажу какую-то критику, то моего отца могут опять посадить.
—Поэтому вы старались подобных разговоров избегать, но все же свою позицию имели?
— Нет, мы не избегали разговоров, но мы выражали свою позицию от себя лично, не прикрываясь мамой, папой, чтобы никого не подводить. Такое воспитание было.
— В каких еще случаях вам свое мнение приходилось высказывать?
— Потом был похожий разговор насчет комсомола, сначала в школе, а потом в институте. Но это все кончилось. В институте обнаружилось, что я не комсомолец, когда уже проучился два года. За меня все это время комсорг сдавал взносы. А потом спрашивает: «А какой у тебя номер комсомольского билета?» — «А у меня его нет». — «Как это?» — «А я не вступал в комсомол». — «Как так?» Ну, главное, деньги идут. Хоть и копейки какие-то, но все-таки деньги.
— Он из своего кармана за вас платил?
— Да.
— И думал, что вы — комсомолец?
— Я был бедно одет, он считал, что мне оказывает услугу.
А брат Петр поступил в педагогический институт на математический факультет. Поскольку мужчин там было мало, то он поступил, блестяще,
однако, сдав экзамены. И опять — сначала приняли, а потом хватились насчет его происхождения. Но тут он уже не писал, что отец у него в семинарии или священник... Написал, что родился в семье служащего, обтекаемо так.
А когда мы с Николаем поступали, то писали, что родились в семье бухгалтера. Это была чистая правда — я родился, когда папа бухгалтером работал. Время было такое — приходилось применять дипломатию.
Помню, я уже учился в школе, у меня спрашивают: «Гром — это что? Это когда Илья-пророк на колеснице по небу едет? Как у вас там говорят, в церкви?» Я отвечаю: «Знаете, впервые это от вас слышу. В церкви никогда такого не слышал». — «О чем там у вас говорят?» — «Приходите, послушаете». — «Да-да, интересно». Они очень хорошо ко мне относились.
— Эти провокационные вопросы вам дети задавали или учителя?
— Учителя. Дети вообще не задавали. Были те, кто дразнил: «Попы, монахи», — было такое, но это на улице. Но все же я проучился десять лет, и никто в классе никогда в моем присутствии не смеялся над верой. Я не задумывался, почему это так, но, когда получил характеристику, подписанную классным руководителем (папа потом ее хранил), увидел, что там было написано: «.пользовался уважением и любовью класса». Я не осознавал этого.
— То есть они уважали вашу позицию?
— Уважают, когда твердая позиция. Весь город ведь знал. Одна церковь была. Тем более что я ходил с крестным ходом на реку на иордань, на Пасху. Все знали. Нас было несколько человек всего (кроме нас, братьев, были и еще братья из верующей семьи). Молодежь настоящую твердость уважает. Тогда у молодых был идеал мужества.
— Вообще, вы подвижные дети были? Свободное время как проводили?Не только, наверное, церковная жизнь была, но общение с другими детьми?
— Я не понимаю, когда ставят какую-то грань: верующий — не верующий. Кроме того что мы ходили в церковь и, естественно, не ругались, не курили, не пили, в остальном ничем не отличались от других детей. Так же участвовали во всех играх. В городки, в лапту играли — в подвижные игры. Жили бедно, чтобы играть в городки, мы вырезали из палок чурбачки, бита — обычная палка. А лапта у нас была — мячик черный на двенадцать человек, — это сокровище. В футбол мы не могли играть, у нас просто не было футбольного мяча. Если футбольный мяч где-то появлялся, это была элита! Когда река покрывалась льдом, мы катались, гоняли конский навоз замороженный, играли в хоккей. Клюшками служили сучья дубовые. Подбирали, подтесывали, тяжеленные они были, конечно. Это было физическое развитие.
Учились мы с керосиновой лампой, электричества не было. Я так десятилетку и окончил без электричества. А с весны до осени работали в огороде. Копали, сажали, все это поливать нужно было, на речку за водой ходить. А до реки — метров сто. И вот мы договаривались — чтобы побегать, нужно было сначала выполнить норму. И вот когда по пятьдесят раз сбегаешь за водой... Я даже не задумывался, сколько это было. Потом, когда посчитал, оказалось, что я пробегал десять километров, из них пять — с полными ведрами на коромысле. Такая у нас была жизнь.
У нас все было такое здоровое, крепкое, добротное, что мы физически укреплялись. Считали, что нужно развиваться, что мужчина должен быть сильным. Тогда использовали утюги чугунные с подогревом, мы занимались с ними, как с двумя гантелями.
Так что мы вместе со всеми остальными детьми бегали, разве что не ругались, не курили.
Жили бедно. Мама работала псаломщицей в церкви, она бежала на службу, а мы вставали, молились, ходили учиться в разные смены. И даже так было. Старший приходил, снимал ботинки, их надевал второй и шел. В одной паре ботинок ходили двое. Это теперь непонятно людям совершенно. Я привык к свободной обуви, потому что у меня нога-то меньше, но главное — влезает. На штанишках ставили заплату, потому что они протирались.
— Расскажите, пожалуйста, про институтские годы.
— Когда я поступил в институт, сначала я попал в группу водников — специальность «водный транспорт леса». С одной стороны, я прошел геодезию, таксацию, но с другой — мечта моя была стать механиком. И уже после того, как на целине отличился, я перешел в группу механиков. В 1956 году я добровольцем с третьего курса поехал на целину. После первого курса еще не пускали. Я прикрепился к бригаде старшего брата, будущего отца Николая. Они меня с собой взяли.
Сначала мне было неинтересно учиться, я даже завалил экзамен. Но потом думаю: «Все равно надо же учиться» — и пересдал на «хорошо». Я понял, что православный человек должен быть по возможности специалистом высшего класса. Иначе ему в жизни не будет ходу никакого. То есть специализация его, мастерство, в конце концов потребуется, в чем я убедился потом. Я был председателем кружка технологии металлов, работал на всех станках. Один раз даже шахматы выточил к конференции. Это несложно, главное — сделать резцы, шаблоны. Сваркой занимался, на кафедре тягловых машин. У меня пятьдесят семь лет водительского стажа.
На механическое отделение перешел — сдал экзамены кое-какие, нужно было налегать на учебу. Эта специализация требовала освоить все виды транспорта. На целине я практику проходил, уже имел водительские права.
Освоил и штурманское дело — штурман Военно-воздушных сил. Получилось так, что, когда я еще рос, у меня была мечта путешествовать. Романтика! Представлял, что я капитан дальнего плавания. Это были детские мечты, потому что я не осознавал, что для меня все это закрыто, я ведь не был комсомольцем. В детстве я одно с другим не связывал. Конечно, потом я понял, что это фантазии пустые, потому что ни в какое дальнее плавание меня, православного человека, не пустят. Вот тут получилось чудо. Когда я поступил в институт, в рамках обучения на военной кафедре студентов моего курса готовили в штурманы ВВС. И я прыгал с парашютом, летал. (Вот четыре года назад я в аэропорту Шереметьево «боинг» посадил на тренажере два раза.) Господь мне как бы сказал: «Ты хотел быть штурманом? Ты не будешь плавать, а будешь летать». Я сейчас летаю когда, мне говорят: «Самолет — это опасно?» Я отвечаю: «Небо — наш родимый дом. Я штурман». И даже как-то летел в кабине пилота.
И в институте я занимался спортом. Ну, поскольку работать нужно было в леспромхозе, а там кадры были всякие, в том числе и зэки, мужчина должен был быть мужчиной. Серьезно занимался боксом, лыжами, потом акробатикой, даже сальто делал. В детстве плавал много. У реки вырос. С гирями каждый день занимались, как подобает. Отец говорил: «Священник должен быть
сильным и выносливым». Теперь я в этом убедился. Точно.
Одним словом, Господь все мне показал, и, когда я окончил институт, увидел даже лагеря. Меня, хотя я был беспартийный, вызвал третий секретарь райкома и говорит: «Ваша кандидатура как специалиста предложена для поездки по лагерям с целью технического осмотра». В результате я по зонам проехал с комиссией. Побывал за колючей проволокой с овчарками. Заходишь — за тобой щелк, дверь закрывается, и все, ты в зоне. Видел зэков лицом к лицу. Офицер, конечно, меня сопровождал. Так что посмотрел я на эти места, когда на Северном Урале работал.
— Вы на Северный Урал попали уже после института?
— Да, по распределению. На практике я был в Нижегородской области, потом в Петрозаводске на заводе работал. Потом — в Тверской области, там были леспромхозы, куда возили студентов. Распределился я на Северный Урал, три года на чусовой, в чусовском леспромхозе, работал в конструкторском бюро.
— И когда же пришла вам твердая мысль принять священный сан?
— Мысль у меня всегда была, мне отец сказал очень просто: «Учись, работай, если у тебя призвание есть, ты все равно пойдешь. А если это желание куда-то пропадет, то, видимо, и не нужно идти этим путем».
—Но важно, видимо, было сначала жизненный опыт получить?
— Конечно, опыт нужен. Когда я уже приехал в Москву, пробыв три года на Урале, то познакомился с владыкой Стефаном (Никитиным), а через него — с его духовником отцом Сергием Орловым, который в Отрадном служил. Вот отец Сер-гий-то мне и сказал: «Иди». — «У меня, батюшка, опыта мало». — «Опыт будет — сил не будет».
—А сколько лет вам тогда было?
— Тридцать. Успел уже в Москве поработать и женился. Я с Урала приехал, сразу женился. Спрашивал у отца Кирилла (Павлова)13: «Какой мне путь избрать?» Он молодой тогда был, это было лет пятьдесят назад. Он мне сказал: «Господь тебе укажет». В этот же день ко мне подвели будущую супругу — Наталью Константиновну Апушкину. Я так: «Да-да-да» — и не обратил сначала на нее внимания. А потом уже на свадьбе брата обратил внимание, подумал: «Какая скромная девушка с косами. Есть же такие еще». Тогда уже все были стриженые.
Потом попал к отцу Евгению Тростину14, ему было девяносто с лишним лет. Старчик такой был. Он говорит: «Тебе надо жениться». — «У меня никого нет». — «Но ты видел кого-нибудь сейчас?» — «Да, я видел вообще-то». — «Вот на ней и женись». И перекрестил меня иконой святителя Николая со словами: «Сим победишь. Иди на ней женись». Оказалась она дочерью Елены Владимировны Апушкиной, духовного чада отца Алексия Мёчева, служившего в храме святителя Николая в Клённиках. Вот святитель Николай и привел. Я же его почитал — родился в Зарайске, там икона почитаемая святителя Николая.
— Отец Валериан, кто оказал наиболее сильное влияние на вас в выборе священнического пути?Наверное, прежде всего ваш родной отец, кто-то еще?
— Одним из моих духовных наставников был отец Алексей Резухин15. После войны он был настоятелем в зарайском храме. В основном там
служили старые священники, а он был молодым, энергичным, деятельным. Вот он подавал пример настоящего пастыря, ревностного, самоотверженного, бесстрашного. В те времена ходил в рясе с тросточкой. Он говорил проповеди, церковь наполнялась народом. И краем уха я услышал, как кто-то из местной власти сказал — с таким попом коммунизм не построишь. Через некоторое время его от нас перевели. Мы со слезами расставались, конечно. Он в детстве такой пример мне подал.
У нас храм Благовещения был, а в нем два придела: архангела Михаила и преподобного Сергия. Я каждую службу, когда бывал там, к образу Благовещения прибегал, Матери Божией молился, чтобы меня сподобила послужить Богу. Больше ничего не просил. Только служить Богу. Вот я и служу. С утра до вечера.
—Как вы познакомились с отцом Сергием Орловым?
— Когда я стал общаться с моей будущей супругой, она спросила: «Хочешь познакомиться с архиереем?» — «Конечно, с удовольствием». Она меня привела к владыке Стефану (Никитину). Он сказал: «Делай предложение». — «Благословите». То есть благословение на женитьбу я неоднократно получил.
А умер владыка в Калуге. Я за неделю до этого навестил его там, и он беседовал со мной очень интересно. И вот с гробом владыки Стефана
я приехал сюда, в Отрадное. Здесь его похоронили. И тут впервые я увидел отца Сергия. Стал сюда ездить к могиле владыки и с отцом Сергием общался. Поскольку я вырос в церкви, читал, пел, для меня и этот приход был как родной дом. Я стал помогать отцу Сергию за богослужением. Потом он мне говорит: «Иди служить к нам. Инженеров полно, а батюшек не хватает».
— То есть вы этот путь от псаломщика до диакона и священника именно в этом храме прошли?
— Нет, так нельзя сказать. Я с детства рос в церкви и все время везде как-то участвовал. Помогал отцу в церкви, когда был студентом. В другом храме помогал, в Пушкино. Как-то однажды даже хором управлял. То есть я привык, вырос так, понимаете. Окончил семинарию за год, потому что был довольно подготовленным. Знал Устав. Я мог наизусть прочитать шестопсалмие. Когда в этом живешь, то несложно. Понимаете, я церковной жизнью жил, она настолько стала моей плотью и кровью, что даже не задумываюсь: а как иначе?
И читать по-церковнославянски для меня было обычным делом. Когда еще в школе учился, начал читать одновременно и по-русски, и по-славянски. А молитвы я слышал, знал их на память. И когда мне текст показали, я стал читать их и быстро освоил церковнославянский язык. По литературе у нас была учительница, которая родилась в девятнадцатом веке, образование у нее было дореволюционное. Она берет у меня сочинение
и говорит: «Кречетов, у вас в сочинении славянские обороты». Я мог сказать «яко» или что-нибудь в этом роде. Это наш родной язык, вообще-то. Сейчас язык засорен массой иностранных слов, которые многие не понимают, а эти слова понятные.
Так я и вырос с двумя родными языками: церковнославянским, языком наших пращуров, и современным литературным языком. Разделения между жизнью церковной и обычной вообще не было. Единственно, я не сквернословил, у меня такого не было. И в молодежных посиделках не участвовал. Но в кино ходил. Во-первых, кино было целомудренным, во-вторых, было интересно смотреть все эти фильмы: «Тарзан», про мушкетеров, ковбоев. Там о серьезных вещах шла речь, мужчины были как мужчины. Под впечатлением от виденного я на козу лассо набрасывал, метал ножи, топоры, двери исковеркал. Мне попало. Мы росли, как должны расти мальчишки.
—А в вашей уже семье, у ваших детей был телевизор?
— Не было. Это сознательная позиция. Я сам вырос без телевизора. На это еще деньги нужны, а мы жили скромно. И потом — зачем? Я вырос спокойно без этого, и дети мои тоже. Эрудированные люди — отец Тихон16, отец
Федор17. Телевизор иметь совсем необязательно. Человечество тысячелетиями жило без этой машинки, и умственное развитие было не хуже современного.
В нашей семье много читали. У нас бабушка, Царство ей Небесное, бывало, съест за обедом свою порцию быстро и, пока ребята там сидят, читает что-нибудь. Диккенса, например. Детям своим, внукам читала.
Сам я светской литературы читал очень мало. В тот период, когда я учился в школе, с нами жила Матрона Мамонтовна, монахиня с Украины. Вообще, монашеское имя ее Митрофания, постригал ее сам отец Иоанн (Крестьянкин). Она была послушницей чуть ли не до восьмидесяти лет. У нее были прекрасные духовные книги — епископа Игнатия (Брянчанинова). Она просила меня: «Валюшка, я безграмотная, ты мне не почитаешь?» Ну, я же грамотный, я, конечно, ей читал. И начитался Игнатия (Брянчанинова) — «Аскетические опыты», «Отечник». Там такая глубина, там такая ясность, что я после этого ничего не мог читать. Мне даже Достоевского не очень читать хотелось, много там страстей. А в аскетической литературе о добродетели, о духовной жизни говорятся конкретные вещи.
Мой папа любил изречение: «Христианство — это жизнь». И я так назвал цикл своих проповедей, выступлений. Там говорится, насколько настоящая духовная жизнь связана с нашей повседневной жизнью. Понимаете, существует искусственный и искаженный взгляд на соотношение духовной и мирской жизни. На самом деле духовная жизнь пронизывает все. И жить-то можно подлинно только ею. А все остальное — это, как у нас говорят, виртуальность или просто фантазии. Христианство же говорит конкретно о состоянии человеческой души, ума.
— Так кто же, батюшка, вас благословил на рукоположение?
— Отец Сергий Орлов. Он сказал, чтобы я сходил к архиерею. Я к нему пришел, тот ответил, что очень уважает отца Сергия, но им запрещено рукополагать людей с высшим образованием. Потому что политика такая была: духовенство должно быть безграмотное, необразованное, серое. В реальности это наоборот, конечно, было, но вот какие-то препоны и ограничения ставились. И тогда, поскольку моим свояком был профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат18, то я с ним заговорил об этом. Он поговорил уже напрямую. Тогда — Царствие
Небесное — Даниил Андреевич Остапов19, личный секретарь Патриарха Алексия I20, заместитель председателя хозяйственного управления Московской Патриархии, человек очень мудрый, подсказал: «Давайте инженером его возьмем». И я стал инженером при Патриархии.
— А что такое инженер при Патриархии?
— Тогда софринского производства еще не было. Но при Патриархии были мастерские. Там станки стояли. Одним словом, тоже механика. Делали всякую утварь церковную, свечи, ладан. И потом, уже как сотрудник Патриархии, я подал прошение о поступлении в семинарию. Поскольку я был довольно основательно подготовлен, сразу за четыре курса сдал, прямо по предметам сдавал.
— Матушка вас поддерживала во всем?
— Матушка, конечно, поддерживала. Когда я с ней познакомился, то уже думал о священническом служении, еще до разговора с владыкой Стефаном, до отца Сергия я об этом думал. У меня было такое горение, что вот готов был тут же пойти, пока еще учился. Времена были такие.
А потом я познакомился с ее духовным отцом Николаем Голубцовым21. Это был духовник блаженной Матронушки Московской. Он был удивительный человек святой жизни. Говорю ему: «Я хотел бы священником быть». — «Готовься». — «Я к этому готовился всю жизнь». Он мне сказал: «На ней женишься — будет сделан твой первый шаг к священству». То есть она — точно матушка. Она действительно матушка, я из-за нее-то и стал священником, через нее-то все и получилось.
— Вы жили довольно скудно, и матушка как-то смиренно относилась к этому.
— что было, то было. Я вырос в нужде, и студенческие годы так же прошли. что ели? Когда появился хлеб бесплатный в столовой и его можно было смазывать горчицей, это уже было счастье. За пятьдесят с лишним лет супружества у нас никогда не было разговора о деньгах. Никогда. Больше того, когда я работал уже инженером и у нас было трое детей (накануне моего рукоположения), думал, может, куда-то двигаться, как-то обеспечивать? Средств маловато, семья растет, а я один работал-то. Я говорю: «Может, перейти
в другое место? Там в командировки нужно ездить, но буду больше получать». Она говорит: «Нет. Мы как-нибудь проживем, только лучше будем вместе». Я благодарен ей за это. И действительно, Господь дал постепенно.
Жилищные условия поначалу были стесненные. Пока детей не было, мы снимали комнату. Там, где матушка жила, трое уже были прописаны, четвертым меня прописали — в комнату 14,8 квадратных метра в коммунальной квартире. Соответственно, общая кухня там и все остальное. Теперь не понимают этого. Потом нам дали на Трифоновской улице двухкомнатную квартиру — двадцать семь квадратных метров. Это уже роскошно было. Потом у нас дети пошли. И всего их семеро. И сейчас — тридцать четыре внука.
— Вы сорок лет прослужили в этом храме и больше нигде не служили?
— Служил сначала в Переделкине24 полтора года. В этом году я служу сорок третий год. А всего в сане, с момента как я стал диаконом, в ноябре будет сорок пять лет22 23. Диаконское посвящение было в ноябре 1968 года, на Архангела Михаила в храме Архангела Гавриила в Москве.

С матушкой Натальей Константиновной
— Батюшка, как складывался круг ваших прихожан? Это же не только местные жители, много было москвичей? Что притягивало их к храму?
— Думаю, дело в том, что исключительной личностью был отец Сергий, это, можно сказать, великий человек. Он из потомственного священства. В 1911 году окончил Московскую семинарию и увлекся светским знанием. Хотел продолжить образование, но его в университет не брали после семинарии, следовало в Духовной академии учиться. Потому он поступил в Варшавский университет. Затем окончил Киевский политехнический институт. Два высших образования получил. Дореволюционных. После революции курировал Западную Сибирь по агрономии.
Кстати, когда я упомянул Ленина, он сказал: «Кто это такой? Это никто. Я был в гуще революционных событий, никто не знал этого человека до того, как он появился...» Он знал многих высокопоставленных людей. Брата А. Микояна24 он причащал, я это знаю. Из семинаристов было много революционеров. Авторитет отца Сергия был очень высок. Поэтому и потом в этот храм еще как бы из того времени верующие приезжали: духовные чада владыки Арсения (Жадановского)25;
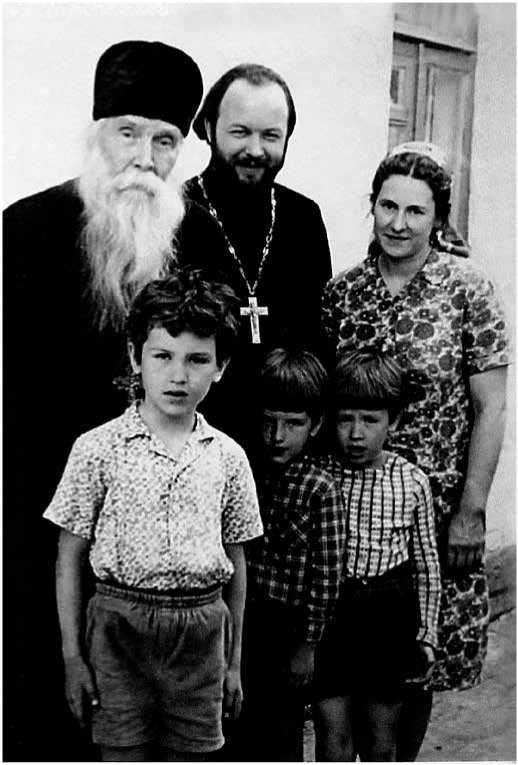
Протоиерей Сергий Орлов с семьей о. Валериана. 1974 г.
некоторые люди из правительственных кругов; отец Арсений26 27 (это действительная личность) присылал к отцу Сергию своих чад духовных. Была связь с прошлым. Хотя рисковали по тем временам, но здесь крестили, венчали потихоньку.
— Нужно было отчитываться по количеству крещений, венчаний перед советскими уполномоченными?
— В Переделкине, где я служил вначале полтора года, крестил открыто всех. Хотя бы в резиденции Патриарха это было официально, как полагается, свободно. Там креститься шло столько народу! Были дни, когда я в воскресенье крестил по семьдесят человек! Потому что никуда не подавали списки. И народ быстро узнал об этом.
А потом, когда меня перевели сюда уже, в Отрадное, вроде как кинулись за мной. И сюда приезжали студенты и преподаватели некоторых институтов, например, отец Тихон (Шевку-нов)29, будучи студентом, ходил сюда к нам. Из ВГИКа были многие студенты, там преподавал Николай Николаевич Третьяков28 29 (скончался несколько лет назад). Он многих сюда приводил креститься, венчаться.
— Вам как-то удавалось избегать этих требований властей по отчетности?
— Я просто потихонечку все делал. Рисковал, конечно. Уполномоченный как-то вызывал меня и матом на меня ругался. Ну, культура такая у них.
У меня была особенная стезя. Я такого никогда не мог даже представить себе заранее. Когда я служил в Переделкине, однажды принимал группу членов правительства. В ее составе был Юрий Владимирович Андропов30, председатель Комитета госбезопасности. Этого было достаточно. Как сказал сопровождавший товарищ, он был очень доволен, и меня после этого никто не трогал.
— Это в начале вашего пути произошло?
— Да. Потом ко мне пришел как-то один товарищ, мы с ним беседовали. Я говорю: «Вы знаете, у меня к вам лично отношение доброе, но вы человек подначальный. Вам скажут, и вы должны выполнять приказ. Будете, как в 1937 году поступать? Ну что ж, это дело ваше. А я все равно — на своем месте». Потом, когда еще один попытался молодой человек... Он мне надоел. И я ему в конце концов сказал: «Я с Юрием Владимировичем встречался». Больше вопросов не было. Он, конечно, не мог больше ничего сказать, ему же не докладывали, он мог предполагать обо мне что угодно, может, у меня ранг какой-то есть. Я никакого отношения не имел, конечно, к этому, но был совершенно спокоен — Господь как-то так поставил, что оградил меня.
—Вы только с этим случаем посещения Андроповым связываете свое спокойствие?
— Нет, я думаю, что важна твердость. Нормальные люди и там, в органах, уважали то же самое — твердость. Еще они предлагали мне: «Вы будете на международном уровне защищать Православие». Я говорю: «У вас же есть уже кадры для этого?» «Нет, — говорят, — это все не то». Я отвечаю им: «Потому я и то, что я не то!»
— То есть нужно просто оставаться собой — и пройдешь сквозь это все?
— Совершенно верно. Как люди прошли войну, в разных переделках были, а пуля их не тронула? И тут — никто ничего не может вам навязать, если вы прямо и спокойно говорите. Когда я стал священником, меня вызвали. Я же офицер запаса, а я написал, что я офицер и сменил род трудовой деятельности, а нужно было написать: «Офицер запаса». Разговариваем, и они: «Что это вы такое вот?» Тогда я еще не встречался с Юрием Владимировичем. Я уточняю: «Да, что такое, собственно?» — «Как же? Вас государство учило!» — «Я три года отработал по распределению, потом еще пять лет в Москве инженером, мы в расчете». — «Ну, вы зачем изменили?» — «А что такое?» — «Ну, вот вы инженер, а стали священником!» Я говорю: «Простите, Ирина Архипова, солистка Большого театра, по-моему, архитектором была. Борис Романович Гмыря, тоже народный артист, был строительным инженером». — «Ну что же? Они-то в артисты ушли, а вы в Церковь!» Я говорю: «А у нас свобода, по-моему». «Свобода?» — «Да». — «О чем тогда речь?» Так было... интересно.
— Батюшка, а как вы к отцу Николаю Гурьянову31 попали?Расскажите о нем немного.
— Через знакомых женщин-прихожанок. Они к нему ездили, помогали там и мне про него рассказывали. Это было лет двадцать назад. Батюшка уже не служил, на покое был. Приехал, а меня матушка-келейница просит: «Батюшка давно не причащался. Причастите его?» Я: «Хорошо». А отец Николай и говорит: «Я не хочу причащаться». Ну, я так отреагировал: «Не будет? Ну, что же теперь делать? Значит, так». Но конечно, потом он причастился. Просто старец и так знает, причащаться ему или нет, не нужно старцам указывать, их не положено учить. Ну, я и ответил: «Хорошо».
Потом второй раз я приехал. Он меня спрашивает: «А ты что не причащаешься?» Я стал с ним вместе причащаться, как приезжал, мы причащались. И так как-то получилось, что я стал ездить все чаще и чаще, батюшка с любовью принимал меня. А как-то слышу, он говорит: «Наш батюшка приехал». Очень утешительно так. Это мне особая милость Божия в жизни была, что пришлось с таким человеком общаться. Быть с ним — это утешение.
— А что вас в этой личности притягивало?
— что? Любовь, простота, святость, конечно. чувствуется, святой человек. Совершенное беззлобие. Удивительное от него осталось в памяти... Это невозможно даже передать, я пытаюсь произносить, но это никак не произнесешь. Я как-то стал рассказывать ему про католиков, что они постятся только два раза в году — в Чистый понедельник и в Великую Пятницу. Кто благочестивый, полдня не ест мяса. И у них ксендзы выезжают с престолом на пляж и совершают там мессу. На европейском пляже литургию совершают!!! Для нас это что-то совсем невероятное! Батюшка послушал, а потом так тихо сказал: «Ну, может, не стоило бы этого делать.» Таким тихим тоном, без осуждения, без возмущения.
— Может быть, с сожалением просто, да?
— Да. Я не могу даже передать, как это было сказано, каким тоном. Такой у него был дух мира удивительный. И еще любвеобильность ко всему, что тебя окружает.
— Отец Валериан, вы всю жизнь в Церкви. Как вы оцениваете жизнь верующих людей в двадцатом веке? Чем она принципиально отличалась от современной?
— Разница большая. Потому что в те времена человек шел в Церковь серьезно. Это могло ему грозить всякими осложнениями. А сейчас верующим ничего не грозит, это даже престижно. Я могу мысленно представить, как до Миланского эдикта32 приходили к христианам язычники. Тогда шли люди более осознанно, более серьезно, более ответственно. В советские времена была угроза если не жизни, то благополучию на сто процентов. Но все равно люди крестились, крестили детей, венчались. Приходили ко мне даже разные высокопоставленные особы—член Верховного Совета СССР, член ЦК профсоюзов, глава идеологического отдела «Литературной газеты», сын начальника Генштаба... Много таких случаев было. Они крестились сами, крестили своих детей, венчались. Частью были сознательно верующими, причащались, соборовались, некоторых я отпевал. И в больницы я к ним приходил исповедовать и причащать. Для них это был большой риск.
— А как вы охарактеризуете сам облик человека верующего, церковного в двадцатом веке?
— Меня окружали люди, своими корнями уходившие в девятнадцатый век. Это во многом еще было царское поколение. Отец мой 1900 года рождения. То есть его юность, когда личность складывается, прошла при царе. Воспитание тогда было другое. У меня была учительница, которая родилась в 1880-е годы, понимаете? Отец Сергий Орлов был 1890 года рождения, а умер в 1975 году. Это уже почти конец двадцатого века, а люди-то — еще те, дореволюционные. Общаясь с ними, мы перенимали тот дух, то воспитание. Нельзя жестко разделить девятнадцатый и двадцатый века.
— То есть Церковь выжила за счет тех людей, которые были укоренены в церковной жизни еще девятнадцатого — начала двадцатого века?
— Конечно. И ведь когда монастыри разгоняли, священники, монахи где-то должны были селиться... Вот рядом со мной жила монахиня, я рассказывал. «Почитай мне», — просила. Я и читал ей, всего Игнатия (Брянчанинова) прочитал! Вы представляете себе? Вокруг атеизм, а тут ребенок, ученик начальной школы, читает Игнатия (Брянчанинова). Как это возможно?
Вот так — через монахиню, а кто-то с бабушкой, кто-то с дедушкой разговаривал. Как ручейки переплетаются, переплетаются, а потом сливаются в целый поток.
Людмила Васильевна Смирнова

Во всем этом была Божия воля. Меня всю жизнь Господь вел...
Людмила Васильевна Смирнова (род. 1921) — жительница блокадного Ленинграда. Окончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. В. М. Молотова. Более двадцати пяти лет проработала во Всесоюзном научно-исследовательском институте полимеризацион-ных пластмасс.
—Людмила Васильевна, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, семье.
— Я родилась в 1921 году, в православной, церковной семье. И меня, конечно, крестили. Родилась я в Витебске, в Белоруссии, и там сначала, по-моему, не было особых гонений на веру. Рядом с нами была действующая церковь, люди туда ходили. В 1930 году мы переехали в Павловск, около Ленинграда, и там я уже пошла в школу. В это время в Павловске, как я помню, было три храма. Сначала мы ходили в церковь, и никто не запрещал. Но потом в школе начали пропаганду против религии. Однако мы продолжали ходить. Потом стали церкви постепенно закрывать.
— Вы были свидетелем того, как это происходило?
— С одним из храмов, куда мы постоянно ходили и общались там со священником, получилось следующее. Мама работала тогда в райисполкоме. И вдруг она слышит разговор служащих: «Завтра пойдем закрывать церковь». Речь шла как раз о том храме, прихожанами которого мы были. Мама пошла и предупредила священника. Но я ничего не знаю о том, что с ним стало в дальнейшем. Я в это время училась и, возможно, по-детски не очень интересовалась. Хотя к священнику этому я ходила. Помню, он нам сирень давал весной из своего сада.
Другой храм был далеко от нас, в военном городке. Мы туда никогда не ходили, поэтому, когда именно его закрыли, я не могу сказать. Но уже до войны он был закрыт. Он стоял в ужасном состоянии, потому что танки в него въезжали и бог знает что было. Сейчас его восстановили, а служат там давно33. После восстановления я туда довольно часто ездила, пока силы были.
Третий храм — самый старинный, в честь Марии Магдалины, построенный (вместе с госпиталем) императрицей Марией Федоровной34. О его закрытии мы просто узнали позже как о случившемся факте. Там организовали фабрику, сначала — игрушек, потом — еще какую-то.
Еще была часовенка на рынке. Ее тоже закрыли при нас. Нас не предупреждали, конечно, что закрывают. Придешь — закрыто, и все.
—А как это воспринималось?
— Переживали, очень жалко было. Все церковные неполадки, неустройства переживались очень, но между собой обсуждали, среди своих. Было очень печально, и все. Понимаете, люди разобщены были, работали отдельно, кто где. Связей особенно не было.
—После того как в Павловске закрыли храмы, вы куда-то ездили на службу?
— Рядом у нас был Пушкин, ранее — Детское Село, теперь — Царское Село. Мы ходили туда в Знаменскую церковь, которая позже, при немцах, была закрыта35. Однако уже не постоянно ходили, довольно редко.
— У вас верующая семья, вы вспоминаете какие-то традиции, например, совместную молитву? Как вас воспитывали?
— Нет, совместной молитвы не было, молились каждый отдельно. Ходили с мамой в церковь. Папа у меня был из староверов. В партию не вступал, но в храм не ходил. А праздники вместе отмечали всегда. Из детства вспоминаю, как яблоки летом освящали на Преображение — Второй Спас. Мама учила молиться. Я молилась сама, утренние молитвы я сама должна была прочитать и на ночь — тоже. И брат сам молился. Иконы у нас дома висели. И елку на Рождество ставили, несмотря на то что это было запрещено36. При этом окна завешивали, чтобы никто не увидел.
— Когда вы переехали в Ленинград?
— Летом 1941 года, когда война началась, мама работала в военном училище. Оно выезжало на лето в Красное Село. Нам дали домик в Ду-дергофе, прямо под горой. Там такая гора высокая, с которой немцы обстреливали Ленинград (Дудергофские высоты. — Ред.). Мы какое-то время летом там жили. А папа поехал куда-то далеко на окопы. И в этот момент поступило распоряжение, что военные должны уезжать. Маме предложили ехать с ними и разрешили взять с собой семью. Но во-первых, папы с нами не было, а во-вторых, я была против. «Мама, куда? — говорю. — Да что ты? Никуда мы не поедем!» В общем, мы остались.

Июль 1924 г.
Когда блокада37 38 началась, мы еще в Павловске находились. Нас сначала не бомбили, но через нас летали все время немецкие самолеты, делали налеты на Ленинград. Когда же начали бомбить, мы спрятались в маленьких окопчиках, которые, конечно, ни от чего не защищали: если бы попала бомба, то погибли бы. Один день мы там просидели, пока папа не вернулся. 8 сентября склады горели39, в город уже только по пропускам можно было попасть. Вот папа приехал, и мы наутро уехали в город уже вместе. Но мама с братом решили вернуться обратно, чтобы забрать кое-что нужное из дома, то ли керосин, то ли еще что-то. Рано утром мы все приехали в Ленинград, и мама с братом поехали обратно, а меня оставили. «Ты, — говорят,—трусиха, ты с нами не езжай». Папа на работу ушел. И вот их нет и нет, нет и нет... Уже вечер, папа с работы вернулся, отправился на Витебский вокзал, возвращается и говорит: «Отрезано!» Все, поезда больше не ходили. Я плачу, папа тоже нервничает. В общем, всю ночь не спали. Что делать? Мама с братом пропали! В пять часов утра вдруг звонок в дверь. Я открываю — брат. Спрашиваю: «А мама где?» «Мама идет потихоньку». Оказывается, они в Павловск доехали, взяли, что нужно, и пошли к вокзалу, а мост с дорогой к Павловску разбомбили. И поезда уже не могли ходить. Ну что делать? Они пошли в Пушкин пешком, нагруженные. Они же взяли что-то такое тяжелое с собой. Шли полями, на них урожаи хорошие, и морковка, и капуста, и все что угодно. Но им не до этого было. Вот они в Пушкин пришли, уже к вечеру. Брат сел, говорит: «Больше никуда не пойду. Что будет, то будет». Ему пятнадцать лет было. И они так сидят, ночь настала, темнота, зарево вокруг. И вдруг кричат: пришел поезд. Все бросились. Они не одни ведь там сидели, много скопилось народу. Удалось сесть в этот поезд — последний, который как-то проехал. И мама с братом приехали. Вот так мы остались в Ленинграде.
— Расскажите, как вы пережили блокаду.
— Приехав из Павловска, мы остановились у маминой знакомой, Александры Ивановны. Но вскоре нас пригласил к себе папин брат. Он с семьей жил на Петроградской стороне и позвал нас, опасаясь, что к нему заселят посторонних. В это время с окраин переселяли людей и ломали деревянные дома, чтобы пожары предотвратить. Ведь немцы стояли уже совсем на пороге. Вообще, мы с папиным братом не очень общались, не ссорились, но просто разные мы были люди. Его семья была обеспеченная, а мы такие... середнячки. Брат папе позвонил, и он согласился, хотя мама была против. Но в конце концов пришлось переехать на Петроградскую сторону. Комната, в которую нас поселили, не отапливалась. Папа сделал там буржуйку. Причем хозяин выказывал недовольство, там ведь мебель была, обстановка.
Вскоре папа умер. Он с нами не жил в этот период, потому что его предприятие было в Невском районе — очень далеко от нас. Он лишь изредка приходил к нам на квартиру брата. И последний раз мы встречались с папой как раз там. Это произошло в ноябре 1941 года, уже был жуткий мороз. Мы вышли вместе с ним, стояли на площади, ждали трамвай, расстались и больше не виделись. И вот долго его не было, мы с мамой, как раз перед днем Николая Чудотворца, в декабре сами пошли пешком к папе на работу. Морозище был ужасный. Брат остался, не мог идти уже от слабости. Пришли на папину работу, нам сообщили, что его забрали в больницу, а в больнице сказали, что он скончался. И мы даже не знаем, где он похоронен.
Так мы остались с мамой и братом. Я все время была на казарменном положении в институте, мы там вязали пуловеры, шарфы для армии.
В этот период Александра Ивановна, мамина знакомая, к которой мы сначала из Павловска приехали, совершила героический поступок. Она жила около Технологического института на Подольской улице, ближе к Обводному каналу. А мы — на Петроградской стороне. Так она пешком, в мороз (морозы были ужасные в том году!), пришла узнать, как мы устроились. Она застала маму с братом, и я как раз пришла из института. Александра Ивановна предложила нам вернуться к ней. А перед этим прошла бомбежка, в наш дом попала бомба, хотя и не в наш отсек. Но все равно были разбиты окна и выбиты стекла, было очень холодно. Мы и переехали снова на Подольскую улицу. через некоторое время Александра Ивановна умерла. В конце декабря стали по карточкам давать водку и пиво. Она пошла получать пиво, и что-то у нее в тару не поместилось, и она, чтобы не выливать такую ценность, на холоде выпила остаток. Пришла домой, у нее сильно заболело горло, и все — через несколько дней она умерла. Так мы остались в ее комнате втроем — я, мама и брат. В квартире было две комнаты, одну Александра Ивановна сдавала семье с маленьким ребенком, во второй — мы. Вскоре пришел управляющий домом и говорит: «Вы здесь не прописаны. Уезжайте куда хотите». А мы на прежнем месте выписались, а в той комнате не успели прописаться, и хозяйка квартиры умерла. Тогда нам эти соседи помогли: они прописали нас как бы на свою площадь. Так мы с ними вместе и жили, питались тоже вместе.
В январе 1942 года от голода умер брат. Это случилось дома, тело увезли, и где он похоронен, тоже неизвестно.
Мы остались с мамой вдвоем. Она работала в пищевом тресте — печатала для одного ресторана меню. Там ей давали за это тарелку супа. А потом она слегла от истощения и уже не могла ходить на работу. Была уже на пороге смерти. Но вот однажды мама мне говорит: «Попробуй сходить ко мне на работу, к начальнику. Может быть, он чего-нибудь даст». Это был большой ресторан на Садовой улице, сейчас там ресторан «Баку». Было начало февраля, я с трудом туда дошла. Сотрудницы мамы узнали меня: «Да что же вы за карточками не приходите? Карточки лежат вашей мамы». Я получила карточки, мы нашли магазин, где нам отоварили все прошедшие дни, и начальник еще дал нам мешочек манной крупы. И вот благодаря этому мама стала потихоньку поправляться.
А тем временем институт мой эвакуировался, а я осталась в Ленинграде.
— Почему вы с институтом не уехали?
— Так получилось, что я не смогла уехать. Когда блокада началась, в институте какое-то время еще были занятия, а к началу марта уже все преподаватели были без сил, не могли вести занятия, но я приходила в институт получать карточки. К тому моменту я на четвертый курс перешла. И вот я как-то пришла, а мне сказали, что 20 марта институт будут эвакуировать и если я хочу, то могу отоварить карточки, подготовиться и тоже уехать. Я все подготовила, пришла в институт, чтобы сдать документы, а институт уже уехал. Началось таяние льдов, и они раньше отправились. Но это, знаете, была Божия воля. Это счастье, что я с ними не уехала!
—Почему? Вы же остались в блокадном городе, среди голода, опасности, погибнуть могли.
— А вот так сложилось потом. Институт уехал и попал к немцам где-то около Кавказа, пришлось бежать в Ташкент или куда-то еще, я сейчас не помню. Меня это ничего не коснулось. Кроме того, мама еще слабенькая была, она бы не доехала.
А так у нас все образовалось. Поскольку институт уехал, мне надо было куда-то устраиваться, а рядом с нами была электростанция. Я слышала, что туда можно пойти разгружать вагоны. Я уже дистрофик была самый настоящий. И мама еле-еле живая. Но я пошла на станцию. Со мной поговорил начальник отдела кадров и сделал вывод, что разгружать вагоны я, конечно, не смогу. И вместо кого-то, кто собирался уезжать, меня взяли в отдел энергетики. Там были и свет, и тепло, и вода. На работе я все время проводила, можно сказать, на казарменном положении. Была в санбригаде. Видела налеты, обстрелы, в общем, все.
Мама вскоре после поправки тоже вышла на работу, встретила своего бывшего начальника, который ее пригласил к себе. Он был в это время директором школы медсестер, располагавшейся в Невском районе, очень далеко от нашего дома. Мама стала выполнять обязанности завхоза, и машинистки, и библиотекаря. Но главное — там были свет и тепло. А еще люди, которые жили рядом в том районе, держали огородики, и они маме давали немного продуктов. Ну, вот так и пережили.
Когда подошло лето, я жалела, конечно, что мне не удалось уехать вместе с институтом. Я же не знала в тот момент, как там и что. Я написала письмо Жданову39, что хочу вернуться в институт. Ведь с работы так просто не отпускали. Получила ответное письмо с разрешением уехать, и как раз в этот момент у меня украли паспорт. Вот опять я, значит, осталась.
— Видимо, надо было, чтобы вы остались...
— Да, да, да! И вы знаете, если бы я уехала, я бы уже не вернулась в Ленинград, потому что дом, в котором мы жили до войны в Павловске, немцы, когда начали наступать, то ли разобрали, то ли сожгли. В общем, возвращаться нам было бы некуда. А так мы с мамой остались в этой ленинградской квартире у знакомых, а вскоре мне предложили в этом же доме комнату. Это было чудо какое-то... Устроилось это так. Наши соседи, хотя они нас выручили в свое время и мы вместе жили, все же, понятно, не были заинтересованы в нашем присутствии в квартире. И видимо, они поговорили с управхозом, нет ли комнаты свободной. А внизу люди эвакуировались и была небольшая комнатка — тринадцать с половиной квадратных метров. Прихожу я как-то домой и встречаю управхоза. Она мне и говорит: «Хотите, я вам комнату дам?» А мне в этот момент было совершенно безразлично, потому что никаких мыслей о будущей жизни не было. Жили сегодняшним днем. Я говорю: «Ну ладно». И все. Я в ту комнату долго не могла попасть, с другим жильцом встретиться не получалось. Потом мы встретились, я открыла комнату и стала понемножечку туда вещи переносить, хотя у нас их почти и не было. Стала мебелью обставлять. На электростанции я доработала до того времени, как институт мой вернулся из эвакуации и я возобновила учебу. Тут уж пошла нормальная жизнь. И когда я уже окончила институт, мы с мамой переехали в эту комнату и прожили там, пока институт не построил дом, и мне там дали квартиру.
— Вы ходили в церковь во время блокады?
— Нет, во время блокады я церковь не посещала, потому что далеко было идти и сил не хватало, вообще ходить было трудно.
Однако праздники церковные как-то мы с мамой отмечали дома. Копили немножко продукты... Помню, Пасха была в апреле и как раз сильный налет был в эту ночь41. Мы с мамой сидели и думали, только бы успеть нам разговеться! Такая была ужасная ночь.
— Вы что же, постились?
— Нет, конечно. Какой пост?! Мяса мы не стали получать еще в октябре 1941 года, сразу после начала блокады его перестали давать по карточкам. Однако стояли штабелями рыбные консервы, вот вместо мяса их давали. Когда я на электростанции работала, то у меня карточка была служащая и еще давали дополнительные талоны. Мой начальник устроил меня в столовую, где кормили по первой категории. Я не помню уж, что там давали. Но, конечно, скоромного много там не было. Так, если кусочек масла... Мама далеко от меня жила, поэтому общались по воскресеньям, когда у меня не было дежурства, я к ней ездила на трамвае. Вот я, бывало, в течение недели откладываю по кусочку, чтобы взять с собой, чтобы вместе поесть, как в праздник. И к Пасхе также собирали какие-то кусочки, и праздновали.
А есть хотелось все время. Водку давали по талонам, мы ее, конечно, не пили, мама меняла ее у военных на хлеб или на шоколад. Американский шоколад у военных был, и они его 40 с удовольствием на водку меняли. Бывало, я приеду к маме, она уже выменяла шоколад — такая большая плитка, и вот мы покушаем с ней, потом ляжем спать, проснемся и опять покушаем шоколад. Да, вы знаете, голод вообще очень неприятная штука. Но никогда ничего не хотелось так, как хлеба, только хлеба! Никаких пирожных, ничего другого не хотелось... Вспоминался только хлеб. А он был одно время вообще не хлеб, это мякина какая-то, и кусочек в сто двадцать пять граммов.
—А вы молились?
— Я дома молилась. В блокаду, я говорю, в храмы не ходила. Потому что и морозы были жуткие, и большие расстояния. Невозможно было освоить эти расстояния. Поэтому молились только дома. Читали Евангелие и вообще литературу.
— Было страшно?
— Вы знаете, я вообще трусиха была. Конечно, я не то чтобы все время сидела и тряслась. Нет! Но все же боялась. Вот мама так себя вела, что как-то не чувствовалось, что она боится.
Но и естественная чувствительность в тех условиях уже была заморожена. Вот, расскажу, как-то я шла, а передо мной садик. И мне надо было идти через этот садик. И вижу, в калитке лежит полчеловека. Представляете? Полчеловека. Только верхняя часть. И я перешагнула и дальше пошла.
Конечно, человеческие чувства оставались, люди помогали друг другу. Но бывали случаи, к примеру, таскали друг у друга продуктовые карточки. У меня тоже как-то на станции, когда я спала, ночью украли карточки. Бывало всякое... Люди же. Надо же было выживать.
—Людмила Васильевна, а чего было больше — взаимопомощи или эгоизма? Сплачивались люди перед лицом общей беды или наоборот?
— Ну вот, на моем примере — помогли нам соседи, когда нас хотели из квартиры выселить. И мы вместе жили, и никаких не было разладов. То, что они потом договорились и нас устроили в другую квартиру, это можно понять. У них семья, ребенок. Хотя Александра Ивановна и говорила нам, что мы будем вместе жить до конца, однако не получилось. Вот и она нам помогла. Я думаю, что вообще люди помогали друг другу. Хотя и разные были случаи. Но всегда же есть и хорошее, и плохое. В целом, я считаю, в городе народ был добрый. И в воспоминаниях моих никакого ужаса уже нет. Конечно, все это страшно было. Но хорошее уже как-то застлало старое.
— Как ваша жизнь сложилась после войны?
— Когда институт вернулся из эвакуации, я снова пошла учиться. В 1944 году я стала опять в храм ходить — в основном в Никольский собор, потому что поближе было. А после института я попала на работу в Эстонию, в Кохтла-Ярве, где проработала два с половиной года. Там была русская церковь. Служили и на эстонском, и на русском языках. И располагалось это как раз недалеко от Пюхтиц. Но я, к сожалению, тогда не знала,

В Кохтла-Ярве. 1947 г.
что там есть монастырь недалеко, не слышала, что такое Пюхтицы. И как-то, помню, на Успение мне предложили поехать в монастырь (заметили, что я ходила в церковь). Но я в связи с занятостью работой не могла уехать. Лишь позже, когда вернулась в Ленинград, узнала, какую возможность упустила.
Ну а потом я уволилась оттуда и уехала в Ленинград, надеялась устроиться там на предприятие «Ленинградсланец», но планы мои не осуществились. И во всем этом тоже была Божия воля. Меня всю жизнь Господь вел. Оказавшись в Ленинграде без работы, я стала думать, что же делать. А я слышала, что где-то есть институт по разработке пластмассы. Я узнала телефон их отдела кадров, позвонила. Я ничего про этот институт не знала, только что там идет разработка пластмасс. Сама же говорю: «Я слышала, что вам нужны экономисты» (моей специальностью, полученной в институте, была — инженер-экономист с химическим уклоном). Мне отвечают: «Да. Откуда вы?» Я рассказала кратко о себе. Меня пригласили приехать. Пришла я в отдел кадров. Руководитель со мной побеседовал. Потом говорит: «Ну, посидите». Ушел. И через некоторое время возвращается с двумя моими соученицами по институту! Спрашивает их: «Вы эту барышню знаете?» Они меня увидели, конечно, бросились ко мне, стали мы обниматься, целоваться. А одна из них как раз увольнялась, и им нужен был экономист. Ну вот, я у них и устроилась. Проработала там двадцать пять лет. Но только экономистом я работала один год, а потом перешла на производство — работала сначала начальником смены, потом технологом и заместителем начальника цеха закончила.
В этом институте я получила квартиру, потому что у нас комнатка маленькая была. После войны ставили на очередь, но нас не ставили, так как у нас лишние полметра были. Но здесь я получила квартиру. По вредности работы на пенсию ушла с сорока пяти лет, но продолжала работать. Так было... Я одно хочу, а Господь меня по-другому устраивает...
Я ходила в церковь все время, но это не афишировала. Я никому не говорила, и никто меня не спрашивал. Но мне все в компартию вступить предлагали, а я говорила, что еще не готова. Вот так и прошла моя жизнь. В общем, я с Церковью не расставалась.
— Вы всегда ходили в Никольский собор?
— Нет. Одно время ходила в Духовную академию41, когда она открылась, потом и Алек-сандро-Невская Лавра открылась42 — я туда ездила, мне было удобнее добираться из дома.
— Были у вас какие-то друзья по храму?
— Конечно, знакомые были. И с духовенством общалась. Один священник знакомый, он вскоре стал епископом, крестил двух моих крестников. Для этого он приходил на дом — крестили на дому. Потому что их родители боялись.
Это был отец Иоанн (Иванов)43, он служил в храме Академии. Когда он стал епископом и его отправили в другой город — Киров (Вятка), я продолжала поддерживать с ним отношения, несколько раз ездила к нему, так как бывала в том городе в командировке. Там была одна церковь маленькая, на кладбище. Вот он там и служил, пока не скончался после операции. Еще часто, когда нужно было кого-то крестить, обращалась к отцу Иоанну Варфоломееву. Он служил в Александро-Невской Лавре. Меня просили крестить нелегально, иногда на дому крестили, а иногда непосредственно в церкви, но так, чтоб имен не записывать. Власти ведь требовали согласия родителей, записи, паспорта нужно было предъявлять. Отец Иоанн крестил тайно. Но и его перевели вдруг во Всеволожск — когда монастырь стал возрождаться, то светских батюшек (белое духовенство. — Ред.) распределили по приходам. А он вот попал во Всеволожск. Я туда к нему ездила тоже.
— То есть ваши знакомые знали, что вы верующая, а может быть, и сами были верующие?
— Да, мои знакомые, с кем я общалась вне работы, все были верующие. И не со всеми мы были знакомы по храму. Со школы, например, была моя приятельница и ее сестры, по работе знакомились, с кем-то жили рядом... Увы, сейчас никого не осталось... Но в жизни много чего было. Работа хорошая была, интересная. Так что я довольна.
— Людмила Васильевна, вы были свидетелем того, как в Павловске храмы закрывали. Вы не боялись, что так вообще все храмы закроют и религию искоренят? Или вы просто не задумывались об этом?
— Я, пожалуй, как-то и не задумывалась. Вернее, я не думала, что все храмы закроют. Ведь какая-то свобода была уже и тогда, при Сталине. Духовные семинария и академия работали, открылась Александро-Невская Лавра, храмы открывались44. Так что жизнь церковная шла... Но я не думала, что будет такая свобода, как сейчас.
Но при Хрущеве снова стали чувствовать гонения. В семинарию попасть было очень трудно, молодых туда старались не брать. Были случаи отречения. Вот Осипов45 — священник, преподаватель прекрасный был, читал лекции очень хорошо, его очень уважали. И вдруг он отрекся. В газетах было напечатано, что якобы он осознает, что был не прав, что говорил неправду. И стал он антирелигиозной пропагандой заниматься. Это был большой удар для Церкви. Потом говорили, что он потом осознал, покаялся, другие говорили, что нет, что он так и умер, не раскаявшись.
Было несколько случаев, что и студенты отрекались. Но это, я думаю, специально подосланные были. Поступили, а потом публично отказались. Вот такие случаи были. Семинарию хотели закрывать. Вообще, при Хрущеве начались гонения, церкви закрывали, священникам запрещали проповеди говорить — только по Евангелию, определенное время, и даже поначалу требовали в письменном виде подавать на просмотр.
Как-то раз отцу Василию Ермакову47, которого я знала, было сказано, чтобы он свои проповеди давал на проверку. Он отказался и вообще вел себя довольно дерзко. Поэтому его переводили из прихода в приход. Сначала он служил в Никольском соборе. через какое-то время стал 46 пользоваться большим авторитетом среди народа, и его перевели в церковь под названием Кулич и Пасха. Она, между прочим, во время войны работала. Построена церковь архитектором Львовым, был такой старинный архитектор, давнишний. Там церковь, как куличик, кругленькая, а рядом — колокольня, формой как пасха. На самом деле это церковь в честь Святой Троицы. Отца Василия туда направили. Это была окраина города, далеко. Он там служил какое-то время, но оттуда его опять перевели на Серафимовское кладбище, где служил уже довольно долго. Там же и его могила.
— Вы к нему ездили?
— Да, в церковь я к нему ездила, подходила под благословение и могилы своих близких на этом кладбище посещала.
В общем, при Хрущеве стало трудно. Налогами Церковь стали прижимать. А в последнее время вообще священника отстранили от хозяйственной работы. Он мог только заниматься своим — служить. А староста и весь остальной персонал — это были уже поставленные люди, и они вели свою политику47.
До того как наступил год празднования тысячелетия Крещения Руси, во времена Брежнева, может, немного меньше, но тоже церкви закрывались. Священников под разными предлогами отстраняли от службы — придирались к чему-нибудь. В церковь ходили такие «наблюдатели», которые следили, нет ли кого из их организации.
— А вы не боялись, что вас заметят и на работу сообщат?
— Я ходила, и все. Не боялась.
— На работе не было проблем из-за этого?
— Нет. Я сама непосредственно не сталкивалась с гонениями за веру. Меня лично никогда не преследовали, даже на работе, хотя я занимала ответственные должности. Знали, что я хожу в церковь, и все. Ну, в общем, меня не трогали. Они, конечно, знали, что я — верующий человек. Но ко мне все хорошо относились. И дирекция у нас была спокойная, никого не тревожила. Единственное, что меня все в партию вступить приглашали. Потому что я занимала такую должность, которую только партийный человек мог занимать. Я должна была быть в партии. Но я никак не соглашалась. В результате так и проработала до конца.
— А в комсомол вы вступали, когда учились в институте?
— Когда училась в институте, не вступала. Но был такой грех. Я вступила в комсомол, учась в школе. Причем мама даже не знала об этом. А вступила потому, что у них там было интересно. Все ребята собирались, и мне было интересно с ними. Из-за этого я и вступила. Никаких у меня идеологических мотивов для вступления, конечно, не было. Только папа об этом знал, а мама не знала. Папа говорил, чтобы я маме не сообщала, потому что она расстроится очень. Это было уже в конце школьной учебы — девятый или десятый класс, и в институт я пришла комсомолкой. Тогда я уже мучилась, все думала, как мне избавиться от этого билета. До войны все не удавалось. Правда, ни в какой комсомольской работе в институте я не участвовала — никуда меня не посылали и ничего не поручали. У них организация такая была — только взносы собирали с нас. Но вот когда война началась, я помню, что я билет куда-то дела, забросила его, можно сказать, уничтожила. А когда институт вернулся из эвакуации, я немножко боялась, что они поднимут документы и про меня вспомнят. Но никто про меня больше ничего не спрашивал. Так все и прошло.

В Санкт-Петербурге. Около 2008 г.
— Людмила Васильевна, вы сказали, что Бог вас вел через всю жизнь. И сюда — в «приют»48 тоже Он привел?
— Да. Конечно. Я уже не работала, мамы уже не было. Услышала по радио об этом месте и пришла сюда, хотя не думала в тот момент про себя. Я слышала, что приглашают волонтеров, и подумала: «Я могу бабушкам почитать и еще чем-нибудь помочь». Это был 2008 год, наверное, весной. И когда я сюда впервые пришла, то очень удивилась: никаких запахов, характерных для мест общего пользования, где всегда хлоркой пахнет или больницей. Здесь обстановка домашняя, у каждого своя комната, все очень чисто. Я стала ходить сюда помогать. А потом, когда однажды зимой сильно заболела, поняла, что мне уже тяжело одной жить — и помочь некому, если что-то случится. И перебралась сюда.
— Вы отсюда и в храм ходите?
— Здесь поблизости у нас два храма. Во-первых, Андреевский собор, самый близкий, а другой — Благовещения. Он очень старый, один из старинных храмов. Там мне очень нравится, хотя он подальше. Далеко ходить мне трудно. Но я постоянно смотрю передачи православного канала. По субботам всенощную передают. Я нахожусь как будто в храме и уже всех там знаю — и батюшек, и даже прихожан узнаю — стоят на своих местах. И мне нравится, потому что совершенно не рассеиваешься, очень хорошая служба идет. Так что я без службы не сижу. Когда могу — хожу в храм. Кроме этого, у нас в «приюте» есть небольшая часовенка, и один раз в месяц к нам приходит батюшка из Андреевского собора.
Протоиерей Владимир Тимаков

Трудно было искать священства в советское время, доподлинно зная, что одни священники расстреляны, другие — в ссылке, третьи участи своей ждут. У меня все было проще — я восхищался архиереем, который службами, наставлениями, молитвами и постом освящал весь свой жизненный путь.
Протоиерей Владимир Тимаков (род. 1929) — настоятель храма преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове (с 1990), настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона при ЦКБ РАН «Узкое» (Москва). В 1955 году рукоположен в сан священника. С 1955 по 1984 год служил в храме святителя Николая в Кузнецах в Москве, в 1984 году переведен в храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском (Москва). Кандидат богословия, почетный доктор богословия.
— Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, семье, воспитании.
— Помнить себя начал я лет с двух. Потому утверждаю это, что в возрасте трех с половиной лет из деревни, в которой я родился, меня увезли в Каменку-Белинскую (райцентр). С детством же моим у меня связано несколько ярчайших воспоминаний; помню их так ясно, будто происходило все только вчера. Опишу свой первый сознательный визит в Божий храм в селе Кевда (в двенадцати километрах от нашей деревни). Приехали мы туда в таком составе: мама, сестра, ныне здравствующая (на семь лет старше меня — сейчас ей девяносто один год — и поныне от всех недугов лечит себя земными поклонами), я и мой брат Алексей, мальчик, прямо сказать, «не от мира сего». Лично я не помню ни его капризов, ни строгости ко мне, ни единого скандала,
который бы он учинил по отношению к кому-либо. Не делал он этого не из трусости, не из угодничества, а исключительно потому, что с достоинством всегда себя вел. Как-то в игре брату как капитану команды обманом подсунули детишек. Во встречной же команде «случайно» оказались взрослые парни. Команда брата проиграла, но и в проигрыше он вел себя с необыкновенным достоинством. В сравнении с ним я выглядел последним сорванцом. Но вот необъяснимость: брат остался на кровавых полях войны, я же и поныне привитаю здесь, в земной юдоли.
Но возвращусь к описанию. Нас, детишек, привезла мама к священнику упомянутого села и усердствовала над тем, чтобы священник обратил внимание на ее любимцев — моих сестру и брата. Священник же почему-то изрек: «Эти-то ладно... вот у вас растет!» — и указал на меня. Я же был сорванцом из сорванцов. Мама этому весьма удивилась и к его словам отнеслась скептически. «Странно. — потом рассуждала она вслух,—а говорят еще, что он прозорливый!»
— Ваша мама, Мария Васильевна, была глубоко верующая. От нее вы переняли веру?
— Не скажу, что всецело от нее воспринял я веру, но и не без ее помощи. Вы знаете, конечно, слова Христа: «Не бывает пророк приятен в отечестве своем и в дому своем»49. В плену у убеждения этого был и я: «Что понимает она в науке?» — говорил я себе. Правда, необходимо отдать ей должное: она молилась по ночам. Еще она очень хорошо пела. Все это — следствие пребывания ее в монастыре. Ее сестра Татьяна, моя крестная, была инокиней, насельницей монастыря, расположенного где-то вблизи Каменки-Белинской. Каждое лето мама приезжала в монастырь к сестре. Там, по-видимому, было очень хорошее пение, которое мама слушала с упоением. В том и загадка вся: не имея музыкального образования, сложнейшие сольные номера знаменитых композиторов мама исполняла потрясающе красиво и с музыкальной точки зрения безупречно.
Она была простой крестьянкой, однако я позволю себе сказать кое-что о ее «неграмотности»: по приезде из деревни в райцентр (город Камен-ка-Белинская) какое-то время мы жили при школе, где работал мой отец. Как-то он срочно понадобился директору. Телефоны тогда были редкостью, поэтому директор лично пожаловал в наше жилище. Дав указания отцу, он повернулся к выходу. Стена с входной дверью вся была увешана иконами, среди которых особо выделялся Господень Крест. Прославленный директор, награжденный орденом Ленина, увидев иконы, просто оторопел (шел 1937 год, объявленный безбожным). Оправившись от шока, он повернулся к отцу и строго спросил: «что это?» Отец молчал. Мама же размеренным шагом с достоинством прошла мимо директора и, встав между стеной с иконами и директором, сказала: «Сергей Иванович (так его звали), вы что, забыли? Это — иконы и крест!» Произнесла это она столь убедительно, с таким достоинством, которого дотоле я в ней не замечал. После этих слов директор выскочил из квартиры как ошпаренный. Учитывая страшные атеистические годы, я поступок мамы расцениваю ныне как исповедничество. Потому и говорю, что формирование моей личности обходилось не без ее участия.
Однако решающую роль сыграла мама в одну из наших поездок в Пензу, что фактически изменило всю мою дальнейшую судьбу. Было это на Пасхальной седмице 1944 года. В Пензе, войдя в храм, мы были поражены неожиданностью — там служил архиерей епископ Кирилл (Поспелов)51. Облачен он был в изумительный саккос, который был повторением патриаршего 50 саккоса — красного бархата, с золотом. Никогда не видел я ничего подобного. Потому молился я тогда не на иконостас и иконы, а на архиерея. Это-то и не ускользнуло от мамы. Епископ Кирилл обычай имел после службы всех до единого благословлять. Мама со мною подошла к архиерею под благословение и вдруг спросила: «Владыка! А не нужен ли вам мальчик?» (явное свидетельство ее знакомства с архиерейской службой).
«Мальчики-то мне очень нужны, — сказал архиерей,— вот только не знаю, имею ли я право на то, чтобы они прислуживали мне на богослужении. Я узнаю и тогда скажу». Жили мы за восемьдесят километров от Пензы, посему наш следующий приезд в храм пришелся то ли на Преполовение Пятидесятницы, то ли еще на какой-то другой праздник, помню только, что было это еще на пасхальных днях. Подходим к архиерею; увидев нас, он говорит: «Где ж вы были? Я так вас искал!» Тут все и решилось. Владыка сразу же взял меня к себе келейником и назначил первым иподиаконом (чистая катастрофа!). что понимал я в богослужении, придя «от сохи»?
— А отец ваш, Александр Михайлович, тоже был верующим?
— Отец мой был верующим, но ровно настолько, чтобы, садясь за стол, молиться, равно как и, вставая из-за стола, он молился. Мать-то крепко была воспитана в церковном духе. Отец же — крестьянин, потом рабочий, соответственно, и молился «по рабоче-крестьянски», не задаваясь вопросами, не мучаясь проблемами. Бога он чтил. Нечто неожиданное открыл я для себя в зрелом возрасте, и это поразило меня: я никогда не слышал от него никакой ругани. Самое крепкое его ругательство, которое в сердцах он мог произнести: «Волк бы тебя не ел!» В общем-то, весьма забавная ругань — даже волк должен гнушаться тобой! Другой ругани я от него никогда не слышал. Это не значит, что я выгораживаю его. Его я очень любил, но он меня, однако, не всегда гладил по головке. Иногда вваливал, но всегда за дело!
— То есть вы из крестьянской семьи?
— Да. Но потом, когда мы переехали из деревни в город, отец завхозом работал.
—Я знаю, что ваша супруга, Фаина Николаевна, из семьи священника.
— Да, отец Николай Георгиевич Титов был сельским священником в подмосковном селе Ки-ясово под Каширой.
— Их семья подверглась преследованиям в советские годы?
— В 1930-е годы несколько раз приезжали из райцентра, чтобы отца Николая арестовать. Спас председатель Киясовского колхоза. При аресте обязательно должен был присутствовать представитель местной власти, в данном случае — председатель колхоза. Он же присутствовать при аресте наотрез отказался. «Не могу, — сказал он, — участвовать в аресте человека, у которого восемь человек детей, один другого меньше, они голодными останутся. Идите и забирайте. Я не пойду». Конечно, от него требовали присутствия и угрожали, но он проявил стойкость. Три раза приезжали с тем, чтобы священника арестовать, но так ни с чем и уезжали. Тяжелые моменты были и другого рода. Например, приедет с вечера машина (на которой, предполагается, отца Николая должны увезти), остановится перед окнами и освещает их, показывая, что за священником приехали. Супруга собирает ему вещи... Потрясения такого рода им приходилось переживать неоднократно. И все-таки его не взяли. Но потому только, что председатель колхоза порядочным и твердым оказался.
— Так он и служил всю жизнь в Киясове?
— Нет, в Киясове он прекратил служение. Требовали-то от него, чтобы он отказался от сана. Он же твердо заявил: «Этого я не сделаю. Я священник — и от сана не откажусь». Тогда потребовали отказаться от служения в киясовском храме. Здесь отец Николай, видимо, слабость проявил. «Отказываюсь, — написал, — служить в этом храме». После этого он уехал в Москву и устроился на работу. Во время войны, в 1943 году, его пригласили служить в село Среднее под Каширой. Храм небольшой, однако трехпрестольный. В церкви этой он прослужил до 1953 года, до конца своих дней.
— А когда архиерей решил вас при себе оставить и сказал об этом, у вас не возникло сомнений по этому поводу?
— В июле 1944 года владыка получил указ митрополита Ленинградского Алексия, Патриаршего Местоблюстителя, о своем переводе на Среднеазиатскую кафедру. Здесь-то владыка и предложил мне ехать с ним. У меня на этот счет даже раздумий не было. Наоборот, я необычайно обрадовался! Кроме ликования, в памяти моей больше не сохранилось ничего.
Все обстояло вот как: скончался Патриарх Сергий51. Местоблюститель Патриаршего престола Алексий (Симанский)52, будущий Патриарх, тут же перевел владыку Кирилла в Ташкент. А здесь, в Средней Азии, в пустыне между Джамбулом и Алма-Атой, ранее владыка провел в заключении ровно десять лет. Во время поездки в Алма-Ату он показал мне место своего заключения: на горизонте при взгляде из вагона видны были бараки, обнесенные колючей проволокой. Ни деревца, ни кустиков, только смотровые вышки, песок да палящие лучи среднеазиатского солнца. Это и была зона.
— Владыка Кирилл вам рассказывал, как его арестовали?
— Весьма скупо. Лично я обоснованно предполагаю, что причиной этому послужили его доблести —деятельность в пользу голодающих Поволжья. Вот как все было: во времена голода в Поволжье владыка (тогда протоиерей Леонид) был настоятелем собора в Саратове. Он развил такую бурную деятельность по сбору средств в пользу голодающих, что саратовские власти, увидев его необыкновенный пыл, сказали ему: «Делать тебе здесь нечего, направляем тебя в распоряжение Калинина»53. Приехав в Москву, протоиерей Леонид Поспелов сразу же отправился к Патриарху Тихону и сказал ему, что властями города Саратова он послан в распоряжение Калинина. Патриарх этому обрадовался: «Мы тоже, — сказал он,—делали сборы. Денег собрали много, передать же их голодающим не можем, связей с правительством у нас никаких нет. Теперь, надеюсь, в этом ты нам поможешь». Протоиерей Леонид Поспелов связался с властями, дали ему охрану и подводу, и, кажется, даже не одну, загрузили все собранное Патриархом и доставили в банк. Занявшись подсчетом, банк прекратил все прочие операции.
Ногин Виктор Павлович (1878-1924) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1893 по 1896 г. был рабочим на Богородско-Глу-ховской текстильной мануфактуре в городе Богородске (ныне Ногинск) Московской губернии.
Градополов Константин Васильевич (1904-1983) — советский спортсмен, киноактер.
Митрофорный протоиерей Владимир Воробьев — из крестьян, после окончания Саратовской духовной семинарии в 1899 г. рукоположен в диакона, затем в иерея. В 19101914 гг. обучался в Московском археологическом институте. В 1918-1924 и 1925-1930 гг. — настоятель храма свт. Николая в Плотниках на Арбате. В 1924-1925 гг. был подвергнут аресту; в 1930 г. приговорен к десяти годам концлагерей, до октября 1932 г. находился в Свирьлаге (город Лодейное Поле Ленинградской области), затем из-за болезни сердца до августа 1938 г. проживал в ссылке в городе Спасск-Та-тарский (ныне Болгар). Арестован в третий раз с обвинением в руководстве «поповско-монархической организацией» и др., заключен в Спасскую тюрьму. Здесь в отношении него было сфабриковано еще одно дело — об «антисоветской агитации» в тюрьме, за что ему грозил расстрел. Однако в это время отец Владимир скончался (похоронен вблизи тюрьмы).
СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) — крупнейший исправительно-трудовой лагерь 1920-1930-х гг., находившийся на территории Соловецких островов, где содержались как уголовники, так и политические заключенные.
Митрополит Филарет (Дроздов, 1782-1867) — с 1821 г. архиепископ, а с 1826 г. митрополит Московский и Коломенский, богослов и просветитель. В 1994 г. прославлен в лике святых.
Епископ Феодосий (Ганицкий, 1860-1937) — с 1920 г. епископ Коломенский и Бронницкий. Подвергался арестам в 1921-1924 и 1929-1933 гг. Скончался в селе Сушково Луховицкого уезда Рязанской губернии. В 2006 г. канонизирован, его имя включено в Собор святых новомучеников и исповедников Российских.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин, 1910-2006) — один из наиболее почитаемых современных старцев, бывший около сорока лет насельником Псково-Печерского монастыря. Рукоположен в иерея в Москве в 1945 г. В 1950 г. осужден на семь лет по статье «Антисоветская агитация». С 1957 г. служил на разных приходах Рязанской епархии. В этот период принял монашество и в 1967 г. определен для служения в Псково-Печерский монастырь. Отец Иоанн известен как пламенный проповедник и духовник, принимавший поток многочисленных паломников из разных мест.
В 1937 г. в Подмосковье были оборудованы спецобъекты НКВД — полигоны Бутовский и «Коммунарка», где производились расстрелы и захоронения. По имеющимся на сегодня документам, в Бутове с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. расстреляно 20 761 человек, из них 935 священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви. Бутовский полигон находился под охраной войск госбезопасности вплоть до 1995 г., когда его передали Русской
Православной Церкви. С декабря 1997 г. в здании администрации поселка Дрожжино, рядом со входом на полигон, клириками Московского Патриархата стали совершаться заупокойные службы. В 2007 г. рядом построен и освящен православный храм Новомучеников и Исповедников Российских.
Дубосеково — железнодорожная платформа в Волоколамском районе Московской области. Место знаменито тем, что неподалеку 16 ноября 1941 г. состоялось легендарное сражение между бойцами 2-го батальона 4-й роты 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова и десятками немецких танков, наступавших в направлении Москвы.
Протоиерей Николай Кречетов (род. 1934). Окончил Московский лесотехнический институт. В 1970-х гг. окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1973 г. рукоположен в сан диакона, с 1973 г. служил в храме свт. Николая в Кузнецах в Москве диаконом и протодиаконом. С 1992 г. — настоятель храма Спаса Преображения на Болвановке, с 1996 г. — благочинный Москворецкого округа Москвы.
Епископ Стефан (Никитин, 1895-1963) был одним из прихожан храма свт. Николая в Клённиках, затем — председателем приходского совета. За активную церковную деятельность в 1931 г. арестован, отбывал заключение в лагере до 1934 г. В 1935 г. тайно рукоположен в священники. В 1951 г. начал служить открыто в Ташкентской епархии. В 1959 г. пострижен в монашество; в 1960 г. — хиротонисан в епископа Можайского, викария Московской епархии, назначен председателем Хозяйственного управления Патриархии. С июля 1962 г. — временно управляющий Калужской епархией.
Митрофорный протоиерей Сергий Орлов (18901975) родился в селе Акулово и был сыном священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Получил как духовное, так и светское образование, был агрономом, при советской власти занимал ответственные посты, преподавал. В браке прожил всего год, овдовел. В возрасте 56 лет (в 1946 г.) рукоположен в диакона, затем в священника и определен настоятелем церкви села Акулова. В 1950 г. окончил Московскую духовную академию. Келейно пострижен в монашество с именем Серафим; проживал со своей сестрой, тайной инокиней. В 1974 г. вышел за штат, продолжая принимать верующих для бесед. Похоронен около Покровского храма близ могил отца и деда — бывших там же настоятелями.
Архимандрит Кирилл (Павлов, род. 1919) — один из наиболее известных старцев XX — начала XXI в., духовник Троице-Сергиевой Лавры, духовник Патриарха Алексия II. Автор многочисленных проповедей и поучений, широко общался с верующими по переписке (отправлял до 5 тыс. писем в год). Несколько лет назад перенес инсульт, лишивший его возможности двигаться и беседовать с людьми.
Протоиерей Евгений Тростин (1878-1967) — с 1942 г. настоятель Спасского храма села Петровское Щелковского района Московской области. Принимал для духовного совета и наставления множество людей из разных уголков России.
Протоиерей Алексей Резухин (1921-1999) родился в Вологде в семье военного; в 1942 г. призван в армию, в 1945 г. поступил в Богословский институт в Москве, в 1947 г. рукоположен в диакона и священника. Служил в храмах Зарайска (1947-1949), Москвы (1949-1950), Костромы (1950-1954), в Тульском Всехсвятском кафедральном соборе (1954-1978), с 1978 г. был настоятелем Успенской церкви города Богородицка Тульской области.
Иерей Тихон Кречетов (род. 1966) — сын протоиерея Валериана Кречетова, клирик Марфо-Мариинской обители в Москве.
Протоиерей Федор Кречетов (род. 1967) — сын протоиерея Валериана Кречетова, настоятель Патриаршего подворья, храма вмч. Георгия Победоносца в Грузинах (Москва).
Скурат Константин Ефимович (род. 1929) — с 1955 г. преподаватель ряда московских духовных школ, магистр богословия (1970), доктор церковной истории (1978), заслуженный профессор МДА.
Остапов Даниил Андреевич (1894-1975) — личный секретарь и келейник Патриарха Алексия I (Симан-ского), с 1956 г. — заместитель председателя хозяйственного управления Московской Патриархии.
Патриарх Алексий I (Симанский, 1877-1970) занимал Московский Патриарший престол с 4 февраля 1945 г. до своей кончины 17 апреля 1970 г.
Протоиерей Николай Голубцов (1900-1963) родился в семье профессора МДА А. П. Голубцова. По образованию агроном-полевод. В 1949 г. сдал экзамены за курс Московской духовной семинарии, рукоположен в диакона и священника. Служил в московской церкви Ризоположения на Донской улице и в Малом соборе Донского монастыря. Среди духовных чад отца Николая было много интеллигенции.
Храм Спасо-Преображения в Переделкине с 1952 по 1975 г. — подворье Троице-Сергиевой Лавры, с 1975 по 1991 г. — подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. С 1991 г. — Патриаршее подворье.
Интервью записано летом 2013 г.
Микоян Артем Иванович (1905-1970) — авиаконструктор, брат Микояна Анастаса Ивановича, советского государственного и политического деятеля.
Епископ Арсений (Жадановский, 1874-1937) — из духовного сословия, с 1902 г. иеромонах, с 1906 г. наместник
чудова монастыря в Москве, который (во многом благодаря ему) стал одним из центров духовного просвещения. В 1914 г. хиротонисан в епископа Серпуховского, викария Московской епархии. С 1918 по 1927 г. проживал в разных местах — при церквях и монастырях. Не принял декларацию митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 г. С 1931 по 1933 г. три раза подвергался арестам. Жил в дачном поселке Котельники под Москвой, тайно служил и принимал духовных чад. 14 апреля 1937 г. снова арестован и вскоре расстрелян на Бутовском полигоне.
Отец Арсений (1894-1975) — подвижник XX в., чье мирское имя не установлено и полная биография неизвестна. Книга о нем, составленная на основе его собственных воспоминаний и записок духовных чад, была переиздана со значительными дополнениями несколько раз. По окончании Московского университета он подвизался в Опти-ной пустыни, был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонахи. Служил в одном из храмов Москвы, несколько раз подвергался арестам, ссылкам, а в начале 1940-х гг. находился в лагере особого режима. С 1958 г., после освобождения, проживал в Ростове Великом, где и скончался. Могила его неизвестна.
Архимандрит Тихон (Шевкунов, род. 1958) — наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, главный редактор интернет-портала pravoslavie.ru. В 1982 г. окончил ВГИК (сценарный факультет).
Третьяков Николай Николаевич (1922-2003) — искусствовед, преподаватель ряда вузов Москвы. С 1950-х гг. до последних дней жизни Николай Николаевич не просто преподавал теорию и историю искусства, а был проповедником Православия в студенческой среде.
Андропов Юрий Владимирович (1914-1984) — советский государственный и политический деятель. Председатель Комитета государственной безопасности СССР (19671982), с 1982 г. — генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1983 г. — председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Протоиерей Николай Гурьянов (1909-2002) — один из наиболее почитаемых старцев XX в. В 1930-е гг. отбывал заключение в тюрьме и лагере. В 1942 г. рукоположен в священника целибатом. В 1943-1958 гг. — настоятель Никольского храма в селе Гегобросты Паневежиского благочиния Виленско-Литовской епархии. С 1956 г. — протоиерей. Окончил заочно Ленинградскую духовную семинарию и академию. С 1958 г. до самой кончины был настоятелем храма свт. Николая на острове Талабск (Залита) на Псковском озере (Псковская епархия). Именно сюда к нему съезжались многочисленные паломники, ищущие старческого совета.
Миланский эдикт — документ, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи и разрешавший исповедовать христианство. Составлен императорами Константином и Ликинием в 312 или 313 г.
Свято-Никольская церковь при Павловском гарнизоне существовала с 1840 г. Время постройки последнего здания храма в русском стиле — 1900-1902 гг. Закрыта в 1933 г., помещение использовалось для мастерских по ремонту бронетехники. В настоящее время (с 1991 г.) храм восстановлен.
Церковь Марии Магдалины построена в 17811784 гг. на средства императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I), в 1797 г. при ней основана богадельня под названием «Церковный инвалид». Закрыта в 1932 г. В помещении размещались обувная фабрика «Спартак», фабрика «Точмех», затем «Металлоигрушка». В настоящее время храм восстановлен.
Знаменская церковь является старейшим сооружением Царскосельского дворцово-паркового ансамбля, первым каменным зданием Царского Села. Сооружена в 17341747 гг. К началу Великой Отечественной войны осталась единственной действующей в городе. С 1943 по 1991 г. храм был закрыт. В настоящее время восстановлен.
Запрет на новогодние елки просуществовал с декабря 1929 по декабрь 1935 г.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. до 27 января 1944 г.
В результате налетов германской авиации 8 и 10 сентября 1941 г. на Бадаевских складах в Ленинграде сгорело около сорока помещений с продовольствием.
Жданов Андрей Александрович (1896-1948) — государственный и партийный деятель СССР. В 1938-1947 гг. председатель Верховного Совета РСФСР, в годы блокады — член Военного совета Северо-Западного направления и Военного совета Ленинградского фронта.
Весь день 4 апреля 1942 г. шел обстрел Ленинграда. В пасхальную ночь, с 4 на 5 апреля, город подвергся особо жестокой бомбардировке, в которой участвовало 132 самолета. Пасхальное богослужение было перенесено на раннее утро.
Ленинградская духовная академия учреждена 1 сентября 1946 г., восстановлена на базе Богословско-пастырских курсов, работавших в 1945/46 учебном году. Она так же, как и до закрытия в 1918 г., находилась на территории Алексан-дро-Невской Лавры. Здесь была восстановлена домовая церковь, бывшая семинарская.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра упразднена в 1918 г., но фактически действовала до 1932 г., когда в ночь на 18 февраля были арестованы все монашествующие. В 1957 г. возобновлены богослужения в Троицком соборе, ставшем приходским. Монастырская жизнь восстановлена в 1996-1997 гг.
Епископ Иоанн (Иванов, 1912-1966) — родился в Пскове в семье рабочего. С 1938 по 1941 г. состоял на гражданской службе. В 1943 г. рукоположен в диакона и священника. Во время войны был связан с партизанским движением. Награжден орденом Красного Знамени. В 1945 г. арестован, освобожден в 1946 г. В 1948 г. переведен в Ленинград, служил в разных церквях города. В 1958 г. принял монашество, возведен в сан игумена. С 1962 по 1966 г. — епископ Кировский и Слободской.
Сталинская политика гонений на Церковь 1930-х гг., которая привела к закрытию подавляющего большинства храмов, всех монастырей и духовных учебных заведений, сменилась в 1943 г. более мягким курсом. Было разрешено собрать Поместный собор и выбрать Патриарха, открыть ряд храмов, учебные заведения и т. п. Перемена государственной политики по отношению к Церкви была вызвана рядом причин, среди которых немаловажную роль сыграло желание Сталина и его окружения использовать Московскую Патриархию во внешней политике СССР.
Осипов Александр Александрович (1911-1957). Родился в Ревеле (Таллине). Окончил богословский факультет Тартуского университета. В 1935 г. принял священнический сан. С 1946 г. — в Ленинградской духовной академии и семинарии, некоторое время исполнял обязанности ректора, был инспектором, преподавал. В конце 40-х гг. завербован КГБ в качестве осведомителя. 2 декабря 1959 г. написал заявление о своем уходе из Православной Церкви. Стал активным пропагандистом атеизма, написал несколько резко антицерковных книг. В эпитафии, высеченной на надгробном камне, которую Осипов сочинил себе сам, он называет себя атеистом.
Митрофорный протоиерей Василий Ермаков (1927-2007) — один из самых авторитетных петербургских священнослужителей последних десятилетий. Родился в городе Волхове. В период оккупации Волхова был отправлен в лагерь в Эстонии, где пробыл с июля по октябрь 1943 г. До конца войны вместе с Алексеем Риди-гером служил иподиаконом у епископа Нарвского Павла и одновременно работал на частной фабрике. Окончил Ленинградскую семинарию и духовную академию. В 1953 г. рукоположен во иерея и назначен клириком Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде. В 1976 г. переведен в Свято-Троицкую церковь Кулич и Пасха, с 1981 г. был настоятелем храма прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.
Ужесточение антирелигиозной политики началось с постановления ЦК КПСС, принятого 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». С 1961 г. введен учет и контроль всех таинств в церкви (запись паспортных данных верующих), священник лишался каких-либо прав в общине, перестал возглавлять церковную «двадцатку» (исполнительный орган прихода), руководство которой перешло к светскому старосте. «Двадцатка» имела право расторгнуть договор со священником без объяснения причин. Повышены налоги на землю и на изготовление свечей. Удар был нанесен и по системе образования. В результате хрущевских административных мер из восьми семинарий осталось три.
«Приют» представляет собой две квартиры, принадлежащие учредителям Семеновского благотворительного общества (Общества потомков П. П. Семенова-Тян-Шан-ского), которые решили продолжить дореволюционную семейную традицию призрения одиноких пожилых женщин. Насельницы «приюта», основанного в 1999 г., проживают в этих квартирах временно или постоянно, находясь в благожелательной семейно-церковной обстановке с полным уходом и пансионом.
См.: Лк. 4: 24; Мф. 13: 57.
Архиепископ Кирилл (Поспелов, 1876-1953) — с 1906 г. служил священником сначала в Баку, затем в Саратове, где был благочинным церквей города, ключарем кафедрального собора. В 1921 г., состоя членом Саратовского комитета помощи голодающим, собрал значительные средства в Саратовской губернии и на Украине. С 1934 г. около десяти лет находился в лагере для заключенных в Казахстане. Затем проживал в Актюбинске. В 1944 г. принял монашество. С 1 апреля 1944 г. — епископ Пензенский и Саранский, с июля того же года — Ташкентский и Среднеазиатский. С 20 июня 1946 г. — епископ Ивановский и Шуйский, с 27 января 1947 г. вновь епископ Пензенский и Саранский, в феврале 1951 г. возведен в сан архиепископа.
Святейший Патриарх Сергий (Страгородский) скончался 15 мая 1944 г.
Митрополит Алексий (Симанский) после кончины Патриарха Сергия (Страгородского) занимал должность Местоблюстителя Патриаршего престола до своего избрания Патриархом 2 февраля 1945 г.
Калинин Михаил Иванович (1875-1946), советский государственный и партийный деятель. С 1919 г. — председатель ВЦИК, в 1922-1938 гг. — один из председателей ЦИК СССР. Возглавлял созданную в связи с голодом 1921-1922 гг. Центральную комиссию помощи голодающим (ЦК Помгол).
Калинин по достоинству оценил присланного в его распоряжение священника и дал ему новое поручение, сказав: «Делать тебе здесь нечего, деньги есть не будешь, поезжай на Украину, и все деньги, которые соберешь, обращай в хлеб». Отец Леонид отправился на Украину. Там выступал на заводах, фабриках, стадионах, в театрах... Везде его призыв помочь голодающим имел необыкновенный отклик. На собранные средства он покупал муку. С Украины будущий владыка привез тринадцать вагонов муки. Два вагона саратовские власти предоставили в его распоряжение. Хочется надеяться, что и остальные вагоны с хлебом дошли до голодающих.
В 1934 году протоиерей Леонид был арестован, причем осужден как враг народа (активные деятели Советам были не нужны). Арест его был специально подстроен. Один из алтарников, проводив его после службы до квартиры, прощаясь, сказал: «Отец Леонид, я вам интереснейшую книгу принес! Такую книгу!» — и положил ее (книгу эту) завернутой в газету на стол. Вся вина будущего архиерея в том только и состояла, что он на это как бы свое согласие дал, сказав: «Хорошо, посмотрю я ее». В том весь и парадокс, что отец Леонид даже не коснулся этой книги, даже не заглянул в нее. А вот после ухода алтарника сразу же нагрянули энкавэдэшники с обыском, нашли книгу лежащей на столе. За нее-то и дали ему десять лет. Осудили как врага народа.
На вопрос отца Леонида: «Какой же я враг народа, если ему, народу этому, я тринадцать вагонов хлеба во время голода привез?» — ответом было: «Троцкий и Бухарин больше заслуг имели, а оказались врагами».
Весьма знаменателен выход протоиерея Леонида Поспелова из лагеря. Пришел срок освобождения, и тут оказалось, что ехать ему совершенно некуда, — из памяти выветрились адреса всех родственников и знакомых, никого отец Леонид не мог вспомнить, всех потерял. Потому на объявление о свободе он сказал, что никуда не уйдет, и отказался покинуть лагерь. Этим отец Леонид немало озадачил лагерное руководство — выходило, что лагерь более походит на дом отдыха, чем на место заключения, а это грозило тем, что из центра последует ужесточение режима. Проблема решилась, когда другой арестант, у которого приближался срок освобождения, с условием сокращения его срока согласился взять будущего архиерея с собой в Актюбинск. Их выпустили. Отцу Леониду пришлось, однако, пережить много и других невзгод. Прежде всего, в поезде его обокрали. Какая одежда у заключенного? Но и на нее польстились, оставили его лишь в нижнем белье. В Актюбинске протоиерей Леонид Поспелов устроился работать ночным конюхом при больнице, апартаментами ему служила конюшня, спал он на лошадиной шкуре. Подвергался насмешкам.
Однажды из обрывка газеты, поднятого на улице, отец Леонид узнал об избрании Патриарха1. Среди отцов Собора, участвовавших в избрании, его заинтересовал архиепископ Днепропетровский Андрей2. Протоиерей Леонид написал ему письмо, предположив, что он, вероятно, является его бывшим сослужителем по Саратовскому кафедральному собору, принявшим монашество с именем Андрей. Письмо было примерно следующего содержания: «Пишу наугад, но если Вы, Владыка, тот Андрей, который в прошлом служил в Саратовском кафедральном соборе и если Ваша фамилия Комаров, то знайте, что бывший Ваш настоятель сейчас в Актюбинске работает ночным конюхом, спит в конюшне на лошадиной шкуре, подушкой ему служит конский хвост».
Письмо нашло своего адресата. через неделю отцу Леониду пришел перевод на тысячу рублей, затем еще два перевода с приглашением срочно ехать к владыке Андрею на дачу. Сам же архиепископ Днепропетровский выехал к Патриарху с докладом о нем. Тут же протоиерею Леониду пришла «молния» из Москвы — Патриарх сам требовал его срочного приезда.
Отец Леонид прибыл в Москву на Страстной седмице, тут же принял монашеский постриг с именем Кирилл, срочно над ним было совершено наречение, и он был хиротонисан во епископа. Совершилось все на Страстной седмице, на Пасху же он уже служил в Пензенском кафедральном соборе.
В июле того же года указом Патриаршего Местоблюстителя епископ Кирилл был переведен на Среднеазиатскую кафедру. Первоначально перевод этот владыка расценил как новую ссылку, потому как назначен был в те места, где был в ссылке. Но потом кафедру эту он очень полюбил. Получив новое назначение, тут же спросил меня, поеду ли я с ним в Ташкент. «Хоть на край света, владыка,—ответил я,—только бы побыстрее».
—А вы в этот момент понимали уже, что хотите стать священником?
— О священстве в это время я не помышлял. Мне просто очень хотелось быть около владыки.
Бесспорно, однако, что с момента-то этого, собственно, и началось мое воцерковление. И вот почему и как.
Жизнь архиерея (вся причем) проходила на моих глазах. Неразлучен я был с ним фактически в течение суток. Утренние и вечерние правила совершали мы вместе, оставлял его только на ночную молитву, которая продолжалась до рассвета. Вся религиозная жизнь архиерея проходила, в общем-то, перед очами моими. Это-то и не могло пройти бесследно. Потихонечку, конечно, но я впитывал в себя пример его жизни. Как-то владыка проницательно сказал мне: «Ты любишь храм, это тебя спасет». Храм я действительно любил. Как только начиналась служба, я ликовал. Это не значит, конечно, что я уже научился молиться и молитва влекла меня в храм. Нет... Просто я был мальчиком при архиерее. Красоваться хотелось, ве-личаться-то перед народом в красивой церковной одежде, ну и девочкам хотелось нравиться. Но вместе с тем была у меня и любовь к храму, к богослужению. Хотя много пустого примешивалось, была, однако, и здоровая струя — за службой я никогда не уставал. Подметив это, архиерей и сказал мне: «Тебя спасет то, что ты любишь Божий храм». Это, пожалуй, и есть основной момент в моем воцерковлении. Не сразу, конечно. потихонечку, но врачевался, однако, мой строптивый нрав. Основной, помимо
Благодати Божией, конечно, созидательной силой, «немощная врачующей», стал пример жизни архиерея и моя преданность ему. Пример живой веры даже для такого истукана, как я, не мог пройти бесследно.
— Когда вы к владыке поступили, продолжали в школу ходить?
— Когда мы жили в Ташкенте, я учился в школе. Но мы много разъезжали, приходилось наверстывать, и репетитора мне нанимали, приходилось и экстерном сдавать.
— А как в школе относились к тому, что вы в храме прислуживаете?
— В Ташкенте трудностей не было, многие преподаватели были преданными владыке, да и сам я повзрослел. Трудности в школе касались моего детства (еще до владыки), когда насмехались над верой, но только тогда. Опишу один из моментов (второй-третий класс). Шел 1937 год, объявленный атеистическим. У меня, сорванца, на рубашке вечно недоставало пуговиц, потому как я постоянно участвовал в баталиях. Невзирая на это, крестик на шнурочке я носил. Как ученика-хулигана, учительница специально лишала меня «мужской солидарности» — сажала так, что рядом со мной за партой — девочка, впереди — девочка, сзади — девочка. В моменты, когда наступала тишина (писали диктант, решали задачи), девочка, сидящая позади меня, подкрадывалась и, за шнурочек вытянув крест, на весь класс кричала: «Крест!» Я оборачивался к ней, в этот момент девочка, сидящая впереди меня, дергала меня за ухо или за волосы. Я оборачивался к ней, тогда девочка, сидящая со мною рядом, кулачком своим изо всей силы била меня в бок. Терпение мое на этом обычно иссякало, я вставал, подходил к каждой девчушке и вваливал от души. Совершалось все под аккомпанемент ревущего класса. Приговора учительницы я не ждал, забирал книги и уходил за родителями — все равно отправят, лучше уж самому проявить инициативу. Хулиганом среди одноклассников слыл еще и потому, что я носил крест.
Правда, смалодушничал однажды. Пуговиц на рубашке, как уже упоминал, вечно у меня недоставало, крест укрыть было нечем — ворот раскрыт. Как-то снял я крестик и положил его в карман. А карманы-то? В них одни дыры. Сказать короче, крест я потерял. Так ведь и по сей день покоя себе не нахожу — смалодушничал.
Такие трудности вот в детстве мне переживать приходилось. Еще «попом» меня звали, но это не обида, а провозвестие. Звали еще и «монахом», но это уж совсем невпопад. Из меня монах никакой. Так проходила моя юность.
Когда я к архиерею приблизился, все радикально изменилось... С какими личностями общаться приходилось! Патриарха (Алексия I) увидел, с виднейшими иерархами общался, «барыни» (которые в прошлом высший свет составляли) владыку посещали. Торжественность и простота, величие и скромность у них в единстве сочетались. И это тогда, когда крушение России к духовной жизни их привело. Не потерянность, не обида, а любовь и доброта их лица озаряли. чистотой и одухотворенностью необыкновенной веяло от них. И я это видел. Правда, и таких видел, которые ночью к архиерею приходили, которые и имени-то не имели, а только клички, — эн-кавэдэшников. Приходили для того только, чтобы навязать омерзительные условия Церкви. Ничего противного для Церкви епископ Кирилл от них, естественно, не принимал, однако делать это было нелегко. Владыка справлялся как-то, все переводил на патриотизм. Здесь-то вот даже у эн-кавэдэшников ярость угасала. Владыка по сути своей был из патриотов патриот, потому патриотические идеи весьма умело в жизнь претворял. Шла война, владыка весьма часто с живым словом в поддержку фронта выступал, делал сборы. Этим Отчизне помогал и ярость энкавэдэшни-ков усмирял.
— Отец Владимир, вы сказали, что, когда поехали за владыкой Кириллом в Ташкент, вы еще не думали, что хотите стать священником. А когда это решение пришло?
— Мысль о священстве пришла ко мне значительно позже — только по окончании академии, да и то после глубокого раздумья. У меня была возможность стать преподавателем, но я избрал священство. Отношу это не столько к своему выбору, сколько к Промыслу Божию. Относительно избрания той или иной профессии возможны решения: «я стану врачом», «я стану инженером» или «я стану юристом». Со священством такого по самой сути не должно быть, подходить к этому должно еще и как к смотрению Божию, ибо нельзя расценивать священство как дело только человеческое.
—Ну, желание должно быть, по крайней мере?
— Прочитайте «Шесть слов о священстве» святителя Иоанна Златоуста. Не желание тогда возникнет, а оторопь возьмет, к тому же само время может властно о себе заявить: трудно было искать священства в советское время, доподлинно зная, что одни священники расстреляны, другие — в ссылке, третьи участи своей ждут. Желать священства в такое время трудно. У меня все было проще — я просто восхищался архиереем, который службами, наставлениями, молитвами и постом освящал весь свой жизненный путь. Среднеазиатская кафедра была обширной, состояла из пяти республик. Поэтому дел у архиерея было невпроворот. Он целый день принимал людей, работал. Вечером же я прочитывал молитвенное правило (оно было немалое) и оставлял его на молитве одного. Приготовив ему постель, я ложился спать. Владыка же до рассвета молился и, сказав: «Слава Тебе, показавшему нам Свет», ложился. Утром — опять за дела.
Слева: во время учебы в семинарии
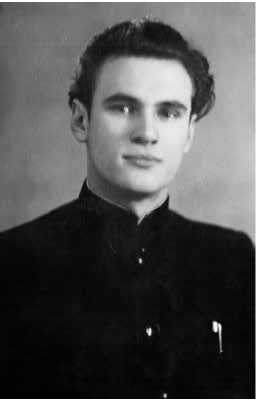
Внизу: с семьей — матушкой Фаиной Николаевной, сыновьями Валентином и Алексеем, дочерью Ольгой. Начало 1960-х гг.

Так только и должно относиться к священству. Кроме всего, священство есть Божий зов. В жизненных обстоятельствах должно голос Его расслышать, а после этого чуткость и готовность проявлять во всем, «творить волю Его». Просто добиться священства не трудно, но в этом случае человек уже инуде57 священство примет, но тогда, по слову Господа, он «тать будет и разбойник», а не «пастырь овцам»58. Потому как священство есть Божие смотрение. Священником в том только случае будешь, если благодать Божию, полученную в рукоположении, молитвою ревностно взращивать будешь. Без этого (молитвы и жертвенности) священника нет, ремесленник будет... но к священнику такому и идти не захочется. И зависит это не от умственных способностей (хотя и они при этом нужны), а от присутствия в сердце Духа Святого Божия.
— Отец Владимир, вы довольно подробно рассказали про владыку Кирилла (Поспелова). А кто еще из этого уже ушедшего поколения произвел на вас особое впечатление?
— Колоритнейших личностей перед моими очами прошло немало, сосредоточусь только на некоторых.
С 1947 года инспектором Московской духовной семинарии и академии был архимандрит 3 4
Вениамин (Милов)5. Многих ученых мужей за время учебы довелось мне слышать, он же читал свой курс иначе: не только содержанием, но и самим тембром голоса буквально к себе приковывал, читал он совершенно необыкновенно. Передать это сложно, просто шла беседа от сердца к сердцу, было тихое журчание речи, в которой — да, мысль выражалась, но мысль эта насквозь была одухотворенной. Это был язык любви. Слова ложились прямо на сердце, оторваться было нельзя. По окончании лекции не радость от звонка посещала, а грусть. Общался он со студентами не поднимая глаз: длинные ресницы у него всегда были опущены. Я никогда не видел его глаз. Весь его облик свидетельствовал о том, что он — сама скромность.
Я тогда же весьма заинтересовался его личностью, когда же больше о нем узнал, был поражен — нет, иначе сущность должно выразить: был потрясен до основания узнанным о нем.
Будучи инспектором академии, он был еще и насельником Троице-Сергиевой Лавры. И конечно же, нес свое монашеское послушание по монастырю и не формально к этому относился, а исполнял послушание от и до. Ни от чего не отказывался, все нес, все исполнял. Но и в самой семинарии и академии помимо лекций он как инспектор еще и за учебную, и за хозяйственную часть ответственность нес. Однако самое удивительное, если не сказать потрясающее, впереди.
В давние времена, помнится, еще в Ташкенте, некто со знанием дела спросил меня: «Кто, по-твоему, самый злейший враг для советской власти?» Не рассчитывая на мой правильный ответ, вопрошавший сам же и ответил: «Святой». Много времени спустя, по зрелом размышлении, я понял, что все так именно и обстоит. Пример с архимандритом Вениамином полностью подтверждает ответ. По окончании насыщенного трудового дня, как правило, к отцу Вениамину в келью приходили следователи НКВД (или его вызывали), обычно на целую ночь. Его расспрашивали, с ним беседовали, ему угрожали, и все с одной целью — не давать ему спать. Под утро его отпускали. Энкавэдэшники менялись. Удавалось ли ему в оставшиеся минуты поспать, этого я не знаю. Истязание такое совершалось из ночи в ночь, из недели в неделю, из месяца в месяц.
Открытие такое для меня было сущим потрясением. Совершалось это в бытность его инспектором постоянно, пока, наконец, в феврале 1949 года его не вызвали и больше не отпустили. Выслали в Казахстан, где он пробыл до 1954 года. Когда он вернулся, Патриарх Алексий I в феврале 1955 года облек его епископским саном и определил на Саратовскую кафедру. В ответной речи при вручении жезла он пророчески предрек: «Мне недолго осталось пребывать в этом мире, епископство мне обещано под конец жизни».
Ушел из этого мира владыка Вениамин при загадочных обстоятельствах. Указывали даже на споспешника смерти — келейника, но экспертизу Советы не проводили. Жизнь отца Вениамина (потом владыки) была выражением святости. Рассказать об этом сложно. Святость можно только прочувствовать, причем, разумеется, только при личной встрече.
Упомянуть могу еще и о другой личности — святителе Луке (Войно-Ясенецком)6. Правда, видел его я всего два раза, да и то когда еще был юношей. Естественно, не со мной встречался святитель Лука, а с архиереем моим, но я-то присутствовал при этом. Первое впечатление: это пророк. Устрашить его было нельзя. Говорил убедительно и авторитетно. Не нагло, нет, может быть, властно. Весь вид его был — стояние за Божию правду. Сказать иначе, владыка Лука был колосс. Будучи архиереем, он был еще и хирургом, перед сложными операциями он уходил молиться. Операции делал наисложнейшие, исход их всегда был положительный. Впрочем, о владыке Луке написаны книги, посему воспоминания мои к уже написанному вряд ли чего добавят.
Необходимо упомянуть еще об одной личности. В год поступления моего в семинарию, в 1947-м, я удостоился быть слушателем изумительнейшей проповеди. В Россию приехал Илия (Карам), митрополит Ливанских гор61. Он прибыл в Россию с необычной миссией — не за милостыней, за которой с Востока в Россию приезжали церковные деятели, митрополит Илия сам привез дары Казанской иконе Пресвятой Богородицы. По его словам, он беззаветно любил Россию (хотя сам — араб) и переживал войну России с немцами как угрозу не только России, 7 но вообще Православию. В своей проповеди митрополит Илия поведал (слышал я лично) о том, как в момент, когда подступили немцы к Москве, он слезно молился перед Казанской иконой Божией Матери — не просто молился, а требовал от Нее, чтобы Матерь Божия спасла Россию. (И такая молитва, оказывается, возможна!) На усердную, дерзновенную молитву от иконы последовал голос: «Россия будет спасена». Победой России завершилась война. Митрополит Илия (Карам) за тем и пожаловал в Россию, чтобы преподнести Казанской иконе обещанные им дары. Но выявилось неодолимое препятствие — прославленная икона находилась в Ленинграде в Казанском соборе, в котором тогда размещался музей истории религии и атеизма. Патриарх и его окружение оказались в трудном положении: куда направить привезенные митрополитом дары — не в атеистический же центр? По этому-то поводу и произнес Илия (Карам) свое огненное слово на русском языке. Слово это нужно было слышать. Он метал молнии, низвергал громы, слова лились как водопад, сметая всякое нечестие на своем пути. Он никого не порицал, только сущим огненным языком о том говорил, что голос от иконы Божией Матери слышал, потому он должен сложить к Ней привезенные дары...
Мне уже приходилось приличные проповеди слышать, и живую речь своего архиерея слушал, и содержательные проповеди настоятеля Пензенского собора протоиерея Михаила Лебедева8... но то, что я услышал от Илии (Карама), сравниться не может ни с чем. Слово его всех потрясло, сотрясло оно и меня. Я понял тогда, что только так с амвона и должно говорить!
Каждому христианину знать следует, что христианство устрояется на земле, но землей не ограничивается, ибо оно (христианство) есть связь Неба и земли. Если же этой связи не чувствуешь, к ней и устремляться не будешь, но тогда ты — пустота и затхлость, «медь звенящая и кимвал бряцающий»9. Самое страшное в христианстве — это равнодушное служение священника. Это страшнее любых атеистических нападок на Церковь. Последние ничего не стоят, все они — тупость и ложь. Когда же лень и равнодушие подкрадутся к священнику, это — чистое растление для священника и скучища неприличнейшая для прихожан. Служить должно только с полной отдачей. Сердце же свое к тому готовить должно воздержанием, молитвой и постом.
И последняя личность, о ком расскажу,—митрополит Антоний Сурожский10. О нем чрезвычайно много написано, я же хочу только некоторые штрихи внести. С ним я лично был знаком, бывал у него в Лондоне, и он был у меня и в доме, и в квартире. Ему людям было что сказать, он умел это делать, и людям от него было что почерпнуть. Глубину своего религиозного гнозиса (знания) он духоносностью растворял. Правда, тем, кто его не видел и не слышал, духоносность эту достаточно сложно передать. Меня в нем вот что поразило.
Архиерей, если присутствует на всенощном бдении, обычно примерно до половины службы стоит в алтаре, справа от престола, и молится. Когда владыка Антоний наш храм в Николо-Кузнецах посещал, он, встав около престола, сразу же в молитву уходил. Даже физически, даже зримо ощутимо было, как он уходит внутрь себя, «сводит ум в сердце» (богословская подвижническая терминология). Моменты эти я лично наблюдал: закрытие глаз у него всегда сопровождалось подобием едва заметной улыбки на лице. Владыка явно был наедине с Богом. Это меня до глубины умиляло. Если же требовалось кому-то владыку о чем-то спросить, нужно было поцеловать его в плечо или слегка коснуться его. Не знаю, как для других, для меня как божий день ясно было, что в момент этот владыка лицом к Лицу Живому Богу предстоит. И вдруг прикосновением требуют, чтобы он вышел из этого состояния. Мне со стороны и то ведомо было, как трудно ему с Живым Богом расставаться. И всего-то только потому, чтобы копеечный вопрос выслушать... Необыкновенным усилием воли владыка выходил из своего молитвенного предстоя-ния, осматривался вокруг, ища, кому он нужен? Владыка выслушает, сам же еще вопрос углубит, а потом раскроет его так, что ответы всегда оказывались потрясающими, нежданными. Еще обдаст вас любовью, согреет теплом. А потом еще добавит: «Нет плохих вопросов, есть плохие ответы». Убедившись же, что больше в нем нет нуждающихся, закрывает глаза и вновь сводит свой ум в сердце.
Тому дивился я, как может владыка достаточно спокойно молитвенно оставлять Бога Самого?! Улучив момент, я спросил: «Владыка! Для меня как божий день ясно, чего стоит вам во время стояния перед Живым Богом оставить Его, уйти от Него, доподлинно при этом зная, что и зададут-то вам копеечный вопрос? Где черпаете вы для этого силы?» Владыка улыбнулся и ответил мне: «Я знаю, что сейчас мир испытывает страшный духовный голод. Поэтому я Богу дал обет быть там, где я нужен».
— Батюшка, позвольте коснуться темы более приземленной. Расскажите, пожалуйста, как вас пытались вербовать...
— Случаи такие есть одновременно и испытание, и закалка. Вот пример. В семинарии в одиннадцать часов у нас отбой. В это время приблизительно раз или два в месяц в академию наведывалась «тройка» — двое в штатском и милиционер в форме. Они входили в вестибюль и сразу же поднимались в ректорские покои. Ясно было — так просто не уйдут, кого-нибудь уведут. В течение часа или двух кого-нибудь уводили. Что они уведут, это нам ведомо было, затем они и пришли. Вопрос — за кем, не исключено, что и за тобой... Момент этот был всегда напряженным — проверка на мужество. В семинарии дружок у меня был (неплохим священником потом стал). Смотрю, а он в углу, съежившись, сидит, весь дрожит, даже пена на губах проступила. Я подошел к нему. «Сукин ты сын,—говорю ему,—ты зачем сюда шел?! На курорт, что ли, приехал? Ты должен был все перед поступлением в семинарию просчитать, как религия ненавистна Советам. Если кто из них сейчас тебя дрожащим увидит, они тебя так обработают, что последней сволочью станешь. что противопоставишь ты их напористости, если уже сейчас дрожишь?!» Врезал ему, помнится, как следует, и помогло!
На встречу с ними нужно было без боязни, смело идти. Но это пока еще рассуждения.
Ко мне лично приступали несколько раз. Поначалу подступят, я без боязни, смело, отвечу, и они оставляли меня. Прощупывали, видимо. Потом уже более напористо подступили. Подстроился ко мне некто «в сером» и завел свою речь. Начал он с патриотизма: люблю ли я Родину, как бы я поступил, если бы откровенно подошел ко мне враг... «Родину я люблю, — ответил я, — враг же, да еще и явный, ко мне уж просто подступиться не может». Отшил его. Однако потом подстроился ко мне уже такой агент, который как лист банный прилип. Я ему и так и эдак — он не отстает. Я разворачиваюсь и говорю ему: «Кем вы хотите меня сделать? Предателем? Так попомните, если я Бога предам, после этого я таким сексотом11 стану, что вас же первого и предам! Вас! Так и знайте!» Это так на него подействовало, что он сразу же оставил меня.
Все иначе с моей «вербовкой» обстояло, когда я уже священником стал. Инспектор и ученый секретарь академии меня почему-то любили. Секретарь около Николо-Кузнецкого храма жил и на раннюю литургию ходил, на которой я всегда проповедовал. Однажды на литургию он пришел уже с инспектором Доктусовым12. Прослушав проповедь, они решили ходатайствовать перед Патриархией о моем назначении настоятелем храма на Воробьевых горах. Как ученые мужи, они были изумительны, но плохо понимали, по-видимому, что от настоятелей, да еще вновь назначаемых, требовалось, чтобы они подписку дали. Об этом даже я знал, они же момент этот напрочь упустили из виду. От их предложения я наотрез отказался, они спросили: «Почему отказываешься?» Пришлось выкручиваться. Сказал, что не готов, что у меня хорошее место, изумительный настоятель — отец Всеволод Шпиллер13, у которого мне должно учиться и учиться. Не мог же я им истинную причину изложить. Невзирая на отказ, они таки увезли меня к управделами Московской Патриархии Николаю Колчицкому68.
Как только началось движение по моему назначению в настоятели, «кумовья» сразу же названивать мне стали, даже назначили встречу на Ордынке под часами. Думаю: завербовать меня хотят! Не удастся, не выйдет! К счастью, вершилось все по телефону, потому подписки о неразглашении тайны я им не давал. Прикинувшись дурачком, я оповестил о предстоящей встрече митрополита Николая (Ярушевича)14 15. Митрополит сразу же позвонил в Совет (по делам религии) и спросил: «что за дела творятся? Почему священника куда-то под часы на встречу вызывают?» Огласка произошла, это-то мне и нужно было. Спросить с меня по всей строгости они не могли (подпи-ску-то о неразглашении тайны я не давал). Много времени спустя по этому поводу следователь высказывал-таки мне свое негодование. Сам же я считаю, что из ситуации этой выпутался легко. После такого провала окончательно отступили от меня.
Продолжу о событиях в Патриархии. Итак, господа профессора привели меня к Колчицкому (он-то уж по положению вынужден был сотрудничать с ними — получать от них инструкции, кого можно назначить настоятелем, кого нельзя. В каких формах это выражалось, я, конечно же, знать не мог). Колчицкий спросил меня, желаю ли я быть настоятелем в храме на Воробьевых горах. Я ответил: «Нет, отец Николай, не желаю». Он тут же отпустил меня, и, кажется, даже с радостью. Назначить-то меня настоятелем без их согласия было нельзя.
Еще расскажу о вызове меня на Лубянку (по поводу судебного дела над Глебом Якуниным16
в 1979 году). Там все обстояло посерьезнее. Уже одно то впечатляло, что несколько этажей вниз «в преисподнюю» на лифте спускаться пришлось. Признаюсь, муторное было состояние, когда же со следователем разговаривал, был весьма спокоен и ни в чем ему не уступил. В первый вызов следователь чисто формально вопросы мне задавал. Я ему отвечал, а он писал. Когда же написанное он дал мне на подпись, я увидел там нечто ужасное. Ясно было, что отца Глеба они под расстрел подвести хотят. Обращаюсь к следователю и спрашиваю:
— Я это вам говорил?
— Подписывай! — грубо скомандовал он.
— Подписывать? Хорошо...
Я взял ручку и по диагонали написал: «Все — ложь!» Поставил дату и подписался. Он посмотрел и от удовольствия даже руки потер. Понимающие в этом люди говорили мне потом: «Если бы такое ты раньше сделал, то уж точно себе бы приговор схлопотал». Потому следователь потер руки, что жил еще прежними установками. Времена же изменились. Он меня отпустил, полагая, что ненадолго. Месяца полтора-два меня не трогали, потом вызвали вновь. Занимался мною уже другой следователь. Судя по всему, он явно знал о моем поступке, потому, исписав один лист, дал мне его на подпись. Как и прежде, я и здесь спросил:
- Разве такое я вам говорил?
- Подписывай!
- Подписывать не буду. Скреплять подписью буду только свои слова.
Перечеркнув крест-накрест представленный текст, я подписался. Следователь это стерпел. Исписав еще один лист, он подал его мне. Прочитав, я опять перечеркнул все и подписался. Здесь он начал раздражаться. Когда же в третий раз я перечеркнул лист, он уже с раздражением набросился на меня: «Чего ты добиваешься? Одного следователя из-за тебя выгнали из системы, хочешь, чтобы и меня выгнали? У меня есть жена, дети, и мне их нужно кормить». Я ответил: «Ничего плохого я вам не желаю. Но подписывать то, чего я не говорил, не буду»... Он вновь написал, но уже четко с моих слов. Их я скрепил своей подписью. Он вновь нагородил чушь, я опять перечеркнул. Тут-то он и потерял над собой контроль, позеленел, вскочил, схватил пистолет и направил прямо мне в грудь. Никогда не считал я себя смелым, здесь же — ни капли боязни. Обращаюсь к нему и говорю: «Голубчик! Это же так просто. — расстегнул рубашку, подставил грудь, — вот, пожалуйста!» И по сей день
Бога благодарю за Его несказанную милость, что Он даровал мне мужество. Но посмотрели бы вы на следователя, что с ним стало... Он весь потерялся, не знал, что делать с пистолетом, не знал, куда его деть! Запугивание не сработало, другого же в его арсенале ничего не было, что бы можно было предпринять. В прежние времена, по-видимому, он просто выстрелил бы и спрятал концы в воду. Виновными во всем оказались времена, которые изменились настолько, что из системы за усердие выгнали следователя.
Опомнившись, следователь опять перешел к уговорам. Смотрел я на него и раньше без страха, здесь же предо мною он предстал просто жалким. Дальше я только уже диктовал, он же со скрипом, вынужденно, однако, соглашался. Мы условились, правда, что в дальнейшем он по од-ной-две строчки будет писать, если я соглашаюсь,— подписываю, не соглашаюсь, — перечеркиваю и тоже подписываю.
Якунина позже-таки осудили, но не по моим показаниям. Злостная клевета, однако, распространилась, что именно я его оговорил. Эта несусветная ложь, догадываюсь даже, кто ее распространил... Когда Якунин отбыл срок в Якутии и вышел, то клевету эту в прах развеял. Он, как и я, стал депутатом, только Верховного Совета. Как депутат, он добился того, чтобы его допустили к заведенному на него делу. Увидев мои показания, он приехал меня благодарить.
50
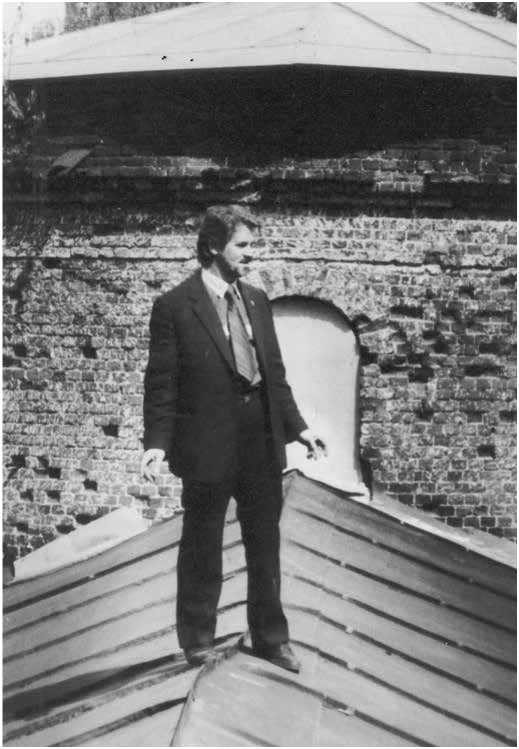
На крыше храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове. 1990 г.
— Батюшка, еще один вопрос — о пастырском служении в советские времена. Какие ограничения накладывал советский режим, были ли какие-то темы, запрещенные для проповеди?Я имею в виду не антисоветскую пропаганду, а духовные темы.
— Как я уже упоминал, мне, еще юноше, в Ташкенте кто-то из духовно одаренных личностей (едва ли не протоиерей Александр Щер-бов17) задал вопрос... Ссылку там отбывали весьма значительные личности. Находились там и митрополиты Арсений Новгородский18, Ни-кандр Ташкентский19. Митрополит Арсений был одним из кандидатов в патриархи. Этот значительнейший иерарх служил в кладбищенской часовне, поселились же они с митрополитом Никан-дром у протоиерея Александра Щербова, который приютил их в своей каморке. В «апартаментах» этих умещалась только кровать да еще маленький столик. Вот и все. Протоиерей Александр Щербов святителей уложил на свою кровать, сам же спал на полу у их постели. Однажды он заболел... митрополиты уложили его на кровать, а сами улеглись на полу. Это я из уст самого отца Александра Щербова слышал.
Итак, вопрос: «Что всего страшнее для советской власти?» «Бомба какая-нибудь?..» — неуверенно ответил я. Не дав мне продолжить (я все равно бы не догадался), вопрошатель сам же и ответил: «Всего страшнее для советской власти — святой. Понимаешь? Святая личность для них всего страшнее». Так оно и есть. Потому-то жало Советов и было направлено на живую христианскую мысль — слово. Проповеди при советском режиме вообще не было, да ее, за редкими исключениями, и не могло быть. Причем не только потому, что властями она напрочь не допускалась, а еще и потому, что говорить-то ее было некому. Священники были все только требоисправителями. Такие огненные слова, какие в свое время митрополит Илия (Карам) говорил, советская власть допустить не могла. Ей нужно же было народ в том убедить, что «религия — опиум для народа». И еще что религия — сугубо частное дело. Но христианство есть Божий замысел о мире, оно — абсолютно вселенского масштаба. Глубинное убеждение даже существует, что если не будет святых, то мир перестанет существовать. Церковь предстательствует за целый мир, более того, богослужение четко связывает Небо с землей. Перед Советами и встала задача произвести нивелировку и свести все на нет. Только служение разрешалось, да и оно все только к требоисправлению сводилось. Если же появлялись такие личности, как архимандрит Вениамин (Милов), о котором я упоминал, это выходило уже за рамки дозволенного. Дух его огнем горел. Потому и изнуряли его. Почему? Он преступник? В чем-то виновен? Нет. Изнуряли его потому именно, что никакой вины за ним и в помине не было. Просто — он святой. Святой же абсолютно недопустим был при советском режиме.
Все у Советов только на то направлено было, чтобы христианство к формальности свести, дух угасить. В режиме этом только и держали Церковь.
Конечно, нельзя сказать, чтобы от христианства, в советское время пребывавшего в режиме требоисправления, не было никакого проку.
Богослужение, как бы и кем бы оно ни совершалось, значимость имеет во всех случаях. Оно есть единение Неба и земли. Молитва, как бы рассеянно и бездушно ни творилась, значимость перед Богом имеет всегда. «Слезинка некая, даже слезинки часть некая» не бывает забыта Богом (из молитвы святого Симеона Нового Богослова перед причащением). Правда, молитва, трепетно творимая перед Живым Богом, Богосыновство дарует, к обоже-нию приближает. Этого нельзя стяжать формальной, холодной, бездушной молитвой.
Жесточайший урон был нанесен христианству советской властью, русский человек стал обезбоженным, и обезбожен он в ужасающем масштабе. Почти напрочь потеряны для христианства бывшие краснокосыночницы, к полному ожесточению пришли крушители алтарей. Народ в большинстве своем лишь формально стал придерживаться христианства. Сошлюсь на пример нашего прихода (храма преподобных Зо-симы и Савватия в Гольянове в Москве. — Ред.). Диоцез — в сто пятьдесят тысяч человек. Какой процент составляют посещающие его? Они исчерпываются полутора-двумя тысячами человек. Просыпаются народные массы лишь на Крещение да в Великую Субботу — на освящение куличей. Конечно, и это — приход, но весьма относительный. Такая вера горами не двигает. Вера же должна быть жизненным принципом христианина. Христианин не удовлетворять должен религиозные потребности, а жить во Христе, мы же внутреннюю потребность в Боге к постыдному минимуму свели. Жизнью такой не жили христиане Святой Руси. Первое для них было — хождение перед Живым Богом. Касается это не святого только, а всякого верующего христианина. «Будьте святы... ибо свят Я, Господь Бог ваш». Это-то советская власть и пыталась из народа вытравить. Истребить веру из души народной она не смогла, но она надругалась над святынями, опустошила русского человека и верующих приучила к формализму.
И неудивительно: в период революции все святое было сметено, все ценное растоптано. Храмы порушены, уцелевшие приходилось восстанавливать из руин. Отчизна в жалком состоянии, русский человек обезбожен. Это и есть цена революции для русского народа. Тем не менее религиозная закваска у народа осталась.
— А если говорить не о количестве, а о качестве, если сравнить современных прихожан (настоящих, которые не два раза в год только в храме появляются) с прихожанами советского периода, которые посещали богослужение, зная, что они подвергают себя риску, ощущается ли какая-то разница в духовном облике?
— Разница постигается сравнением. В советское время все было порушено. Евангелия нельзя было достать! Молитвословов не было, духовная литература напрочь отсутствовала. Духовный голод был ужасающий. Посетителей храмов фиксировали. Всякий занимающий положение за посещение храма подвергался репрессиям. Невзирая на это, народ таки шел на богослужение, наполнял храмы. Это были поистине исповедники. Преодолевая трудности на своем пути, они преисполнены были ревностью по вере, которая двигает горами. Стяжается это только стойкостью в вере. Вот и выходит, что преодолевавшие трудности отцы, матери и братья наши Самим Богом ублажались, их усилия исповедничеством почитались. Современные же христиане только «права качают» да телевизор смотрят. Правда, храмы еще восстанавливают.
Наталия Константиновна Смирнова

Господь удивительно милостив. Сколько драгоценных судеб и людей видывала — и батюшек, и мирян. Какие священники встречались! Даже мимоходом. Удивительные!
Наталия Константиновна Смирнова (род. 1935) — художник, иллюстратор книг. В 1960 году окончила Сури-ковский институт по отделению книжной графики. Более сорока лет проработала в Заочном народном университете искусств. Прихожанка храма великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках.
—Наталия Константиновна, я знаю, что у вас очень интересная семейная история, столько замечательных людей было в роду. Расскажите о них, пожалуйста.
— Недаром стольких лиц прекраснейших Господь увидеть дал мне за долгую мою жизнь! чем глубже погружаюсь в воспоминания о людях, виденных мною вблизи, тем более четко ощущаю свою человеческую несостоятельность, начинаю понимать, как много дал Господь и как мало я взяла, хотя примеров замечательных знаю немало.
Мой отец, Константин Васильевич Смирнов, был сыном священника — Василия Федоровича Смирнова, настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках, в центре Москвы. Когда дедушка, отец Василий, настоятельствовал в этом храме, при нем диаконом, а потом священником служил отец
Владимир Проферансов, ныне прославленный новомученик20.
Дедушка Василий был сыном псаломщика. Он был очень деятельный, умный, ответственный. Занимался совершенствованием школьных учебников для преподавания Закона Божия и сам издавал учебники. Его жена, моя бабушка Наталия Семеновна, была протоиерейской дочкой, очень образованной девушкой. Она и французским языком владела, и стихи любила. И то, что сын псаломщика мог жениться на такой девушке, говорит о его незаурядных качествах. В 1918 году отец Василий был арестован. Вскоре его освободили, потому что обвинить ни в чем не могли, он ничего особенного не делал, кроме того, что был хорошим преподавателем и священником. Но домой он вернулся больным и вскорости умер. Наталия Семеновна осталась с дочерью, больной туберкулезом, и сыном Константином — моим будущим папой. Два других ее сына — Борис и Владимир умерли в 1920 году.
После смерти отца Константин должен был заботиться о матери и больной сестре (она прожила до 1929 года). Он их опекал, очень любил — особенно маму. Наталия Семеновна была на редкость любвеобильным и жертвенным человеком. Как сын репрессированного священнослужителя, Константин был «лишенцем» — не имел права ни работать, ни учиться. К этому времени он окончил семинарию и поступил в духовную академию, но пройти обучение в ней не успел, кажется, только первый курс окончил, когда ее закрыли. И он оказался в положении «лишенца». Как ни странно, его выручила Мария Ильинична Ульянова21, к которой ему подсказали обратиться. Он пришел к ней, не говоря ни слова, положил заявление, и она единым росчерком отменила его статус. Он получил право действовать — поступил на железную дорогу, и там очень скоро открылись высшие бухгалтерские курсы, которые он с блеском окончил. А потом почти двадцать пять лет проработал главбухом главка стройматериалов.

Священник Василий Смирнов с семьей. Справа — Константин. Около 1906 г.
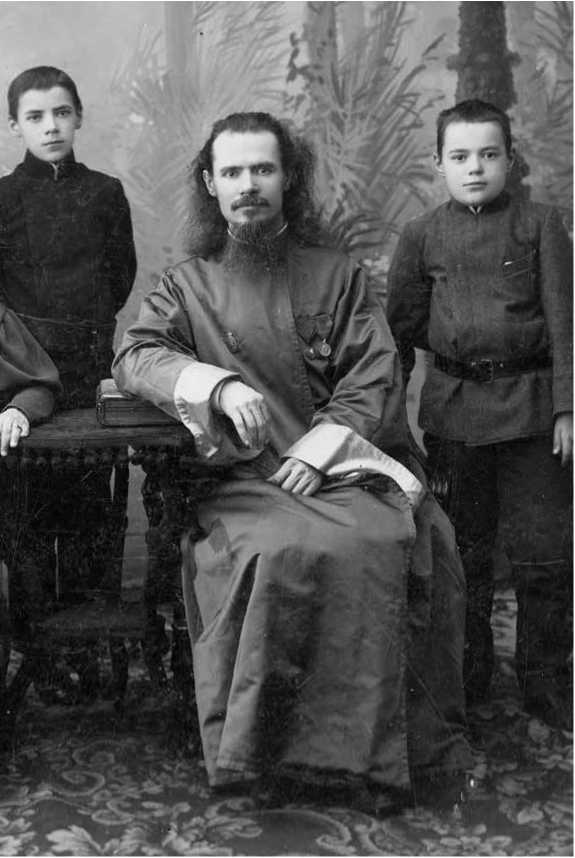
С браком Константин не спешил, видимо, не было устраивавших его девушек. Сам-то он пользовался большим успехом, потому что был порядочен, умен и остроумен, да и красив.
— А из какой семьи была ваша мама?
— Мамина мама, Анна Александровна, была дочерью генерала от инфантерии и внучатой племянницей Д. И. Менделеева. Бабушка была очень строгая, «старая» интеллигентка, очень красивая, стройная и такая... грозно-спокойная, невозмутимая. Если бы пароход тонул и все бегали взад-вперед, то она бы сидела спокойно, потому что толку от суеты, как она считала, никакого нет. Один случай из моего детства ее характеризует. Я была предводителем ребят и девчонок, мы бегали на даче, играли во что-то. И бабушка вдруг услышала, что я визгнула. Дома она мне сказала только одну фразу: «Визжать, как уличная девчонка?!» И я на всю жизнь поняла, что производить какие-то такие звуки — это неприлично. То есть она делала внушение ненавязчиво. Она могла сказать так, что ты уже на всю жизнь понимаешь. Такие требования были в семье.
Мамин папа, мой дед Владимир Николаевич Максимов, был художником и архитектором. Происходил из глубоко верующей семьи, окончил в Петербурге Академию художеств, до революции работал с выдающимися архитекторами — В. А. Покровским и А. В. Щусевым, многое достраивал по их проектам, был их младшим
другом. Проектировал для Царского Села, хотя далеко не все успел построить. После революции он остался без работы, некоторое время скитался с женой и маленькими детьми, жил у своего отца в городе Белебей в Башкирии. Бабушка, Анна Александровна, когда они были в Белебее, заболела тифом, лежала при смерти. Мама потом рассказывала: утром она проснулась от того, что ее разбудил отец, мой дед, который сказал: «Мне вчера сказали, что жена до утра не доживет. Я молился всю ночь, молился дерзновенно, просил: «Оставь ее! Не для меня, не для детей — детей сам воспитаю. Для того, чтобы я привел ее к Тебе». Анна Александровна тогда была, так сказать, ну, более чем тепло-хладная. И вот по своему детству я помню: кто читал молитвы утренние, вечерние? — бабушка; кто учил всему такому? — бабушка. То есть дед ее вымолил и к Богу привел.
В 1927 году дед с семьей перебрался в Крато-во, в Подмосковье, построил там дом, который, кстати, до сих пор стоит. Там мои родители и познакомились.
— Как же это произошло?
— Познакомились они по молитвам владыки Серафима (Звездинского)22, бывшего маминым
духовником. Поскольку бабушка была очень грозная, а мама моя — очень нежная, то она, в общем-то, дома страдала. Дед смягчал, как мог, обстановку. Но все-таки мама как-то сказала владыке Серафиму: «Я люблю детей, и мне очень трудно с мамой». Он ответил: «Давай молиться». И через какое-то время на горизонте появился Константин.
Произошло это так: папины добрые знакомые сняли дачу в Кратове как раз напротив дома Максимовых — семьи моей мамы. Сначала мамин брат Арсений, а потом и сама Ирина с сестрой Ясей познакомились с новыми соседями (правда, девушкам разрешили их навещать лишь после того, как Анна Александровна убедилась, что люди по соседству поселились порядочные). Ирина, моя будущая мама, очень понравилась хозяйке. Та решила: Костя пропадает, и Ирина пропадает, — и нашла способ их познакомить. Однажды она попросила Ирину помочь ей — испечь пирог и принести, когда гости соберутся. Вот таким хитрым способом она заставила ее прийти в нужное хиротонисан в епископа Дмитровского, викарий Московской епархии. С 1922 по 1925 г. провел в тюремном заключении и ссылке. В 1926 г. по распоряжению ГПУ жил в Се-рафимо-Дивеевском монастыре. После отказа от сотрудничества с властями в 1928 г. был по собственному прошению отправлен за штат. В 1932 г. снова арестован, отправлен в ссылку сначала в Казахстан, затем в Сибирь, где и остался после освобождения (город Ишим). Летом 1937 г. снова арестован. Расстрелян в 1937 г. В 2000 г. прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских.
время в нужное место. Так моя мама с папой познакомились, это был 1930 год, но сначала это знакомство ни к чему не привело. В 1932 году маминого папу, Владимира Николаевича, арестовали вместе с девятнадцатилетним сыном Арсением за связь с «непоминающими»23, в частности с владыкой Серафимом (Звездинским). Дедушке дали три года лагерей, в 1933 году досрочно освободили по состоянию здоровья, но запретили жить вблизи Москвы. Однако он нелегально приезжал в Кратово (где и умер в 1942 году).
В 1933 году мама с папой поженились.
— Ваше детство пришлось на время Великой Отечественной войны?
— Да. Когда родители поженились, папе было тридцать шесть — тридцать семь лет, маме тридцать шесть. Поселились они в Москве вместе с папиной мамой, Наталией Семеновной. Когда я родилась, бабушка меня полюбила очень. читала мне стихи, учила рисовать. Воспитывала она меня так нежно и так спокойно, что в детстве я была просто образцовым ребенком. Когда мне было три с половиной года, родилась младшая
сестра — Машечка, или Муся, как мы ее звали. Родилась она, видимо, сразу с какими-то болезнями. Меня взяли в роддом, это было в Раменском. Там мне на руки положили запеленутую девочку и спросили: «Нравится ли тебе девочка?» Я сказала: «Нравится». У меня другого выхода и не было. С этого момента я себя помню. И с тех пор я ее, можно сказать, держала всю жизнь, потому что она была всегда больная и вечно требовалась какая-то моя помощь. В раннем детстве я называлась «зама-мама».
Когда началась война, главк стройматериалов, в котором папа работал, был отправлен в эвакуацию в Сталинград. Я очень хорошо помню, как мы все туда приехали. Нас с Машечкой устроили в детский сад, мама занималась хозяйством, а папа работал. Потом начались бомбежки. Главк расформировали, и часть семей с детьми, в том числе и нас, отправили в Вольск — это тоже по Волге. Помню, мы плыли под бомбежками на барже из Сталинграда в Вольск. Там были цементные заводы и вуз, который принадлежал, очевидно, «Стройматериалу». Папа стал там работать, а маму устроил кладовщиком. Первую зиму мы как-то прожили.
В Вольске, так как папа уже не в главке был, а просто в институте, он лишился брони, его призвали в армию, но по состоянию здоровья не отправили на фронт, а поставили начальником какого-то хозяйственного отделения — он ездил
в командировки, добывал материалы... Он очень боялся, что его отправят на фронт, где надо стрелять, потому что всегда мечтал, надеялся стать священником. Он и маму предупредил в свое время, что если будет такая возможность, то постарается принять сан. Кроме того, у папы было плохое здоровье и он тяжело «тащил» всю эту службу.
И вот однажды, когда отец уже очень плохо себя чувствовал и у него еще нога сильно разболелась, он был в командировке в некоем городе. Проходя мимо какого-то учреждения, он увидел красный крест и женщину в белом халате, стоящую у открытой двери. Он понял, что это медицинское учреждение, подошел к женщине и попросил: «Дайте мне, пожалуйста, бинт перевязать ногу. Что-то нагноилось.» Она на него взглянула: «Входите», — осмотрела его ногу и сказала: «Я вас не выпущу». Оказалось, у отца уже была дистрофия какой-то степени, если бы не эта врач, то у него началась бы гангрена. В результате отец получил освобождение от армии.
Это было в 1942 году. А мы в это время были в Вольске. Бомбежки вокруг начинались. Местное население относилось к нам по-разному: некоторые — очень хорошо, а некоторые говорили: «Вот, вы в Москве масло ели и сюда понаехали.» Мама решила, что под немцами она не останется ни при каких условиях. Да и у Машечки было плохо со здоровьем, там ей впервые поставили диагноз — бронхиальная астма — и врач сказал:
«Если не вывезете до весны, то не вывезете никогда». Начальник помог маме найти вербовку на химический завод по Казанской железной дороге, в сторону Москвы. Она просила, чтоб было поближе к Кратову, чтобы ее дочки даже одни, пешком могли добраться до родственников.
— Наверное, вера в Бога помогала вашим родителям преодолевать трудности в столь сложное время?
— Конечно. Помощь свыше приходила неоднократно.
Когда мы получили вербовку, папа ничего об этом не знал. А мы не знали, где он. Мы уехали из Вольска, и нужно было нам в Аткарске (Саратовская область) пересаживаться на другой поезд. А документ, по которому мы должны были доехать до Москвы, действовал всего десять дней. В Аткарске мы в течение нескольких дней не могли сесть на поезд — нас выкидывали из всех вагонов, потому что мест не было. Никаких. И вот наступил последний день, когда можно было уехать, стало ясно: если сейчас не сядем, то не уедем вообще. И тут прибежал начальник вокзала, говорит маме: «Где ты есть?! Вот как раз сейчас — поезд. Давай иди!» Мама смотрит, а у нее нет документов. Она все где-то выронила. Но она взмолилась Николаю Чудотворцу, и в тот же момент услышала сзади: «Твои?» Оборачивается — стоит старичок и протягивает ей ее документы. Даже не раскрытые. Она хотела поблагодарить старичка, а его уже нет!
И вот нас пустили в поезд, в первый же вагон. Я помню это счастье, когда мы вошли туда. В первом же купе мама поставила свои вещи и шлепнулась или на пол, или на эти вещи... На верхней полке лежал молоденький офицерик раненый. И нас с сестрой этот офицер взял к себе наверх и кормил сахарным песком. Помню, это было замечательно!
Дальше мы едем, а у мамы поднимается температура. Очевидно, сказались все эти передряги, а может быть, и простуда. Во всяком случае она почувствовала, что ей плохо, и неизвестно, как она доедет. А если и доедет до места, куда мы направлялись, то высадят ночью и ее в больницу отправят, а нас — в детские дома, может быть, и в разные, и никто об этом не будет знать: ни тетки, ни папа. Никто не знал даже о том, что мы выехали из Вольска. В общем, она, конечно, просила помощи. Молиться мои родственники умели! Она просила помощи и с ужасом ждала того часа, когда будет эта самая станция, на которой полагалось выходить. В шесть часов утра ее разбудила проводница и стала просить прощения: «Я проспала вашу станцию. Придется вам выходить в Раменском». Мама ее поблагодарила, и мы вышли в Раменском. Сели на электричку и доехали до Кратова. В общем — милость Божия. Когда мы ранним утром предстали перед тетками (и бабушка была еще жива), они нас не узнали: мы с сестрой, понятно, выросли, а мама выглядела как сгорбленная старушка.
Некоторое время мама болела. Но когда встала, поехала в Москву и устроилась охранником в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н. Е. Жуковского) — стеречь туполевские самолеты. Однажды даже поймала воришку. Кроме того, она устроилась на несколько фабрик, где разрисовывали абажуры. Из великолепного парашютного шелка делали абажуры, и их надо было расписывать. Вот этим мама и занялась. Какое-то время мы принимали участие: если она рисовала, скажем, розочку, то мы с сестрой могли раскрасить листик. И вот однажды она с этими абажурами ехала на фабрику, куда надо было их сдать, у нее было два «столба» с этими изделиями (абажуры складывали один в один, и получался такой «столб»). И когда она должна была выйти из электрички, ее кто-то схватил за шею, она потеряла сознание, и ее выбросили из вагона. Правда, на нужной станции. Но она и в этот раз успела взмолиться Николаю чудотворцу. Очнулась на пустом заснеженном перроне, рядом стояли два «столба» с абажурами. Никого не было, только старичок — все тот же самый. Спросил: «Твои?» И исчез. Следов не было.
То есть два раза ей Николай чудотворец так вот въяве помогал.
— А как же вы встретились с отцом? И когда он все-таки принял священный сан?
— Папа тем временем получил мою открытку. Мамины не доходили, а моя все-таки дошла. В ней
было написано: «Мама работает на военном заводе. То день, то ночь». По штемпелю он понял, что мы в Москве. Он вернулся еле живой, с дистрофией. Дома постепенно выходили его. Его звали обратно на прежнюю работу, но в это время открылись семинария и академия, и он отказался. Заменил маму на охране самолетов и, работая там, немножко подтянул свои знания по богословию. После этого поступил в Духовную академию. Когда он ее окончил, встал вопрос, что дальше. Выпускников первого выпуска было очень мало, человек пять или шесть. У папы была непонятная ситуация: то ли его сделают преподавателем, то ли пошлют за границу, чего он ужасно не хотел, то ли его рукоположат. В это время Патриархом был Алексий I (Симанский), который его вызвал и сказал: «Хотим вас поставить священником». «Вот это, — говорит папа,—то, чего и я хочу». — «Хорошо. А как ваша семья?» Он сказал: «С женой мы договорились еще до того, как поженились». — «А дети?» Папа говорит: «Хорошо. Отвечу». В Кратове во дворе дома он под яблоней постелил одеяло, нас собрал. Мы посидели, и он нам задал этот вопрос, сказал, что Святейший задает этот вопрос. Мне тогда было лет тринадцать, а Машечке, соответственно, десять... Мы ответили: «Куда ведет тебя Христос, туда тебе и идти». Сейчас я не смогла бы сказать так ярко. Я бы просто сказала: «Ну, конечно, мы не против», потому что возраст делает нас более осторожными, чтобы так высказываться.
Святейший Патриарх Алексий I, когда услышал ответ, папу рукоположил и назначил местом служения церковь Воскресения Христова в Сокольниках. По-моему, это был 1948 год. А мы к тому времени жили как раз в этом районе. То есть то, что Патриарх сделал для папы, была и милость Божия, и милость его. Если бы папе ездить, как многим священникам, через всю Москву, он бы не выдержал, здоровье его было подорвано. А он почти двадцать лет прослужил.
— Наталия Константиновна, как складывалась ваша жизнь после войны?Были какие-то особенности, ведь вы уже стали семьей священника?
— В это время я как раз поступила в художественную школу — там готовили и по обычным предметам. Я ее благополучно окончила. Под конец все, конечно, знали, что я — поповна. Но нашего директора это совершенно не волновало.
Когда пошло дело к завершению школы, выяснилось, что все основные отметки у меня пятерки. Поняли, что я иду на золотую медаль, некоторые учителя сильно заволновались: «Да что это такое: поповна — на медаль? Нехорошо как-то! И не комсомолка». И вот моя классная руководительница, очень хорошая учительница по математике, замечательный человек, со мной гуляла по коридору, чтобы все видели, что она меня обрабатывает. Она говорила: «Наташа, знаешь, ты подводишь школу. Тебе ничего не стоит написать заявление, вступить в комсомол. Давай пиши.
А в райкоме тебя ни о чем не спросят. Там сейчас Валя работает, которая была учительницей истории в прошлом году. Она тебя прекрасно знает, она все понимает, она тебя не спросит лишнего». Но я все-таки не пошла на это. «Ты же в институт не поступишь!» Но я решила: «Как уж Бог даст».
Так благополучно школу и окончила, но золотую медаль мне все-таки не дали. Я поступала в институт по справке, что представлена к золотой медали. А когда пришла получать документы, директор очень долго тянул, не хотел показывать мне аттестат. И наконец положил передо мной лист, на котором все наши фамилии были, и я увидела, что против моей фамилии зачеркнута оценка «пять» по математике, а поставлено «четыре». Я спросила: «Как же так?» — «Да ты понимаешь, тут из роно приходили, удивились, что у нас столько медалей. Предложили срезать одну из дево-чек-близнецов Левшуновых или еще кого-то. Ну, мы решили, что ты не обидишься». Я действительно не обиделась, но удивилась. Однако решила, что да, пускай Левшуновы получат свои медали. А когда это дошло до моей учительницы, то она пошла проверять, в чем дело. Выяснилось, что нашлись люди, которые дожали бедного директора, потребовали послать эту самую медаль дочери, скажем, полковника, а не какой-то там поповне.
Но это — мелочь, это такая мелочь! Вот говорят: «Как я страдала при советской власти»... Лично я не страдала. Папа — да. И мамочка тоже.
Слева: в студенческие годы

Внизу: родители — протоиерей Константин и Ирина Владимировна Смирновы. 1960-е гг.

—А какие сложности были у вашего отца?
— У него в храме был староста, от райкома, который очень папу не любил. И в частности за то, что тот очень хорошо разбирался в финансах, он же бухгалтером столько лет проработал. Конечно, налоги были огромные, старались как-то выкручиваться. Папа все это делал разумно и даже откладывал необходимое. В общем, как-то расплачивались. Но однажды, в какой год я точно не помню, но в хрущевские времена, вдруг наложили непомерно большой налог. Папа стал «воевать», разбираться. Он понял, откуда они взяли эти тысячи. Из всей Сибири приезжали в Москву для крещения крестики получать, а для покойников — венчики. Это записывали как «крещение» и «очное отпевание». А это разные цены. С налогом расплатиться помогли знакомые, а со старостой отношения плохо складывались, кончилось тем, что у папы случился инсульт. Мама в расстройстве, потому что я еще «не на ходу» — я тогда уже в институте была, но все-таки еще не работала. Машечка — вечно больная. И обратиться маме не к кому: ни ее отца, ни деда — людей, у которых она могла бы попросить помощи, совета, молитвы, — уже нет в живых.
В один из этих дней мама шла по Сокольникам, по улице рядом с мостом. Падал крупный снег, мела поземка, людей было мало. И вдруг она увидала, что из-под моста на нее идут ее дед и отец. Они оба были высокие, широкоплечие, с бородами. Бороды развеваются, они идут к ней навстречу, а под ними — метет поземка. Мама, потрясенная, остановилась. Они дошли до нее, обошли ее с двух сторон и исчезли. После этого папа поправился буквально в одночасье. Хотя у него был инсульт очень серьезный, через неделю он поднялся, а старосту из храма убрали, поставили другого человека.
— Каким человеком и священником вы помните своего отца?Какой была ваша мама?
— Папа был очень благоговейный священник. Он считался исповедником строгим, но и милостивым. Очень серьезный был, не пренебрегал никакими каноническими правилами. Но что называется, не мелочился, мог творчески к чему-то отнестись. По отношению к нам был невероятно добр, но не слащаво, а как-то очень мудро, очень спокойно. Я рассказывала, как бабушка меня воспитывала. Так вот папа воспитывал немножко по-другому: он мог что-нибудь спеть или смешное сказать. Например, ему не нравилось, когда я уж слишком старалась «красоту» навести, тем более чтобы в школе мальчикам понравиться. Ему хотелось меня оградить, так сказать, от всех сложностей жизни. Поэтому, если я вертелась перед зеркалом больше, чем он считал нужным, папа говорил, например: «О внешней красоте изрядно попе-кохся, внутреннюю же презрех Богообразную
скинию»24. Или так, например: «Искуверкилась перед зеркилом». Вроде как ничего особенного не сказал, так, смешные слова, а уже коверкаться не хотелось, и не потому, что я его боялась, мы его уважали. Папа был очень добрым, в частности к детям. Вот я наблюдаю на исповеди, к некоторым батюшкам, которые тоже к детям с любовью относятся, ребенок подходит, что-то говорит, священник его накрывает епитрахилью... И мальчик спокойно уходит. А папа так спокойно не отпускал, очевидно, ему надо было заставить исповедника оживиться, немножко проявить какие-то чувства, что ли. А не просто формально: «Соврал, утащил.»
А мама. Маму не только я, но посторонние, редко ее видевшие люди помнят по сю пору как сияние мягкой, тихой, глубокой доброты. Притом говорила мама редко и мало. Но только не с дочерьми — она нам была открыта до глубины, и мы, соответственно, были перед ней как на ладони. Нам она была незаменимым другом. Мама была человеком очень одаренным и с художественной, и с музыкальной стороны — в юности она солировала и канонаршила в церковном хоре.
— Вы можете рассказать о ком-то, кто служил вместе с вашим отцом в то время?
— В храме Воскресения в Сокольниках настоятелем тогда был отец Андрей Расторгуев25. Он в советское время стал обновленцем, даже епископом обновленческим, хотя был женат и дети у него были. Потом покаялся. Он очень хорошо к папе относился, даже когда ездил за границу (что нас немножко настораживало), то привозил нам с сестрой акварельные краски, кисти. Жил он под алтарем храма. Вообще, у него была квартира, где жили жена и дети, но в наше время, когда мы были в Сокольниках, он жил под алтарем. То есть там было такое помещение, похожее на квартиру, с приемной — залом, в котором он принимал и епископов, и хоть кого, и была комната, где он жил. И были еще коридорчик и лестница в алтарь. То есть помещение было в полуподвале, и он мог подниматься в алтарь в любое время дня и ночи. И приходившие служить всегда заставали его в алтаре. Он, может быть, молился в алтаре всю ночь. И даже когда уже болел — у него был склероз такой, что служить было невозможно, он мог не знать, пост ли сейчас, утро или вечер, мог не узнать кого-то из своих детей, — он всегда молился.
—Наталия Константиновна, как дальше сложилась ваша жизнь?Вы вышли замуж?
—Да. Мое знакомство с будущим мужем связано с событиями кончины моего отца. В последний год жизни папа очень тяжело болел, потребовалось хирургическое вмешательство. Операцию сделали только половинную, потому что испугались за сердце. Соответственно, папа служить уже не мог. И, конечно, страшно страдал, потому что для священника лишение службы — это беда. В этот последний год мама возила его на такси в храм Мученика Трифона (Знаменский) на Рижской. Там служил отец Александр Ветелев26 — нежнейшей, тончайшей души человек и чудный батюшка. Он был преподавателем, профессором Московской духовной академии, у которого отец и заканчивал Академию и с которым дружил. Это его последний духовник. Папа ездил туда на службу и стоял в алтаре, а мама, естественно, находилась в храме. И вот тут она познакомилась с неким Георгием Валентиновичем, который папу знал, когда-то у него исповедовался. Георгий Валентинович к маме подходил, чтоб узнать о здоровье отца. И мама иногда говорила нам, возвращаясь из того храма: «Какой хороший человек, оказывается, знаком с папой, вот он иногда ко мне подходит, разговаривает, думает, как нам помочь. Такой благородный, такой хороший человек». Ну, один раз сказала, другой раз сказала... Мы особого внимания не обращали — мало ли хороших людей на свете! А потом в какой-то момент она сказала, что Георгий Валентинович обещал к нам в воскресенье зайти на обед. Георгий Валентинович же в нашем представлении был почтенный джентльмен лет от шестидесяти и выше. Между тем появился стройный, красивый человек неопределенного возраста. А было ему тогда лет тридцать семь — тридцать восемь. Он и представился Георгием Валентиновичем, а мы с Мусей, конечно, Наташа и Маша. Художники, они такие — до седых волос бывают «Наташами» и «Машами». Потом он к нам некоторое время приходил. Как-то мама ему сказала: «Хороший вы человек. Вам бы жену хорошую. Только я не про своих девчонок — это случай безнадежный». Она совершенно искренне это говорила, потому что мы с сестрой вечно носы воротили, все нам было «не то». А он ответил: «Я не могу жениться. Я женат». Но там его попросили удалиться, и он очень страдал по этому поводу. Ну, дальше все пошло очень спокойно, он какое-то время просто по-дружески приходил.
А папе становилось все хуже и хуже. Незадолго до смерти папа мне сказал: «Я чувствую себя виноватым в том, что не подтолкнул тебя к замужеству. Но я считал, что страшно одиночество, а ты не одинока — у тебя есть сестра». На что я ответила: «А я всегда мечтала о старшем брате». И последним желанием папы было именно мое замужество. Уверена, что и сложилось оно по папиной молитве: первая жена Георгия вышла замуж и раскрепостила его.
Вскоре умер папа. Я хорошо помню его кончину: мы пришли утром, предстали все перед ним. Постояли, я вижу, что он совсем плохо себя чувствует, очень плохо дышит, говорю: «Папа, ты нас прости». Он кивнул. Я говорю: «Папа, ты нас благослови». Он поднял руку. Надо было видеть, как он ее поднимал — с величайшим усилием, но поднял и всех нас вместе благословил. И уплыл. Я такой торжественной смерти никогда не видела. Я видела несколько смертей, но такой торжественной — нет — он уплыл в вечность. Иначе сказать невозможно. Это было так, что даже плакать не пришлось, потому что человек получил наконец освобождение.
В день папиной смерти в нашем доме после некоторого перерыва вновь появился Георгий, предложил свою помощь. А вскоре мы поженились.
—Ваш супруг также был глубоко верующим человеком?
— Как выяснилось через некоторое время после знакомства, Юра, Георгий Валентинович Про-ферансов, был внучатым племянником священ-номученика Владимира Проферансова — того самого, который служил вместе с моим дедом, отцом Василием Смирновым.
Юра был прихожанином храма Ильи Обыденного. И венчали нас там. По знакомству, конечно: Юра был офицером, поэтому венчаться открыто было сложно. Отец у него комбриг, был разжалован и отправлен в ссылку абсолютно ни за что — еще до войны. Его отец был настоящий, совершенно советский человек, хороший, простой, ясный такой — «классический» советский офицер. Юра же не был «классическим» офицером. Его дед был полковником Генштаба царской армии. С ним ничего не сделали в советские времена, и он таким маленьким старичком доживал свой век. До семи лет, пока отец был в ссылке, Юру нянчил дед. И я думаю, Юрина выправка, благородство, удивительная какая-то тактичность, то, что современным офицерам не больно-то свойственно, — это у него от деда.
Когда Юра окончил педагогический институт и оканчивал музыкальное училище, его призвали в армию. И долго решали, куда его отправить. Он был очень талантливый музыкант и художник. Военные же, которые его призвали, знали его происхождение: отец был в ссылке, дядя — министр (родной брат отца), другой дядя — полковник Генштаба, уже современного. что с ним делать? И они ему предложили пойти в авиационное училище. Он согласился, потому как на самом деле выбора не было. Он пошел, хотя это было «не его». Но и там он отлично себя проявил.
Послали его на Дальний Восток. Потом он поступил в Военно-воздушную академию. Работал в ЦАГИ, в том самом месте, где моя мама сторожила самолеты во время войны, и где папа тоже одно время работал. И вот там же Юра был старшим военпредом. Потом ему предложили повышение, сказав примерно так: «Нам нужен главный военпред, начальник над всеми московскими военпредами. Но для этого тебя нужно в чин полковника возвести, а мы не можем, потому что ты никак в партию не вступишь. Вступай в партию! Перестань обижаться». Думали, что он обижается на то, что отца посадили. А он за отца не обижался, он просто был верующим человеком, потому в партию вступить не мог. Вот он пришел домой и сказал: «Я стукнулся о потолок».
Юра раком болел, тяжело болел и очень мужественно. Такого мужественного во всех отношениях человека я больше не знаю. Жили мы с ним всего двенадцать лет. Это был короткий срок, но многого стоящий.
Вообще, конечно, Господь удивительно милостив. Сколько драгоценных судеб и людей видывала — и батюшек, и мирян. Какие священники встречались! Даже мимоходом. Удивительные!
—Наталия Константиновна, расскажите, пожалуйста, про вашу сестру.
— Машечка с детства была очень самостоятельная, умненькая, даже остроумная. В то же время — добрая. Когда я получила первую пятерку (сначала у меня были тройки), то Машечка ликовала больше меня. Любовь была у нее редкостная. Такая же, как у папы и мамы,—у них обоих была любовь, которую запоминали люди навсегда.
Сестра удивительным была человеком, трудно переживающим современность и ее нравы. Тем не менее школу она окончила, поступила в институт. Училась прекрасно. Но вот ей досталось в советское время... Ее очень любила директриса, и все любили. Не любить ее было невозможно. Но учительница истории считала, что поповна иметь пятерку по ее предмету никаким образом не может. И когда весь класс кричал, что у нее же все безупречно, учительница говорила: «Нет, она пропустила то-то и то-то». Машечка очень боялась истории. И когда она поступала в Строга-новку, все сдала на пятерки, а последним экзаменом была история. Я ее провожала туда, Машечка шла, явно дрожа, и, когда я поглядела в щелочку, она была вся в красных пятнах. Она просто слова не могла вымолвить. Ей поставили двойку. Однако на следующий год она благополучно поступила. В итоге Маша окончила Строгановку, совершенно подорвав здоровье. А в это время как раз папа заболел. И это была милость Божия, что у меня получилось устроить ее к себе на работу.
Сестра всегда ответственно работала, любила всех, молилась за всех. Если ей казалось, что кому-то надо помочь, даже если ее не просили,— она молилась. А если попросишь ее о ком-то помолиться, а потом скажешь, что лучше человеку стало, она радовалась: «Ой, как я рада, когда так говорят! Как тяжело из колодца тащить, как хорошо, когда уже можно просто поблагодарить!»
—А как она из Машечки стала матушкой Ксенией? Когда она приняла постриг?
— Это было уже в годы перестройки. Я ничего не знала о ее намерениях. Я тогда отдыхала в Крыму, как раз после Юриной смерти. Машечка мне ничего не говорила. Я только не могла понять, почему я не могу до нее дозвониться. Я пробыла в Крыму полтора месяца. Потом как-то созвонилась все-таки с ней, она говорит: «Я тебя буду встречать». Я села в поезд. Еду. И вдруг я слышу такую речь в своей голове: «Вот ты тут отдыхаешь, лечишься, а она приняла постриг». Ну, я отбросила эту мысль: придет же такое в голову! через некоторое время опять: «А она все-таки приняла постриг». Это уже меня заинтересовало серьезно. Когда мы подъезжали к перрону, под вечер, я, конечно же, выглядывала в окно. И смотрю: стоит Машечка — в белом беретике, в светло-зелененьком, в белую клеточку пальтишке, подпоясанная, головка опущена, глазки опущены. Я посмотрела и поняла: «Приняла». Приехала домой, она меня кормит какими-то вкусностями. Я обратила внимание, что мяса она не ест.
Разговор не пошел. Утром она ко мне пришла, я еще толком с кровати не встала, в слезах мне говорит: «Наташенька, ты меня прости. Я приняла постриг. Вот возникла такая возможность. Я давно отцу Владимиру Тимакову говорила о своем желании, а тут возможность появилась. И он это все устроил». Но я уже больше никаких вопросов не задавала. Одежды соответствующие ей сшили. Ну и пошла у нас жизнь. Нормальная жизнь. Она уже тогда не работала, была на инвалидности. Хотя все равно — всегда в каких-то трудах, что-то делала, что-то писала. А какие яйца к Пасхе расписывала!
Все время она в болезни. Клинических смертей у нее было несколько. Когда отцу Владимиру Тимакову дали храм в 1990 году, она как раз в постриге была около года. Мы стали ему помогать, как могли. В первый день, сразу же, как нужно было петь... под Благовещение, он собрал всех, кто хоть как-то может это делать, и мы пели. А потом Машечку, матушку Ксению, он сделал ал-тарницей. Она, конечно, уставала очень, но не жаловалась. Тянула и тянула. А потом попала в больницу в состоянии клинической смерти. Но ее вымолили. Отец Владимир, да и весь приход о ней молились. А я не молилась о том, чтобы она осталась жива, — я не шла на такую дерзость, я говорила: «Да будет воля Твоя». Но я просила, чтобы жестокость реанимации ей не повредила.
— А как вы познакомились с отцом Владимиром Тимаковым?
— С отцом Владимиром мы познакомились очень давно. Моя кузина Марина училась в медицинском институте в одной группе с матушкой отца Владимира Фаиной Николаевной. Сначала они просто друг другу понравились, потом Фаина пошла к Марине в гости. Когда они проходили мимо Сокольнического храма, Фаина решила проверить, какое отношение к вере имеет Марина. Они вошли в храм, и Фаина поняла по тому, как с Мариной бабушки здоровались, что все в порядке. И, соответственно, они подружились. Отец Владимир познакомился прежде всего с семьей моей кузины. А потом через них уже и с нами. Мы к тому времени переехали в Новогиреево, и отец Владимир там рядом жил. Поэтому, когда наша мама болела, мы его звали к ней.
'Л

С сестрой Машечкой (в постриге — монахиней Ксенией) в Кратове

— Наталия Константиновна, вы как-то упоминали, что у вас было много знакомых монахинь в миру. Это, можно сказать, специфическое для советского времени явление церковной жизни...
— Да, в нашем кругу были такие. Одна из них — Ольга Александровна Кавелина27, в тайном постриге Серафима,—двоюродная сестра архиепископа Василия Кривошеина28. Она работала в светском учреждении. Еще тайной монахиней была машинистка, Татьяна Николаевна, которая перепечатала папины труды. Я к ней приезжала по поводу перепечатки и не знала тогда, что она монахиня. Она такая строгая была всегда, сухощавая, в белой кофточке с галстуком или бантиком.
Знала я инокиню Марию (в миру — Ольга Николаевна Вышеславцева)29. через нее мы познакомились с отцом Николаем Ведерниковым30, по -том подружились с ним и его матушкой. Когда Юра заболел, а потом слег, отец Николай каждую неделю приезжал к нам его причащать.
При Сокольническом храме были, конечно, монахини. Но они не стали для меня близкими людьми. Но ведь кроме монахинь были люди, которые, как бы сказать, достигали уровня настоящих монахинь по духовности. В частности, у нас какое-то время в храме в Сокольниках появлялась некая Поляша, старушка. Она была, наверное, почти в возрасте моих родителей, но выглядела моложе: маленькая такая, сухонькая старушка с седой косичкой. Она сама себя называла: «Я — девка глумная». То есть такое юродство в ней было. Но была и прозорливость. Она
рассказывала про себя, что их деревня во время войны попала под немецкую оккупацию. Кругом, в других деревнях, случались какие-то беды: кого-то зарежут, кого-то убьют... А в их деревне ничего такого не происходило. Ну, может, картошку украдут если только. Она каждый вечер ходила с иконой вокруг этой деревни. Подходила к часовому и говорила: «Милок, ты меня пусти. Я вот пройду, и все. Вот — с иконкой. Видишь, нет?» И ее пускали. Она была такая, что ее пускали. И в их деревне ничего страшного не происходило. А потом она меня попросила отреставрировать эту самую иконку. Говорит мне: «Почини мне иконку. Там что-то немножко Личико испортилось». Я согласилась, хотя никогда иконами не занималась. Она принесла иконку, и мне стало страшно: оказывается, там сохранился только кусок глаза и бровь. Я смогла как-то по этому восстановить Лик, но меня поразило то, что она-то ее видела как икону.
— Как к вам на работе относились?
— Великолепно, хотя в основном были люди далекие от церковной жизни, но уважавшие меня. Просто уважают такой, какая ты есть. К вере у них не было отрицательного отношения. Искусство — это все-таки среда довольно свободная, более терпимая.
— Наталия Константиновна, вы сейчас являетесь прихожанкой храма великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках на Лубянке — того
самого, где почти столетие назад служил ваш дед. Как это получилось?
— Около десяти лет назад нам позвонил отец Алексей Казанчев, который стал настоятелем этого храма, открывшегося после огромного перерыва31. Отец Алексей стал собирать информацию об истории храма и разыскивать родственников последних священников, служивших там,—отца Василия Смирнова и священноисповедника отца Владимира Проферансова. Так он вышел на нас. Сначала у меня не было возможности часто туда ездить — не могла надолго оставлять больную сестру. После смерти матушки Ксении я стала постоянно посещать этот храм. Здесь мои корни: здесь служил мой дед, в юности прислуживал псаломщиком мой отец, здесь служил двоюродный дед моего мужа. Так для меня все вернулось к своему истоку.
Протоиерей Сергий Правдолюбов
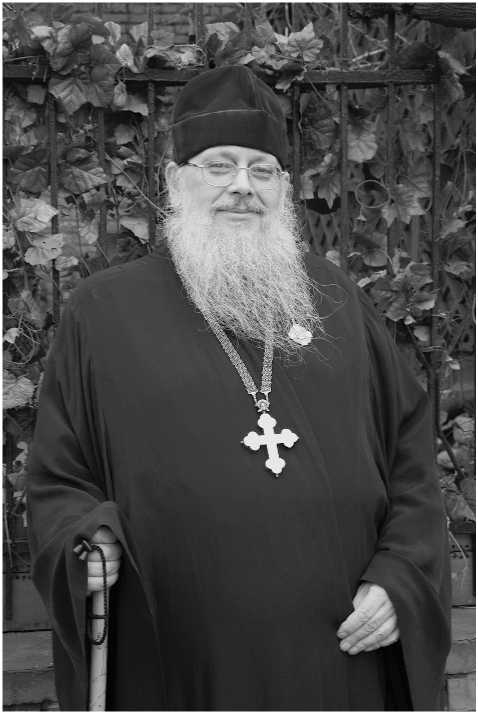
Меня вызвали, лампочка светит, а он рукой лицо закрыл и сквозь пальцы на меня смотрит, изучает... Я думаю: «О, не пройдет, ребята, не пройдет это со мной. Со мной — нет. Пойду в лагерь, но ни за что не буду с вами работать, ни за что».
Протоиерей Сергий Правдолюбов (род. 1950) — настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве (с 1990), магистр богословия, член Синодальной богослужебной комиссии, член Союза писателей России. Родился в священнической семье. В 1978 году окончил Московскую духовную академию, до августа 1989 года служил протодиаконом Николо-Хамовнического храма Москвы. В 1989 году рукоположен в иерея. Один год служил священником Никольского храма села Ржавки в Зеленограде (Москва). В ноябре 1990 года назначен настоятелем храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, в котором и служит по настоящее время.
— Отец Сергий, начну с вопроса традиционного: что, по вашему мнению, должно двигать человеком в принятии решения стать священнослужителем? Ведь жизнь священника особенная — не столько для себя и семьи, сколько для других людей, приходской общины. Что должно внутри человека произойти, чтобы он осознанно принял такое решение?
— Я не могу ответить на этот вопрос определенно, потому что никогда в жизни ничего не планировал. Однажды один очень высокопоставленный человек сказал мне: «Ты должен впервые взяться за ручку двери семинарии, четко зная, что ты там получишь, какое образование и что у тебя будет дальше. Как у шахматистов — ходов на пятьдесят вперед». Никогда я не пользовался таким приемом и не мог пользоваться, потому что я гуманитарий, не физик
и не математик. Я шел интуитивно — эвристический подход тоже имеет право на существование: «Господи, благослови» — и вперед. Нравится — делаю, не нравится — не делаю. Только очень умные и очень талантливые, волевые люди могут задумывать вперед, планировать. А я в детстве рос просто, не задумываясь, и главным образом смотрел на своего отца — протоиерея Анатолия Сергеевича Правдолюбова32. Это было его мощнейшее воспитание нас, четырех братьев, которые потом все стали священниками. И это произошло не потому, что мы такие хорошие, а потому что отец действительно был таким человеком, которого если бы поставить рядом с Иоанном Златоустом или Василием Великим, то он бы их полностью понимал, хотя и не обладал, конечно, их талантами. Отец был как бы современник той древней эпохи, и как про Иоанна Златоуста говорили: «Ну что же он так вел себя, так недипломатично!» — то же можно было сказать про поступки моего отца. Даже когда его предупреждали: «Нельзя так делать», — он делал так, как полагается, как
совесть велит. Он не оглядывался ни на кого. Потом он мог переживать, волноваться, думать, что, возможно, опрометчиво поступил. Однако его стихия — энергичная, мощная — именно она делала для нас родной всю прошедшую эпоху христианства. И сегодня, читая древних святых, мы смотрим внутренним взором на поступки отца и не вспомним такого случая, чтобы он говорил одно, а делал другое. Я думаю, что это было самым важным воспитанием. Помню богослужения на Страстной седмице и пасхальные службы. Это было не только воспитание, а приобщение к церковной жизни во всей возможной полноте. Мы видели, переживали, ощущали и понимали, что выше этого ничего нет. Так что я всегда смотрел на отца и старался поступать так же, как он.
Когда я окончил школу, до армии у меня оставалось еще полтора года, и, чтобы не болтаться просто так, я поступил в Гнесинское училище на отделение теории музыки. А потом из училища я пошел служить в армию, а после нее уже спокойно пошел в семинарию. Меня влекли интуиция и желание: очень хотелось, чтобы то, что есть у отца, было и у меня, так что никаких ходов я не просчитывал. Скорее, наоборот, когда я принимался за планирование, стараясь построить свою жизнь наиболее оптимально, то именно тогда делал ошибки. При этом я к священству шел очень долго, время было еще советское, а у меня
и отец и дед—лагерники, и в диаконах меня держали целых тринадцать лет. Я получил образование в Московской духовной академии, защитил кандидатскую диссертацию, но тринадцать лет еще был диаконом. Даже магистерскую, по старинному уставу Академии, написать успел. Так что мне очень трудно далась хиротония. И только много лет спустя, после падения железного занавеса, я узнал, что оттягивалось мое рукоположение не по доброй воле Патриарха Пимена33, у которого ранее был я иподиаконом, но это было вынужденное торможение из-за моих родственников. Фактически они еще считались государственными преступниками. На фоне начавшихся в стране изменений 16 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о реабилитации политических заключенных34 — невинных людей, которые пострадали в годы репрессий. Я это хорошо помню, потому что в дальнейшем читал материалы следственных дел своих дедов. 16 января постановление было принято в Москве, к июлю и в Рязани началось движение. Листки реабилитации были разложены по следственным делам, далее
было сигнализировано в Москву, что все сделано — постановление исполнено, реабилитация Правдолюбовых состоялась. И уже к августу кто-то кому-то позвонил и мне сказали: «Можно рукополагаться». В данном случае это тринадцатилетнее торможение было следствием того, что сотрудники соответствующих государственных органов боялись дать разрешение на мое возведение в сан священника.
И так я стал священником. И у многих других, включая моих знакомых, наконец появилась возможность принять сан. Это был удачный год, 1989-й.
Вот такая была подготовка. То есть ничего не было задумано специально, что вот, мол, хочу я быть священником и непременно должен добиться этого любыми путями. Я служил, как получается, полагаясь во всем на Бога.
— Не могли бы вы рассказать подробнее про вашего папу — отца Анатолия? Все-таки его опыт сам по себе потрясающий — независимый священник в советское время. Ну, может быть, приведете какие-то примеры, характеризующие его личность.
— Отец родился в 1914 году, за три года до революции. И он еще успел ухватить старые традиции школьного обучения, традиции преподавания и отношений в семье. И поэтому в детстве на него во всей полноте не было оказано давление советской идеологии.

С папой — протоиереем Анатолием Правдолюбовым. Около 1978 г.
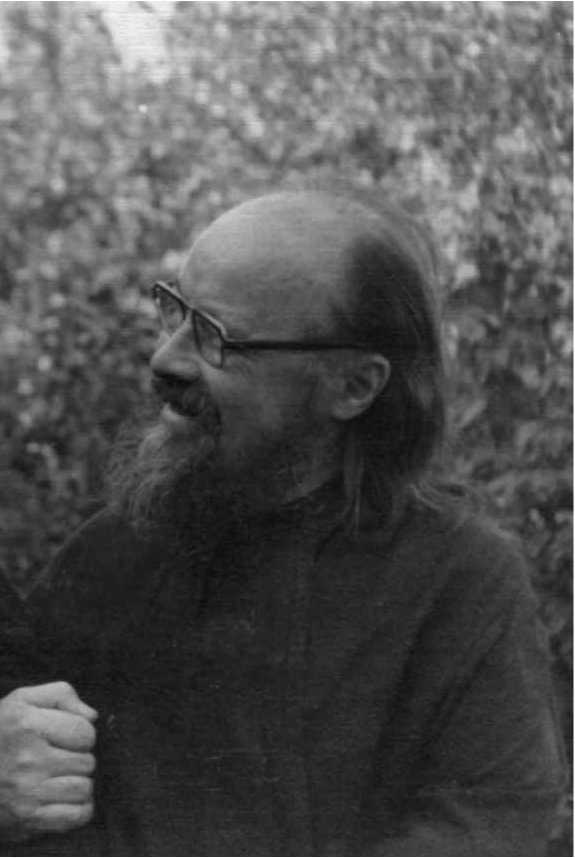
Родился он в Киеве, его отец (мой дед), священ -ноисповедник Сергий Правдолюбов35, учился в Киевской духовной академии. Тогда, в 1913 году, в Киеве летними вечерами под открытым небом играл симфонический оркестр, и мои дедушка и бабушка — тогда еще молодые люди, только что поженившиеся Сергий и Лидия, гуляли и слушали прекрасное исполнение чудесной музыки. И любовь к музыке, видимо, еще внутриутробно была воспринята отцом, он любил музыку настолько сильно, что я никогда больше ни у кого не встречал ничего подобного — музыка буквально захватывала его.
Но, правда, перед этим увлечением у него было и другое —поэзия, он даже сам писал стихи. Сборник стихов отца сохранился во втором томе его следственного дела как вещественное доказательство. Отец, конечно, не был поэтом в глубоком смысле этого слова. Он просто увлекался. В конце
своего поэтического сборника, прекрасного, кстати, рукописного (отец великолепно делал заставки, буквицы, рисунки, разные шрифты), он поместил стихотворение «Моей музе». И там юноша, молодой человек вдруг говорит вещие слова: «Все. Хватит. Я с тобой (с музой) прощаюсь. Благодарю, что смог испытать поэтическое вдохновение, но мне этого мало, я хочу большего». Да, значительного таланта, я бы сказал, у него не было, но увлечение серьезное было. Однако он оставил его сознательно в 1931 году.
Затем последовало увлечение музыкой, продолжавшееся уже всю жизнь. При этом отец не хотел делать музыку своей профессией. А его отец — мой дед — очень хотел видеть сына священником. Он приводил ему в пример профессора Михаила Николаевича Скабаллановича36, которого знал лично по Киевской духовной академии. Дед рассказывал моему отцу: «Захожу в кабинет Михаила Николаевича и вижу расстеленный на полу громадный ковер, а хозяин лежит животом вниз и крутится, как магнитная стрелка,— у него по радиусу книги разложены. Вместе с книгами там же, на полу, каша стоит недоеденная и кисель. И он—то к одной
книге поворачивается, переписывает, то к другой. И ты хочешь так всю жизнь? Животом вниз?»
Наука — нет, музыка — нет, поэзия — тем более нет. Только священником хотел видеть своего сына священноисповедник Сергий. Но музыкальное увлечение не давало отцу возможности думать о священстве. Он был упоен. Семья жила тогда в городе Касимове в Рязанской области, где дед был настоятелем Троицкой церкви. Там опытные музыканты нашли моему отцу очень хорошую преподавательницу, которая была ученицей ученика Сергея Васильевича Рахманинова37. Занимаясь с ней, Анатолий показал очень хорошие результаты. Прослушивали его и московские профессора, хотели принять на учебу, но оказалось, что сына священника, сына попа, не возьмут никогда. Это был 1933 год.
Тогда же, в 1933 году, очень благотворное влияние на формирование личности моего отца оказал архимандрит Георгий (Садковский)38, служивший
в городе Касимове всего несколько месяцев. И когда пришла телеграмма от митрополита Сергия (Стра-городского) о том, что архимандрит Георгий будет рукоположен во епископа Камышинского, он взял с собой в Москву на хиротонию моего отца, чтобы потом тот помог ему некоторое время в качестве иподиакона. А когда они были в Патриархии, произошла встреча с митрополитом Алексием (Симан -ским), будущим Патриархом Алексием I, который запомнил моего отца на всю жизнь. Владыка Алексий с архимандритом Георгием долго о чем-то беседовали, и архимандрит Георгий представил моего отца, сказав: «Вот юноша, который очень любит музыку». А митрополит говорит: «Ну, сыграете что-нибудь?» Отец начал играть на рояле, и так вдохновенно, что митрополит Алексий получил очень сильное впечатление. Затем он встал и сказал: «Ну что ж. Мне уже пора на всенощную». И, указав на клобук, добавил: «А вот мой инструмент». Так будущий Патриарх запомнил моего отца. И потом, когда он путешествовал по реке Оке, а мой отец уже стал священником, просил: «Найдите мне этого батюшку, отца Анатолия Правдолюбова».
чтобы представить масштаб увлечения моего отца музыкой, приведу пример: когда его на фронте очень сильно ранило в руку, так что он едва выжил, то, очнувшись, первым делом он спросил: «А я смогу играть на рояле?»
Но все-таки главный его поворот в сторону служения произошел еще до войны, в Соловецком
лагере. Там он увидел множество замечательных людей: архиереев, священников, монахов, уче-ных-профессоров и просто верующих. Тогда-то в результате мощного внутреннего переворота он и принял окончательно решение стать священником.
Увлекался музыкой и я, но в гораздо меньшей степени. Я тоже искал в ней, как бы сказать, некое откровение — искал в ней глубину и смысл для питания души своей. Но не нашел. То есть я всегда чувствовал предел, ощущал «потолок». Мог много раз прослушать одну симфонию какого-нибудь композитора, но ответа не получал, душе нужно было нечто большее. Только богослужение, литургия, предстояние перед Богом в церкви, молитва и проповедь — вот неиссякаемая пища для души. Это я интуитивно ощущал. Но конкретного выбора передо мной не стояло.
— Отец Сергий, расскажите о своем детстве. Как в советское время, когда общественность была негативно настроена не только к священнослужителям, но и в целом к людям верующим, вам жилось в семье и во внешнем мире? Расскажите про школьные годы.
— Моя мама, Ольга Михайловна,—дочка заключенного, а затем расстрелянного человека93, 39
бывшая какое-то время и невестой заключенного. И, несмотря на этот опыт, она почему-то очень сильно переживала в тот день, когда пришли люди из налоговой инспекции и стали кричать, что мы налоги не заплатили: текущий подо -ходный налог, налог на землю, на строение и еще на то, что в церкви поют. Мама сказала: «что вы так с нами разговариваете? Мы что, преступники?» Ей ответили: «Вы хуже преступников». И она от этих слов тогда очень расстроилась. А что рас-страиваться-то? Она уже давно шла путем исповедников, но все же государство считала своим, а не чужим. И поэтому переживала.
Мой отец — фронтовик, после Соловецкого лагеря он воевал, имел право на все положенные для фронтовиков и инвалидов войны льготы, у него рука была перебита. Но никто ему льгот не давал, он ими не пользовался, словно он и не был вовсе на фронте. Хрущевские годы были очень суровые.
Как раз на хрущевские времена пришлось мое обучение в школе. А я бы хотел сказать, что у нас в Касимове сохранялось довольно целомудренное с 1913 г. настоятель Покровской церкви села Селищи. Миссионер, проповедник, помощник всем своим прихожанам на сельскохозяйственных работах, фельдшер, пчеловод, организатор пожарной службы, пахарь. Арестовывался несколько раз. Почти полгода сидел в Касимовской тюрьме за неуплату налогов. В 1937 г. арестован и расстрелян в Рязани. Прославлен в 2000 г.
отношение жизни. Наши школьницы были девушками, а не просто молодыми женщинами. Это мы твердо знали. И отношение к батюшке было хорошим. Но под давлением хрущевской идеологии с намерением покончить с попами мощно пошли в атаку все идеологически ответственные за воспитание детей кадры. И было нарочно допущено даже некоторое воздействие на детей священника. К примеру, у нас искали крестики. В классе и у многих девочек тоже находили крестики, и они плакали, смущались. Это было ужасно. Это делали настолько возмутительно, что, будь я взрослее, я бы встал на парту и сказал: «Прекращайте. Как вы можете! Какое вы имеете право проверять, есть крестик или нет! Носить крест — право каждого свободного человека!»
Кратко расскажу вам о том, как именно в это время наша классная руководительница, мудрая женщина Мария Дмитриевна Шишаева, смогла изменить негативное отношение к детям священника. Я в семье был старшим из братьев — за мной три младших брата. И я как бы шел впереди, и на мне все испытывалось. А братья следовали за мной, как бы в кильватере или как на гонках велосипедных — в воздушной струе. Так вот, меня в школе начали бить, обзывали: «Поп, сын попа!» Один класс бьет, другой класс бьет. Я учился в классе «Б». Так меня гоняли и толкали по коридору и били с одной стороны ученики класса «А», а с другой стороны — класса «Б», и при этом
смеялись. Жестокость была просто неимоверная, подростковая жестокость по отношению к сыну священника. И били они не то чтобы насмерть, а просто забавлялись, им было весело: раз взрослые разрешают, давай мы его погоняем. И однажды они меня побили сильно, я шел домой с портфелем и по дороге плакал и всхлипывал. Пришел домой (а надо было бы отсидеться в кустиках). Мама смотрит на меня, а я всхлипнул, как бывает после плача, и она спрашивает: «Что с тобой случилось?» Ну, я и рассказал: «Да вот, ребята побили» — и все прочее. Она возмутилась и пошла к классной руководительнице, которая недалеко жила. И это был изумительный момент испытания на доброе честное отношение к людям для нашей классной руководительницы. Она нашла в себе силы и мужество изменить ситуацию, дай Бог ей Царствие Небесное за это. Она сказала: «Пусть Сергей дома посидит, завтра в школу не приходит».
Я обрадовался и думаю: «Ой, хотя бы недельку посидеть. Как хорошо дома!» Сижу дома, занимаюсь своими делами, книжки читаю. Вдруг какой-то шум раздается под окнами, дом-то у нас деревянный был. Что такое? Смотрю, стоят оба класса — «А» и «Б». Пришли извиняться. Парламентеры от каждого класса приходят к нам домой и говорят: «Сергей, выйди, пожалуйста, нам нужно с тобой поговорить». Выхожу. Я сыграть не сумел, а надо было подыграть классной
руководительнице — выйти так, знаете, как артисты выходят: «А, а! Мне плохо, мне тяжело!» А я вышел на улицу и спрашиваю: «Ребята, что такое? что пришли-то?» А они: «Сергей, мы пришли перед тобой извиниться, мы так делать больше не будем. Иди в школу учиться. Мы хотим, чтобы ты учился». Я отвечаю: «Ну, хорошо, спасибо! Приду. Завтра приду. Ну, до свидания». что же сделала учительница? Оказывается, она собрала оба класса и сказала: «Вы вчера избили Правдо-любова. Он в школу больше не придет. А вы знаете, что это нарушение Конституции, которая гласит, что должно быть всеобщее школьное образование? Так что вы нарушили Конституцию и ваших родителей могут арестовать. что теперь делать? Думайте. Или извиняться, или...» Как же она могла сильно за это поплатиться! Но Бог ее сохранил. И в атмосфере школы был совершен психологический перелом.
Когда я пришел, меня уже никто не трогал: «Здравствуй, здравствуй». Все с тех пор складывалось хорошо. Удивительно! И никто из моих братьев, которые учились в младших классах, ничего подобного не испытал. Я один такое испытание прошел и так для себя трактую это: если и побили бы еще — ничего, я бы не помер. Но Бог дал почувствовать мне, что значит быть гонимым. Что мои отцы и деды в тюрьмах и лагерях чувствовали — это вообще не поддается описанию. Но и я чуть-чуть попробовал, что значит
быть гонимым. Это полезно. А то я пятьдесят лет прожил в двадцатом веке, и никто меня не арестовал, не посадил, и я даже скорблю, что в армии не был ни разу на гауптвахте. Надо было бы посидеть хотя бы пару деньков. Жалею. А вот теперь у меня комплекс неполноценности из-за этого.
Второе испытание тоже было символическое. Бог снова совсем немножко дал почувствовать, как быть гонимым. Второй случай произошел уже в музыкальной школе. Я учился параллельно обычной школе еще и в музыкальной, в соседнем городе по классу скрипки. И заканчивал как раз в 1967 году музыкальную школу. А наш директор, которого, кстати, позднее тайно хоронили по православному обычаю, был коммунистом. И вот, была получена установка устраивать концерты и другие мероприятия в дни церковных праздников, чтобы на службы никто не ходил. И в тот год директор назначил лекцию-концерт на Великую Субботу. А я у него учился, он был директор и мой же преподаватель. Я ему сказал, что не приду. «Ты что? Сорвешь лекцию и концерт?» Отвечаю: «Виталий Иванович, вы разве не знаете, что это Великая Суббота? В Великую Субботу я играть не буду». Мне уже все-таки было почти семнадцать лет, я уже был почти взрослый человек. «Да? — сказал он. — Посмотрим». Подозвал он еще учительницу, а она говорит: «А я тоже не буду играть в Великую Субботу». И мы сорвали лекцию-концерт.
Директор был в ярости. Он подписал приказ о моем отчислении из музыкальной школы без права аттестата. И меня отчислили. Мы на Великую Субботу поем, на Пасху поем в храме, а лекция сорвана. Потом я приезжаю, а мне говорят: «А ты уже не ученик. Никакого тебе аттестата не будет». Помню, иду по улице рядом с ним, он меня ругает, а рядом жена ему говорит: «Виталий, ну дай ты ему аттестат. Ну зачем ты так? Не надо этого делать. Дай». «Нет. Не дам. Я коммунист. Не дам».
Но соль в том, что я все-таки поступил в Гне-синское училище без этого аттестата. Я поступил, а все остальные выпускники моего года никуда не поступили. И кстати, меня все равно потом позвали выступить в Касимове на концерте, который состоялся позже, уже после Пасхи, и я пришел как свободный художник, а не ученик школы. А играли мы струнный квартет, между прочим. Это для нас был серьезный уровень. Сыграли мы вдохновенно — «Сарабанду» Грига из Гольдберг-сюиты, и это было настоящее торжество Православия. Я и сейчас, когда слушаю «Сарабанду» Грига, вспоминаю те события, и для меня эта музыка звучит как гимн в защиту Православия.
Поступил, в общем, я в Гнесинку, пройдя маленькое испытание. Так я ближе почувствовал подвиги мучеников и святых и осознал, что такое следование православной вере.
— Отец Сергий, вам было шестнадцать лет, когда в Касимов приехал отец Иоанн (Крестьян-кин)40. Какое влияние он оказал на вас? Что особо запомнилось?
— Отец Иоанн имел для меня и для всей нашей семьи очень большое значение. У нас в Касимове служил он целый год. Мы учились у него, испрашивая благословение в своих намерениях и планах. И он советовал никогда не проявлять лишней инициативы, а молиться Богу и ждать какой-нибудь результат.
О его влиянии на мою жизнь я скажу очень кратко. Это история взаимоотношений, я бы сказал, настоящего преподобного отца с чудным юношей, который все по-своему хотел делать. Не хватало у меня ума, сердца, понимания... А все-то «я вот так хочу» и «так вот хочу». И он меня все время старался в соответствующие рамки ввести. Однако не ломал меня, не ломал мою волю. Он терпеливо ждал. Но сколько он со мной бился! Я иногда так думаю: «Господи, сколько он на меня потратил сил! Сколько энергии! Любой другой на моем месте сам давно бы стал преподобным». Это печально. Сейчас уже ничего не сделаешь, но печально. И поэтому я скорблю и вспоминаю с благодарностью все поездки к нему, его
благословения, его советы. Ему трудно со мной было, но как полезно для меня и поучительно.
Не может один человек другого ломать, заставлять, принуждать. И отец Иоанн был очень аккуратен в этом плане. Очень. Он относился к моему отцу с большим уважением, потому что сам был заключенным, и отец был заключенным, сам пять лет провел в лагерях, и мой отец тоже, — окопы, как говорится, одни. Отец Иоанн щадил меня, вместо того чтобы дать хорошенько по голове и строго со мной поговорить. Щадил и потихонечку воспитывал. Но, к сожалению, отдача была очень маленькой. Если бы кто-то был на моем месте, какую бы он получил колоссальную школу и какую духовную пользу! Молитве бы научился... А я не могу назвать себя ни в коем случае ни его учеником, ни последователем. Мой опыт общения с отцом Иоанном — скорее иллюстрация того, как приходится едва-едва удерживать в святоотеческих традициях человека, который все хочет сделать по-своему.
Я даже скрывал от него, что пишу вторую диссертацию. Он знал, конечно, что я скрываю, и ничего не говорил. А когда я изнемог уже, совсем из сил выбился, не было сил закончить работу, вот тут он совершенно неожиданно и жестко сказал: «Заканчивай свою работу. Защищай ее». Он видел, что я могу сломаться, и решительно благословил меня. Очень часто мы заранее представляли, что может сказать отец Иоанн, но он всегда
говорил что-то совершенно нестандартное и неожиданное. Каждый раз невозможно было предугадать. Жалко, что на моем месте не оказался другой человек, который бы мог воспринять это богатство и действительно стать настоящим учеником и последователем отца Иоанна. А я увлекся научными изысканиями: Андрей Критский, Великий канон. А надо было отца Иоанна изучать и слушаться, молитве у него учиться, вместо своего «хочу».
—Как прошла ваша служба в армии?Как там относились к тому, что вы верующий?
— Когда я пришел в военкомат, нас там основательно погоняли. Сейчас в трусах на осмотре призывники проходят комиссию, а мы тогда были без трусов, как невольники на рынке рабов. Ходим по военкомату абсолютно голые. А у меня крестик на шее. И вот сидит в полном облачении, в военной форме генерал, комиссар Дзержинского района города Москвы. И смотрит на всех нас. Увидел меня и говорит: «Так! Это что? Псих, что ли? Зачем он крестик носит? Его в психбольницу надо отвезти!» Я говорю: «Простите, товарищ генерал. Видите ли, крестик старинный. Это моя вера. Я в Бога верю и поэтому крестик никогда не снимаю. Я ношу его всю жизнь». Он: «О! Ну все понятно. Куда его?» — обращается он к соседу. «Ну, давайте мы его назначим в наземные ВВС в Воркуту». Это значит — чистить аэродромы. Снега там много выпадает. Я потом был с концертом в одной из таких частей,
там одни очкарики сидят. Я тоже очки носил, глаза были плохие. И вот определили в Воркуту, все подписали: «Проходи дальше».
А возле этого же стола сидел майор чигирь. Он был из военного ансамбля одной из московских частей. Еще раньше он проходил по коридору Гне-синского училища и спрашивал: «Есть среди музыкантов те, кто в армию скоро пойдет? Мне нужны музыканты». Вот мне и посоветовали: «Пойди подойди к нему». Я и подошел. Он говорит: «Ага. На скрипке играешь, на фортепиано, поешь. Хорошо». И меня записал. И заранее сумел подписать приказ от министра. И вот когда меня в Воркуту отправлять собрались, то Чигирь и говорит: «Нет. У меня на него уже команда есть. Этот Правдолюбов пойдет к нам». «Да? — удивился генерал. — Ну ладно. Берите его». И я ровно через неделю сел на такси и поехал в армию служить... в Москве. Вот что делает исповедание веры. Так я и в Воркуту не попал, и крестик отстоял.
Потом меня уволили из ансамбля. Я в нем служил полтора года — в офицерской форме, и не только со скрипкой, но и пел, и на контрабасе играл, был конферансье, все делал, только что не плясал.
После этого меня уволили с треском, и вот за что. Было столетие со дня рождения Ленина, 1970 год. А весь наш музыкальный взвод дал, как выяснилось (я этого не знал), обещание быть стопроцентно комсомольским. И меня они тоже рассчитывали записать в комсомол. Все знали, что
я с крестиком хожу, и направили трех комсоргов, чтобы меня вовлечь в комсомол. Ходили комсорги вокруг, но почему-то ни один из них не решился ко мне подойти. В итоге торжественно постановили: уволить из ансамбля. А в армии есть замечательная пословица: «Не спеши выполнять команду, потому что может поступить команда „отставить"». И я продолжал тихо себе служить, команда «уволить» была, но в то же время руководство не спешило с исполнением. И так продолжалось, пока у нас не произошел неприятный случай — один мой однополчанин попытался покончить с собой.
Мой сосед по койке взял веревку, прицепил ее к кровати верхнего яруса и ночью повесился. А я слышу: хрипит. Я подумал, что он пьяный, сейчас на мою кровать его вырвет и придется потом все стирать. Начал раскачивать его, а он по радиусу двигается. Присмотрелся, а он на веревке висит. Я быстро поднял сержанта, прибежал фельдшер, вытащили его из петли. И он выжил. Потом он на меня даже не смотрел, словно возненавидел меня за то, что я ему помешал. Пришли с проверкой из Особого отдела и говорят: «Пишите объяснительные записки. Ты, что ли, разбудил? Пиши». Я пишу объяснительную записку, а особист документы смотрит и вдруг спрашивает: «Так, а почему он не уволен?»
Ну и уволили. Разжаловали в стройбат нашего же полка. Обычно последние полгода службы

Ансамбль песни и пляски. В верхнем ряду, пятый слева — Сергей Правдолюбов. 1970 г.

люди отдыхают — они «старики», «ветераны», а меня на строительство дома, на тяжелые работы с бетоном отправили. И надо сказать, довольно тяжело мне было. Я ведь уже привык к аплодисментам, а тут грязные и тяжелые работы. Там со мной еще один баптист служил, он принципиально не брал автомат в руки.
И вот, представьте себе, я до сих пор с благодарностью вспоминаю сержанта из стройбата. Не помню его фамилии. Простой сержант. Часто сержанты бывают вредные, неприятные, они не только «давят», но и «ногами потоптать» могут. Но он, когда увидел стойкость моей веры, сумел понять мое психологическое состояние. Вот идем мы на объект. Распределение пошло: «Вы делаете это, вы делаете то, а вы — то...», а мне говорит: «Правдолюбов, иди сюда. Вот эту березку видишь? Вот иди ложись там и лежи». И так целую неделю. Это было поразительное психологическое понимание стрессового состояния — он пощадил меня, дал возможность привыкнуть. К концу недели он опять предложил полежать, но я говорю: «Слушайте, товарищ сержант, а можно я поработаю?» «Ну, наконец-то,— говорит. — Давай. Подключайся». Вот такой был он психолог. Простой наш советский сержант, который вдруг меня понял.
Потом и позорный момент был в моей армейской биографии. На объекте работали, копали траншею. Просто от нечего делать, не было
фронта полезных работ, вот и копали траншею без всякого смысла. Это ужасно! Работать так было невозможно. Так вот, к концу дня один боец побежал в магазин, купил водочки. Меня позвали: «Правдолюбов, иди сюда». Я говорю: «что, угощаете?» «Угощаем». «Ну, давайте». И я с ними выпил. Вдруг идет лейтенант. «что вы здесь делаете?! Построиться! Быстро!» Ох и ругался он. «Я знаю, что вы здесь делали! Вот Правдолюбов один, — говорит,— не пил, это точно». А я же не баптист, чтоб ни капли не пить. Но я молчу, потому что не понимаю: признаваться или нет. Лейтенанта неудобно обидеть — если сказать, что я пил, то его в неловкое положение поставлю. Он назначил наказания какие-то, развернулся и ушел. Я своим говорю: «Ребята, неудобно. Я же тоже пил. Надо было признаться». «Нет, все правильно. Ты веру не поколебал этого лейтенанта. Это хорошо. Мы, — говорят,— знаем, выпить чуть-чуть не так страшно. Но лейтенант пускай дальше в тебя верит».
8 сентября 1943 г. состоялся Собор епископов, избравший Патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия (Страгородского), бывшего с 27 декабря 1936 г. Местоблюстителем Патриаршего престола.
Архиепископ Андрей (Комаров, 1979-1955) — иерей с 1901 г., после 1908 г. — приходской священник в Саратове, в 1923 г. принял монашество. В 1921 г. внес большой вклад в организацию помощи голодающим и беспризорным детям. В 1923 г. хиротонисан в епископа Балашовского, викария Саратовской епархии, затем последовательно был викарием других епархий в Поволжье. В 1934 г. возведен в сан архиепископа. С 1941 г. — правящий архиепископ Куйбышевский и Сызранский, с декабря 1943 по март 1944 г. вызывался на зимнюю сессию Священного Синода, во время которой ему было доверено делать заключения по прошениям бывших священников (отрекшихся). Вероятно, именно тогда он и получил письмо вдового протоиерея Леонида Поспелова (будущего архиепископа Кирилла). С начала 1944 г. — архиепископ Днепропетровский, Запорожский и Сталинской области.
Инуде — в другом месте, где-нибудь (церковнослав.).
См.: Ин. 10: 1-2.
Епископ Вениамин (Милов, 1889-1955) — три раза в течение жизни (в 1929, 1938 и 1949 гг.) был арестован, подвергался пыткам, провел многие годы в лагерях и на поселении. С июля 1946 г. жил в братстве Троице-Сергиевой Лавры. С 1946 г. — преподаватель, с 1947 г. — доцент, в 19481949 гг. — профессор по кафедре патрологии и инспектор Московской духовной академии. Также преподавал апологетику, пастырское богословие, догматику и литургику, много проповедовал. 4 февраля 1955 г. хиротонисан в епископа Саратовского и Балашовского. 12 мая 1955 г. подал прошение в Генеральную прокуратуру СССР о реабилитации и был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий, 18771961) — архиерей и одновременно профессор медицины. Был тайно пострижен в монашество в 1923 г. и тогда же хиротонисан в епископа. С апреля 1946 г. — архиепископ Симферопольский и Крымский. Удостоен Сталинской премии первой степени (1946) за результаты научных трудов по гнойной хирургии. Провел в ссылках в общей сложности 11 лет. В апреле 2000 г. реабилитирован и в том же году прославлен в сонме святых — новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
Илия (Карам, 1903-1969) — с 1935 г. митрополит Гор Ливанских (Антиохийская Православная Церковь). Несколько раз, начиная с 1947 г., приезжал в СССР. Биографические сведения о нем крайне скудны, а трактовки целей и содержания его визитов — противоречивы.
Протоиерей Михаил Лебедев (1890-1979) — в 1915 г. окончил Петербургскую духовную академию. Преподавал в советских школах историю и обществоведение, уволен за религиозные убеждения. В 1946 г. рукоположен в священника и через полгода приглашен архиепископом Кириллом (Поспеловым) на должность настоятеля Пензенского Успенского кафедрального собора.
См.: 1 Кор. 13:1.
Митрополит Антоний (Блум, 1914-2003) — выдающийся просветитель, известный проповедник и богослов, иерарх Русской Православной Церкви. Монашество принял в 1943 г. С 1957 г. епископ Сергиевский, викарий Западно-Европейского экзархата Московского Патриархата (с пребыванием в Лондоне). С 1962 г. — архиепископ Су-рожской епархии РПЦ в Великобритании. В 1965 г. возведен в сан митрополита. Доктор богословия honoris causa Московской духовной академии (1983) и Киевской духовной академии (1999).
Сексоты — официальное название — секретные сотрудники (агенты) еще со времен работы полиции Российской империи. Тот же термин использовался в документах советских спецорганов (ВЧК — ОГПУ — НКВД).
Доктусов Николай Петрович (1883-1959) — с 1944 г. преподаватель Православного богословского института и Богословско-пастырских курсов в Москве, преобразованных в августе 1946 г. в Московскую духовную академию и семинарию, с 1949 г. профессор, с 1951 по 1956 г. — инспектор МДАиС. В те же годы ректором стал протоиерей Константин Ружицкий. Вместе с ним и ученым секретарем Н. И. Муравьевым Н. П. Доктусов осуществлял руководство духовными школами.
Протоиерей Всеволод Шпиллер (1902-1984) — многолетний (1951-1984) настоятель церкви свт. Николая в Кузнецах в Москве. С 1934 до 1950 г. — клирик Болгарской Православной Церкви. В феврале 1950 г. с семьей по приглашению Патриарха прибыл в Москву и был принят в клир Русской Православной Церкви. В 1950-1951 гг. — инспектор Московской духовной академии и семинарии, доцент.
Протопресвитер Николай Колчицкий (1890-1961). Священник с 1914 г., с 1924 г. до кончины — настоятель Московского Богоявленского кафедрального собора. В 19411960 гг. — первый управляющий делами Московской Патриархии. Личность отца Николая вызывала и вызывает до сих пор неоднозначные оценки современников и историков: от крайне негативных до крайне восторженных.
Митрополит Николай (Ярушевич, 1892-1961) — епископ Русской Православной Церкви с 1922 г., с 1935 г. — архиепископ, с 1941 г. — митрополит. Три года с 1923 г. провел в ссылке. С 28 января 1944 г. — митрополит Крутицкий, управляющий Московской епархии, с 25 марта 1947 г. — митрополит Крутицкий и Коломенский; в 1943-1960 гг. — глава Издательского отдела Московской Патриархии; в 1946-1960 гг. — председатель Отдела внешних церковных сношений. В 1960 г. за свои резкие высказывания в период хрущевских гонений на Церковь под прямым давлением нового председателя Совета по делам РПЦ В. А. Куроедова смещен со всех должностей и отправлен на покой.
Якунин Глеб Павлович (род. 1934) — бывший священник Русской Православной Церкви, общественный и политический деятель, диссидент, депутат Верховного Совета РСФСР (1990), Государственной думы (1993-1995). В 1965 г. вместе с Николаем Эшлиманом, на тот момент также священником РПЦ, направил Патриарху Алексию I (Симанскому) открытое письмо, в котором говорилось о преследовании Церкви и верующих в СССР. По настоянию властей авторы письма были запрещены в служении.
В 1979 г. Глеб Якунин арестован и в 1980 г. осужден за антисоветскую агитацию, отбывал срок в Перми-37 до 1985 г., затем провел два с половиной года в ссылке в Якутии. В 1987 г. амнистирован и восстановлен в сане, служил в Подмосковье. В 1993 г. лишен священнического сана, в 1997 г. — отлучен через анафематствование.
Протоиерей Александр Щербов (1868-1957) — клирик Ташкентской епархии.
Митрополит Арсений (Стадницкий, 1862-1936) — с 1906 г. присутствующий в Священном Синоде. В 1907 г. избран членом Государственного Совета Российской империи от монашествующего духовенства. С 1910 по 1925 г. был правящим архиереем Новгородской епархии (архиепископ, с 1917 г. — митрополит). На Поместном соборе 1917-1918 гг. был одним из трех кандидатов на Патриарший престол. В 1925-1936 гг. находился в ссылке в Средней Азии, номинально оставаясь митрополитом Новгородским. С 1933 г. — митрополит Ташкентский и Туркестанский. В связи с закрытием всех храмов Ташкента совершал богослужения под открытым небом, у кладбищенской часовни иконы Богородицы «Всех скорбящих Радосте», на которые стекалось до 20 тыс. верующих из города и окрестных селений. Был духовным наставником архиепископа Луки (Войно-Ясенецко-го), умер у него на руках в ташкентской больнице.
Митрополит Никандр (Феноменов, 1872-1933) — епископ Русской Церкви с 1905 г. С 1918 г. неоднократно был арестован, в том числе 20 марта 1923 г. — привлечен к суду вместе с Патриархом Тихоном (Белавиным), митрополитом Арсением (Стадницким) и секретарем Патриарха Петром Гурьевым. Архиепископ с 1919 г., митрополит — с 1925 г. Осенью 1927 г. назначен митрополитом Ташкентским и Туркестанским. Умер в Ташкенте.
Священномученик протоиерей Владимир Проферансов (1874-1937). Родился в Москве в семье священника. В 1897 г. окончил Московскую духовную семинарию, после чего долгие годы работал учителем Закона Божия. С 1915 по 1920 г. последовательно — староста, диакон, священник храма Георгия Победоносца в Старых Лучниках. С 1923 г. — секретарь при Патриархе Тихоне. До 1932 г. — настоятель храма Георгия Победоносца. В 1932 г. арестован, провел три года в ссылке. В 1937 г. снова арестован и приговорен к расстрелу. Расстрелян на Бутовском полигоне. Прославлен в лике новомучеников в 2000 г.
Ульянова Мария Ильинична (1878-1937) — младшая сестра В. И. Ульянова (Ленина), член РСДРП с 1998 г. С 1917 г. член бюро ЦК РСДРП(б), а в 1925-1934 гг. — ЦКК ВКП(б), с 1932 г. член Президиума ЦКК ВКП(б), с 1935 г. — ЦИК СССР. В 1917-1929 гг. входила в состав редколлегии газеты «Правда».
Епископ Серафим (Звездинский, 1883-1937). Пострижен в монашество в 1908 г., с 1909 г. — иеромонах, преподаватель Вифанской и Московской духовных семинарий. С 1914 г. — архимандрит, помощник наместника Чудова монастыря епископа Арсения (Жадановского). В 1920 г.
«Непоминающие» — неофициальное название священнослужителей Патриаршей Церкви, не согласных с церковной политикой митрополита Сергия (Страгородского) и не поминающих за богослужением его имени вслед за именем Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра (Полянского), находившегося под арестом. Особенно преследовались властями.
Перефразированные слова из канона Андрея Критского: «Внешним прилежно благоукрашением единем по-пекохся, внутреннюю презрев Богообразную скинию».
Митрофорный протоиерей Андрей Расторгуев (1894-1970) происходил из поволжской старообрядческой семьи; в 1914 г. поступил в Московскую духовную академию, но в 1917 г. был призван в армию, окончил Военное училище. В том же году рукоположен в иереи, служил в походной церкви одного из пехотных полков. В 1918 г. арестован «за отказ содействовать советской власти». В том же году возведен в сан протоиерея. С 1923 до 1943 г. находился в обновленческом расколе. В 1928 г. поставлен обновленцами в епископа в брачном состоянии, с 1931 г. — обновленческий архиепископ. В 1941 г. отправлен за штат и исключен из списков обновленческих иерархов. В 1943 г. после принесения покаяния принят в общение РПЦ в сане протоиерея, назначен настоятелем Воскресенского храма в Сокольниках, где прослужил 25 лет. В 1951-1954 гг. служил в Берлинской епархии, в том числе был настоятелем Воскресенского храма в Берлине.
Протоиерей Александр Ветелев (1892-1976) окончил Казанскую духовную академию в 1917 г. Имел также светское образование. С 1921 по 1943 г. преподавал в средних учебных заведениях. С 1945 г. — преподаватель Московского православного богословского института (с 1946 г. — МДА), в 1949 г. получил степень магистра богословия, в 1967 г. — доктора богословия. В 1946 г. рукоположен в священника. Служил в различных московских храмах. Последнее место служения — Знаменский храм у Рижского вокзала. Будучи выпускником духовных учебных заведений дореволюционного времени, способствовал сохранению традиций отечественного духовного образования.
Кавелина Ольга Александровна (1916-2006) — пострижена в монашество с именем Серафима архиепископом Василием (Кривошеиным). С детства была связана с Оптиной пустынью, настоятель которой архимандрит Леонид (Кавелин) был ее двоюродным дедушкой. Помогла при открытии монастыря найти места погребения старцев. Похоронена на кладбище монастыря Оптина пустынь.
Архиепископ Василий (Кривошеин, 1900-1985) — сын министра земледелия Российской империи А. В. Кривошеина. Воевал в Добровольческой армии. В 1919 г. эмигрировал в Париж. С 1925 по 1947 г. подвизался на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре. В 1927 г. принял монашество. Приобрел международную известность как ученый-патролог. В 1947 г. вынужденно переехал в Великобританию. С 1951 г. — в юрисдикции Московского Патриархата. С 1959 г. — епископ Волоколамский, с 1960 — епископ Брюссельский и Бельгийский, возведен в сан архиепископа. Выступал против гонений на Церковь. С 1956 г. посещал СССР около 20 раз. В последний приезд скончался в Ленинграде.
Вышеславцева Ольга Николаевна (1898-1995) — потеряв сына (погиб на фронте) и мужа (умер после тяжелой болезни), тайно приняла иноческий постриг с именем Мария.
Протоиерей Николай Ведерников (род. 1928) — священник и композитор. В 1952 г. окончил Московскую консерваторию по классу скрипки, в 1955 г. — по классу композиции. В 1958 г. рукоположен в диакона, в 1961 г. — в священника. В 1961-1973 гг. служил в церкви Рождества Христова в Измайлове, окончил заочно Ленинградскую духовную семинарию, в 1973-1989 гг. — настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, в 1978 г. окончил Московскую духовную академию. С 1989 г. служит в церкви св. Иоанна Воина на Якиманке.
Храм был закрыт в 1932 г. и передан НКВД. Сначала там располагалось общежитие НКВД, потом — обувная мастерская КГБ. Верующим храм вернули в 1993 г. в плачевном состоянии.
Митрофорный протоиерей Анатолий Правдолюбов (1914-1981) из старинного священнического рода. Сын священноисповедника протоиерея Сергия Правдолюбова, вместе с которым пять лет провел в заключении в Соловецком лагере и на материке (1935-1940). В 1947 г. принял священнический сан. Последние 22 года своей жизни прослужил в Покровской церкви поселка Сынтул (село Маккаве-ево) Касимовского района Рязанской области.
Патриарх Пимен (Извеков, 1910-1990). С 1971 г. Патриарх Московский и всея Руси.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х гг.».
Священноисповедник митрофорный протоиерей Сергий Анатольевич Правдолюбов (1890-1950). Первый раз заключен под стражу в 1929 г., в 1930 г. выпущен по просьбам верующих. В 1935 г. арестован вместе с братьями Владимиром (f1937) и иереем Николаем (f1941) и двадцатилетним сыном Анатолием. Пять лет провел в заключении в Соловецком лагере и на материке. После освобождения вернулся в город Касимов. В августе 1942 г. последовал третий арест отца Сергия и тюрьма. После освобождения в марте 1943 г. служил в Никольской церкви Касимова. В декабре того же года мобилизован на трудовой фронт ночным сторожем на карьер по добыче белого камня. Демобилизован в 1946 г., но с запретом на служение в Касимове. Последние годы служил в городах Спасск и Лебедянь.
Скабалланович Михаил Николаевич (1871-1931) — православный богослов, экзегет и литургист, преподаватель Киевской духовной академии. Наиболее известен его фундаментальный научный труд «Толковый Типикон», за который автор был удостоен ученой степени доктора церковной истории и премии митрополита Макария (1912).
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) — выдающийся русский композитор, пианист и дирижер.
Епископ Георгий (Садковский, 1896-1948). Родился в Москве в семье священника. В 1922 г. — монах, иеродиакон, иеромонах. Претерпел заключение в Соловецком лагере (1923-1926) и других местах (1929-1932). Архимандрит с декабря 1927 г. В 1933 г. был настоятелем Благовещенской церкви Касимова, откуда возведен на епископский престол. В 1935 г. снова арестован, приговорен к расстрелу, который отменили. Десять лет отбывал заключение на золотодобывающих шахтах Дальнего Востока. Скончался на покое в Псково-Печерском монастыре.
Священномученик митрофорный протоиерей Михаил Дмитрев (1873-1937). Родился в селе Маккавеево в семье протоиерея, происходящего из старинного священнического рода. После семинарии служил в отцовском храме,
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) с 1957 г. служил на разных приходах Рязанской епархии, в том числе с весны 1966 г. был настоятелем Никольского храма Касимова.
А потом на Казанскую меня вызвали. Ансамбль наш, откуда меня разжаловали, в блестящих своих мундирах бесконечно репетировал выступление к концерту 7 ноября, и почти два месяца солдаты должны были выступать с концертами. И только после Нового года всех сразу должны были уволить в запас. А один из наших разбой-ников-стройбатовцев сильно напился, ночью шумел. Его и вычеркнули из списков. А кого поставить на его место? Поставили меня. На целые две
недели раньше своего срока, 4 ноября, на Казанскую, я с чемоданчиком был отправлен домой. Тут я свредничал, специально зашел в клуб и говорю: «Ребята, желаю вам еще два месяца хорошо потрудиться, а я уже еду домой!» Как они завистливо вздыхали!.. И поехал я домой с крестом — как говорится, не на щите, а со щитом (то есть вернулся с победой.—Ред.). И этот ансамбль, кстати, многих батюшек для Церкви дал в дальнейшем.
Вот такая история, связанная с хрущевским и с брежневским временем. Жизнь показала, что такие качества, как стойкость и твердость, для христианина — самая главная опора в жизни. Почему-то большинство моих одноклассников сегодня какие-то сломленные люди. Кто их ломал? Я не знаю. У многих из них как-то в жизни не сложилось. А я, каким был в классе, такой и сейчас. Времена изменились. А я говорю: «Вы понимаете, ребята, я и однополчан своих тоже иногда вижу, — как было в школе и в армии, так у меня ничего не менялось, не ломалось. Все хорошо». А у них жизнь — большие трудности и обиды. Так что я рад тому, что имел возможность почувствовать гонение, хоть и маленькое.
Применяю к себе слова владыки Антония Сурожского. Он говорил, что Господь ведет нас Сам. Он нам помогает. Он нас учит. И Церковь нас учит. Причем Бог радуется всему, что мы сделаем, пусть даже не сами... Как мама, которая берет своей рукой ладошку младенца и начинает
вместе с ним писать. «Пиши, пиши! Как ты хорошо написал!» А это ведь не сам младенец писал, а мама водила его рукой. Так же и я: меня побили, из школы прогнали, в армии тоже проблемы были. Но это что? Разве что-то ценное? А мне говорят: «Вот какой ты молодец! Смотри, все вынес!» Да чего выносить-то было? Это просто маленькое испытание, чтобы появился навык веру сохранять. Зато, как я уже говорил, начинаешь лучше понимать святых, преподобных и тех, кто страдал в лагерях и умирал, тех, кто был расстрелян.
— Отец Сергий, а как объясняли родители то, что в вашей семье при существующем режиме сплошные узники? И что говорили дома про советскую власть, про Ленина, Сталина, про современников —Хрущева и Брежнева?
— Я считаю, что двоякий взор на нашу историю невозможен. И отец, и мать не скрывали никогда того, как и при каких обстоятельствах арестовывали наших родственников. Мама рассказывала со слезами об аресте ее отца, совершенно невинного человека. Невиновность и реабилитация потом подтвердила. Я знал, как арестовывали моих отца, деда и прадеда1. Конечно, они
не думали, что будут святыми: Бог, Он знает, какими они были. Помню, отец сказал про близкого человека для нашей семьи — Веру Самсонову96, которая умерла за две недели до освобождения, теперь мученица, прославленная Церковью. Отец всегда, ее вспоминая, говорил: «Как Бог ее интересно сподобил. Она стала мученицей, она домой не вернулась». «А мы,—говорит,—вернулись, и мы — исповедники. А она мученица». Отец без пафоса говорил это, просто и естественно.
Но у каждого отца наступает период, когда его дети начинают мало с ним считаться, особенно мальчики, будущие мужчины. Так было и у нас. «Ну и что? Ну и кто он такой?» — думали мы. Отец со скорбью говорил, это я очень хорошо помню: «А ведь раньше к исповедникам относились с почетом, потому что они страдали за Христа. Их не замучили окончательно, они остались живы, но они — живые свидетели страданий за Христа». «А сейчас, — говорит, — нет. Время не то пошло».
образования. В 1892 г. рукоположен во священника. Стал настоятелем Успенской церкви города Касимова. Несколько лет до кончины был настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы и благочинным всего города. 6 ноября 1937 г. арестован и 23 декабря расстрелян в Рязани. Прославлен в 2000 г.
96 Самсонова Вера Николаевна (1880-1940) — староста Пятницкой церкви в Касимове (1930-е гг.), в 1935 г. арестована вместе с Правдолюбовыми, осуждена на пять лет лагерей. Скончалась в заключении за две недели до окончания срока. Прославлена в лике святых новомучеников в 2000 г.
Он осознавал, что пострадал, но никогда не выставлял себя и не хотел, чтобы его как святого почитали. Никогда этого не было. Но, к сожалению, ощущал, что мы к нему без должного почтения относимся. И я только сейчас понимаю, что мы действительно неправильно относились к отцу.
При этом почитание мучеников — домашнее, семейное — было всегда, и я их почитаю как-то просто, сколько живу. И более того, если бы дочки ныне почитаемого священноисповедника Сергия Правдолюбова потрудились бы составить его жизнеописание еще тогда, нам было бы легче жить. А мы как будто все время были первопроходцами. Когда нас пытались склонить работать на секретные службы (а меня трижды пытались вербовать), мы отказывались, но думали, как это сделать, как поступить. А надо было просто посмотреть, как поступали отцы и деды.
Дочери священноисповедника Сергия все это скрывали. Я как-то спросил у старшей его дочери, Веры Сергеевны: «Тетя Вера, ну расскажи про своего отца. Мне так интересно! Расскажи!» В ответ: «Если я буду рассказывать только одно хорошее, то это будет неправдой, а если буду и плохое рассказывать, то это будет хамством. Поэтому я не могу рассказывать». Я говорю: «Ну, тетя Вера, хоть какой-то дай нам образ своего отца». «Нет. Не хочу. Это будет неправильно». Ей сейчас девяносто лет, она жива еще, но так ничего
и не написала. Жена отца Сергия — бабушка Лидия — кое-что рассказала. Мой отец многое рассказал, на магнитофон записал шесть часов рассказов: о заключении, о Бутырке, о Соловках.
Так вот, уроки отца и деда были бы восприняты гораздо лучше, если бы все это было записано. А когда я составлял картину по фрагментам, тетя Вера мне сказала: «Отец Сергий, что ты там написал про моего отца, что он в каменоломнях, как древний мученик, страдал? Такого не было». Я говорю: «чего не было? Каменоломни?» — «Да нет!» — «Он же был в каменоломне?» — «Да. В каменоломне он был, но ты ничего не понял». А я говорю: «А что я должен был понять? Я читаю его завещание детям, вижу, что он был в каменоломнях, так ведь и написано, и у меня сразу возникла ассоциация с ранними христианами». Она говорит мне: «Какой ты непонятливый!» Я спрашиваю: «Почему?» — «Да это было благодеянием для него!»
Оказывается, накануне памяти святителя Николая деда вызвали в НКВД и сказали: «Батюшка — это был 1943 год,—мы вас пустим служить в храм. Вы коли служите, служите на здоровье, но вы должны нам обязательно сообщать, сколько и кто ходит, как часто ходят, о чем они разговаривают... Каждую неделю должны нам писать рапорт о том, что у вас в храме происходило, иначе мы вам служить не разрешим». Он ответил: «Ни за что. Я предавать своих людей верующих вам не буду
ни за что. Все». «Да? — говорят. — Ну, посмотрим». При этом отец Сергий уже много сидел и, выйдя на свободу, так твердо сказал с пониманием, что его за это арестуют. И конечно, он рассказал своим дочкам и жене, они рассказали соседкам, соседки рассказали всем. Понимая, что он из лагеря уже не выйдет, отец Сергий сел за стол и написал первое краткое завещание детям и внукам. Волна прошла по всему Касимову. И тут женщины касимовские... вот тут я реконструирую события, мне тетя Вера этого не рассказала, она только делала намек, и я реконструирую события. (Почему они молчали? Они не давали подписку о неразглашении. Страх был, страх был и остается у всех.) Моментально слух разнесся, и стали думать, как спасти отца Сергия, как его избавить от очередного ареста. А он, конечно, в лагере погиб бы, это точно. Бросились люди туда-сюда. Знакомые побежали к военному комиссару. Без комиссаров не бывает, а во время войны он самое главное лицо в городе. НКВД — на втором месте. Комиссару говорят: «Что делать, что делать, что делать? Вы придумайте, что нам делать. Отца Сергия надо вытащить, чтобы его не арестовали». Он отвечает: «Стоп. Сейчас мы сделаем». И прямо тем же числом пишет распоряжение военного комиссара города Касимова — это я реконструирую события, — срочно призвать на трудовой фронт Правдолюбова Сергея Анатольевича. Немедленно. «Так. Берите машинку, которой волосы стригут, и обрейте его
прямо сейчас. Вручите ему немедленно повестку, пусть распишется: „Явиться в военкомат", чтобы НКВД не успело». Прямо перед службой обрили ему волосы (у него и так их было мало на голове), и он бритый пошел служить всенощную под Николу. Весь обритый! О! «Святителю отче Николае, моли Бога о нас...»
И с вещами его собрали и отправили на трудовой фронт в двадцати километрах от города Касимова. Печать, подпись — все, как полагается, и он уже на фронте. Спасли его тогда. Он три года там был, три года. Он мог там написать детям и внукам завещание, мог и молиться. Приходили к нему люди и молились с ним, подкармливали его. То есть это было совершенно другое дело. Во много раз легче лагеря.
Я хочу даже благодарность написать родственникам этого комиссара и родственникам тех людей, которые его вытащили, буквально едва-едва успели. И уж после этого, после трех лет этого военно-трудового служения, он снова стал священником в Касимове, потом в Спасске, а затем в Лебедянь уехал. Так что, видите, как интересно получается, — несгибаемость, твердость у деда были. Если бы мы знали об этом раньше, нам было бы легче, когда уже нас пытались вовлечь в такое же дело.
— Отец Сергий, если можно, расскажите об этих попытках, потому что сейчас не все помнят и понимают реалии советского времени.
— Я тогда был семинаристом. Меня вызвали, лампочка светит, а он рукой лицо закрыл и сквозь пальцы на меня смотрит, изучает... Мне сразу мама вспомнилась, ее рассказы. Я думаю: «О, не пройдет, ребята, не пройдет это со мной. Со мной — нет. Пойду в лагерь, но ни за что не буду с вами работать, ни за что». И в итоге получился у меня эксперимент: а что будет, если не соглашаться? Я решил: арестуют — арестуют, нет — нет.
Вербуют меня: «Вы должны нам докладывать, кто у вас на курсе учится в Академии, кто плохо учится или хорошо, о чем говорят». Я отвечаю: «Знаете, у меня такая головка слабая-сла-бая». А сам в руке держу книгу. И нет чтобы подумать и спрятать эту книгу! Там на обложке написано было: Л. С. Выготский «Психология искусства» — довольно сложная и серьезная книга. Но он не стал разбираться, чего это у меня слабая головка, а такую книгу в руках держу. «Мы вас переключим на Собор Патриарший. Вы там будете как сыр в масле кататься». А меня предупреждали: «Только не раздражай, только не раздражай их», чтобы они не обиделись и не было бы последствий. Но я ему ответил: «Нет, я не могу этим заниматься. Нет, я не буду».
А соль была в том, что в армии служил я в военном ансамбле при МВД СССР, то есть в родственных войсках. В нашем полку висели бархатные знамена НКВД, вышитые золотом. Я каждый раз, как их видел, ужасался: «Мама, где
я нахожусь? Моих дедов расстреливали под этими знаменами, а я здесь музицирую». Я отцу Иоанну (Крестьянкину) написал: «что делать, уходить?» А он мне отвечает устно, он не любил писать, потому что время такое было: «Дорогой мой, ты сам туда рвался? Нет, не рвался. Тебя взяли? Взяли. Держат? Держат. Только в комсомол не вступай». Так они думали, что я свой в доску. Отличник воинской службы. Нам надавали специально этих знаков, чтобы, когда на сцене стоишь, солидно выглядеть. И мне дали знак отличника службы внутренних войск МВД СССР. Так что они очень расстроились моему отказу и довольно сурово и резко со мной распрощались. В принципе, это было отречение от мира, как это бывает у монахов, жизнь после этого идет совершенно другая, не твоя. Бог Сам ведет, а твои желания не имеют никакого значения.
— Это имело какие-то негативные последствия для вас?
— У меня же были большие планы, я даже сказал бы — честолюбивые. Идея у меня была очень мощная, и чувствовал я в себе силы необъятные: хотелось мне учиться в одном из западных университетов. Причем я выбрал почему-то Гейдельберг2. Когда меня, уже позже, везли на операцию
в Германии, то сообщили: «Вот Гейдельберг, посмотрите в окошко». А я отвечаю: «Ой-ой, моя любовь!» Мимо МГУ, если я проезжал, то никогда не умилялся. Его ведь заключенные строили — тяжело, а в Гейдельберге хотел учиться. Ой как хотел учиться! Так вот, у меня было желание проскочить все запоры и на законном основании, в командировке, учиться, как это было до революции. Хотел по-настоящему приобщиться к европейскому уровню науки, читать на языках и т. п. То, что потом реализовалось в моей диссертации о каноне Андрея Критского... за границей я смог бы еще лучше всему научиться. Но не пустили, я не согласился ведь на них работать.
Жена мне говорит по этому поводу: «Хорошо, что они не пустили. Онемечился бы ты и стал бы и не немец, и не русский. И кому бы ты нужен такой был?» Правильно, что не пустили, говорит, так и надо. У Запада есть свои хорошие качества, но и плохие качества — тоже.
А вербовать пытались всех, я так думаю. Почти всех. Не вербовали тех, у кого такой вот синий огонь в глазах,—«фанатиков». Стеснялись, боялись, когда человек «фанатик». И слава Богу, меня не заставили, хотя я в таких войсках служил, но огня в глазах у меня, видимо, было достаточно. Так я и уцелел.
Но и перемены уже ощущались. Когда я служил в армии, был у нас баптист, отслужил два года, а присягу так и не принял. И полковник за руку
с ним здоровался: «Молодец, держись». Вот такое было время — 1970 год — настолько все прогнило в советской идеологии. И инакомыслящих люди стали уважать. Ну, Брежнев уже здоровался с Патриархом за руку в Кремле, во Дворце съездов.
И вот тогда началось движение жен коммунистов, которое выразилось в поминовении покойников на Пасху. Они стали на Пасху ездить на кладбище. Этого раньше не было, в Москве тоже не было. Это приблизительно 1975 год был, тогда, значит, и появился обычай, похожий на культ предков в Римской империи. Мой первый год священнического служения проходил в Зеленограде в 1989 году. А в 1990 году, в Великую Субботу, к нам пришел работник горисполкома и говорит: «Батюшки, я принес вам бумагу, которая показывает, как мы хорошо к Церкви относимся». Я говорю: «Ну, покажите, какая бумага?» «А вот видите, к нам поступило заявление с просьбой устроить дискотеку вечером Великой Субботы под воскресенье, то есть на Пасху. А мы написали... вот видите, пожалуйста, смотрите — в связи с тем, что на Пасху вспоминаются усопшие наши предки, покойники, нельзя устраивать дискотеку на Пасху». Они так и написали черным по белому: «Пасха — день поминовения покойников». Ну, что же это такое? Не мытьем, так катаньем. Христос воскрес, жизнь жительствует, а вы всех на кладбище отправляете. День покойников. Это, что называется, по Фрейду,
то есть их миропонимание. Что ты поделаешь? На Пасху главное — покойники!
Ну а потом были служба, восстановление храма, преподавание. То есть что я хотел, то и получил. Я хотел преподавать — преподавал целых пятнадцать лет в Духовной академии и четырнадцать лет в Свято-Тихоновском институте. И научной работой немножко занимался. И как-то вот все было хорошо. А сейчас храм почти восстановили.
— Отец Сергий, можно ли услышать краткий рассказ о вашей матушке, про то, как вы с ней познакомились, про вашу семью?
— Здесь никакого секрета нет. Я просто увидел свою будущую матушку в гостях у учительницы литературы. В Москве к ней многие студенты приходили, она преподавала в Гнесинском училище. Меня сестры привели тоже к учительнице познакомиться, и я в первый раз увидел свою невесту в день, когда она впервые причастилась Святых Христовых Таин. Так мы тогда и познакомились. И это очень важно — то, что она не из-за влюбленности в меня пошла за христианством, а сама дошла до этого.
А у нее семья была совершенно неверующая. Она внучка профессора Марковникова3, известного
русского ученого, возглавлявшего химическую лабораторию в МГУ. Там даже где-то висит его портрет, в музее сохранились некоторые его личные вещи. Он был большим специалистом по нефти. Многие его работы так до сих пор и не переведены на русский язык — на немецком написаны.
Она — музыкант, окончила музыкальную школу, потом училище, потом институт по фортепиано и много лет преподавала в Гнесинской музыкальной школе, которую сейчас упразднили (семилетку). И вот это знакомство с ней — мы симпатию друг к другу проявляли, переписывались. По линии матери у нее был предок, который был диаконом с многолетним служением, наверное, это тоже сказалось.
Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил, что нужно на человека посмотреть во все времена года — зимой на снегу, весной, когда цветочки расцветают, летом на травке и осенью, когда все опадает. Следует пройти цикл проверки отношений. Тогда проясняется многое о человеке. Даже есть такая практика психологическая. В течение года человек выявляет себя.
И когда отношения окрепли и второй год пошел уже, то мы, конечно, съездили к отцу Иоанну. Он много говорил с ней и благословил на брак. Потом у нас было венчание, мой отец нас повенчал в старом храме, где служил.
Потом мы были бездетные, мучились целых шесть лет, просили у отца Иоанна молитвенной
помощи, сами молились, искали причины. Все медицинские показания нормальные были, а детей не было, как мы ни бились, как мы ни страдали. Я видел маленьких детей на улице и переживал, что таких детей никогда у меня не будет.
И вот уже внуки: пять мальчиков и четыре девочки. Это такая радость! Сначала Бог послал дочку. Она, старшая, вышла замуж за будущего священника. Внуки приходят в церковь, надевают стихари и служат, помогают. Отец Серафим (Романцов)4 в свое время сказал моему отцу (мы же тогда были школьниками): «Держите детей поближе к Церкви. Если они когда-нибудь отойдут от нее, Бог их потом за то, что они служили в раннем детстве, вернет в Церковь». Вот какие интересные слова.
Мы от Церкви не отходили, но, конечно, были всякие трудности, шероховатости. С отцом много спорили. И Владимира Соловьева я очень любил, а отец терпеть не мог. И Флоренского не очень понимал отец, а я люблю очень.
По слову отца Серафима сейчас внуки мои тоже при Церкви. То есть тащить детей нельзя, но и препятствовать им в этом тоже нельзя.

Диакон Сергий Правдолюбов с матушкой Маргаритой и дочкой Анной. 1982 г.
И вот, слава Богу, все живы, здоровы. Моя матушка Маргарита на клиросе поет, управляет хором, уже двадцать два года. В первое время довольно трудно было, отсутствовало отопление в храме, холодно, стены мокрые. А мы пели. Отец Матфей5 говорил, что не надо петь, если температура ниже одиннадцати градусов, повредите себе и дальше петь не сможете. А мы пели. Все эти два года без отопления пели. И слава Богу, до сих пор поем, теперь уже в тепле. Правда, теперь уже сил стало меньше, как и что будет дальше, не знаю.
Вот такая, можно сказать, замечательная, благодатная помощь от Бога в лице Маргариты, моей матушки, которую Бог послал совершенно как бы из ничего. Просто советская семья — и вдруг верующий человек. Она объездила Русский Север, попутешествовала. И через созерцание древней архитектуры монастырей и храмов, а тогда действующих церквей очень мало было, она увидела за образом первообраз. К чему их строили, для чего строили, она поняла и ощутила. И стала верующим человеком. Она, конечно, много книг читала и читает, и музыкант настоящий, а это — из наследственной культурной среды, которая, слава Богу, много сохранила. Мама ее ушла с работы, когда она родилась, и сидела с ребенком дома. Это очень важно. То есть воспитание она дома получала, а не где-то на стороне. Вот так, видимо, в ней было воспитано тонкое чутье. И вот Бог устроил так, что мы с ней встретились.
— Отец Сергий, ваши научные интересы изначально находились в области литургики?
— У нас в стране, к великому сожалению, совершенно неизвестна византийская гимнография. Мы не знаем даже ее принципов.
Я и сам не слышал про византийскую гимнографию в Академии, на занятиях о ней не говорили ни слова. Я не знал вообще, что это такое, не знал, что это настоящая поэзия с приемами подсчета слогов и мест ударения в стихе. И вот сначала в немецкой книжке прочел об этом, что стало для меня ошеломляющим открытием: оказывается, наше богослужение — высокая поэзия. И сейчас в России это мало кто понимает, к сожалению. Но для меня это действительно стало радостью и открытием. Это мое личное достижение. О принципах и приемах этой церковной поэзии сейчас знает узкий круг специалистов, несколько человек, а остальным дела нет.
И я, преподавая литургику в МДА и ПСТГУ, студентам все это рассказывал, делился тем, что мне удалось узнать за многие годы. Но когда я стал настоятелем храма, пришлось восстанавливать храм и приход, что требовало больших временных затрат. И моя научная деятельность стала «закисать», особенно после дефолта 1998 года. Мы планировали издавать рукописи и исследования византийской гимнографии, но тут сели на гроши. Все стало неимоверно трудным. Почти не под силу мне стали восстановление храма, одновременно преподавание в Духовной академии и Свято-Тихоновском институте и еще издание книг. Так что науке от меня очень мало пользы вышло — я так и не стал ученым по-настоящему. Отдельные моменты лишь удалось осветить. Так что, в принципе, моя жизнь в плане научных достижений не представляет никакого интереса. Можно было бы сделать многое: в духовной жизни, в науке, в музыке, но ничего этого не произошло. Я простой сельский батюшка. Но зато чувствую и понимаю всю красоту византийского богослужения, канонов, служб Страстной седмицы и Пасхи.
— Действительно, византийское богослужение —это сокровище. Однако в силу того, что людям тяжело воспринять его, оно у нас сокращено, иногда без особой логики. Периодически возникает вопрос реформирования. С одной стороны, странно было бы отказаться от такого сокровища лишь потому, что мы его не понимаем, а с другой стороны — есть ли какие-то пути к тому, чтобы люди все более осознанно участвовали в богослужении?
— Вы знаете, я человек, который рассказывает все «на пальцах» и объясняет просто. Вот и здесь я могу так объяснить: в богослужении
присутствует обратная связь — это устаревший термин, который связан с началом кибернетики.
Обратная связь в богослужении осуществляется, когда я молюсь Богу. Я говорю Ему: «Господи, помоги мне». человек — это Богом сотворенное существо, и моя связь с Создателем осуществляется исключительно путем включения сразу «трех кнопок». Это голова (ум), сердце (воля) и речь, которая словесно формулирует мысли и чувства. Как отец Иоанн (Крестьянкин) говорил замечательно: мы произносим: «Вси свя-тии, молите Бога о нас!», и все святые на небесах восклицают: «Господи, помилуй!» В церковной молитве, которая нам кажется архаичной, сохраняется именно эта самая обратная связь. «Господи», — сказал я, и в ответ на мое именование Бога канал связи с Ним начинает действовать и в обратном направлении, однако — слава Богу — для меня незримо. Если бы я увидал, что там происходит, я бы возгордился. И поэтому Бог будто бы молчит. Но связь все же осуществляется.
И когда мы молимся в церкви, поем на клиросе, осуществляется эта древняя связь, та, которая нас объединяет со всей Церковью, со всеми святыми, идет резонансное движение наших душ и душ преподобных отцов. Не явно, но... по-другому быть не может. Стоит только сломать этот канал связи, «перекопать», и все — связи нет обратной. Как у нас обычно происходит: «А мы сейчас сами с Богом поговорим, лично, не в храме за богослужением. Господи, мы сейчас скажем Тебе на нашем простом, обычном языке». И вот вопрос: а канал-то будет работать? Я не уверен в этом. Этот канал непроверенный. На наши слабые лопотания Он скажет: «Ребята, вы же кабель взяли не того диаметра! Я вам все, что могу, даю. Зачем вы хотите заменить нормальный, хороший кабель маленькой ниточкой, которая не потянет и малейшего напряжения». Вот в чем дело-то.
Конечно, своими словами мы молимся как можем. Но почему же люди не забывают старинные произведения Баха и других классиков? Почему они ими питают свою душу? А молитвы, которые у нас сохраняются в Церкви, — это не только классика, по которой надо учиться личной молитве, но и настоящее чудо.
Не заменяйте древние мощные каналы связи своими личными — маленькими. Выйдем из храма, тогда и помолимся на русском языке, но сохраним возможность благодатной, мощной силе преподобных отцов воздействовать на нас в богослужении гораздо больше, чем когда мы пытаемся самостоятельно высказать Господу свои мысли.
Вот еще аналогия. Я вырос в сельской местности. В свое время Хрущев запретил людям иметь собственную скотину. Я помню, как плакали женщины и как резали коров. Потом, через три года, Хрущев отменил свой указ: «Ну ладно, пусть будут коровы». А маленькие девочки, уже подросшие за три года, воспротивились: «Мама, я в пять часов утра вставать не буду. Я хочу высыпаться и спокойно уходить в школу». Всего-то на три года прервали традицию, а многие сказали: «Нет, я пойду куплю лучше пакет молока в магазине, чем буду в пять утра вставать, мучиться — корову доить, выгонять ее на улицу».
Я хочу сказать о том, что традицию прервать легко, а восстановить практически невозможно. Если живем мы в непрерывном потоке византийского и русского, от дедов к отцам и к сыновьям, и к внукам, то зачем сейчас это прерывать, ради чего? Получим ли большее богатство связи с Богом? Нет. Наверняка, меньшее.
Очевидно, что мы скорее духовно вырождаемся, чем растем. Меня вот — поставь рядом с моим отцом или дедом. И не сравнить. У меня даже язык какой-то, я бы сказал, полублатной. Я ведь окончил советскую десятилетку. Вы знаете, есть такой — Сергей Алексеевич Беляев, известный церковный археолог, а его отец, протоиерей Алексий Беляев6, был священником. Он в Пюх-тицком монастыре был духовником последние годы жизни, там и скончался. Это подлинно аристократическая семья. И отец Алексий был настоящим интеллигентом, он всегда очень медленно и красиво говорил. И вот, я помню, сидят они за столом — отец Алексий и мой отец, Анатолий, а я, восьмиклассник, пришел и сел рядом с ними. Они беседуют. Отец Алексий скажет что-то возвышенное, а мой отец, как старый лагерник, лаконично, мягко подтвердит, находясь в полном резонансе с ним, в соответствии с высоким стилем настоящего аристократизма мысли и происхождения слов. Вдруг я хочу вставить слово и ловлю себя на том, что я говорю именно как блатной, примитивный лагерник, хотя я в лагере и не сидел. А я ничего плохого не хотел сказать, но мой уровень, моя речь безнадежно советские, страшно советские и светские. И в течение жизни моя речь мало изменилась. Интересно, как я таким языком проповедую?!
Легко сломать, легко переделать, но сохраним ли мы полноту духовной жизни? Я уверен, что нет. Уверен. Будет полупротестантское отношение к Богу, которое, напротив, заставит людей массово покидать храмы.
— Вы говорили о традициях и печально отметили, что даже в вашей семье, одной из немногих, где можно говорить о непрерывности рукоположений, вы уже не такой, как отец и деды. Что же тогда говорить о нас, людях, во многом оторванных от православной традиции?Мы воспринимаем ее после советского времени как бы с нуля или даже с минуса. И в чем ее суть, а не только каковы внешние признаки, можем представлять только теоретически.
— У нас есть замечательные слова: «Троица Живоначальная, Дух Животворящий», и Церковь существует исключительно благодатью и силой Божией и Божиим повелением, благословением и защитой. Если бы этого не было, давно бы кончилась вся Церковь Православная не только у нас, но и в других странах и во всем мире. То, что Церковь существует, — это доказательство бытия Божия. Доказательство неложности слов Спасителя.
Недавно я общался с одной молодой женщиной и поразился ее чистоте и красоте, хотя она в Церковь не ходит. Но откуда это у нее? Если бы ей еще веру Божию, то было бы просто чудесно. Она многих из нас целомудреннее и возвышеннее. А в нашем кругу бывают и ужасающие дела. Апостол Павел с детства был воспитан в христианстве? Конечно, нет. Он был воспитан в фарисействе, но он стал апостолом христианства и проповедником. Так и здесь — Бог может из камней... воздвигнуть детей Аврааму (Лк. 3: 8), чтобы они следовали Его воле, а не своей личной. Я уже говорил, как со мной бился отец Иоанн (Крестьянкин), а я ведь рос в православной семье — в традиции. А отец Георгий Бреев, к примеру, вырос в семье неверующих, а какой преподобный отец! Отчего? Оттого, что Дух дышит, где хочет (Ин. 3: 8), — Дух Святой и Животворящий.
А у многих прекрасных и замечательных священников дети не идут по стопам отца. Поэтому никто не гарантирует благочестие детей священников, наоборот, взирают с надеждой на то, что люди, пришедшие из других слоев и областей, смогут дать яркие, мощные, и цветистые, прекрасные плоды духовной жизни и спасения. Поэтому нужно иметь в виду, что Церковь Животворящая и Дух Животворящий, Дух Святой — нечеловеческого устройства, иначе бы все давно погибло.
— Отец Сергий, как вы смотрите на критику, которая сегодня звучит в адрес священнослужителей? Если сравнивать с тем, как осуществлялась антирелигиозная пропаганда в советское время, то, что мы видим сейчас, можно ли назвать сознательной антицерковной кампанией?Или это нормальное явление? Может быть, действительно надо более трезво на себя взглянуть?
— Я вам скажу, к примеру, отец рассказывал, что в 1920-е годы была такая поговорка в народе: «Поп Иван пьет, следовательно, Бога нет». И опять пример, один из самых известных ересиархов был кто? Арий, священник.
Простите, но ничего нового в Церкви нет. Все это было. Причем такое было, что нам и не снилось. Я не говорю про Римско-Католическую Церковь. Помните, что такое протестантизм? Он возник как протест против того, что творилось в Католической Церкви. А взять Византийскую
Церковь — там что было?! Надо иметь сравнения исторические. Перспективу.
И ничего уж такого не происходит особенного или нового. Были случаи отречения? Были. Был при Хрущеве Осипов7, профессор Ленинградской духовной академии, который отказался от христианства. И другие были — волна целая прокатилась отречений. Роскошь была? Была. Хрущев деньги отнял. Папа мой говорил: «Слушайте, как хорошо для Церкви. Идет оздоровление церковного организма. То было денег море, а сейчас нет их, одни налоги. Хорошо! Люди, чужие для Церкви, сразу отсеются».
И сейчас какой-то особой горечи и тоски нет. Даже на пользу. Я сказал такую фразу: «Церковь должна быть в меру гонимой». Но в меру гонимой. А про меня говорят: «Вот, отец Сергий призывает к тому, чтобы Церковь уничтожали». Нет, уничтожать не надо. Но быть гонимой в меру — это полезно. Для того, как говорится, и щука в озере, чтобы карась не дремал: начинается движение, и уже не так хочется толстеть. Иоанн Златоуст говорил: «Никого так не боюсь, как архиереев». Контроль и со стороны церковного начальства, и со стороны государственных органов? Ну так трудись, молись, никто тебе не отменял ни правила, ни молитвы, никто тебе не запрещал ничего. Молись, сколько хочешь, и делай добрые дела.
Я не вижу проблемы. Мечта о государственном Православии мне кажется совершенно несостоятельной. Нам бы о Царствии Небесном подумать. Зачем думать о царстве земном? Как написано в Священном Писании, а для нас это важнейший авторитет: придя, Господь найдет ли веру на земле8. Больше того, и мне очень это нравится: когда придет Сын человеческий, тогда распрямитесь, поднимите головы ваши, потому что пришло освобождение ваше9. Получается, сколько мы ни будем трудиться, возделывать эту земную жизнь, мы постоянно будем что-то терпеть... А Господь пришел — распрямитесь! «А-а-а! Ну, наконец-то, Господи, слава Тебе! Пришло освобождение наше, обещанное Богом». Чего вы хотите? Комфорта? Хотите, чтобы по всей России и по всему миру стояли храмы и без конца звонили колокола? Простите, но это нежизненно. Никто нам этого не обещал.
Как в Соловецком лагере говорили воры моему отцу: «Ох уж эти фраера. Всё им не так. И власть им плохая, и хлеба дают мало. И это им плохо, и то. Чем недовольны-то?» Именно мы и похожи на фраеров. Все нам не так, это плохо, и это плохо. Ребята, я говорю, спасайтесь! Спасайтесь, вас никто не тормозит! Время сейчас далеко не самое плохое. Можно молиться, можно и храмы строить. Только делайте это спокойно и доброжелательно.
Мы все эти двадцать два года здесь служим тихо, просто, спокойно, никого не задираем, не говорим, что мы лучше всех, не ездим на красивых громадных машинах. И живем так же, как жили студентами, — от получки до получки. И ничего. Храм стоит, мы молимся. И люди видят, что мы не враги, и что мы не хотим их всех заставить молиться, и не ждем, чтобы они все деньги нам отдавали. И они не протестуют. А в других местах начинают протестовать. Я понимаю, что против хороших батюшек тоже протестуют. Против любых протестуют. И многие поддаются враждебной агитации и пропаганде.
Шел я как-то по Сергиеву Посаду, а позади меня школьник бежал и плевал в меня, крича: «Поп, поп, поп!» Это был как раз какой-то виток критики уже после 1991 года — момент такой — опять против Церкви. Я сразу вспомнил хрущевские годы. То есть, если наверху идет кампания, так и в народе начинается. Наверху если благоприятно, то и внизу спокойно.
Не надо прельщаться. Мы мир не изменим. Мы и не должны его изменять. Это забота высокостоящих людей. А мы, самые простые батюшки, хотим, чтобы больше людей спаслось, больше стало верующих православных людей, которые сегодня пришли к вере, а завтра могут умереть. И нам не до политики, не до важных проблем государства. Любимые слова моего деда, священноисповедника Сергия: Не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем (Евр. 13: 14). Город — это очень емкое слово (по-гречески «полис», отсюда и политика). И позиция наша должна быть такая: нет у нас здесь ни города земного, ни политики, мы, говорит апостол, — грядущего, то есть будущего, взыскуем — ищем Царства Небесного, а не земного. А это и есть самое важное для человека.
Феодора Никитична Кузовкова

Каждый день и каждый час была какая-то истинная борьба. И мы выживали. Везде. Где бы ни были. И такое было помышление на будущее, что должны мы вернуться, должны все строить после войны. И тогда никто у нас не ссорился. Какие-то люди были, как кропленные Святым Духом.
Феодора Никитична Кузовкова (род. 1929). Во время Великой Отечественной войны оказалась в немецкой оккупации, была угнана на принудительные работы. Вернувшись на родину, более тридцати лет проработала в колхозе, воспитала восьмерых детей. В последние тридцать лет — староста храма Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса в селе Вороново Московской области.
— Феодора Никитична, расскажите, пожалуйста, про вашу семью, детство.
— Мама моя, Ольга Михайловна, была православной христианкой. Три года пела на клиросе, труженица всех мер. Папа, Никита Степанович, тоже был труженик. Было у них нас семеро. Я четвертая. Помню, как с мамой ходила на поле. Отец косил рожь, пшеницу, мама вязала снопы, а мы, дети, их собирали, клали копны. Очень было весело, хотя и тяжело.
Когда пошла в школу, мама на меня надела крестик и сказала: «Не снимай ни в коем случае». Пришли мы в класс, учительница нас рассадила и говорит: «Поднимите руки, у кого крестик есть». Я смотрю по сторонам — никто не поднял руки. Думаю: неужели все без крестов? А на мне-то крест — как же я не подниму?
Учительница меня вызывает к столу и начинает снимать крестик. А я зажала его в руке и говорю: «Нет, я никому не дам крестик снять, потому что это мне мама надела, благословила в школу, чтоб я училась хорошо». И она отступила...
Училась я средне. А потом война застала.
— Вы попали в зону оккупации?
— Да. В сорок первом мне было двенадцать лет. Пришел немец к нам быстро, к осени. Наши власти не успели все прибрать как следует, амбары были полны хлебом. Немцы собрали людей и начали хлеб раздавать: на каждую душу — меру. Весь хлеб разделили и двинулись дальше. Дошли до Волгограда. А потом наши их повернули и погнали обратно.
Немцы нас из дома выгнали, наш дом заняли, а мы в амбаре поселились. Амбар был у нас каменный, мы прорубили окошко в стене.
Я ходила и говорила на них: «Суслики вы сопатые (они носами все время шмыгали), выгнали нас, а сами пануете». А один, видимо, понял что-то, приходит к маме: «Матка, что такое суслик?» Мама догадалась, говорит: «Это птичка такая, красивая». Он: «А сопатые? Маленькая на нас так говорила». Мама испугалась, говорит: «Да простите ее, она непонятная у нас». Хотели застрелить меня, но оставили.
Когда немцы стали отступать, они уничтожали все за собой. Старых пристреливали, малых гнали с семьями в плен. А у нас брат родился перед самой войной. И вот мы и его в ванночке с собой везли.
Немцы нас гнали, а за нами все сжигали. Наши самолеты пролетали низко над землей.
Мы видели, что на них красные звезды, они видят, что нас гонят,—и не обстреливали, вроде как охраняли.
Потом нас пригнали в Литву, город Алитус105. Там был лагерь. Расселили в пятиэтажных домах. В комнате по сорок-пятьдесят человек, а всего пленных семь тысяч. Кухня была общая. Нам давали пол-литра супа жидкого, сто граммов хлеба с опилками. Одного повара немцы расстреляли у нас на глазах. что-то он там нарушил, так они собрали всех — и малых, и старых — и при нас расстреляли.
— Как вы выживали в этих условиях? Тем более что вы ведь совсем ребенком были...
— Лагерь был огражден колючей проволокой. А люди были голодные — прокопали яму под изгородью и пролезали, ходили побираться, просили хлебушка. Мои братья-сестры все отказались — мы, говорят, лучше умрем. А я думаю: нет, я умирать не буду, я полезу в эту дыру и пойду по домам. И мы ходили с одной девушкой. Каждый день, как по заданию. Покормят нас, дадут с собой хлебушка, кусок мыла. Мы и радовались, не унывали. Какое-то у меня было разуменье, что надо крепиться, быть сильной духом. 10
Страшно не было. Многих застреливали, были патрули по вышкам. А мы не попадались. Все уцелели: дети, и бабушка, и мама.
В лагере мы с мамой молились. Становились на коленочки — мама, бабушка, еще семья из Могилева — мама и две дочки, и три девки, одиночки, из Минска. Помолимся, как мама скажет, а потом спать ложимся. А утром на скорую руку мама прочитает «Отче наш», мы покрестимся да бежим на работу.
Люди в концлагере были тише воды ниже травы. Некоторых угоняли как бы секретом. Потом слух доходил, что где-то убивают людей и сжигают. Мы все как ошеломленные были. Но мама не отчаивалась, хоть и с малыми детьми в концлагере. Такая верующая была и Божия.
В плену мы не унывали, имели надежду на Вышнего. Господь с нами и пошлет помощь Свою. И у нас такой был дух, что мы будем живы, и вернемся домой, и будем продолжать жизнь православную.
Потом стали кого куда разбирать — в Литву эшелон, в Латвию эшелон, в Восточную Пруссию эшелон. Наш эшелон попал в Восточную Пруссию. Когда ехали, маму чуть не расстреляли. Было у нас красное одеяло. И детки меньшие его обмочили. Мама выставила одеяло в окно, чтоб просушить, и нас остановили эсэсовцы. Все с автоматами. А мы думаем: что такое? Слышим, говорят: «Партизаны, партизаны, матка...» Ругаются. «Партизаны, где партизаны?» А какие у нас партизаны? Подходят к нам: «Это что? Красный флаг выставили?» Мы говорим: «Дети вот одеялко обмочили...» Маму с товарняка кувырком — на расстрел. А мы все за ней тоже кувырком. И смоленские, что с нами были в эшелоне, тоже все кувырком за нами — и тем спасли маму. Обхватили ее, говорим: «Если застрелите маму, то и нас стреляйте всех». Ну, отпустили.
Привезли нас в Восточную Пруссию. Тех, кто были одиночки, разобрали,—рабочая сила. А у нас мама, бабушка и семеро детей, самой старшей пятнадцать. Стоим никому не нужные, никто нас не берет. Какой хозяин возьмет? Работать некому. Ну, потом один пан — видимо, Господь его вразумил — взял и нас, и трех девушек из Минска, и мать с двумя детьми из Могилева. Привез домой, поселил в доме, в двух комнатах, и сказал: маме на работу, старшей сестре и мне. Вот мы работали, а бабушка была с малышами дома.
Дали мне лошадь, такую толстоногую. Я на ней работала, сгребала плети по полям — картофель был уже убран. Сгребала и пела «Катюшу», «Три танкиста». А пан, видимо, услышал и спрашивает: «Что ты поешь?» А я говорю: «Пою школьные песенки, какие знаю, и вспоминаю свою школу».
Кормились мы сами. Нам давали карточки, и мы ходили в магазин. Выдавали нам по этим карточкам маслица, маргарина, хлебушка, макарон, а готовили мы сами.
У пана мы пробыли два с половиной года. А в концлагере — полгода. Если б нас пан из концлагеря не забрал, нас бы расстреляли. Я его и сейчас не забываю, здравия ему желаю.
— Как же вы освободились, попали на родину? Вас не репрессировали из-за пребывания в плену?
— Потом наши пригнали немца в его логово. Слышно было, как снаряды стали рваться. И пан начал собираться в отступление. У него было два малыша, и наша житомирская девушка няней работала. Она говорит маме: «Теть Оль, пан наш уезжает и меня хочет забрать с детьми. А я ему сказала, что если наши русские поедут с вами, то и я поеду, а если не поедут — и я не поеду. Я пришла узнать». А мама говорит: «Куда ж мы поедем? Наши недалеко».
Вот они уехали, а немец приказал всех русских, которые остались, загубить. Но не успели: нагнали их наши войска.
Когда пан уехал, пошли мы к нему в дом. Он сундуков наготовил много брать, а не все взял. Мы сундуки-то эти раскрыли, да нарядов-то набрали и нарядились. Наши солдаты пришли, мы думали, они нас похвалят. А один лейтенант молодой как дернет курок в автомате: «А ну, становись к стене, полицейского семья!» Мама за автомат рукой и говорит: «Что ты делаешь? А если сейчас ихний отец подойдет? Он с первого дня на фронте. Может, он за вами идет, а ты поднял ружье на детей!» А другой на него заругался, снял с него этот автомат и говорит: «Ты, сукин сын, какое имеешь право это делать? Без тебя разберутся!» И нас, слава Богу, отпустили. Запрягли нам бричку, кое-что погрузили и отправили.
Приехали мы в Брест-Литовск. Там нас проверили и направили на Орел: мы ж орловские. Приехали в свой район, а там все голо, все выжжено, только одна железная дорога работает. Колхоз за нами подводу прислал. Домой приехали, а нам говорят: «Ваш отец был. Приехал в отпуск проведать, а о вас ничего не известно. Поплакал, поплакал — и поехал дальше воевать».
Дом наш сгорел. Приняли нас соседки. А потом мы начали строить на своем месте. У нас вокруг дома было посажено пятьдесят два дерева. Они такие выросли большущие, что мы некоторые спилили и из них строили. А потом отец пришел. Он уж и не думал, что мы живы.
В общем, каждый день и каждый час была какая-то истинная борьба. И мы выживали. Везде. Где бы ни были. И такое было помышление на будущее, что должны мы вернуться, должны все строить после войны. И тогда никто у нас не ссорился. Какие-то люди были, как кропленные Святым Духом. Все мирные, все ждали победы.
— Как после победы ваша жизнь сложилась? Замуж вышли, детей родили?
— Мне, когда мы вернулись, восемнадцать было. В школу пошла, но учиться не получилось. Нашелся жених — вояка, пришел весь в орденах.
Сыграли свадьбу. Он был на двенадцать лет старше меня. Я подумала: буду за ним жить и горя не знать. И действительно так было.
Он был коммунист, секретарь партийной организации. Говорю ему: «Давай, Петя, повенчаемся с тобой». А он: «Ты что придумала, опозорить меня?» Не получилось это у нас. А так жили мы хорошо. Детей у нас народилось восемь человек.
— Веру свою не скрывали, когда в колхозе работали?
— Не скрывала. А в колхозе нас и не приневоливали. Но были случаи. Как-то пришел к нам один толкач из райкома, и хозяин пригласил его обедать. Эти толкачи ходили по домам, проверяли, кто не работает. А у нас была большая икона Спасителя. Сидит этот толкач, обедает да и говорит хозяину: «Нехорошо. Ты партийный, а это что за образ у тебя?» А я ему: «Это не его образ, простите, дорогой уполномоченный. Это наш семейный образ. Я вот у вас была на совещании, сколько там у вас портретов! И Ворошилов, и Сталин, и Ленин, и Куйбышев, и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс. Вы имеете право их держать, а почему мы не имеем права Господа держать? Господь — Творец всему. Все сотворил. Без Бога не до порога, а с Богом за море. Вы-то кем созданы? Разве не Богом? Так что не ругайте хозяина». Ну, он ничего больше не сказал.
Сначала я стеснялась при муже молитвы читать, а потом думаю: чего стесняться? Говорю ему: «Ты будешь слушать молитвы? Я буду читать наизусть». Он говорит: «Как хочешь». Я ему: «Как это „как хочешь"? Если ты скажешь — буду слушать, я буду вслух читать, а если нет — то про себя». Ну, он потом согласился. Я читаю, вижу — заснул. Перекрещу его. Так и молилась каждый вечер.
«Живый в помощи» я ему давала, он носил с собой, не отказывался. Не ругались из-за веры никогда.
Мы дружно жили. Муж не обижал меня. А я и не позволяла. Один раз вот что получилось. В то время у нас уже народилась старшая дочка. А у меня жених был до него. И случился у нас праздник в деревне. Полно людей понаехало из других деревень — тогда телевизоров не было, все на воле праздновали. Родители мои пришли в гости к нам—я вышла замуж в другую деревню, за семь километров.
Жениха-то того на празднике не было, а был его брат. И вот встретились мы. Врагами, что ль, должны быть? Он взял Светлану, дочку, подержал на руках, и мы разошлись. А люди передали, что, мол, так и так, знается она.
И вот мы сели обедать, а я чую, что его берет. Думаю: что такое? Наверное, рассказали, что мы беседовали. А что ж, мы разве в секрете? На улице, при всех, там много ребят было.
Пообедали мы. Старые разошлись отдохнуть, дочка уснула, а мы остались вдвоем. И тут вдруг он расстегивает ремень и говорит: «Я тебе сейчас покажу, как знакомство продолжать». Ревность его взяла!
Я думаю: деваться некуда, надо соображать, как избечь этого. Он размахнулся ремнем, а я, недолго думавши, хоп его под мышки, как ребенка, да и на постелю. И сама сверху. А ремень-то попал под него, а сердце у него бьется, прям стучит. А я думаю: «Боже мой, а что, если сейчас разорвется сердце у него? Я ж прямая виновница буду. Если б он меня отшлепал, я бы выдержала, а он-то как?»
Сползла я с него да говорю: «Ну что, давай руку, мир?» А он дух никак не переведет, сердце у него дюже зашлося. Ну, думаю, надо мне повременить. Села я около него, прошло маленько времени, вижу, он вроде как в себя пришел. Говорю: «Ну, уважаемый Петро, первый и последний раз ты на меня ремень поднял. Я не заслуживаю». — «А ты бы убежала». Я говорю: «Нет, я через порог не побегу. Куда ж я из своего дома?» Никогда не было между нами драки...
Я его почитала как господина. Работал он секретарем в сельсовете. Уходил собрания проводить, другой раз его две ночи нет, три. Женщины меня искушали: «Придет ли он?» А я говорю: «Он хорошо дорогу знает.» У меня почему-то не было никакого сомнения в нем, не думала о плохом. Потому что я сама себя вела правильно, служила ему правильно, и он был правильным.
Да и некогда было ругаться: труд, забота, дети.
— Тяжело вам было и детей рожать и воспитывать, и в колхозе работать?
— Радостно было!.. Вот поверьте, я истину говорю... Так я деткам радовалась, раньше не могла и подумать. Мне деток сейчас, молодежь жалко. Больно они какие-то агрессивные, психозные. Как с войны пришли.
Как я жила? Утром пойду пораньше на ферму, еще детки все спят. Все уберу — прихожу как раз к рассвету, кормить их, поить. Они загудят. Я говорю: «Ну, теперь гудите на здоровье, ваша матка пришла».
А дома тоже ферма была: корова, телушка, двенадцать овец, два поросенка, тридцать курей, гусей трое, огород, пятьдесят соток картошки. Так я и находилась на двух фермах. А дети — третья ферма.
После девочки мы еще четверых детей родили — по одному, а потом троих сразу. Когда я с тройней ходила, такая сделалася — в дверь не пролезу. Сначала не верила, что тройня у меня. А они родились, три лопыря: первый три кило, второй два девятьсот, третий — два восемьсот. Три десанта. Из больницы меня провожали — три кроватки дали, три пакета пеленок и на машине привезли домой. Думаю: Господи, когда первая, Светлана, родилась,—я собирала лохмотики, тряпочки, шила ей чулочки. А когда эти трое — на «Победе» привезли, три тюка пеленок дали, три коляски, три матраса, продуктов, еще и няню

С детьми
1 •
хотели дать. Но я отказалась: зачем нам чужой человек? Первая девочка у меня ходила уже в пятый класс, вторая в четвертый. Да и свекрушка была, некоторое время помогала.
Еще до того, как тройня народилась, давали нам каждый год по семь гектар свеклы в колхозе полоть. Девочки у меня уж большие были, я выходила с ними полоть. И когда родилась тройня, дали семь гектар. А я все это время в больнице пробыла, два месяца. Приходит хозяин и говорит: «Оштрафовали нас. Подсчитали урожай с семи гектар свеклы и на нас возложили деньгами». Взяла я дочку и двух малышей — одного на руки, другого дочке, и поехали мы в Орел. Приезжаем. Секретаря-то я знала — и прямо к ней. Она говорит: «Что с вами такое, товарищ Кузовкова?» Говорю: вот так и так. «Что ж вы ехали, вы бы позвонили». Я говорю: «Откуда ж нам звонить? Да и страшно, что в тюрьму посадят». Она говорит: «Не волнуйтесь, таких людей не сажают, а награждают». А я говорю: «Как это понять — вы награждаете, а там осуждают. Закон-то один у нас». Отменили они это все и освободили от уплаты.
А потом выросли детки большие, начали разъезжаться. Старшие две дочки на медиков выучились, один по электричеству инженер, одна учительницей в Орле работает... А тут тройне пришли повестки в армию. И вдруг муж умирает, у него получилась закупорка кровеносных сосудов. Детям в армию, готовим проводы — а сделали похороны.
Приехал военком и говорит: «Мать, как ты желаешь, чтоб детей пока при тебе оставить?» А я говорю: «Нет-нет, детей не оставляйте, забирайте в армию, чтоб они пошли своим годом, чтоб на меня не роптали». Их забрали, и я дожидалась.
В колхозе я работала очень хорошо, с любовью. Проработала тридцать два года, покуда ушла на пенсию и сюда уехала. И всего мне хотелось. Сколько раз премировали, сколько раз награждали, а мне все желание работать прибывало и прибывало. Я ушла на пенсию в пятьдесят пять лет, и председатель колхоза сделал мне проводы. Весело и радостно все проходило. Вот мой весь век.
— Над вами не смеялись подруги, что вы верующая?
— Нет, никогда. Почему-то не смеялись. Они как вроде слабее были. Не могу сказать, что я заводила была. Не понимаю как, но я плыву да плыву.
Познай себя — и хватит с тебя. Это как понимать? Просто человек не должен о себе мнить, что он славный и мудрый.
Один раз на остановке жду автобуса, села на лавку и пою стишки. Смотрю — подкатывает машина, такая интересная, я и не видала похожую ни разу. Открывается дверь — сидят двое, два орла. Приглашают сесть в машину к ним. Ну, я думаю — опасно, не опасно? День, обеденное время. чего бояться? Села, поблагодарила их: «Дети, низкий вам поклон, что увидали бабушку». А между ними стоит дипломат. Один открывает дипломат, а он полон денег, и говорит: «Мать, бери сколько хочешь!» А у меня мысль: если бы действительно хотел, то сам взял бы одну пачку и отдал мне. А тут — бери... Думаю, ничего, дети, вы меня не обманете. Говорю: «Спасибо, но я их боюсь. А на что они мне лишние. Мне дают пенсию, я работаю в храме, батюшка не обижает. А вы везете по делам». Они в ответ: «Вот видишь, какая ты, мать, счастливая!» Я: «Вот это приму от вас — я и правда счастливая, дети!»
— А как вы стали старостой в церкви?
— Отслужили мои младшие, устроили свою жизнь и потом меня к себе забрали. Я уже тогда на пенсии была. Стала я тут в храм ходить. У нас на Орловщине не было церкви, разрушена была, за пятьдесят километров ездили. А тут близко. Вот пришла я в вороновскую церковь, тогда отец Пантелеимон служил. И у них как раз не было старосты. Все бабушки подняли за меня руки, а я говорю: «Отец Пантелеимон, разве тут нет своих? Я не понимаю». А он говорит: «Тут и понимать нечего. Ты истинная православная христианка. Я поднимаю за тебя обе руки».
Отец Пантелеимон опекал меня. Научилась и Евангелие читать, и шестопсалмие, и молитвы. Когда пекли просфоры, я за старшую была. Каждую службу чему-то училась, да и по сей день учусь. Один стаж на ферме выработала, а теперь тут вырабатываю второй стаж, другого рода, Божий.
Перед тем как прийти в этот храм, приснилась мне мама. Будто принесла она с того света сверток и положила на стол. А меня как вроде дома не было. Я прихожу, а мне соседи говорят: мама твоя была. А я вижу — она пошла. Я выбежала, кричу вдогонку: «Мама, мама, что ты оставила?» Она говорит: «Развернешь — посмотришь». Я развернула — Евангелие. А Евангелие — это что? Беседа с Богом.
— В советские годы сложно было работать старостой в церкви?
— Раньше, в советское время, к нам уполно-моченые приходили. Сами батюшек не любили и нам говорили: смотрите, батюшкам не потакайте... Мы их слушать слушали, а душой по-своему делали. А потом все изменилось. Батюшки стали хозяевами своих храмов. А отец Пантеле-имон, Царствие ему Небесное, не успел побыть хозяином.
—Расскажите, пожалуйста, про отца Панте-леимона.
— Видом он был, как бы сказать. как царевич. Хлесткий, разумный, но болезненный. У него был диабет. Его подчас так свертывало!
Однажды приехал он на службу Казанской иконе Божией Матери в Гривнове. Все уж собрались, а его нет и нет. Думаем, надо идти за ним. Подхожу тихонечко, постучалась — тишина, никакого отклика нет. Думаю, надо дверь приоткрыть. Смотрю, а он сидит, руки вот так сложил, как неживой. Я говорю: «Отец Пантелеимон, вы живы? Можно зайти?» А он глянул на меня и говорит: «Можно, Федора». Я захожу смело, подхожу к нему, а у него крест в руках. И так он его зажмал, что тот весь умялся в руку. Я говорю: «Отец Пантелеймон, что с вами?» А он говорит: «Бес напал на меня. Хотел крест снять. Но я сказал ему: не отдам. И так он меня ошеломил, что никак не одумаюсь. Подожди немножко, сейчас мы пойдем с тобой». Окреп он и провел службу.
А еще был случай — его чуть не убили на дороге. Он ехал на машине со службы, и его ребята встретили. Машину застопорили и тоже хотели крест снять, а он не дал. Они выволокли его из машины и стали бить. Люди увидали и отняли, пришли на помощь. Он потом три месяца в больнице лежал, они ему все ребра переломали. А судиться не стал, сказал: «Господь их сам осудит».
А смерть свою он нам предсказал. Однажды служба была воскресная, потом крестины. Потом венчание должно было быть. Отец Пантелеимон говорит: «Я, наверное, не одолею, сахар сильно поднялся. Пусть едут люди в другой храм». А они отвечают: «Нет, не поедем, хотим, чтобы вы нас обвенчали». Он говорит: «Ну, тогда ожидайте. Пойду в алтарь». Потом выходит бодрым таким. Венчание прошло, они уехали, а он говорит мне: «Ну вот, теперь вы меня и похороните». А я думаю: «Боже мой, какой дать ответ?» И говорю: «Отец Пантелеимон, как же вы можете так говорить? Я-то думала, что вы меня отпоете».

С о. Георгием Хаджийским
А он: «Нет, Федора, я тебя не отпою, ты меня отпоешь. Потом похоронишь Капитолину (казначею), потом отца Николая (был такой старенький священник), а сама (похлопал меня по плечу три раза) крепись, крепись и крепись». И уехал. Дома поднялся у него сахар, отвезли его в больницу — и там он скончался. Вот какой был прозорливый. Меня все научал: «Федора, будь всегда смиренна, больше молчи и уважай каждого, даже недруга своего. А если кто сильно досадует, запиши в заздравительную записку и попроси его Ангела, чтоб вразумил того человека».
Отец Пантелеимон так научал, и отец Георгий11 так же научает. Он уже двенадцать лет как в нашем храме служит. «Будь, — говорит, — терпеливей, никогда разум не теряй и Бога не забывай. Сделалось тяжко — сядь, успокойся и призови Господа. Скажи: „Господи, мне тяжело, помоги мне!“ Господь тут же появится».
— Сейчас часто в храм ходите?
— Каждую службу. Я имела корову, курей, двух поросят, все управляла. Но ни одну службу по сей день не могу пропустить. Это моя жизнь. И вам того желаю. Я молюсь: «Господи, потерпи меня, чтоб я в долгу Тебе не осталась. Чтоб я искупила все свои согрешения — кого обидела, не так
посмотрела, не так сказала. Прости меня и дай мне все это загладить своим трудом».
Так мы по сей день и живем, здравствуем с отцом Георгием. И вам того желаем. Смирения, терпения, воздержания и рассуждения. Веры, надежды и любви.
Протоиерей Иоанн Каледа
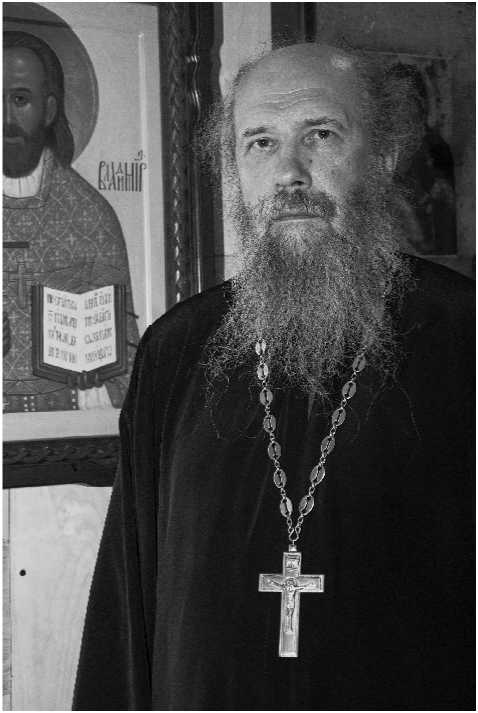
Чем для меня была Церковь в 1960-1970-х годах? Вопрос очень сложный. Ну вот что для нас воздух? То, без чего невозможно жить.
Протоиерей Иоанн Каледа (род. 1954) — настоятель храма Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских Ворот в Москве, старший священник храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» при Краснопресненской пересыльной тюрьме (СИЗО-3).
Сын известного священника Глеба Каледы. Окончил 1-й Московский медицинский институт. В 1994 году рукоположен в сан диакона, в 1995 году — в сан священника. В 1999 году окончил Московскую духовную семинарию.
— Отец Иоанн, вы росли в верующей семье. Ваш папа, протоиерей Глеб Каледа, известен тем, что, будучи выдающимся ученым-геологом, доктором наук, он с 1972 года был тайным священником. И никто из его коллег не догадывался, что в течение восемнадцати лет он регулярно служил литургию в одной из комнат обычной московской квартиры. Если говорить о вашем детстве — не было ли у вас, особенно в подростковом возрасте, смущения, что вы — верующие, поэтому «не как все»?
— Мы знали, что мы не одни. У родителей были верующие друзья, у них дети — мы придерживались одних взглядов. Таких семей было немало. Например, Соколовы107. Но мы жили довольно 12 закрыто — никому особо о своей вере не говорили. Я, например, одного одноклассника «высчитал», что он верующий,—мы вместе учились до четвертого класса, даже дружили. Потом он переехал в другой район. Я помню, 25 февраля у него родился младший брат. Его спрашивают: «Как назвали?», а он с гордостью отвечает: «Алексий!» Я сразу все понял13. через много лет я с этим Алексием встретился — на экзаменах в семинарии. Он был профессор, историк, а я ему сдавал экзамен. Но тогда, в школе, мы с моим приятелем абсолютно друг другу не открылись.
— Кто-то из вашей семьи рассказывал, что папа, отец Глеб, вам говорил:«Если спросят прямо, христианин ты или нет, — тогда надо ответить, а если не спросят, то афишировать не надо». Спрашивал кто-нибудь прямо?
— Меня — нет. Про других мне неизвестно.
— А если бы спросили, вы были готовы ответить: «Да, я — христианин»?
— Я бы не дал сейчас определенный ответ. Далеко не для всех все было просто. Я знаю об одном человеке, который был очень церковный, а потом у него на работе было голосование по поводу закрытия ближайшего храма, и он не смог не поднять руку. И после этого ушел из Церкви — почувствовал себя предателем. Сейчас об этом рассуждать очень хорошо — кто бы из нас что сделал... А как бы мы себя повели, окажись в такой ситуации,—никто не знает.
Какое-то смущение во мне поселялось в некоторые моменты. Помню, мы школьниками с младшим братом шли в храм Ильи Обыденного — и чтобы кто-то не подумал, что мы идем в церковь, мы делали вид, что ищем номера домов.
Или вот еще был показательный случай. Я учился в седьмом классе. В Москву из Ленинграда приехал мамин брат дядя Женя, протоиерей Евгений Амбарцумов14. Он вообще был очень болен: повреждение позвоночника, плохо ходил. И один друг детства повез его на своей машине в Лавру. Друг — преподаватель одного из московских институтов, ему с дядей Женей в Лавре показываться было неудобно. И взяли меня, чтобы я дядю сопровождал. И вот мы с ним вошли в Лавру, он в рясе — надел ее уже на подъезде к Загорску, а навстречу—экскурсия, класс. Пионеры. Пришли с учительницей в музей. И они на меня так смотрят... Я очень смутился. А дядя мне и говорит: «Вань, ты меня стесняешься? Да? Только, пожалуйста, скажи прямо. Если стесняешься, ты перейди на другую сторону. А я как-нибудь тут.» Это меня сразу отрезвило.
Такие чувства возникали, да. И неважно, что они были кратковременными. Посему я не могу однозначно сказать, как бы я ответил. Дай Бог, чтобы, если спросили, я смог бы дать прямой ответ, чтобы я не посрамил Христа.
— Неужели никто из вашего окружения не подозревал, что вы — православная семья?
— Конечно, подозревали. Осенью 2012 года мы с группой наших прихожан ездили на Святую Землю. С нами ездила моя однокурсница, с которой мы учились в медицинском институте. И она только сейчас призналась, что они в группе четко знали, что я — верующий. Но никогда этот вопрос не поднимался. Она говорит: мы чувствовали, что ты — другой. Например, никто из нашей семьи не был комсомольцем. В те годы это было необычно.
— А пионерами были?
— Пионерами были. Комсомольцами — никто. Поэтому школы мы оканчивали разные, хотя начинали учиться в одной. Я в восьмом классе ушел в физматшколу — больше часа ездил в один конец. Остальные тоже в старших классах меняли школу. Поэтому нигде не было явно, что вот — одна семья, и все — не комсомольцы.
— Но вас спрашивали, почему вы не вступаете в комсомол?
— Мы уходили от ответа всеми силами... Вот у одного из моих младших братьев, отца Кирилла, был случай, когда он учился в институте: он обычно перед экзаменами молился преподобному Сергию, а однажды — экзамен по философии был в день преподобного Серафима — он помолился ему — и получил тройку. Сначала расстроился, а потом через некоторое время ему стали предлагать в комсомол вступить, а он тут и говорит — нет, я не могу — я же по философии троечник!
И у нас в институте на всем курсе было всего двое некомсомольцев — староста потока и я, староста группы, в которой он учился. И я был единственный в институте, кто знал, что староста потока — сын настоятеля одного из московских храмов.
— Как был организован церковный быт в вашей семье?
— Все мы были крещены в младенчестве15. Кстати, я был крещен по сравнению с моими братьями-сестрами очень поздно — на восемнадцатый день... Крестили нас в разных храмах. Меня — в храме Ризоположения на Донской крестил отец Николай Голубцов — тот, который отпевал блаженную Матрону. Сестру мою младшую, Машу, сейчас игумению Иулианию, крестили дома, в бочке — мы в этой бочке обычно на зиму капусту квасили. Крестил ее мамин брат протоиерей Евгений Амбарцумов. Он принял сан в 1951 году. Есть фотография: отец Евгений и отец Глеб. И подпись «Друзья перед великими событиями». Отец Глеб — перед женитьбой, а отец Евгений — перед принятием сана.
В храм мы ходили не каждое воскресенье, но причащались регулярно. Мы старались всей семьей в одном храме не бывать. Мы, старшие дети, сами по себе ходили, без родителей. Потому что во всех храмах были «глаза». Пришла многодетная семья — это сразу заметно. И в церкви мы никогда ни с кем не здоровались. Чтобы этим «глазам» не показывать, что здесь все друг друга знают.
Мы считали своим родным храм Ильи Обыденного, но побывали почти во всех московских церквях. Только в храм рядом с домом никогда не ходили, чтоб никто потом из бабушек на скамеечке не мог сказать: «Ах, это такая замечательная семья — мы их тут в церкви встретили». В Илье Обыденного мы исповедовались и причащались до того момента, как отец принял сан.

«Друзья перед великими событиями»: Евгений Амбарцумов и Глеб Каледа. 1951 г.

Верхний ряд: Александра, Сергей, Кирилл, Иоанн; нижний ряд: Лидия Владимировна, Василий, Мария, Глеб Александрович. 1969 г.
После того я перестал бывать на литургии в других местах — только дома.
— Из Церкви никто из ваших братьев-сестер не уходил?
— Был период, когда достаточно часто причащались. Был период, когда чуть ли не пару раз в год. Но чтобы кто-то уходил из Церкви — такого не было.
—И в храм в подростковом возрасте уже сами ходили?
— Естественно.
— Не «толкал» никто?
— Нет-нет.
— Как получилось, что ваш отец, известный ученый, стал тайным священником? Он верующим был с детства?
— Да, с детства — и всегда. Никогда от веры не отступал. Именно поэтому он никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, ни, естественно, членом партии.
Отец Глеб родился 2 декабря 1921 года в Петрограде. Его мама умерла, когда Глебу было всего двенадцать лет. Его папа, дедушка Саша, в свое время окончил бурсу в Белоруссии, а затем Минскую духовную семинарию. Но по духовной линии не пошел — из их класса, кстати, только один человек стал священником. А дедушка дальше пошел учиться в Петроградский политехнический институт, на экономический факультет, и окончил его как раз перед революцией. До
революции экономическое образование в России было очень высоко поставлено. «Капитал» Карла Маркса, к примеру, они должны были штудировать на языке оригинала. Потом, после переезда в Москву, дедушка работал в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) Госплана СССР, был заведующим отделом.
— Родители отца Глеба были всю жизнь верующими?
— Дедушка в середине жизни несколько отдалился от Бога, но во время войны вернулся. Папина мама была верующей всегда. В молодости дедушка Саша был близок к известному питерскому священнику Александру Введенскому16. Над Глебом Таинство Крещения совершал именно он. Но
потом дедушка перестал с отцом Введенским общаться. Они с бабушкой как раз были на самом первом собрании, которое отец Александр проводил по поводу своих нововведений. Дедушка пришел раньше, бабушка опоздала и поэтому оказалась сзади, и дедушка послал ей записочку: «Шурочка, ни на что не соглашайся!» Это показывает —дедушка очень хорошо понимал, что происходило тогда в Церкви. А про отца Александра Введенского дедушка говорил, что это был великий молитвенник, по молитвам которого совершались чудеса. Но — гордость его сгубила. Естественно, папу отец Александр крестил до своего обновленчества.
Еще до революции существовал Всероссийский христианский студенческий кружок. До 1924 года он действовал официально. Председателем был мой дедушка по маминой линии, Владимир Амбарцумович Амбарцумов17, будущий священник и священномученик. Дедушка Володя познакомился с этим движением в Германии, когда там жил. Вернувшись в Москву, он нашел единомышленников, в этой среде встретил и свою будущую супругу. Когда они поженились, то дали обет, что свою жизнь посвятят проповеди Евангелия. И вот когда в 1924 году официально христианский студенческий кружок был закрыт властями, многие из кружковцев молча этому покорились. На что дедушка Володя (он тогда еще не был священником) сказал, что именно в это время никак нельзя бросить на произвол судьбы молодежь — он в первую очередь работал с молодежью, и кружок продолжал существовать нелегально. Например, они собирались с подростками, читали и разбирали Евангелие.
Вообще, дедушка Володя, Владимир Амбарцумович, родился в лютеранстве, потом в студенческие годы в Берлине перешел в баптизм, потом, в середине 1920-х годов, под влиянием отца Валентина Свенцицкого18 перешел в Православие, и в 1927 году принял священнический сан по рекомендации отца Валентина.
Папина мама Александра Романовна была духовной дочерью священномученика Василия Надеждина19 и, когда после его кончины приход храма святителя Николая у Соломенной сторожки принял отец Владимир Амбарцумов, перешла к нему. Отец Владимир нередко ночевал в их доме. Папа, как и его родители, был духовным чадом дедушки Володи, своего будущего тестя. По его благословению в середине 1930-х годов, еще будучи школьником, папа много ездил по Подмосковью, выискивая скрывавшиеся семьи репрессированных священников, чтобы потом можно было им помогать.
В 1941 году отец окончил школу и уже в августе был призван на военную службу. Он всю войну прошел рядовым, был связистом в дивизионе «катюш», все время на передовой, имел высокие награды, в том числе орден Боевого Красного Знамени (рядовым!), участвовал в Сталинградской битве, был под Курском — и ни разу не был ранен.
Еще до войны, в старших классах, отец стал интересоваться геологией. А во время войны он заочно окончил пару курсов иняза и курс Горного института. Прямо на фронте, в окопах. Писал письменные работы — почта полевая хорошо работала... Посему после того, как война закончилась, его отправили в Москву учиться. Когда он проходил медкомиссию по демобилизации, все врачи недоумевали — как это, на фронте — и учиться? При этом ордена и медали красноречиво говорили, что он не отсиживался. Врачебная комиссия его комиссовала по истощению нервной системы. Хотя, по большому счету, а у кого, кто прошел четыре года фронта, не было истощения нервной системы?.. Но как бы там ни было, ему дали возможность учиться. Осенью 1945 года он хотел поступать в Московский университет, но там к нему не очень хорошо отнеслись — мол, с орденами тут, будет еще их выпячивать. И он поступил в МГРИ, Московский геологоразведочный институт. На старших курсах он уже был руководителем геологической партии.
Ну а прямо перед защитой диплома, в 1951 году, он женился на маме, Лидии Владимировне Амбарцумовой. Мама рассказывала, что на следующий день после свадьбы папа уже занимался дипломом. После защиты они вместе поехали в геологическую партию в Среднюю Азию.
Вообще у отца всегда было стремление работать на Севере. Но в 1945-1946 годах он познакомился с первым наместником Троице-Сергиевой
Лавры архимандритом Гурием (Егоровым)20. Когда Глеба Каледу ему представили как студента геологического института, отец архимандрит сказал: «А у нас уже есть один геолог» — и познакомил его с иеромонахом Иоанном (Вендландом), будущим митрополитом21. Именно владыка Иоанн благословлял родителей на брак и через много лет рукополагал отца.
Вскоре отца Гурия рукоположили в епископа Ташкентского, и он уехал. Отец Иоанн — вслед за ним. И посему местом своих научных интересов отец избрал Среднюю Азию — чтобы можно было заезжать в Ташкент — и к владыке Гурию, и к отцу Иоанну. Все это время Глеб Каледа активно занимался наукой, был уже известным ученым.
— Когда и как владыка Иоанн решил рукополагать отца?
— Отец принял сан, когда ему было пятьдесят лет. В 1960-х годах владыки Иоанна не было в стране, он был экзархом Американского экзархата. Когда в конце 1960-х годов Американскому экзархату была предоставлена автокефалия (это произошло в том числе и стараниями владыки Иоанна), он вернулся в Россию и вскоре получил вдовствующую Ярославскую кафедру. Буквально в одну из первых встреч с отцом после своего возвращения владыка попросил папу нарисовать план квартиры, и, когда выяснилось, что есть комната, стены которой не граничат с соседями, он предложил отцу принять сан. Но при этом сказал, что прежде всего необходимо согласие жены. Так что решение отца тайно принять сан священника — это было взаимное их с мамой решение. Потому что как же без ее согласия можно было организовать дома службу? Отец служил, мама ему помогала.
Владыка Иоанн, когда папу благословлял на священство, сказал ему: «Ты еще можешь быть очень нужным Церкви, но если ты сейчас не примешь сан, то потом ты этого не сделаешь никогда». И если рассудить, он был прав... Восемнадцать лет отец был тайным священником. Рукополагать в семьдесят лет его вряд ли стали бы. И еще такая была мысль у владыки Иоанна — если вдруг начнутся гонения и всех священников посадят, то чтобы были тайные священники, которые могли бы продолжать совершать Евхаристию.
И вот 12 февраля 1972 года, на память Трех Святителей, отец принял диаконский сан, а 19 марта того же года стал священником. Рукополагал отца владыка Иоанн тайно — во время службы в кафедральном соборе Ярославля в алтаре соседнего придела.
— Когда отец Глеб принял сан, вы это как восприняли?
— Мне было уже восемнадцать лет. Мы, старшие дети, восприняли это с воодушевлением.
— Что представлял собой ваш домашний храм?
— В обычное время это была просто комната, кабинет отца, и его сослуживцы, которые нередко приходили, не подозревали, что она превращается в храм (который был освящен в честь всех святых, в земле Российской просиявших).
Перед каждой службой на окна мы вешали поролоновые матрасы в три слоя (квартира была на первом этаже). На кухне и в комнате включали радио — чтоб соседи ничего не услышали. Престолом был этюдник. Он покрывался покрывалом, сверху клалась икона Воскресения Христова, икона покрывалась еще одним платом, а уже сверху клался антиминс и Евангелие. Чашей был фужер, дискосом — вазочка для варенья, которые в обычное время стояли отдельно в серванте. Из скальпеля сделали копие. Я сделал звездицу. Облачения готовила мама. Вся хитрость была в том, что после службы эти облачения превращались в просто ткани — на случай обыска, чтобы нельзя было догадаться, что это такое. Много лет у отца собственно фелони не было. Был такой плат, сзади нашивался или булавочкой прикреплялся крест из ленточек. А сам плат скалывался на груди английской булавкой — получалась фелонь.
В один момент были какие-то осложнения и беспокойство, что может быть обыск. Отец очень переживал за покровцы — чтобы не догадались, что это такое, но они были квадратными, а не крестообразными. Я, помню, ему говорил: «Пап, ну подумаешь, салфетка с крестом. Кто решит, что это покровец?» Слава Богу, никто не интересовался, никто с обыском не приходил.
Первая служба была на Лазареву субботу. И через неделю, на Пасху, отец тоже служил дома — но мы, старшие, пошли в Обыденный — чтобы никто не подумал, почему Каледы все годы на Пасху бывали в храме, а тут никто не пришел. А как раз младшие — Маша и Вася — только тогда узнали, что у них папа — священник. Им обещали, что они впервые будут на пасхальной службе. Уложили спать, а потом позвали в храм — в соседнюю комнату. Матушка Иулиания потом вспоминала, как тогда впервые увидела папу в подряснике и с крестом.
—Вы в основном бывали на этой службе с семьей? Или еще кто-то приходил?
— Практически всегда приходил кто-то еще.
—А у вас и у других детей не было желания поделиться с друзьями, что у вас храм дома?
— Отец про себя открывал только тому, кому считал нужным. Кое-кто из близких друзей на него потом обижался, что ему не сказали сразу. И если мы кому-то про отца говорили, то только получив на то у него благословение, а не чтоб похвастаться.
Вообще мы над отцом порой подтрунивали, что он очень боязлив. Он, например, абсолютно не терпел всякие политические анекдоты, вообще разговоры «о политике». Тут же бросался закрывать форточки. Мы ему: «Пап, ну не тридцать седьмой же год!»
Это потом мы осознали, что чего-чего, а страха у отца Глеба абсолютно не было. Он был готов пострадать за ДЕЛО. Потому что если бы он был трусом, то, простите, он бы сан тайно не принял. Дома бы храма не было. Но из-за какой-то глупости подставлять под удар самое главное — вот этого он принципиально не хотел.
— Как часто папа служил?
Каждое воскресенье и во все двунадесятые праздники. Причем если двунадесятый праздник был в будний день, то вставали рано-рано, чтоб к службе приготовиться, отслужить, а потом всем вовремя уйти в школу, на работу, в институт. И так все восемнадцать лет.
— Кроме отца Глеба были еще такие тайные священники?
— Мы знаем еще одного тайного священника, известного как Николай Павлович Иванов. Он был сотрудником издательского отдела Московской Патриархии. Про него есть кратко у владыки Питирима в его воспоминаниях «Русь уходящая» — владыка пишет, что ходили слухи, что он — священник. Но широко это стало известно только на его похоронах. Еще следует упомянуть отца Романа Ольдекопа22 из Коломны, скончавшегося в начале 1970-х годов, от которого впоследствии отцу перешли церковные предметы.
—А про отца Глеба ходили такие слухи?
— Я думаю, люди догадывались... Еще в советские времена один ученый, с которым отец был в дружественных отношениях, но не говорил ему о своем священстве, как-то попросил: «Когда я умру, вы, пожалуйста, сделайте все, как надо.» Отец однозначно все понял — и впоследствии отпевал его.
Духовные чада у него были еще до того, как он стал явным священником. Много. У нас и крещения, и венчания дома были.
Были люди, которые приходили с вопросами. Причем кто-то приходил к нему «на грани» — что вот, все, из Церкви собираюсь уйти... Да, было такое.
— При этом параллельно у отца Глеба была блестящая научная карьера?
— Да, он основал свою геологическую школу, создал новое научное направление, он автор ста семидесяти научных работ. Он собрал, воспитал большой коллектив. Его ученики до сих пор работают в геологии. Некоторые его идеи, разработки и сегодня активно используются в нефтяной геологии, и многие даже не знают, что их разработчик — Глеб Каледа. Ему доводилось быть руководителем геологических проектов всесоюзного и даже международного масштаба. Он ездил в Болгарию и ГДР. Читал лекции на различных курсах повышения квалификации, в том числе на курсах ООН. В 1981 году отец наконец защитил докторскую диссертацию. До этого много было препятствий. Помню, на банкете по поводу защиты был спор: а сколько лет назад должно было произойти это событие — десять, пятнадцать или двадцать? Конечно, лукавый не мог не мстить за священство. Вскоре после принятия сана у отца Глеба начались заминки с министром геологии: тот стал его немножко «задвигать». Связано это было с тем, что министр в один из институтов хотел поставить руководителем какого-то своего родственника, а сотрудники этого института открыто заявили, что хотели бы видеть на этом месте Глеба Кале-ду. Хотя его кандидатура в те годы принципиально вряд ли могла бы пройти из-за беспартийности. Ну и с диссертацией все было не просто. Отец был очень требователен к себе. Когда он защитил кандидатскую диссертацию, ему сказали, что ее «нужно немножко доработать и защищать как докторскую». Но просто «немножко доработать» отец не мог. Он переработал ее очень глубоко. А тут изменились требования к докторским диссертациям, был ограничен их объем. У отца к этому времени все было практически написано, только это было в два раза больше, чем требовалось... Пришлось ужимать.
—А какой он был папа? Строгий?
— Ну, я помню, например, один такой «воспитательный» момент. В пятом классе я немножко «дурил». Дневник у меня был расписан, маму вызывали в школу. Да, даже такое было (только это не для моих внуков).
— Вы хулиган были, что ли?
— Я домашние задания не делал. Учительница даже домой приходила, с мамой беседовала. Ну, естественно, мама не рассказать отцу не могла. И вот несколько дней проходит — от отца реакции никакой. А в воскресенье он с нами, старшими детьми, поехал за город в лес кататься на лыжах. Покатались, все хорошо. И вот только когда мы пришли на платформу и ждали электричку, тут меня отец отвел в сторону и поговорил со мной. И я потом, в течение жизни, много раз вспоминал, как он это сделал — выждал момент, когда будет время подходящее.
— Матушка Иулиания вспоминала, как папа Дедом Морозом наряжался.
— До принятия сана, да, бывало... Кстати, я вам расскажу, что мужу моей сестры, покойному отцу Александру Зайцеву, специально задержали диаконскую хиротонию, чтобы он в Ленинградской духовной академии мог побыть Дедом Морозом на детском празднике. Это было примерно в 1976 году.
Отец Глеб с нами много занимался. Мы с ним и на лыжах ходили, и в походы — «на целый день» это у нас называлось. Всей семьей, с колясками, с костром.
Отец к природе относился как ко второй Библии.
Помню, в 1973 году меня вместе с братом Кириллом, он тогда еще в школе был, а я уже после второго курса мединститута, папа взял в геологическую экспедицию под Ухту. У меня там была какая-то должность, а брат был «тунеядец» — так в шутку называлась должность, за которую зарплату не получали, а обязанности имели — в экспедиции без обязанностей нельзя. И я помню, мы с папой по вечерам ходили гулять по берегу реки и в это время молились.
—А папа, уже будучи священником, ездил в экспедиции?
— Естественно. Еще со студенческих лет, когда он начал ездить в экспедиции, наша мама ему (тогда еще нельзя сказать, чтоб она даже была его невестой), сделала такую записную книжку — переписала туда что-то из Минеи, из Триоди — и он всегда брал ее с собой. И маленькое Евангелие. Молиться ведь можно в любом месте, хоть в лесу, хоть в экспедиции. Это для него было естественное состояние.
— Притом что обстановка вокруг совершенно далека от церковной жизни — и ничего, это не мешало?
— Нет, не мешало. Папа мне рассказывал про отца Владимира Амбарцумова, что когда тот до своего ареста останавливался у его родителей, а они жили в одной большой комнате в коммунальной квартире, то отец Владимир становился в одном углу комнаты, а иконы были в противоположном углу — и спокойно молился через всю комнату, ни на кого не обращая внимания. При этом люди в комнате приходили и уходили, что-то делали, жизнь текла своим чередом. Это ему абсолютно не мешало.
— У отца Глеба есть воспоминания о войне — довольно страшные. Честно говоря, потрясает, как человек через все это прошел и ни веру, ни себя не потерял.
— Он говорил о войне, что это было время удивительной духовной свободы — от тебя ничего не зависело. Ты целиком находишься в руках Божиих и поэтому свободен. Живешь так, как Господь сказал: не заботьтесь о завтрашнем дне (Мф. 6: 34) — ведь ты даже не знаешь, будешь ли завтра жив. С войны он писал в одном из писем: «У меня есть глубокое ощущение, что для меня лично не нужны ровики, ибо то, что будет со мной, совершенно не зависит от них. <...> В них не ощущаю потребности. Ровики, конечно, рою, ибо приказывает начальство и неудобно уклоняться от работы, когда работают товарищи. Разве нет у нас Сильнейшей защиты?»23
Однажды папу чуть не расстрелял свой же офицер за то, что он за кого-то заступился. Поставил его на краю рва. Потом отец говорил: «Если бы я стал сопротивляться, он, скорее всего, выстрелил бы. Но я был спокоен». Тут была моральная победа отца Глеба. А комиссар, видимо, испугался остальных присутствующих. Мы знаем, что иногда в атаке кое-кто получал пулю в спину. По-том-то никто разбираться не будет: погиб, и все. Поэтому нередко из начальства те, кто в тылу позволял себе всякие бесчинства, при приближении к фронту свое поведение резко меняли. Но для отца Глеба, конечно, это было огромное потрясение. Он даже одеться потом сам не мог. Возможно, имея этот опыт, ему потом было легче найти общий язык со смертниками, к которым он начал первый из священников ходить в начале 1990-х.
— Отец Иоанн, расскажите об открытом служении отца Глеба.
— С 1 октября 1990 года Святейшим Патриархом Алексием II была отменена регистрация священства через уполномоченных. Святейший просто «уведомил» Комитет по делам религий о том, что он отменяет регистрации,—и все. О том, что это произошло именно так, кстати, мало кто знает. И со 2 октября 1990 года отец вышел на открытое служение.
Тут тоже очень интересно получилось. Как известно, священник служит не сам по себе, а от имени правящего архиерея. И владыка Иоанн благословил отца, что после его смерти тот год может просто служить, а потом должен войти в каноническое подчинение какому-нибудь архиерею. И назвал имена трех архиереев, которые, по мнению владыки Иоанна, могли его принять. Одного имени я не помню, вторым был владыка Герман, ныне Волгоградский, но в тот момент он был за рубежом, поэтому связаться с ним было сложно. А третье имя было — митрополит Ленинградский и Таллинский Алексий. И так получилось, что владыка Иоанн в 1989 году умер, отец год еще прослужил, а потом обратился как раз к бывшему митрополиту Алексею — который к тому времени уже стал Патриархом. И тот его принял.
—Как люди, особенно из научного мира, отреагировали, когда выяснилось, что профессор Каледа, ученый с именем, много лет параллельно был тайным священником?
— Перед тем как выйти на открытое служение, отец подал заявление о переводе на полставки профессора-консультанта. У всех окружающих это вызвало полное недоумение: Глеб Александрович, полный сил, который, как считали, кроме науки, ничего другого не видит, вдруг от своей любимой науки отказывается, изменяет ей! Когда узнали, из-за чего, все очень удивились. Друг и учитель отца Глеба, профессор-геолог Дмитрий Петрович Резвой написал тогда ему в письме: «Простите, мой дорогой Глеб, я вас очень люблю, но видеть в вас агитпропа Московского Патриархата — это выше моих сил».
Сразу после выхода на открытое служение отец Глеб стал сотрудником отдела церковного просвещения и катехизации, занимался там очень много чем. Он был одним из первых священников, которые стояли у истоков организации воскресных школ, православных гимназий, Свято-Тихоновского Богословского института. Предшественником института были богословские курсы, отец там читал лекции. Когда курсы преобразовывались в институт, первым ректором стал отец Глеб Каледа. Идеологом курсов, несомненно, был отец Владимир Воробьев24, но, чтобы организовать институт, нужна ведь огромная административная работа. А отец Глеб, занимаясь научной работой, много лет возглавляя большой отдел, будучи руководителем всесоюзных проектов, был к этому готов, знал, как это делать,—и он это дело провернул.
—А как он стал заниматься тюрьмами?
— Насколько я понимаю, в первый раз отец попал в тюрьму, когда кто-то из заключенных попросил, чтобы пришел священник его окрестить. Обратились к отцу Глебу — он откликнулся. И, как он сам потом говорил, однажды попав в тюрьму, он уже не смог оттуда выйти. Он много работал с общими камерами, организовал себе в помощь группу катехизаторов. И еще он ходил в камеры смертников. Причем когда он в первый раз к ним пошел, двери камеры не запирались, и около них стоял целый отряд вооруженных охранников, готовых в любой момент ворваться и защитить отца Глеба. В последующем, когда он ходил в камеры смертников, его там запирали, и он просто говорил, через сколько часов за ним прийти. Он и крестил, и исповедовал, и причащал, и просто разговаривал.
Весной 1994 года у отца обнаружили рак, и с марта по 1 ноября он провел на больничной койке. И вот когда он наконец-таки вырвался из суеты, когда не нужно было бежать туда-сюда, им были написаны книги «Остановитесь на путях ваших», «Записки тюремного священника», был существенно доработан сборник очерков, который потом стал называться «Домашняя Церковь», доработана статья о Туринской плащанице, где он говорит об этой святыне и как священник, и как ученый. Умер отец 1 ноября 1994 года. Последние его слова были: «Все хорошо, все очень хорошо».
— Вы говорили, что без мамы служение отца было бы невозможно. Расскажите про маму.
— Мама, Лидия Владимировна Амбарцумова, родилась 4 февраля 1922 года. Ей не было и полутора лет, когда она осиротела: от пищевого отравления скончалась ее мать, бабушка Валя, Валентина Георгиевна. Маму и ее брата, будущего отца Евгения Амбарцумова, вырастила подруга бабушки Вали, Мария Алексеевна Жучкова. Мы ее звали бабушка Маруся. Дедушка Володя после смерти жены делал бабушке Марусе предложение. Она отказалась. Причин было две. Первая — несмотря на то что дедушка Володя в тот момент был баптистом, ему дивеевской блаженной было предсказано священство. А бабушка Маруся знала, что священник — муж одной жены. Поэтому, если она выйдет за него замуж, то священником он никогда стать не сможет.
Была и вторая причина. Она боялась стать мачехой этим сиротам, если у нее появятся собственные дети. Хотя, насколько я понимаю, материнский инстинкт у нее был очень сильный. Она порой спокойно даже не могла смотреть, как кошка с котятами возится,—мама это рассказывала. Так что бабушка Маруся — святой человек.
Дедушку Володю несколько раз арестовывали, но потом отпускали. Он в основном жил отдельно от бабушки Маруси с детьми. Но регулярно приезжал, всем обеспечивал. Правда, ровно настолько, насколько нужно. Ничего лишнего. Мама вспоминала, что кто-то ей подарил голубые парусиновые сандалики, на что дедушка сказал: у тебя сандалики есть, значит, тебе вторая пара уже не нужна, отдадим тому, у кого нет.
Когда маме было пятнадцать лет, в 1937 году, отца Владимира арестовали окончательно. И как мама потом сама говорила, «тогда кончилось мое детство». Она всю жизнь тосковала без отца. Все время молилась, чтобы отец Владимир вернулся. Но он не вернулся.
В 1940 году мама окончила школу, но никуда не поступала из-за проблем со здоровьем. Потом началась война, мама с бабушкой Марусей перебрались из Подмосковья, где они жили, в Москву, к сестре бабушки Маруси. И вот в октябре 1941 года прибегает мамина подружка и говорит, что в педагогическом институте на Малой Пироговке сказали, что, ежели найдется хотя бы пять студентов, то начнут читать лекции. Ну, мама решила — а почему бы и не поступить туда? И записалась в институт на химический факультет. Она
вспоминала, что хотела, как положено, сдать аттестат, но на нее замахали руками: да вы его лучше спрячьте, а то его тут еще сожгут. Как раз в октябре 1941 года в Москве была жуткая паника, уничтожали документы. Мама окончила институт в 1945 году. Потом работала на туляремийной станции в Подмосковье — они там летом бегали по полям, ловили мышей, вскрывали их и исследовали на наличие вируса туляремии. В студенческие годы мама для того, чтобы кормить бабушку Марусю, которая была инвалидом, стала сталинской стипендиаткой — благодаря этому она получала повышенную стипендию, и нормы по карточкам были больше. А в 1951 году мама вышла замуж. Ну а потом... стала мамой. После рождения первого сына, моего старшего брата, она уже больше нигде не работала. С отцом они прожили сорок три года, а знакомы были с детства — шестьдесят лет.
— Скажите, а у мамы в молодости не было ропота, что вот она молилась-молилась, а папа так и не вернулся?
— Это мы сейчас, наше поколение, если пять минут попросим о чем-то, тут же и обижаемся, что Господь нас не слышит. «Как же так? Наша молитва ни к чему!» А вспомните Авраама — сколько лет он молился о чадах?
— Ну, на это можно сказать: «Авраам — это так далеко. Я — не Авраам». А вот когда близкие к нам по времени люди...
— Просто главное, что эти люди умели,—предавать себя в волю Бога. А мы все творим свою волю. «Господи, да будет по воле Твоей, но чтоб она совпадала с моей».
—А откуда они это умели?
— Впитывали с молоком матери. А сейчас — кто-то из батюшек сказал: «Сейчас есть две категории: православные и „православнутые“». И вот мы часто бываем именно «православнуты-ми». Православными по форме. А там все это шло из сердца.
—А об отце Владимире много лет было ничего неизвестно?
— Да, но мы с детства каждый день всей семьей молились: «Господи, дай нам узнать, как умер дедушка Володя». Сейчас мы знаем — отец Владимир был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне, он прославлен как священномученик. Конечно, это представить очень сложно: твой близкий человек — святой...
— А как так получилось, что в конце жизни мама приняла монашество?
— Мама скончалась в восемьдесят девять лет. За несколько лет до этого она уже чувствовала всякую немощь и одна оставаться не могла. Поэтому она жила под крылышком у детей — или в Бутове, где настоятель — мой младший брат, отец Кирилл, или в Зачатьевском монастыре, где матушка Иулиания — игумения. Потом мама окончательно перебралась в Зачатьевский монастырь.
Когда она стала жить в монастыре, то ей неоднократно говорили: «Вам надо принять монашество». На что она всегда отнекивалась: «Зачем всем обязательно принимать монашество?» Никакого такого намерения у нее не было. И вот осенью 2008 года обитель посетил старец отец Илий25. К этому времени мама уже самостоятельно не передвигалась, ее возили в кресле-каталке. Вывезли ее под благословение к старцу — а он возьми и скажи: «А вам надо принимать постриг. И не откладывать. Не позднее Великого поста». Мама просто была в шоке. Но потом она сказала: «Я всю жизнь привыкла быть в послушании. И как я теперь не послушаюсь?» А через некоторое время монастырь посетил Святейший Патриарх Алексий II. И матушка Иулиания сказала ему о благословении старца по поводу мамы. И Патриарх тоже маму благословил и сказал, что надо Рождественским постом постриг и совершить. И назначил день — 5 декабря... Это, кстати, день, в который в 1925 году мама приняла Святое Крещение. Они, как баптисты, в младенчестве не были крещены, а в 1925 году, когда дедушка Володя тяготел уже к Православию, он детей крестил в православной вере.
Святейший благословил наместника Данилова монастыря архимандрита Алексия совершить постриг — что, в общем-то, весьма нехарактерно для Зачатьевского монастыря. Это, по-моему, был единственный постриг, который тот совершал в обители. И имя в монашестве мама получила Георгия — в честь преподобноисповедника Георгия Даниловского26, на коленях у которого в детстве мама сидела. Она чтила его память всю жизнь.
А 5 декабря 2008 года утром мы получили печальное событие — умер Патриарх. Поэтому поначалу все были в нерешительности по поводу пострига — а потом решили, что благословение Святейшего надо исполнять, несмотря ни на что.
—А когда вы захотели стать священником?
— Для некоторых было странно: как так — верующий молодой человек и не священник? Меня часто спрашивали: «А вы не собираетесь стать священником?» Я на это всегда отвечал: «Я не исключаю этого шага». К священству я никогда не стремился. Но Господь призвал — и я не отказался. Начало было положено 25 мая 1990 года. В воскресный день, вечером, я возвращался из-под Волоколамска на попутке. Машина довезла меня до платформы Трикотажная — майский вечер, часов девять, тишина. Электричка была не скоро, ждать мне не хотелось, и я решил, что поеду на перекладных. Спустился с платформы, обошел край забора вокруг Тушинского храма, а там надпись: «Склад строительно-монтажного управления номер такой-то». Я посетовал, что здесь такая мерзость запустения. Приезжаю домой, а меня жена встречает вопросом: «Ваня, что ты так долго? Тебя разыскивает отец Федор Соколов. Он получил храм. Ему нужны люди». И от нее я узнаю, что он получил именно тот храм, где я только что был и о котором сетовал. Так что в этом призыве отца Федора я узрел волю и призыв Божий.
—Вы с отцом Федором с детства были знакомы?
— Можно сказать, что гораздо раньше. Начнем с того, что однажды в 1920-е годы у Николая Евграфовича Пестова27 (дедушка отца Федора) был обыск. Там же был и Владимир Амбарцумович Амбарцумов (мой дедушка). Во время обыска всех задержали. Потом Николая Евграфовича арестовали, а дедушку — отпустили. Когда следователь принес документы, ему там «сверху» выговорили: «А что ж вы Амбарцумова-то отпустили?! Его в первую очередь надо было брать!» Тот с претензией к Николаю Евграфовичу: «А что же вы мне не сказали, что это тот самый Амбарцумов?» На что Пестов ответил: «Ну, вы же меня не спросили...» Так что связи эти очень давние.
Так вот, с отцом Федором сначала мы в тушинском храме вместе перегородки рушили, мусор выгребали, потом, с первой службы, я алтар-ничал. Потом стал диаконом, ну и потом — священником. А потом «из князи в грязи» — то есть сюда, в храм Троицы на Грязях.
Когда отец Федор принес документы на мою иерейскую хиротонию владыке Арсению Истринскому (тогда еще епископу), тот сказал: «А по нему уже давно тюрьма плачет». Отец Федор окормлял тогда Краснопресненскую тюрьму. Отец Глеб служил в Бутырке. И я почти сразу, как принял сан, тоже стал служить в тюрьме. Сейчас я старший священник следственного изолятора № 3 «Краснопресненская тюрьма».
— А помните ваше самое яркое впечатление детства или юности, связанное с Церковью?
— Помню. 3 июня 1971 года, интронизация Святейшего Патриарха Пимена. Это было так.
Я очень хотел попасть — но это ж только по приглашениям! К тому же в тот день у меня в школе был выпускной экзамен, литература устно. И вот рано утром звонит наш духовник, отец Александр Егоров, и предлагает отцу билет на интронизацию. День был самый будний, отец с работы никак не мог отпроситься. Но, зная, что очень хотел я, предложил мне. Мы с отцом Александром встретились у Елоховского собора. Одно из ярких впечатлений тогда для меня было — приезжают бати — и все в рясах, по форме. Обычно же на улице в священнической одежде никого нельзя было увидеть.
Приглашение было самого низкого ранга, но мы с отцом Александром оказались прямо около Казанской иконы Божией Матери.
— А как же экзамен?
— Интронизация и литургия закончились, начался благодарственный молебен. Тут я про себя думаю: «Знаешь, надо совесть иметь». И поехал в школу. Приезжаю, ко мне бросаются: «Где ты? Мы уж домой звонили, сказали , уехал. Экзамен кончается!» Я прохожу в класс, беру билет — и понимаю, что это единственный билет, который я могу отвечать с ходу. Спрашиваю: «Отвечать уже можно?» На что мне ответили: «Вот нахал! Пришел позже всех и без очереди отвечать хочет...» Экзамен я сдал отлично.
—А с владыкой Иоанном (Вендландом), который отца благословил на священство, вы были знакомы?
— Да, с владыкой Иоанном у меня связано одно происшествие. Мне было лет 25, и я ипо-диаконствовал у него на архиерейской службе. Знаете, почему на архиерейских службах «Херувимская» очень долго длится? Потому что в это время в алтаре совершается архиерейская проскомидия — архиерей поминает всех своих близких о упокоении и о здравии, в том числе и «всю сослужащую братию», за каждого вынимает частицу из просфоры. Все в алтаре подходят, целуют ему плечо и называют свое имя. И я тоже подхожу к владыке, держа в руках рипиду. Знаете, что такое рипида? Круг с изображением херувимов, водруженный на длинную рукоятку. И вот я подхожу, нижний конец рипиды за что-то зацепляется — и получается рычаг. А владыка в этот момент поворачивает голову — и я высокопреосвя-щеннейшему владыке ребром рипиды попадаю четко промеж глаз. Так, что вмятина осталась. Я застыл. Хотел было что-то сказать, но владыка только рукой на меня замахал, я решил, что это означает «Пошел вон» — это моя интерпретация. И дальше все продолжается своим чередом, как будто ничего не произошло.
А после причастия все подходят к архиерею под благословение. Доходит по чину до меня очередь, я подхожу, а он меня жестом останавливает и спрашивает: «Ты знаешь, что ты сегодня сделал?» Я — в ноги владыке: «Простите!» что тут скажешь? А в это время уже все, кто был в алтаре, вокруг собрались: как владыка-то «разбираться» будет — интересно! Я поднимаюсь. Владыка: «Нет, ты знаешь, что ты сегодня сделал? У меня все утро голова болела. А после этого прошла...»
— Расскажите про отца Павла (Троицкого)28. Он какое-то влияние оказал на вашу жизнь?
— Нас с матушкой он благословил на брак.
— Ваши родители ему писали?
— Отец. Причем он о нем узнал после следующей ситуации. В Коломне был тайный священник, отец Роман Ольдекоп. И вот в 70-х годах он умер. Его матушка через кого-то из чад отца Павла у него спрашивала: «Что делать с церковным имуществом отца Романа?» И пришел ответ, который зачитали вслух при нескольких чадах отца Павла. Ответ был следующий: «Передайте отцу Глебу». В середине 70-х годов в Москве был известен только один отец Глеб — Якунин, находящийся под запретом. У всех — полное недоумение. И тут один из присутствующих говорит: «Я знаю, какому отцу Глебу это надо передать». Отец Павел имел в виду папу.
Священномученик митрофорный протоиерей Анатолий Авдиевич Правдолюбов (1862-1937). Сын священника из старинного священнического рода. Родился в селе Давыдово под Тумой Касимовского р-на. После семинарии стал священником и трудился по линии церковного
Гейдельбергский университет — старейшее (основан в 1386 г.) и наиболее престижное учебное заведение Германии.
Марковников Владимир Васильевич (1837-1904) — русский химик, основатель научной школы, преподавал в том числе в Московском университете.
Схиархимандрит Серафим (Романцов, 18851876) — один из старцев Глинской пустыни, бывший с 1946 по 1961 г. духовником братии в монастыре и продолжавший свое служение духовника и старца, в том числе и для мирян, до своей кончины в Сухуми. Ныне прославлен в лике преподобных Украинской Православной Церковью МП.
Архимандрит Матфей (Мормыль, 1938-2009) — духовный композитор, член Синодальной комиссии РПЦ по богослужению. В течение многих лет был главным регентом и руководителем объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также Московской духовной академии и семинарии.
Митрофорный протоиерей Алексий Беляев (19041987). Из семьи потомственных военных, в юности — иподиакон у свмч. митрополита Серафима (Чичагова), позднее — у епископа Феодора (Поздеевского) в Даниловом монастыре. В 1947 г. рукоположен в диакона и иерея. С 1979 г. — духовник Пюхтицкого женского монастыря в Эстонии.
В декабре 1959 г. профессор Ленинградской духовной академии (ЛДА) Александр Осипов (1911-1967) публично заявил об отречении от религии.
См.: Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18: 7-8).
См.: ...и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше (Лк. 21: 27-28).
С июля 1941 по апрель 1943 г. в Алитусе на территории казарм действовал концентрационный лагерь военнопленных «Шталаг-343». С мая 1943 по июль 1944 г. здесь же находился лагерь для перемещенных лиц, главным образом из западных областей России.
Протоиерей Георгий Хаджийский (род. 1963) — настоятель храма Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса в селе Вороново Московской области.
Семья священника Владимира Соколова, который 45 лет был настоятелем храма свв. мчч. Адриана и Натальи в Бабушкине. Его матушка Наталья — дочь известного духовного писателя Николая Евграфовича Пестова. Она
описала жизнь своей семьи в популярной книге «Под кровом Всевышнего». В семье было пятеро детей — три сына и две дочери. Все сыновья стали священниками. Отец Николай сейчас настоятель храма свт. Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Отец Федор, настоятель Спасо-Преображенского храма в Тушине, отец девяти детей, погиб в автокатастрофе в день своего Ангела в 2000 г. Владыка Сергий (в миру Серафим) был епископом Новосибирским и Бердским, скончался в том же году.
108 2 5 февраля — день памяти святителя Алексия, митрополита Московского.
Протоиерей Евгений Амбарцумов (1917-1969) был настоятелем Троицкого собора закрытой тогда Алек-сандро-Невской Лавры, благочинным патриарших приходов в Финляндии, затем настоятелем Князь-Владимир-ского собора в Ленинграде.
по Всего в семье отца Глеба и матушки Лидии шестеро детей. Старший, ныне покойный, Сергий, был врачом. Отец Иоанн — второй ребенок. Матушка Александра — ныне вдова питерского священника Александра Зайцева. Отец Кирилл настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, игумения Иулиания (в миру Мария) — настоятельница Зачатьевского ставропигиаль-ного монастыря. Младший, Василий Глебович, — врач-психиатр, доктор медицинских наук.
Александр Введенский (1889-1946) — с 1914 г. священник Русской Православной Церкви, с 1922 г. — один из лидеров обновленческого движения. В 1923 г. — активный участник «Второго Всероссийского Поместного Священного Собора» (первого обновленческого), на котором подписал постановление Собора о лишении сана и монашества Святейшего Патриарха Тихона. В том же году был «хиротонисан» в обновленческого епископа Крутицкого, викария Московской епархии. На момент хиротонии состоял в браке, впоследствии женился еще раз. Был настоятелем храма Христа Спасителя в Москве (до его закрытия в 1931 г.). С октября 1941 г. — «первоиерарх Православных Церквей в СССР». С 1943 г., после решения советской власти о ликвидации обновленчества, обновленцы массово переходили в Московский Патриархат. В 1945 г. Введенский предпринял попытку перейти в юрисдикцию Московской Патриархии, но поскольку его лжехиротония в епископа признана быть не могла, от воссоединения он отказался.
Священномученик протоиерей Владимир Амбарцумов (1892-1937). Родился в лютеранской семье. Учился в Берлине и в Московском университете на физико-математическом факультете. В студенческие годы перешел в баптизм. Активный участник христианского студенческого движения. В 1925 г. принял Православие. В 1927 г. — хиротонисан в иерея, с того же года — настоятель Князь-Вла-димирского храма в Старосадском переулке. Будучи не согласен с церковной политикой митрополита Сергия (Страгородского), уволился за штат. Арестован в 1937 г. Расстрелян на Бутовском полигоне, прославлен в 2000 г. Русской Православной Церковью в Соборе святых новомуче-ников и исповедников Российских.
Протоиерей Валентин Свенцицкий (1881-1931) — публицист, прозаик, богослов, автор книг «Граждане неба», «Мое путешествие к пустынникам Кавказских гор» и др. В 1917 г. рукоположен в сан иерея, в 1918 г. — проповедник в Добровольческой армии. С 1920 г. служил и проповедовал в московских храмах, выступал против обновленчества. В 1928 г. разорвал каноническое общение с митрополитом Сергием (Страгородским). В этом же году арестован и сослан. Умер в ссылке. Перед смертью воссоединился с Православной Церковью.
Священномученик Василий (Надеждин, 18951930). Рукоположен в священника Святейшим Патриархом Тихоном в 1921 г. Служил в Никольском храме у Соломенной сторожки в Москове. Арестован в 1929 г., приговорен к ссылке в Соловецкий лагерь. Умер по пути на Соловки, в Кеми. Прославлен в 2000 г.
Митрополит Гурий (Егоров, 1891-1965) — в 19451946 гг. наместник вновь открытой Троице-Сергиевой Лавры. С 1946 г. — епископ Ташкентский и Среднеазиатский. С 1959 г. — митрополит Минский и Белорусский Последнее место служения — Симферопольская и Крымская кафедра (преемник архиепископа Луки Войно-Ясенецкого).
Митрополит Иоанн (Вендланд, 1909-1989). Родился в дворянской семье. Был ученым-геологом. В 1934 г. тайно пострижен в монашество, с 1936 г. — иеромонах. Одновременно с этим защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте, занимался поисковыми работами, участвовал в международных геологических конгрессах. Открыто начал служить в 1945 г. Как иерарх занимался церковно-дипломатической деятельностью — был экзархом Московской Патриархии в Средней Европе, потом экзархом Американского Экзархата. С 1963 г. — митрополит Нью-Йоркский и Алеутский. С 1967 г. возглавлял Ярославскую кафедру. Автор нескольких работ по церковной истории и богословию.
Иерей Роман Ольдекоп (1902-1971), с молодости был духовным чадом свщмч. Сергия Мечёва. В 1931 г. арестован вместе с другими членами мечёвской общины, провел пять лет в лагерях. В 1938 г. был тайно рукоположен в священнический сан епископом Мануилом (Леме-шевским). В Великую Отечественную войну был на фронте. С 1950 г. жил в Коломне, работал бухгалтером и тайно, на квартире, совершал богослужения.
См.: Письмо № 2 в книге: Монахиня Георгия (Л. В. Каледа). М.: Зачатьевский монастырь, 2012. С. 81-82.
Протоиерей Владимир Воробьев (род. 1941) — известный московский священник, ректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), настоятель храма свт. Николая в Кузнецкой Слободе, член Синодальной комиссии по канонизации святых.
Схиархимандрит Илий (Ноздрин, род. 1932). Окончил Ленинградскую семинарию и Духовную академию, во время учебы в которой принял монашество. С 1966 по 1976 г. — в Псково-Печерском монастыре, с 1976 по 1989 г. — в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. С 1989 г. — духовник Оптиной пустыни. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. С 2009 г. живет на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой Лавры в подмосковном Переделкине. Является духовником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Преподобноисповедник архимандрит Георгий (Лавров, 1868-1932). С 1899 г. — монах, затем иеромонах. С 1915 г. — настоятель Свято-Георгиевского Мещовского монастыря в Калужской губернии. В 1918 г. арестован и приговорен к расстрелу, который не состоялся. С 1922 г. — насельник Московского Данилова монастыря, где был возведен в сан архимандрита. Духовник около тысячи верующих. В 1928 г. арестован и сослан в Казахстан. Освобожден в 1932 г. Скончался в Нижнем Новгороде. Прославлен в 2000 г.
Пестов Николай Евграфович (1892-1982) — богослов, историк, доктор химических наук, профессор. В 1918 г. вступил в Коммунистическую партию. В 1921 г. пришел к вере, в 1922 г. вышел из партии.
Иеромонах Павел (Троицкий) (1894-1991) — подвижник XX в., был духовником многих известных сейчас священников. Отец Павел жил в затворе и лично ни с кем не встречался, общаясь с духовными чадами письмами, которые передавал через свою келейницу Агриппину Николаевну. Многие свидетельствуют о прозорливости отца Павла. Нередко случалось, что, забирая письмо для отца Павла, Агриппина Николаевна одновременно передавала человеку другое — в котором уже содержались прямые ответы на заданные им вопросы (причем в тех выражениях, в каких вопросы были поставлены). Осталось более 300 его писем к известным ныне священнослужителям, по утверждениям которых, эта переписка оказала огромное влияние на их жизнь.
— Скажите, а для вас лично чем была Церковь в то время, в 60-70-х?
— Вопрос очень сложный. Ну вот что для нас воздух? То, без чего невозможно жить.
Андрей Борисович Зубов
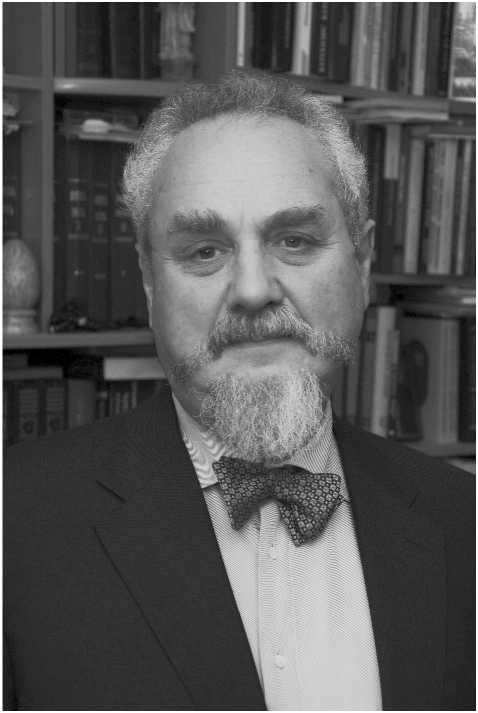
Советская действительность мне была абсолютно отвратительна и до крещения, до прихода к Церкви... И наконец я увидел прекрасную альтернативу... Я увидел, что идеал лежит не в какой-то исторической эпохе, не в какой-то стране, а — во Христе.
Андрей Борисович Зубов (род. 1952) — историк, политолог, религиовед, доктор исторических наук, профессор кафедры философии МГИМО, член Синодальной богословско-библейской комиссии, Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.
—Андрей Борисович, какое отношение к вере, к Церкви было в вашей семье?
— Я себя помню с середины 1950-х годов. Судя по моим дневниковым записям, я никогда не был человеком, отрицающим бытие Божие, тем более — воинствующим атеистом.
В моем детстве, как это часто бывает, активным носителем религиозной идеи была няня, Марфа Осиповна Карпичко из Сумской области Украины, почти неграмотная женщина, тем не менее верующая обычной простонародной христианской верой. В то же время и родители мои, хотя оба были коммунистами, никогда о религии и Церкви ничего плохого не говорили, а, напротив, высказывались с уважением. Мама просто любила заходить со мною в церковь, думаю, и молилась. А папа был человеком чести: раз уж он стал коммунистом и дал какие-то обязательства, то он их выполнял. Но при этом он говорил, что главная, самая серьезная ошибка коммунистов в том, что они борются с религией.
В старшем поколении, поколении дедов, одни были верующими, другие нет. Например, моя бабушка, папина мама Елизавета Ивановна, в девичестве — Лебедева, образованная культурная женщина, была верующей. Она училась в Первой киевской гимназии, а потом какое-то время учительствовала. Не сразу она пришла к вере, но уж когда (еще в дореволюционное время) сознательную веру обрела, то пронесла ее через всю жизнь. Я очень хорошо помню, как я маленьким мальчиком приходил в ее комнату в общей квартире в Колокольниковом переулке, засыпал в кроватке, а она читала молитвы. Там в красном углу была икона с лампадой, бабушка стояла и молилась перед ней. Она рассказывала, что это — ее венчальный образ.
Мой дед, отец моей матери, Евгений Петрович Савостьянов, был сыном церковного старосты — прадед был старостой Петропавловской церкви в городе Витебске. Вот тоже характерная особенность дореволюционной религиозности — мой прадед был очень верующим человеком, но при этом всегда говорил: «Я в Бога верю, а попам не верю». Вот такая его позиция была. А Евгений Петрович — банковский служащий, потом офицер Белой армии, чудом уцелевший в советское время, не верил в Бога. И что характерно, когда мой старший брат Сергей задал ему вопрос: «Дед, скажи, ты в Бога веришь?» — то получил ответ: «К сожалению, деточка, нет». В таком мире я рос.
Однажды младшая сестра моего деда Евгения Петровича, Ольга Петровна Савостьянова, подарила мне Новый Завет на русском языке, который я до сих пор храню как свою великую реликвию. Это было первое, что привело меня к сознательной вере. Этот Новый Завет 1913 года издания подарили ей за успешное окончание очередного класса гимназии. Ольга Петровна была верующей интеллигентной женщиной, ходила в церковь. Она говорила: «Я храню верность нашему старому Богу». Характерно, что мои родители не были против такого подарка. Мне было лет тринадцать или четырнадцать, и я, как тогда у меня было принято — если мне книгу дарят, я ее стараюсь прочесть, — начал читать Новый Завет. Сначала выписывал, как я всегда стремился делать, какие-то умные фразы. Потом я понял, что придется переписать все подряд, и прекратил. Я выучил из Евангелия «Отче наш» на русском языке и взял за правило перед тем, как лечь спать, читать молитву Господню. Это была моя первая сознательная молитва, мое обращение к Богу.
Я считал, что не был крещен. Никто не говорил, что меня крестили во младенчестве, и крестила (я думаю — с разрешения родителей) Марфа Осиповна. Как я потом узнал, это произошло
Слева: бабушка, Елизавета Ивановна Лебедева. 1913 г.


Внизу: тетя Оля — Ольга Петровна Савостьянова в последнем классе гимназии. 1917 г.

Слева: дед Евгений Петрович Савостьянов с братом Павлом, бабушка Шушаник Хачатуровна и маленькая Ия. Около 1917 г.

Наверху: папа, Борис Николаевич Зубов. 1973 г.


Справа: мама, Ия Евгеньевна Савостьянова. 1949 г.
С няней. Середина 1950-х гг.
в церкви Успения в Гончарах, которая сейчас является подворьем Болгарского Патриархата. Мне не было это известно, хотя я прекрасно помню, как няня меня в эту церковь водила, когда я был совсем маленьким (мы жили тогда на Таганке). Потом наступили студенческие годы. Вера у меня осталась, как я вижу по своим дневникам, но в церковь я не ходил, а скорее заходил, и уж тем более в голове даже не было жить активной христианской жизнью и причащаться Святых Таин.
— Когда и как произошел ваш сознательный приход в Церковь?
— Уже после окончания МГИМО я столкнулся с экзистенциальным кризисом. Все у меня ладилось в жизни, прямо как у Левина в «Анне Карениной» — и у него все ладилось, только, помните, он прятал от себя ружье, чтобы не застрелиться, и шелковый шнурок, чтобы не повеситься. Вот и у меня все ладилось: я женился, у меня родилась дочь, я успешно работал над кандидатской диссертацией, жил в прекрасной большой квартире. Правда, я был человеком совершенно антисоветских политических взглядов. Не принимал советскую действительность абсолютно. Не особо я интересовался и дореволюционной Россией. В основном смотрел на то, что происходит на Западе, в Европе. Но как-то я почувствовал, что жизнь совершенно бессмысленна. Ну, защищу я кандидатскую, потом докторскую, выйдут мои книги. Еще дети родятся. И они в свое время встанут перед проблемой бессмысленности жизни. Зачем все это, вся эта радость и суета жизни? Это были не просто размышления, а глубокий кризис.
И в этот момент Бог послал мне помощь и прямое указание. Я работал в Государственной библиотеке им. Ленина над кандидатской диссертацией. Поскольку ее темой был современный Таиланд, то, соответственно, нужные книги и иные материалы находились в спецхране. Современные читатели, скорее всего, не знают, что огромное количество литературы, газет, журналов всех стран мира пряталось от советского человека. читать их можно было только по специальному пропуску. Мне такой пропуск был дан, и, хотя читать все это было увлекательно, но иногда тоже надоедало. чтобы отдохнуть умом и душой, я выписывал себе в общий зал книги по истории русской архитектуры, причем дореволюционные. Это был «Вестник Императорской Археологической комиссии», где публиковались материалы экспедиций этой комиссии. Особенно я любил Русский Север — описания деревянных церквей Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерний, к 1970-м годам в большинстве погибших или заброшенных. Я читал, изучал, смотрел фотографии, выяснял, что осталось...
А надо сказать, я очень любил ездить по руинам старинных памятников церковной и усадебной архитектуры. У меня были друзья и спутники. Мы вместе путешествовали и представляли себя последними людьми той ушедшей России, смотрящими на мир как бы из прошлого, ценящими в нем то, что больше никому не нужно. Естественно, все эти руины были заплеваны, загажены, и в этом была вина не только власти, но и людей, которые их использовали самым недостойным образом.
И вот однажды я спустился, как всегда, в общий читальный зал вечером, чтобы взять очередной том Археологического вестника, и вдруг вижу, что вместо него лежат «Богословские труды»1 Московской Патриархии. Я вообще не знал о существовании этого издания, его никому не выдавали, оно не значилось в общем каталоге, которым могли пользоваться читатели, а было только в рабочем каталоге для сотрудников библиотеки.
И вот я его открыл, там был перевод с французского В. Н. Лосского2 — «Очерков мистического богословия Восточной Церкви» или «Догматического богословия», не помню точно. Я открыл главу о Святой Троице и понял, что это то, что надо, это мое, хотя я в этом ничего не понимал. Вот такое было удивительное чувство. Хотя я ничего не понимал, но я все это прочел и даже что-то выписал.
И тут же другая встреча. То было в марте 1977 года, а в мае меня послали, как это часто бывало в Институте востоковедения АН, в деревню на сенокос. Хорошая работа, нетрудная, долгий день. Там я встретил моего коллегу Всеволода Сергеевича Семенцова3. К тому времени это был известный индолог, переводчик. Се-менцов был удивительным человеком — полиглот, знал все индоевропейские языки, в том числе в совершенстве владел санскритом, писал на старокитайском языке, на иврите, арамейском, сирийском. При этом — глубоко верующий православный человек и большой ценитель и знаток богословия. Он мне открыл две очень важные вещи: во-первых, само по себе христианство и Церковь, во-вторых, показал, как можно заниматься другими религиозными традициями и оставаться православным христианином. Это тоже был очень важный опыт. Сева Семенцов привил мне вкус к религиозному слову, не обязательно христианскому, а любому, научил уважать всякое устремление человеческой души к Богу, видеть в этом и чистый импульс и то, что к нему может примешиваться что-то ложное.
Вот таков был мой приход к Богу.
Вскоре Сева познакомил меня со своим духовником, протоиереем Георгием Бреевым, который стал и моим духовником. Помню, был летний день, состоялась беседа. На меня отец Георгий моментально произвел сильное впечатление. Никакого сомнения, скепсиса во мне не было. Я сразу почувствовал: «Се человек», которому можно доверить свою жизнь. И надо сказать, эта уверенность меня уже тридцать пять лет не оставляет.
Отец Георгий не стал меня сразу крестить. У меня за плечами было немало всего в прошлом. Он сделал меня оглашенным. Я приходил к нему, беседовал, исповедовался, но в храме, как он мне сказал, оставался до Литургии Верных. На возгласе «Оглашенные, изыдите!» я удалялся. Это продолжалось девять месяцев. Крестился я в 1978 году на Лазареву субботу. Этот день я до сих пор отмечаю, и в этом году как раз тридцать пять лет, как я принял Святое Крещение.
Я крестился, будучи абсолютно уверен, что я некрещеный. Родители мне никогда не говорили о моем крещении. С няней своей я почти не встречался. Я ведь уже вырос! Но однажды я ее увидел уже глубокой старушкой в том же храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где служил отец Георгий и куда ходил я. Она в свое время работала уборщицей в Моссовете, получила квартиру неподалеку и стала ходить в эту церковь как самую близкую. Естественно, мы очень обрадовались встрече, и я с огромной гордостью сказал ей: «Вот видишь, няня, я тоже стал православным человеком, я два года назад крестился». А она и говорит: «Ой, горе какое! Грех какой!» Тут я пришел в недоумение: как верующая женщина может так говорить? Она объяснила, что она меня в детстве крестила. Но совершенная нами ошибка была невольной.
Когда я крестился, помимо благодатной радости, у меня было ощущение того, что подавляющее большинство людей вокруг, так же, как и я, верующие христиане, но об этом просто не принято говорить. Все всё понимают, все излучают эту веру. И когда я позже, общаясь с людьми, как бы намекая на веру, встречал недоумение, сначала очень удивлялся, а позже понял, что это просто было мое личное благодатное ощущение, конечно, не соответствовавшее состоянию тогдашнего нашего общества.
После крещения я понял, что нашел для себя смысл жизни, нашел смысл своего делания, увидел тот идеал, к которому надо стремиться,—совершенство во Христе. И началась моя церковная жизнь — насколько она в принципе была возможна в то время, потому что нельзя было принимать участие во внутрицерковной жизни, быть алтарником, например, не прекратив светскую карьеру. Совмещать это было невозможно. Но по крайней мере я часто ходил в храм, исповедовался и причащался. Мой первый брак очень скоро после моего прихода к вере распался — в 1977 году. Я женился во второй раз, и мы с супругой вместе до сих пор. Венчались в 1982 году, еще при Брежневе. Отец Георгий нас венчал. И — это может показаться странным современным христианам — венчание было при закрытых дверях, в пустой церкви, в полной тайне. Присутствовали только сестра моей жены и один мой друг, да еще помогавший отцу Георгию алтарник. Сейчас он благочинный в Подмосковье. Вот, собственно, и все. Так мы тогда жили.
— А в вас усилилось отторжение советской действительности после того, как вы крестились? Вы стали чувствовать себя еще более иным?
— Да, да, да! Вы понимаете, здесь интересно, что я чувствовал себя иным, советская действительность мне была абсолютно отвратительна и до крещения, до прихода к Церкви. Я бы сказал словами Бродского: это было «эстетическое отвращение». Это было то, что англичане называют словом ugly — «уродливо». И наконец я увидел прекрасную альтернативу. Понимаете, очень тяжело отвергать от себя уродливое, не видя при этом прекрасного. Да, западная культура по-своему красива, но я был не дурак и видел, что и там не все великолепно. А тут мне открылось прекрасное. И я увидел это не в старой России. В моей семье старую Россию воспринимали как страну, которая не сумела реализовать себя. Я помню, как отец говорил: «Как же так, все было — и все упустили. Такая ошибка, такая ошибка!» Меня он приучил относиться критически к старому. Эта установка сохранилась до сих пор. Я увидел, что идеал лежит не в какой-то исторической эпохе, не в какой-то стране, а — во Христе. То есть я увидел этот совершенный идеал во Христе и в Церкви Христовой как в Теле Христовом.
Отец Георгий, видимо, в свою очередь, очень быстро поняв устроение моего ума и мои склонности, которые я сам не до конца осознавал, стал приучать меня к высокому богословию. И я увидел — вот это подлинно красиво, вот это — истина. Понимаете, удивительная какая тонкость: сознательно или по наитию, но так вот Господь вразумил, что отец Георгий дал мне наиболее подходящее. Ведь я историк по профессии и по складу ума, а не философ, который любит оперировать отвлеченными понятиями, и поэтому он мне дал для знакомства с догматикой не отвлеченный богословский текст, не «Столп и утверждение истины»4, к примеру, а «Историю Вселенских соборов» Карташёва5. Книга меня поразила... Помню, это была ксерокопия, причем иногда плохо пропечатанная, я читал ее как самый захватывающий роман. И до сих пор рекомендую многим моим молодым друзьям православное христианское богословие начинать с Карташёва. Потому что я сам стал что-то понимать в христианском богословии именно благодаря этой книге.
— Андрей Борисович, вы ездили с друзьями по усадьбам, разрушенным храмам. Чем были для вас эти поездки — просто светским путешествием? Или вы, может быть, увлекались иконами?
— Эти поездки были поиском иной жизни — несоветской красоты и правды. Руины усадеб были для нас осколками разбитого вдребезги мира. Он нас тянул к себе. Мы называли их поездками по архитектурным памятникам. На самом деле это была, конечно, ностальгия русских сердец по той жизни — необязательно церковной, — которая рухнула, утонула. Мы это поняли потом. Иконы тоже. Но большинство тех храмов, куда мы приезжали, были совершенно разорены. В лучшем случае — немного росписей под куполами. Усыпальницы князей, дворян тоже были разорены мародерами, это были пустые ямы. Полуразрушенные портики старых дворцов восемнадцатого — начала девятнадцатого века. Все это выглядело ужасно. Мы же чувствовали себя людьми, которые пытаются хотя бы для себя впитать последние остатки былого.
Я, например, много раз ездил в Оптину пустынь, когда она еще не была действующим монастырем, когда там было училище в монастыре и санаторий в скиту. На поездки меня вдохновил не только Достоевский, но и вообще русская культура, потому что впоследствии, когда я уже пришел к Церкви, в конце 1970-х — начале 1980- х годов, я, помимо Таиланда, для себя занимался русскими славянофилами. Я писал об Иване Киреевском. Вышла эта работа. Мой друг, ныне покойный, Алексей Салмин, писал о Хомякове, а другой друг — ныне академик РАН — Ю. С. Пивоваров6 писал о Ю. Ф. Самарине7 8. Конечно, поскольку Киреевский был духовным чадом преподобного Макария Оптинского131 и у него усадьба была под
Белёвом, мы туда ездили, смотрели все эти достопримечательности.
Как-то мы с Юрием Сергеевичем Пивоваровым поехали в Оптину пустынь, это был 1978 год, и вспомнили, что именно в этот день, за сто лет до того, Федор Достоевский и Владимир Соловьев тоже вместе посетили Оптину пустынь. Такое случайное совпадение. Мы только когда уже шли сосновой рощей к руинам монастыря, вспомнили, что день совпал. Была гроза, мы промокли до нитки, а потом вышло солнце, стало невероятно красиво, и такое ощущение возникло, как будто этих ста лет не было.
— Многие ли из вашего круга ездили по действующим монастырям?
— Я практически не ездил. Ну да, бывал несколько раз в Псково-Печерской Лавре. Но у меня не было большой потребности в паломничествах, и до сих пор, кстати, нет. Например, возможно, это покажется невероятным, но в Оптиной пустыни после ее восстановления я ни разу не был. Раньше, когда она была разрушена, я был много раз, живал близ нее в палатке, а сейчас — нет. Для меня мой Иерусалим и мой Иордан были там, где был мой духовник, — в обычном православном храме. Мое общение с Библией, общение в Таинствах — это было самое главное. Я как-то старался разделять поездки, путешествия и как таковую духовную жизнь. Естественно, я ее продолжал вести и в путешествиях: молился, читал Писание. Но участвовать, как сейчас это очень распространено, в организованных паломничествах, многодневных крестных ходах,—не участвовал. Меня всегда эти массовые формы благочестия немного смущали, вероятно, как человека, выросшего в советской действительности и боящегося всего массового. У нас было отторжение, в общем-то, от массовки, возможно, это во мне осталось. Я не говорю, что мой взгляд правильный, может, он глубоко неверный, но как-то вот я в нем прожил всю жизнь.
— В советские времена люди черпали знания об истории Церкви, о вере из самых разных, порой неожиданных, источников, вплоть до Зенона Коси-довского9, вырезали фрагменты текстов. Где вы доставали книги?Как они к вам приходили?
—Я ведь был знаком с Севой Семенцовым, который, в свою очередь, был вхож в круг
Слева: все прекрасно... и бессмысленно. 1974 г.

Внизу: в Остафьево с Валерием Васильевым, Алексеем Салминым и его сестрой Лилей. 1978 г.

христианских интеллектуалов. Например, его ближайшим другом был Валя Асмус, тот, что потом стал отцом Валентином Асмусом10, известным московским священником. А тогда Сева звал его просто Валей, Валентином Валентиновичем. Он был диаконом и никак не хотел становиться священником, чтобы молитвы за власть не произносить. После же того, как советская власть рухнула, с удовольствием стал священником.
При его помощи я, например, купил так называемые «зеленые минеи», изданные в начале 1980-х. Формально это были богослужебные книги со службами на каждый день года. Для советского человека это были книги редкие и ценные. Начнем с того, что один том стоил около тридцати рублей — по тем временам деньги существенные. Комплект миней рассчитан на двенадцать месяцев, некоторые месяцы состояли из двух, а то и трех томов. Самое ценное в этом издании то, что там были напечатаны жития святых, слова святых отцов на праздники. Каждый том сопровождала цветная подборка икон. Помню, я вклеивал эти иконы перед началом службы изображенным на них святым. Я взял себе за правило читать каноны святым дня по этим минеям. Минеи эти до сих пор стоят у меня на видном месте в кабинете.
Конечно, этот круг московских интеллигентных священников был связан с заграницей. Оттуда, из русской эмиграции, приходило много книг. С другой стороны, сохранились и дореволюционные издания.
Отец Георгий тоже давал книги — он никогда не боялся этого делать. Но действовал разумно, никогда об этом открыто не сообщал, однако всегда у него во внутренних карманах обширной рясы лежало несколько хороших книжечек, и он духовным чадам, кому надо, тихонечко вручал во время исповеди. Обычно он исповедовал всех в храме, а потом, когда остальные священники уходили, для своих чад оставался. В церкви Иоанна Предтечи была отдельная крестильная — в храме, но с отдельным входом. Там, в этой крестильной (где меня, кстати, и крестили), он обычно исповедовал своих духовных чад. Они сидели, ожидая исповеди за дверью «крестилки» и делая вид, что просто так сидят в храме на скамеечке. Только один выходил из крестильной, другой тут же вставал со скамеечки и входил. И тогда, один
на один, отец Георгий вручал что-нибудь из литературы. «У тебя есть портфель?» — спрашивал. «Есть». «Вот — на, почитай».
— Андрей Борисович, после крещения вы продолжали работать в Институте востоковедения. Ваша профессиональная жизнь как-то изменилась с приходом к вере?
— Опять же все было как-то удивительно вовремя. Сначала я совершенно спокойно продолжал работать. При этом многие знали о том, что я верующий человек. Дело в том, что Институт востоковедения был одним из интеллектуальных центров Москвы. И среди сотрудников было не то чтобы много, но немало верующих людей, причем не только православных христиан. Скажем, ученым секретарем нашего института был мой близкий друг католик Леон Тай-ванс из Латвии. Были глубоко верующие благочестивые мусульмане: крымские татары, люди из Дагестана, в том числе Магомед-Нури Османов, который сделал последний высокопрофессиональный перевод Корана, доктор наук, филолог. И мы все были очень близки, потому что любили Бога. И тогда, перед лицом советского безбожного хамства, любовь к Богу и желание жить в традициях веры, пусть даже разных, очень сближали нас. Мы были все как братья. Для меня нет такого, что мусульманин — это чужак, католик — иной. Нет, мы все чувствовали себя одним целым, находили общий язык. С удовольствием обсуждали различия религий и традиций, но не в антагонистическом плане, а в познавательном. И собеседники были все очень культурные, так что получали удовлетворение от общения. Это тоже был очень важный опыт.
До 1985 года все шло тихо и спокойно. Мой заведующий отделом Нодари Александрович Симония134, грузин, был очень хорошим, крупным ученым, однако, что тогда все же редко встречалось, убежденным марксистом-теоретиком. Причем он говорил: вы не понимаете, что такое настоящий марксизм, я вам объясню. Писал об этом книги, и у нас были очень хорошие отношения. Он приглашал меня к себе домой, мы беседовали, в том числе и о вере. Он говорил, что сам неверующий, но у него был опыт общения с верующим человеком. Дело в том, что в глубоком тбилисском детстве у него была нянька—русская адвентистка и она его водила в тайную (естественно, подпольную) адвентистскую молельню. Таким образом, какое-никакое, но религиозное, христианское образование он, будучи ребенком, получил. И негативной роли оно не сыграло, 11 он не вспоминал об этом с отторжением, но выбрал потом другой путь. Ему было интересно общаться со мной — православным культурным молодым человеком.
Другой мой коллега — Леонид Борисович Алаев12, тоже убежденно неверующий и тоже крупный ученый. И ему очень было интересно со мной общаться. Он был человеком больших принципов. В отличие от большинства советских людей, которые только пытались сделать вид, что они идейные, он был идейным по-настоящему. Например, когда нас посылали на какую-нибудь овощную базу работать, он, хотя был уже доктором наук и заведующим отделом, всегда шел и работал со всеми. Никогда не игнорировал, а часто, когда другие не могли, шел один. Я же тоже чаще всего соглашался, хотя мне было это очень противно. И вот, я помню, как-то раз мы с Алаевым вдвоем разгружали мешки с картошкой. Это была очень тяжелая работа, даже для меня, молодого и здорового парня, а для него уж тем более. Ну, мы, естественно, о многом говорили. А я несколько лет назад женился, у меня были две маленькие дочери. Он говорит: «Слушайте, Андрей, я не могу вас понять, ведь если вы христианин, то не можете жене изменять и ничего в этом роде. Какие у вас удовольствия остались?» Я ответил: «Вы знаете, у меня все очень хорошо и больше ничего не надо. Я действительно счастлив. У меня был какой-то опыт раньше неправильный, и я должен сказать, что сейчас, став христианином, создав христианскую семью, я во внутренней гармонии с собой пребываю, и ничего мне этого в голову не лезет». Он очень удивлялся тогда и стал относиться ко мне как к очень странному, но любопытному экземпляру.
Но так Господь попустил, что все это, такое хорошее и милое, я бы сказал, такой медовый месяц христианства в один момент закончился. Дело в том, что на Пасху 1985 года алтарник нашего храма Иоанна Предтечи, видимо, сам очень воодушевленный пасхальной службой, пригласил меня в алтарь, и я пошел, даже не спросив благословения. Праздник ведь! Зашел я, помню, в алтарь и пережил всю службу невероятно глубоко. Первый раз в жизни был я в алтаре во время ночного богослужения и вообще — во время священнодействия. У меня было чувство, что я стою, объятый огнем, как будто я весь нахожусь в языках светлого пасхального пламени. И алтарник же предложил мне, как мне сейчас кажется, во время крестного хода нести один из артосов, что я и сделал. Естественно, об этом тут же доложили — понятно, в храме были стукачи всегда, а уж на пасхальной службе тем более. Маховик раскручивался не быстро, но где-то осенью 1985 года меня вызывает наш Нодари Александрович Симония, с которым мы, как я говорил, раньше беседовали о вере, и задает такой вопрос: «Андрей, я вас спрашиваю официально, как заведующий отделом: вы в Бога верите или нет?» И я понял, что это и есть момент истины. Мне все было ясно. Конечно, он знал, что я верю, что я в церковь хожу. Но в тот момент вопрос был задан официально, за ним должен был последовать официальный ответ. И далее — репрессии, а если я отрекусь (а на это он намекал), тогда, понятно, это будет моя апостасия (вероотступничество. — Ред.). И после мгновенного смущения я твердо сказал: «Да, вы знаете, я верю в Бога». «Тогда, — говорит, — вам надо уходить». А в те времена уйти из института — это не то, что сейчас поменять работу. Частной работы не было, если не считать алтарником в храме, а уж тем более ее не было для молодого ученого, который только что защитил кандидатскую диссертацию. Я в то время писал докторскую. Понятно было, что это конец, полный конец научной карьеры, катастрофа. У меня два маленьких ребенка. Одна девочка — новорожденная. Как кормить? Как содержать? Дело вообще было серьезное. Я ответил: «По своей воле я не уйду. Если хотите, увольняйте, пожалуйста. По религиозной причине вы меня уволить не можете, а по научной линии, если учесть количество публикаций и книг, — тоже не за что». И так я завис «в безвоздушном пространстве».
—Наверное, ему самому внутренне эта ситуация была неприятна?
— Я думаю, что было очень неприятно. Хотя тут возникла еще одна деталь. Дело в том, что в 1984 году, то есть за год до этого, я представил на предзащиту мою докторскую диссертацию. Она была, естественно, чисто политологическая, но, поскольку я уже был верующим человеком, в нее вошел ряд религиозных моментов. А именно: восприятие парламентской демократии традиционным восточным сознанием, то есть разными типами религиозного сознания: конфуцианским, мусульманским, индуистским. Я пытался совместить религиозные категории, религиозные и общественные ценности разных культур с политическим поведением в условиях адаптации парламентской демократии. Эта книга потом вышла в 1990 году13. Я был любимым учеником Н. А. Симонии. И он посчитал предательством, что я в своей работе не пошел по пути развития марксистских идей, пусть и сохранив веру глубоко для себя лично, а стал эту веру прилагать к научному исследованию. Надо сказать, что всю последующую жизнь и до сего дня я только так и делаю. Для меня научная работа и моя религиозная жизнь не разные вещи, это — одно и то же. Религия, вера для меня тотальная ценность, которая распространяется на мою научную жизнь. А он счел это предательством и сделал все, чтобы докторскую предзащиту я провалил. Это было летом 1984 года. Естественно, мне никто впрямую про религиозные взгляды не говорил. Но все всё знали и понимали.
Книга эта, когда она вышла в 1990 году, в кругу политологов стала бестселлером. До сих пор по ней учатся, в том числе и у нас в МГИМО, и на политологических факультетах других вузов. Объективно это была хорошая работа, но тогда надо было объявить, что это никуда не годное исследование. И что удивительно — два моих коллеги, которые работали в этом же отделе, оба христиане, смущаясь, но все же поносили эту работу, чтобы сохранить себя. Конечно, я их имен называть не буду. В то же время Алаев (правда, он был независимый, но все равно понятно, что друг другу люди могут наделать много вреда) — человек, который не был верующим, пришел, однако, на эту предзащиту и всячески книгу поддерживал. Он совершенно искренне считал ее хорошей, нужной, оставил отзыв как доктор наук. Поддерживали ее и мои друзья — политологи Алексей Салмин и Юра Пивоваров, тоже пришедшие на предзащиту. Но Нодари Александрович был очень влиятельным человеком в институте, и он сделал все, чтобы эта диссертация не была защищена тогда, в 1984 году.
Таким образом, он уже был мною недоволен. И когда, видимо, из КГБ или из ЦК КПСС (наш институт непосредственно курировался из ЦК) пришло сообщение, что я участвовал в пасхальной службе 1985 года, он, вероятно, решил, что это хороший способ разделаться со мной. Я не исключаю этого. Но произошло чудо. Я рассказал обо всем отцу Георгию. Он ответил: «Я буду молиться, вся церковь будет молиться. Не волнуйся, все как-то устроится». И действительно, все устроилось.
И опять — разные люди по-разному проявились. Некоторые испугались, причем крупные академики. «Пусть отречется от всего», — сказал один, ныне покойный, академик. «Пусть отречется от всего, главное, спасать сейчас жизнь». А другой, я могу его имя назвать — это Борис Борисович Пиотровский14, тогда он был академиком-се-кретарем исторической секции Академии наук, то есть куратором и нашего института, Пиотровский по-другому себя повел. Он египтолог, так же как и моя жена, и был у нее оппонентом на защите кандидатской диссертации. Он меня хорошо знал. Он — из старой польской элиты, его предки — генералы на русской службе и одновременно

С женой Ольгой. Около 1986 г.
участники освободительных восстаний 1831 и 1865 годов. Борис Борисович был джентльмен настоящий. И когда ему моя жена Ольга сказала о том, что меня выгоняют из института и что положение отчаянное, честно признавшись, в чем причина, он ничего не пообещал, только сказал: «Ну, посмотрим».
И дальше произошло чудо. Тогда директором нашего института был Евгений Максимович Примаков15. И когда уже все стало абсолютно «да или нет», я сказал, что хочу поговорить с директором и выяснить, почему, собственно, мне надо уходить. Это было в феврале 1986 года. Меня записали на какой-то неприсутственный день и поздний час, когда в институте никого не было. Я пришел в назначенное время в приемную директора, а мне знакомый секретарь говорит: «Вы, Андрей, подождите, приехал академик-секретарь из Ленинграда, и Евгений Максимович показывает, что он сделал в институте». И действительно, через десять минут открылись двери, и они оба входят в приемную — высоченный худощавый Борис Борисович Пиотровский и маленький толстенький Примаков. И тут Пиотровский делает вещь, которая постороннему не ясна, но бюрократу сказала очень многое. Он подходит ко мне, чего, конечно, никогда не делал прежде, обнимает и целует трижды: «Андрей, как поживаешь, как Оля, как девочки, все ли здоровы?» — и уходит к Примакову в кабинет. Через пять минут он выходит, жмет мне руку и удаляется. Примаков приглашает меня, и я вижу совершенно другое отношение. «Андрей Борисович, мы все понимаем, вы верующий. У меня жена верующая». А у нас в советское время шутили: что такое жена? — это религиозный орган партийного работника. «У меня нет причин плохо относиться к религии, но вы понимаете, у вас с Симонией произошел конфликт. Вы у него работать больше не можете. Он просто не хочет с вами больше работать. Что вы хотели бы?» Я говорю: «Вы знаете, переведите меня в другой отдел на ту же должность, с тем же окладом». В ответ: «Хорошо, но вы понимаете, что это будет техническая работа?» Я узнал, что меня запретили публиковать, ведь несколько лет не печатали ни одной моей статьи, так как КГБ внес меня в черный список. «Ну и пусть будет техническая работа, — говорю, — вот Леонид Борисович Алаев ведет энциклопедию Азии, он готов меня взять к себе». «Ну, отлично». И вот я проработал несколько лет в энциклопедии Азии. Работа была интересной.
— Андрей Борисович, вы ходили в те времена только в храм Иоанна Предтечи на Пресне, где служил отец Георгий Бреев, или куда-то еще?
— В основном туда. Ну, естественно, я время от времени ходил еще куда-то. Жил я на Сущевском Валу и обычно ходил в церковь Знамения у Крестовской заставы возле Рижского вокзала, просто это было близко, когда больше никуда не успевал. Иногда в Сокольники ходил (церковь Воскресения Христова в Сокольниках. — Ред.), заходил в Елоховский собор (Богоявленский патриарший, ныне кафедральный, собор в Елохове. — Ред.). Но в общем-то я достаточно постоянно был на Пресне.
— Там была тогда уже общинная жизнь?
— Был небольшой круг друзей. В основном это были чада отца Георгия. Мы знакомились в очереди на исповедь в ту самую крестильную. Кого-то знакомил сам отец Георгий.
— А как люди начинали доверять друг другу?
— Вы знаете, когда видишь человека раз, два, месяц, второй, то понимаешь, что такие люди не случайные. А когда заговоришь, чувствуешь, что человек примерно твоего круга, интеллигентный, интересуется теми же проблемами. Так постепенно и знакомились. Но бывали и колоссальные ошибки. Я помню, у нас появился вдруг на Пресне молодой священник, очень такой импозантный, и шептали, что его бросила жена, он принял целибат. Священник произносил очень интеллектуальные проповеди, речь была культурная. Шел где-то 1985 год. Я на него сразу обратил внимание — вот интересный человек и близок ко мне по возрасту. И вот по какому-то поводу, я уже не помню, отец Георгий пригласил к себе домой настоятеля храма, которым тогда был отец Николай Ситников16, хороший священник пожилой, этого молодого священника и меня. И я, абсолютно доверяя отцу Георгию и зная, что отец Николай, пусть менее социально активный, но очень хороший, честный священник, стал рассказывать о многих моих молодых друзьях, о том, как мы собираемся в Институте востоковедения, про то, что у нас некая интеллектуальная христианская община образовалась. Отец Георгий пытался мне сделать какой-то знак, но я не обратил внимания. Потом он меня вызвал под предлогом прогулки под дождем в рощице. «Что ты,—говорит,—наделал?! Это же агент, и теперь все имена, которые ты называл, все события станут известны». Видимо, это и стало известно, и даже кому-то пришлось пострадать, но, слава Богу, все быстро кончилось и, в общем-то, больших последствий не имело. Советская власть с ее обязательным богоборчеством заканчивалась. Но такие случаи тоже бывали.
— За пределами храма вы говорили с людьми о христианстве, старались знакомых привести к вере?
— Тот самый Новый Завет, который мне в свое время подарила тетя Оля, очень много людей обратил к Церкви. Когда я сам пришел к вере, я давал многим людям читать его, и многие, прочтя именно это издание Нового Завета, обращались к вере. Одним из них был будущий владыка Корсунский Иннокентий17. Мы познакомились, когда он был еще Валерий Васильев. Он тоже учился в МГИМО, мы оказались в одной компании. Он тогда был совсем неверующим человеком, тоже ищущим какой-то смысл в жизни. Он же, в отличие от меня, родом из маленького городка Старая Русса. Он очень хотел учиться в МГИМО. Видимо, думал, что, если
он поступит в такой институт, жизнь станет другой. И с третьей попытки, отслужив в армии, вступив в коммунистическую партию, он поступил туда, а жизнь другой не стала. Осталась такой же неинтересной, бессмысленной. Он думал, вот если он познакомится с хорошей девушкой, создаст семью... а у него как-то ничего не ладилось. И я очень хорошо помню, мы окончили МГИМО, он работал в радиокомитете. Там была хорошая столовая, и мы встречались иногда и там обедали. И вот за обедом я ему говорю, это был 1987 год: «Ты знаешь, я вот встретил человека, который мне очень много сказал (прям по евангельскому рассказу о самарянке141). Это сначала был Сева, а потом отец Георгий. И я, ты знаешь, решил стать христианином». Я помню, он очень удивился и задал мне только один вопрос, опять же — по моей нынешней специальности: «Почему ты решил стать христианином, ведь религий же много?» Я как мог тогда ответил ему и в следующий раз принес тот самый Новый Завет, познакомил его с Севой, который, естественно, объяснил ему больше. Потом мы познакомили его с отцом Георгием. И вот процесс пошел, который привел его к архиепископской кафедре.
—В1987 году, накануне 1000-летия Крещения Руси, было ли какое-то ощущение перемен?
— Нет, не было.
— Мне приходилось слышать, что, наоборот, люди даже чуть ли не сушили сухари. Думали, что вот началась перестройка и будет опять гонение на Церковь. Ведь в КПСС стали говорить о возвращении к «ленинским принципам управления», что для Церкви ассоциировалось либо с хрущевским гонением на фоне оттепели, либо с ленинским «чем больше удастся расстрелять, тем лучше»18.
— Да, 1987 год, теперь мы точно знаем — архивы открываются — это последние гонения на Церковь. Именно 1987 год. Тогда вопросами религии ведал Е. К. Лигачев19. М. С. Горбачев20 же устранился от этого дела. Позже я познакомился с Горбачевым, это особый разговор. У него свое было отношение к религии — он был тогда совершенно неверующим человеком, но терпимым по отношению к религии, убежденным либералом, считал, что людям надо давать свободу: хочешь верить — верь. А Лигачев, который тогда мечтал пересидеть Горбачева, шел путем коммунистического ригоризма. Вот он (Горбачев не мог воспротивиться) начал новую волну гонений.
— В 1987 году верующие как-то готовились к гонениям морально или физически?
— Ну, морально мы были всегда к этому готовы. Мы всегда очень внимательно слушали, кого из людей Церкви арестовали, у кого обыск, кого за сто первый километр выслали. Как раз в 1987 году произошла последняя серия подобных актов. И, естественно, никто не думал, что гонения уже заканчиваются.
— Когда вы почувствовали, что отношение к Церкви изменилось?
— В конце января 1988 года М. С. Горбачев был в Великобритании и выступал в британском парламенте. И, естественно, это его выступление передавали по телевизору и по радио. Я очень хорошо помню этот момент, я был тогда у родителей дома и слышал это выступление. И вдруг он говорит: «В этом году мы собираемся праздновать 1000-летие Крещения Руси». Понимаете, сейчас для нас подобное высказывание главы государства кажется вполне естественным, а тогда это было абсолютно невероятно. Скорее всего, он вообще об этом не должен был говорить, но если уж сказал из своих либеральных побуждений, то должен был сказать что-то такое: «В этом году верующие Русской Церкви (или наши верующие граждане) собираются...» Мы — это кто? Члены Политбюро, коммунисты? Что это за юбилей такой — 1000-летие Крещения Руси?
Когда я это услышал, тут же понял — все, процесс пошел (опять же — словами самого Горбачева). И действительно, процесс пошел. Я тогда не знал, узнал позже от Минского владыки Филарета21, что 29 апреля 1988 года Патриарх Пимен и владыка Филарет, заведующий Отделом внешних церковных сношений, тогда это так называлось, попросили аудиенции у Горбачева, чтобы поставить некоторые вопросы, решение которых было необходимо для Церкви. И владыка Филарет потом мне рассказывал в частной беседе: «Мы с Патриархом написали на листочке, как это обычно делается, вопросы, начиная с малозначимых, кончая достаточно серьезными. Когда же пришли к Горбачеву, я начал зачитывать, он сказал: „Слушайте, дайте сюда мне этот листочек“. — Прочел и говорит: „Это я вам все даю. Какие еще у вас вопросы?“» Поэтому я думаю, что 29 апреля 1988 года мы должны отмечать как дату освобождения Русской Церкви от уз коммунизма. В этом году мы собираемся праздновать 1025 лет Крещения Руси, а на самом деле надо бы праздновать 25 лет освобождения от коммунизма Русской Церкви — вот это великая дата. И все мы испытали на себе это как невероятное чудо.
— Эти изменения как-то повлияли на вашу жизнь?
— В 1988 году меня пригласили в Московскую духовную академию преподавать, и при этом я остался в Институте востоковедения. Никто тогда не мог поверить, что преподаватель Московской духовной академии может быть научным сотрудником Института востоковедения, вообще какого-нибудь советского заведения. Там на меня смотрели тогда как на какое-то чудо-юдо. Таких было несколько человек, но каждый и был таким чудом, например Алексей Сидоров22 из Института мировой литературы. Это благодаря ему я попал в Московскую духовную академию.
Дело в том, что одной из договоренностей между Святейшим Патриархом и Горбачевым в 1988 году была та, что можно приглашать на работу в Церковь преподавателями и даже священниками людей из мира, не подвергая их при этом репрессиям. И одним из первых стал я. Меня позвали в Московскую духовную академию, потому что знали через Сидорова о том, что я занимаюсь исследованием феноменов, пограничных между разными религиозными воззрениями и общественными явлениями. Мне предложили вести курс истории религии. Произошло это, по-моему, в июне 1988 года. Владыка Александр23 благословил Алешу Сидорова, который уже с 1987 года там преподавал, и еще Николая Константиновича Гаврюшина24, читавшего там курс русской философии, поговорить со мной. Они поговорили от имени владыки Александра, и я испугался, совершенно откровенно испугался, потому что решил, что все, конец. Я же не знал о договоренности, достигнутой на высшем уровне. Думал, научной карьере моей конец. Пришел к отцу Георгию и говорю: «что, батюшка, делать?» С одной стороны, это очень привлекало, а с другой стороны, понятно, что крест надо было бы поставить на всей жизни. Все, как мне казалось,—новая жизнь, Церковь гонимая... И я пришел к отцу Георгию и рассказал ему об этом. Он говорит: «Нет-нет, не соглашайся, это конец, это крест на всей твоей жизни, не соглашайся». Я очень обрадовался, довольный пришел домой, позвонил Сидорову: «Ты знаешь, не благословляет духовник». Через два дня отец Георгий меня встречает на воскресной литургии и говорит: «Слушай, я помолился, тебе надо идти, это твой путь». Ну что после этого сделаешь? Я пошел, естественно. Позвонил снова, согласился и пошел преподавать с сентября 1988 года. И это действительно мой путь. Благодаря такому выбору я стал религиеведом, читаю лекции и до сих пор считаю, что это моя главная профессия. А обрелась она именно тогда.
Протоиерей Георгий Бреев
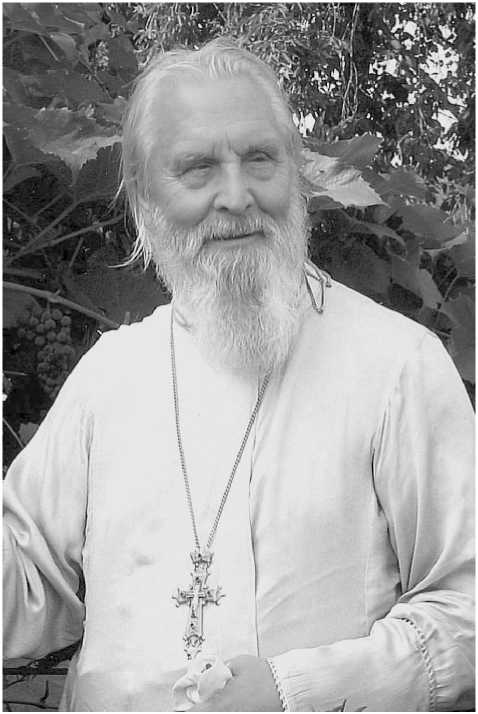
Трижды меня и моих друзей задерживали после богослужения в Елоховском соборе и насильно отправляли в отделение милиции... Эти испытания привели меня к мысли:...лучше тогда стать священнослужителем, чтобы знать, за что тебя гонят.
Протоиерей Георгий Бреев (род. 1937) — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (с 1998). Кандидат богословия, духовник Московской епархии.
Рукоположен в сан иерея в 1967 году. Вскоре стал клириком храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где прослужил двадцать два года. В 1990-2009 годах восстанавливал и был настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно.
— Отец Георгий, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Вы родились в 1937 году в семье неверующих, ваш отец был коммунистом...
— Отец мой родился в 1894 году в Тульской губернии, был верующим с детства, окончил церковно-приходскую школу. Потом приехал в Москву, и тут его захватило общее настроение: на работе и везде — в обществе, в газетах, которые он любил читать, — все говорило о том, что религия — это нечто отжившее, никакой перспективы у нее нет и не будет. Провозглашалась власть науки, а наука якобы опровергает все религиозные положения. Это была идеологическая установка того времени, которой он поддался. Хотя сам мне говорил: «Я верую, милый. Я даже вырос в церкви на клиросе. А когда приехал в Москву, мне открыли понимание чего-то высшего, другого, и я увлекся». Он, будучи внутренне цельным человеком, поверил искренне, что пришло такое время, такая власть, которая даст всем подлинную свободу. И в 1935 году он даже вступил в партию.
— Он всю жизнь прожил в такой уверенности?
— Отец умер в 1971 году. Он жил в советской обстановке, посещал партийные собрания, оттуда приходил, рассказывал новости. Он активно верил в будущее России, верил, что оно связано с коммунизмом. У него не было каких-то других подходов, альтернативного мышления. Оно нигде не пропагандировалось, не позволялось. Но, видимо, все же была некая закваска, с детства заложенные основы веры...
Когда я по собственному желанию крестился, все было довольно спокойно. Когда же стал каждую субботу и воскресенье ходить в церковь, появилось напряжение в отношении ко мне членов семьи. И когда я объявил, что буду поступать в Духовную семинарию, все всполошились, посыпались укоры, что я гублю свою жизнь. Отец считал своим партийным долгом всеми средствами воспрепятствовать моему решению. Я же, будучи неофитом, вступал в полемику с ним, хотя сохранял уважение и любовь. Но воистину удивляюсь тому, что я всегда верил в Бога, мне это было дано с детства. Полемизируя со мной, отец подчеркивал, что имеет больший жизненный опыт, чем я. Рассказывал, что еще в детстве пел в церковном хоре, знает наизусть тропари двунадесятых праздников, и даже пропевал мне ирмосы Великой Субботы. «Ведь ты со мной не можешь сравниться. Что ты знаешь? — говорил он. — Да только благодаря советской власти вам, не происходящим из духовного сословия, открывается возможность стать священнослужителями. До революции этого невозможно было представить». А однажды, возвратившись с партийного собрания, отец заявил: «Я знаю, почему ты ходишь в церковь. Вас (молодежь) завербовала американская разведка!» Оказывается, такое сообщение было зачитано партийцам на этом собрании.
—Может быть, веру передала вам мама?Расскажите, пожалуйста, о ней.
— Мама родом из Рязанской губернии, происходила из крестьянской семьи, ее отец был шеф-поваром у помещика, и тот даже возил его с собой за границу. Во время эпидемии сибирской язвы дед мой получил заражение крови и скончался молодым. Перед Великой Отечественной войной деревенских девушек посылали на торфоразработки. Проработав год в болотах, мама получила трофическую язву ног. Всю жизнь, до самой смерти, страшно страдала. По природе же была здоровой, крепкой женщиной.
У бабушки моей было много детей. Как только кто-то из них достигал совершеннолетия, бабушка собирала прожиточный минимум — бутыль молока и испеченные хлеба, провожала до железнодорожной станции и отправляла в Москву на трудоустройство. С московского вокзала начинался путь в самостоятельную жизнь. Вот и моя мама приехала. По приезде в Москву ее познакомили с отцом, овдовевшим после смерти жены и имевшим двоих сыновей. Так состоялась ее семья: на скромной жактовской жилплощади. За ней в Москву последовала череда подрастающих сестер и братьев. Я вспоминаю наш дом как некий перевалочный пункт — через него прошел строй близких родственников — тетушек, дядюшек, которые находили работу в Москве, потом создавали свои семьи.
— А что вы помните про детство?Какие события могли повлиять на вас в плане формирования веры?
— Вспоминается один курьезный случай, благодаря которому я в шестилетнем возрасте впервые соприкоснулся с сакральным миром. В первые годы Великой Отечественной войны маленьких детей старались эвакуировать. Вот и я с двоюродными братьями и сестрами оказался в деревне у бабушки. Как-то в зимнее время мы из-за отсутствия теплой обуви сидели дома и изнывали от скуки, придумывая всякие игры. И вот в один из дней я постарался запрятаться так, чтобы меня никто не мог найти, и забился в самый дальний угол. Вдруг я почувствовал, что у меня под боком какие-то вещи, и, вылезая, захватил их с собой. Когда же я вышел на свет, то, как в сказке, увидел в руках нечто необычное.
Это было не волшебное перо, а часть священнического облачения, переливающегося чарующими цветами, из прекрасно сохранившейся парчи, и священническое кадило. Ведь напротив избы, метрах в двухстах, стояла деревенская церковь, превращенная в сельхозсклад. Сбежавшиеся дети не успели рассмотреть, что у меня в руках, потому что тут же в дверях появилась бабушка, которая коршуном бросилась ко мне и резко вырвала из моих рук находку. Она отвесила мне подзатыльник со словами: «Смотри, никому не скажи! А то я тебе покажу!» До сих пор помню, как я держал в руках что-то из священнического облачения, и, только когда стал священнослужителем, понял, что металлическим предметом было кадило, скорее всего, серебряное. В деревенской обстановке положение с верой было катастрофическим: люди боялись быть репрессированными. И если кто-то в деревне перекрестил бы лоб или вслух помолился, знали бы все.
Когда началась война, к Москве подступал голод, жили в условиях постоянной угрозы налетов немецких самолетов. Нас, детей, водили в бомбоубежище. По всем улицам были развешаны радиорупоры, по ним предупреждали: «Граждане, воздушная тревога». И наши зенитки начинали стрелять. Мать нас хватала, быстро уводила. А старшие ребята потом гуляли по Москве и рассказывали, где какой дом снесло, где какой самолет подбили.
В то же время в отношении веры не было никаких признаков движения. Единственно, что-то в детском сердце жило. Реальность была очень тяжелой, может быть, это и побудило меня рано задуматься о смысле жизни. Я видел разруху, видел бедность, мы переживали голод и разные сопутствующие обстоятельства не из легких. И я размышлял: «Неужели эта жизнь пойдет таким же чередом и не будет никаких изменений в том порядке, в котором мы живем?» Я смотрел кругом. Соседи наши по двору тоже переживали, перебивались, переносили тяжелые обстоятельства.
Родители верили, что война закончится нашей победой над фашистами. Естественно, постоянно приходилось слушать радио. Когда немцы приближались к Москве, занимали город за городом, то сердце сжималось: неужели они дойдут до Москвы? В то же время выступления наших военачальников всегда были оптимистичны, они говорили, что немец никогда не дойдет до столицы, что победа будет за нами. Народ воодушевлялся этим желанием победить.
— Но как же вы пришли к вере в Бога? Может быть, на вас повлиял чей-то пример?
— Важным примером для меня послужила семья, про которую знала вся улица, что они носят кресты и ходят в церковь. Мать и сын, по возрасту — мой одногодок, вернулись из ленинградской блокады. Отец и младший брат погибли от голода. Мы вместе пошли в первый класс, дружили, как и все дворовые ребята. Я видел, что крест он не снимает. Естественно, ребята во дворе подшучивали над этим мальчишкой, а он наивный был такой по сердцу. что дети могли знать о вере? А его ребята ставили и говорили: «Ты в бесов веришь? Веришь в Бога?» Он не отрицал: «Да, я веру знаю, я верю в Бога». И дети поднимали его на смех. Мне казалось, что надо иметь какие-то сильные аргументы против неверия. Из этой семьи — моя супруга, матушка Наталья. А тот мальчик — ее брат, Вячеслав Голиков, впоследствии окончил семинарию и духовную академию, принял постриг. Ныне он — игумен Питирим, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Хочется охарактеризовать мою веру детского возраста. Она была скорее чувством — интуицией, что Бог есть. И я этого желал всем сердцем, чтобы Бог был. «Как прекрасно,—думал я, — если есть Бог, значит, есть Некто Высший, знающий обо всех наших трудностях, неустройствах, обо всех сложнейших моментах, болезнях. Если это не так, тогда какой смысл во всем? Для чего вообще жить надо, неужели так будет бесконечно?» То есть в то время мое религиозное чувство, которое мне всегда было присуще, находило в этих размышлениях какую-то подпитку. Иногда о Боге, о церковных праздниках говорили взрослые, а я, не имея права вступить в эти разговоры, был свидетелем. И, слушая их, я всегда очень радовался тому, что есть Бог, что о Нем можно говорить.
Это были мимолетные разговоры отдельных лиц, они не касались того, пойти ли в церковь, или что надо молиться, или что такое иконы. Такие разговоры были невозможны. Никаких признаков принадлежности к Церкви нельзя было заметить. Ношения нательных крестов, святых икон в жилищах не было. Никто не молился.
Внутреннее убеждение, что Бог есть, давало мне силы прежде всего для работы над собой. Стремление понять, что такое жизнь, зародилось как некая философская мысль у меня очень рано: жизнь, хотя и трудная, — это благо, потому как Бог есть. Я где-то на уровне подсознания понимал, что надо только учиться, готовиться ко всем трудностям и все станет на свое место.
В школе я учился очень хорошо из-за того, что серьезное отношение к жизни выработалось. В самые трудные детские годы я понял, что непременно надо верить в светлое будущее, в духовное будущее и непременно надо трудиться. Так у меня было в каком-то внутреннем моем мире.
Но одно из событий из детства поистине меня убедило, что та моя вера — от Бога. Почувствовав боль в груди, моя родительница пошла на обследование, вернулась грустной: врачи сказали, что у нее рак груди. На семейном совете было решено, что необходимо сделать повторное обследование. Оно подтвердило страшный диагноз. В послевоенное время излечить рак было почти невозможно, это слово звучало как смертный приговор... После третьего обследования мама, убитая горем, вынужденная улыбаться ради детей, сказала, что врачами ей рекомендована срочная операция. Проводив ее в больницу, я стремглав бросился в темный угол чулана. Встав на колени, слезно стал умолять Господа, чтобы Он исцелил маму, иначе наша семья погибнет. Отец почти не бывал дома — частые командировки. Только мать изыскивала возможность, вопреки обстоятельствам, добывать необходимую пищу, которую по нашему времени невозможно назвать пищей: приносили клей с завода «Каучук», собирали лебеду, ездили в поля для сбора остатков замороженного в земле картофеля. Так мы выживали во многом благодаря маминой предприимчивости.
И эта молитва моя была Богом принята. Когда маму уже готовили к операции и проводили последнее обследование, то неожиданно ничего не нашли. То есть: завтра операция, повторно делают анализы и получают результат: никакого рака нет. Потом врач, который готовил к операции, говорит ей: «Знаете, это ваши дети умолили Бога. Такого не бывает. Вот, пожалуйста, ваш первый снимок, второй. И вот третий — у вас ничего нет». Она вернулась сияющая через два дня. А мы ее ждали, думали, какая она придет, наверное, еле живая, за ней нужен будет уход. И вдруг она радостная приходит и говорит: «А у меня
никакого рака нет. Да-да, детки, врач сказал, что нет рака, что дети мои умолили Бога». Я-то не сказал, что молился, ни матери, никому, но твердо про себя понял: Бог есть. Это такой факт, который нельзя из жизни вычеркнуть. Я отдался тому чувству, которое только Бог знает, ведает. И вот пожалуйста — результат. Это меня очень убедило.
—Дальше вера ваша укреплялась?Как вы приняли крещение?
— За несколько лет до принятия Святого Крещения Господь посетил меня тяжкой болезнью, вызванной моим непослушанием родителям и врачам. В Москве вспыхнула эпидемия кори. Мест в детских больницах не хватало. Помнится, привезли меня с высокой температурой и разместили в мрачном коридоре без окон. Через две недели врач говорит: «Ваш ребенок быстро выздоравливает, опасность миновала, не хватает мест для поступающих тяжелобольных детей. Не выходя из дома, ему нужно две недели отлежаться».
С утра мать уходила на работу. Ежедневно в дом заглядывали дворовые товарищи, упрашивая поиграть в футбол: «Ты будешь стоять в воротах, не гонять!» Был октябрь. В один из дней, чувствуя себя лучше, я поддался уговорам и вышел на улицу. В конце игры, когда наша команда терпела поражение, включился и стал активно бегать. После этого, зная, что с минуты на минуту мама вернется с работы, и боясь ее огорчить, побежал к колонке с холодной водой. Облился — и вернулся в дом. Тут же вошла мама. То, что она увидела, было ужасно: у меня кожа на голове то поднималась в виде шишки, то опускалась. Не раздеваясь, мать взвалила меня на плечи. Она бежала со мной на плечах, боясь, что кончится прием у врача. В последнюю секунду приема сбросила меня на стол перед доктором, который немедленно вызвал скорую помощь. У меня началась страшная болезнь — осенью-зимой скрючивались руки и ноги. По три месяца в течение двух лет мне приходилось восстанавливаться в ревматологической клинике. Выписывая из больницы, врач предупредила: «Если он и на будущий год попадет к нам, его ждет инвалидность. Вся надежда — на детский, быстро развивающийся организм. Его могут спасти активные занятия спортом».
Осознав, что единственным виновником несчастья являюсь я сам, стал заниматься спортом и закаливанием. Соорудил себе турник, нашел какие-то тяжелые предметы, гантели и стал упорно заниматься. Года два я регулярно вставал пораньше и занимался перед школой, потом, когда подрос, перед работой, и обливался холодной водой. Как только сходил лед, мы с ребятами бежали на пруд, бросались в ледяную воду и быстро из нее выскакивали. что интересно, лет в четырнадцать-пятнадцать мне говорили, что я инвалид и к армии не буду пригоден, а к шестнадцати годам меня признали по состоянию здоровья годным для служения в армии. Детский организм, как врач сказал, переломил все болезни, которыми я был скрючен. Эти события меня научили тому, что, оказывается, в жизни надо быть внимательным ко всем—даже малейшим — вещам, которые тебе говорит взрослый. Произошедшее укрепило во мне волю к выживанию, и на уровне подсознания появилась уверенность в Промысле Божием.
Интересно, что даже в пионеры я не вступал. Почему — не знаю, такое настроение было. Страну, Родину я любил, но не понимал, зачем партия нужна. Потом они сами записали меня в пионеры, чтобы галочку поставить: «Весь класс у нас пионеры, а ты не пионер. Завтра приходи, собрание прошло, галстук на тебя наденем». А я галстук так и не стал носить, забыл его где-то. Так же и в комсомол они меня тянули-тянули, а я говорю: «Не буду в комсомол вступать. Потому что хочу какой-то близкий мне путь найти. Не партийный я человек, не понимаю этого всего».
Потом я хотел поступить в радиотехникум. Учился хорошо, но, когда попытался туда пройти, понял, что надо было специально готовиться и иметь какие-то связи. Конкурс был — двенадцать кандидатов на место. Когда домой пришел, родители мне сказали: «Мы тебе не можем дать образование. У нас нет таких средств. Тебе необходимо где-то работать». Подумал: работать, конечно, надо, помощь матери и отцу оказывать, но и образование не следует оставлять. И вот я пошел в вечернюю школу учиться и работать на Первый шарикоподшипниковый завод, устроился учеником в отдел технического контроля. Проработал шесть месяцев.
Как-то мой начальник Николай Самохин задал мне вопрос: «А ты — верующий?» «Да, я всегда верил в Бога». — «А крещеный?» — «Нет, собираюсь давно креститься, но не знаю, что нужно сделать»—«Мы тебе поможем!» Так он стал моим крестным, а кладовщица цеха Павлова Надежда — крестной. Впервые он дал мне Евангелие, настолько истрепанное, что листы его рассыпались у меня под подушкой. Крещение состоялось после ночной работы на Духов день в храме Болгарского подворья Успения Пресвятой Богородицы на Таганке. Я серьезно внутренне готовился, знал, что такое Крещение, что им очищается человеческий грех. Крестная мне сказала: «Когда тебя будут крестить, ты Богу молись, чтобы Он тебя очистил от всякого греха». То есть я крестился и сознательно каялся: «Господи, как моя юность прошла? Мальчишка-оборванец бегал по улицам». Когда я крестился, то почувствовал — что-то совершенно переродилось во мне. Я пытался осознать, что со мной произошло. что мне дало крещение? Я все ожидал — сейчас какое-то чудо со мной свершится. Собственно, меня сделало и христианином, и священнослужителем это Святое Таинство духовного рождения.
Потом те же люди, которые мне помогли креститься, меня спросили: «А ты ходишь в церковь?»
А я удивился: «А разве там службы идут постоянно? Я думал, только раз в год, на Пасху». «Нет,—говорят,— каждое воскресенье совершается служба». И рекомендовали пойти в Елоховский собор, потому как там очень торжественно служат, в том числе сам Патриарх. Там у меня открылось какое-то внутреннее видение, понимание. В первый раз я пришел за полчаса до литургии. И вдруг почувствовал — все мучавшие меня вопросы решились. Я встал, смотрю: алтарь, вот Божия Матерь, вот Спаситель. Все, что здесь есть,—это все истина. Все вопросы для меня решились: я отныне связан с Церковью, я не буду чего-то другого искать, к чему-то стремиться, но работать, учиться я буду. Однако отныне и до конца жизни своей я буду в Церкви, буду членом Церкви. Такое у меня переживание было. Я понял, что мне надо только ходить в церковь. Повеяло необыкновенным миром и ясностью, слов не нужно. Все, что я вижу, — сверхподлинная реальность присутствия Божия. Сознание ясно засвидетельствовало: «Ты теперь — христианин, союз с Церковью должен быть всегда, каким бы путем ты ни последовал дальше». И я стал ревностно ходить, меня даже укоряли домашние: «Старухи ходят, а ты-то чего идешь? Все идут в театр, в кино, а ты опять — в церковь».
Чем жила душа, не передашь даже самым близким. Самым же трудным было рвать отношения, установившиеся с друзьями и приятелями, — словно ножом по сердцу. Они, приглашая меня в свою компанию, теперь уже чувствовали, что я стал каким-то другим человеком. И поползли слухи и домыслы по двору: верить в Бога — еще как-то сообразно разуму, но посещать богослужения, соблюдать посты, ставить церковную жизнь на первое место — совершенно несовместимо с укладом жизни советского времени.
Дома же, благодаря мирному настроению и любви к родственникам и родителям, все преодолевалось легко. Один лишь раз, когда мне захотелось повесить икону в доме, все занервничали: «Ведь ты один хочешь, а у нас постоянно собираются родственники на праздники!» «Меня же выгонят из партии»,—настаивал отец. После общего несогласия мне пришлось заявить: «Наверное, мне нужно уйти к духовным друзьям на жительство!» Любя меня, отец отреагировал: «Делай что хочешь. Только не уходи!» Так в нашем жилище водворилась первая святыня: маленькая наклейка на картоне, где была изображена икона Святой Троицы.
Я понимал, чувствовал, что положено жить, как предлагает Церковный Устав. Сильное воздействие на меня имело богослужение. Патриаршие службы были образцовыми. Потрясало пение великолепного патриаршего хора под руководством Виктора Степановича Комарова25. Когда я стоял на службе, то просто замирал, такое воздействие на душу было. Думал: «Господи, неужели люди не видят этой красоты?» Любая служба — просто ликование души!
В восемнадцать лет я крестился, уже в девятнадцать в армию забрали. В тот год я напитался церковным опытом, мое сердце насытилось содержанием богослужений. Однако начались и сложности. В то время многие сталкивались с такими ситуациями.
В хрущевские времена был надзор за молодежью, ходящей в храмы. Дружинники — молодые люди, носившие специальную повязку на рукаве,— могли подойти к юноше или девушке, спешащим в храм, со словами: «Пройдемте с нами» — и отвести в отделение милиции. Трижды меня и моих друзей, Вячеслава (ныне игумен Питирим) и Николая Устинова (а он стал священником26), задерживали после богослужения в Елоховском соборе и насильно отправляли в отделение милиции около метро «Бауманская». Записывали все данные о месте работы и жительства, предупреждая, что современной молодежи не разрешается принимать участие в церковной жизни. В последнем случае задержания я резко стал обличать сотрудников милиции в нарушении Конституции, в которой установлены права граждан исповедовать любую религию: «Вы являетесь нарушителями свободы совести, гарантируемой Конституцией!» Следствием этих инцидентов было увольнение Николая Георгиевича Устинова из Военной академии им. Фрунзе, где он работал электриком. А нас с Вячеславом не тронули в силу того, что в этот период менялось место работы.
Эти испытания привели меня к мысли: если нас, рядовых христиан, притесняют только за то, что мы участвуем в православном богослужении, лучше тогда стать священнослужителем, чтобы знать, за что тебя гонят. Да, тогда, при полном переживании своего недостоинства к принятию сана, впервые появилась мысль стать священником.
—Вскоре вы пошли служить в армию. Как там, будучи верующим человеком, вы себя ощущали?Наверное, на вас и крест был нательный?
— Ко мне, наученному горьким опытом советского времени, к тому времени пришло понимание, что не нужно выпячиваться, надо жить богатством своей веры в некоей сокровенности. Конечно, нательный крест я никогда не снимал. В последний же день перед отправкой в армию вдруг приходит ко мне иеродиакон Иов из По-чаевской Лавры (последнее время он пребывал в Москве) и благословляет меня карманным Евангелием старого издания, дает иконочку Божией Матери, просфоры и святую воду. Все это я взял с собой и скрыл в вещмешке. Так нами распоряжается Промысел Божий.
Нас, призывников, сажают в вагоны и везут в неизвестном направлении. Ночью слышу объявление: «Проезжаем станцию Арзамас». Потом мелькают силуэты монастырских строений. Местом прибытия объявляется город Кремлев. Понимаем, что это — засекреченное название. От старожилов узнаю, что это — город Саров27. После трехмесячного учебного отряда поселяемся в казармах, то есть в бывших кельях Саровского монастыря. Огромная колокольня посреди монастырской территории. Радости моей не было предела: я не одинок — великий угодник Серафим Саровский взял меня под свой покров!
Армейский день начинается с физзарядки. Я снимаю гимнастерку. Старшина орет во всю мощь: «Крест! Крест!»... Срывает с меня цепочку с крестом. Следует шквал похабных выкриков.

Во время службы в армии
Тут же еще у троих солдат обнаруживаются зашитые в шапках и гимнастерках кресты. Лекторы по атеизму срочно начинают антирелигиозную проработку. Жду развязки. Никуда не вызывают. Молодой политрук в чине капитана подходит в вечернее время, протягивает мне сорванный крест, спрашивает: «Это твой? Ты веришь?» — «Да, я верующий». — «Бери свой крест и носи: никто не имеет права запрещать носить его. Одно лишь условие запомни навсегда: ни одному солдату ты не имеешь права навязывать свои религиозные убеждения, иначе у тебя возникнут трудности». Никто явно не выражал плохого отношения ко мне, наоборот, тайно некоторые из офицерского состава задавали вопросы.
Служба проходила на скрытых под землей заводах, где изготовлялось атомное оружие. А в декабрьскую ночь 1957 года весь наш наряд наблюдал в течение получаса появление неопознанного объекта на высоте сорок километров в виде трех огненных прозрачных столбов, двигавшихся по небу с одинаковой скоростью. Все собрались у заводских ворот и полчаса, не опуская головы, наблюдали это неповторимое явление: летящий светящийся неопознанный объект. Недели через две в арзамасской газете поместили маленькую заметку. Событие это подвигло многих военных на размышления о конце света и т.п.
Лежащее в тумбочке Святое Евангелие провоцировало открытое недовольство одного майора, отвечавшего за быт солдат. Много раз он требовал от меня, чтобы я уничтожил «эту книгу». Не имея возможности не подчиниться указу, после ответа ему «Слушаюсь!» я не предпринимал никаких действий, за что был отослан на другое место служения, на заставу. Приезд мой был предварен слухом, что «на заставу прибывает сектант, его ничем не переубедишь, не попадайте под его влияние». Поднимаюсь на сторожевую вышку и вижу вдалеке ряд белых церквей — как лебеди расположились в поле. Спрашиваю разводящего офицера: «А что это за место?» Он отвечает: «Село Дивее-во»28. Меня снова окутывает волна радости: «Боже мой, где Ты сподобил меня служить...»
Среди солдат я оказался наиболее начитанным, потому меня поставили библиотекарем.
Старался не избегать мероприятий, проводимых на заставе: играл в волейбольной команде, обыгрывал в шахматы начальника заставы, молодого лейтенанта. Ради игры он часто освобождал меня от нарядов. Служба часового позволяла много молиться среди лесной глуши, в застывшей тишине. По-видимому, проводимые проверки установили мои моления на посту.
В конце концов меня решили комиссовать и отправили домой.
— Вы сразу после армии приняли решение о церковном служении?
— Когда я пришел из армии, встал вопрос, куда мне идти. Решил поступать в семинарию. Как только документы подал, начали приходить и вести со мной беседы инструкторы из партийных организаций, очень культурные, образованные. Пытались меня отговорить, переубедить:
— Мы собирали отзывы о вас. Там, где вы живете, о вас очень хорошего мнения. что вас потянуло в семинарию? Спутники полетели в небо! А вы туда идете? Вы губите свое будущее. Церкви со временем все закроются. Если хотите, мы дадим вам любое место работы с хорошей оплатой. Если хотите, мы вам поможем в любой институт поступить.
— Я честно вам говорю. Я верю, но хочу в своей вере разобраться, получить систематическое богословское образование. Я хочу проверить себя. Сердцем я чувствую, что Бог есть. Я к Нему тянусь, молюсь Ему. Получу семинарское образование, если оно меня не удовлетворит, я так же смело повернусь и скажу: «Знаете, я здесь не нашел того, чего желал». Вернусь, возвращусь в мир и буду дальше продолжать учебу.
— Значит, вы идеологический наш противник. У нас альтернативной партии в государстве нет, только одна Церковь. Вы идейные наши враги!
— Я хочу просто получить образование, и больше мне ничего не надо.
— Мы все-таки беседу с вами будем продолжать.
Помню, когда я ездил в Троице-Сергие-ву Лавру, где семинария находится, то по пути на мосту видел огромнейший плакат: «Партия торжественно клянется, что к 1980 году будет коммунизм!» Это были времена хрущевских гонений на веру.
Поступление в 1959 году провалилось из-за моего ответа на собеседовании: «Как смотрят ваши родители на то, что вы хотите стать священником?» Сказать неправду? Как можно с этого начинать служение в Церкви? А сказать правду — могут не принять, боясь противодействия со стороны родственников. Такие случаи имели место в семинарии.
Поступив в 1960 году в семинарию, я столкнулся с необычным происшествием. В каникулярное время получаю сообщение, что тяжко больная раба Божия Александра попала в больницу. Еду
Слева: на послушании в монастыре

Внизу: во время обучения в Московской духовной академии

ее навестить. И в это время чувствую на себе какой-то взгляд. Рассуждаю: «Наверное, меня в чем-то подозревают. Если я сейчас выйду из автобуса и за мной кто-нибудь сойдет, значит, меня выслеживают». Схожу. И за мной следуют двое мужчин. «Ваши документы!» — спрашивают у меня. «Мои документы в квартире. Если не затруднит вас, можете со мной проехать до дома». «Нет, вы должны быть в отделении милиции, а мой сотрудник поедет к вам». Ожидаю результата. Возвратившийся сотрудник обрушивает на меня шквал ругательств: «Ты вздумал нас обмануть!» Оказывается, он обратился в домоуправление, а там заявили, что такой гражданин не проживает по названному адресу. что за наваждение? «Давайте вместе проедем до нашей квартиры... Мама, пожалуйста, достань мой паспорт и покажи сотрудникам розыска!» Отдаю им паспорт и воинский билет: «Видите, я прописан здесь?» А как же так получается? Догадываюсь: чтобы меня отчислили из семинарии, нужно лишить московской прописки — между Патриархией и администрацией города была договоренность: жителей столицы принимать сверх лимита. Стал советоваться, кто же может мне помочь. Подсказали найти юриста из Патриархии — он, скорее всего, знает, что нужно сделать. Встречаюсь с юристом. Он мне говорит по секрету: «Никому не рассказывай: есть у Белорусского вокзала военный комиссариат, где рассматриваются все нарушения в паспортном режиме. Больше никто не может тебе помочь». Принял меня молодой офицер, посмотрел документы и возмутился: «Что творят!» Выдал мне на руки указ: немедленно восстановить в прописке. Появляюсь в районном отделении милиции. Принимает полковник. Скорее всего, от него исходило беззаконное решение. «Ах ты!.. Все-таки разыскал!» Скрежещет на меня зубами, готов разорвать на куски: «Все равно ты остаешься врагом народа! Лучше бы ты был вором или бандитом — мы бы помиловали тебя! Смотри же у меня!»
После всех перипетий открылось благодатное время учения в Духовной семинарии и Академии... Незабываемые дни! Заканчивая курс Академии, работал над диссертацией «Психология греха по творениям Макария Египетского», за что был удостоен звания кандидата богословия. Сама работа открыла для меня мир аскети-ки, которую я полюбил душою.
— Как отреагировала семья, когда вы решили поступать в семинарию?
— Они уже знали, что я стремлюсь выучиться на священнослужителя. Понимаете, в чем преимущество веры? В какой-то внутренней убежденности.
Я никого из них не считал врагами, никогда. Они меня и обзывали, и ругали, а я внутри думал: «Господи, как же мне их жалко. Ведь они не ведают, что мыслят и что говорят. Потому что они не знают Тебя, а я Тебя познал. Нет, Господи.
Я их все равно люблю, они мне близкие, дорогие. Они придут к вере в разное время. Мое дело только за них молиться. Идти своим путем. Не отвергать, не спорить, не доказывать, а просто молиться. Дорогие, золотые мои, милые». И был спокоен.
И они смирились, но сказали: «Раз ты избрал себе такую дорогу, не вини нас, если жизнь твоя будет сломана и советская власть тебя погонит». Время брало свое. В итоге действительно произошло такое чудо, что почти все мои родные стали верующими. Первой обратилась к Церкви мама. Отец перед смертью просил соборования и Святого Причастия. У старшего брата Михаила внучка стала женой священника. Младший брат крестился и был ревностным христианином. Дяди и тети с племянниками стали уважительно относиться ко мне.
— В воспоминаниях вашей матушки29 есть трогательная история о том, как вы ей, маленькой девочке, сказали: «Я на тебе женюсь». Как это было?Вы, наверное, тогда говорили в шутку?
— Вы знаете, вероятно, я неисправимый идеалист, потому что меня всегда какая-нибудь идея глубоко поражала. Я чувствовал, что должен ее придерживаться, должен через всю жизнь пронести. Я помню прекрасно этот случай. В действительности слова эти были сказаны, когда ее родной брат, только рожденную, вынес на руках на улицу. Взглянул я на этот жалкий комочек, и у меня в сердце возникла такая мысль: «Да ты же вырастешь, будешь хорошая, красивая. Вот мне Бог и невесту уготовил. И я на тебе женюсь». Так сказал себе в душе — не надо искать, не надо думать ни о ком. Пришло время, когда было очень много друзей и среди них и подруги духовные, с которыми в храм ходили, которые, я чувствовал, готовы были установить более чем дружеские отношения. В то же время внутри у меня было что-то свое, чувство, что надо идти каким-то своим путем, дождаться какого-то момента. Я погрузился в духовную жизнь, она меня пленила, стал много читать. В семинарии ходил в библиотеку, набирал всяких книг и читал. Время уходило, ускользало. На предпоследнем курсе Академии, мне было двадцать девять лет тогда, я сделал Наталии предложение. Она младше меня на десять лет — но вот, можно сказать, я ее дождался. Сейчас у нас двое взрослых детей, внуки.
— У вас был духовник?
— Моим духовным отцом с 1962 года был схи-игумен Савва (Остапенко)30 из Псково-Печерского монастыря. Когда он однажды посетил Москву и остановился в семье моей будущей матушки, я там тоже присутствовал. Вдруг такая мысль пришла: «Ты обратись к нему, может, он примет тебя в духовные чада». И он меня принял. Когда-то он был насельником Троице-Сергиевой Лавры, потом, по-видимому, его оттуда убрали. Такие применялись в советское время методы, когда многих духовников, у которых была большая паства, старались из центра отправить на периферию. Его отправили в Псково-Печерский монастырь. Я туда приезжал почти каждые каникулы и старался там работать. Работал на просфорне, потом пел в правом хоре. Когда я ехал на каникулы, то старался и помолиться, и пообщаться с отцом Саввой, а в свободное время принять участие в работах по восстановлению монастыря. Мы воздвигали стены, осуществляли тяжелые, трудоемкие земляные работы. Много было пережито там важного и интересного. Ежегодные поездки в монастырь способствовали установлению глубоко духовных отношений с батюшкой.
Узнав меня поближе, отец Савва просил сопровождать его в поездках. Он никогда не снимал монашеского одеяния. Во время одного из путешествий через Москву схиигумен Савва решил поклониться мощам прпп. Кирилла и Марии, родителям прп. Сергия Радонежского31. При выходе из электропоезда на станции Семхоз внезапно налетел на нас человек, по внешнему виду чиновник, с криком: «Какое право вы имеете появляться в общественных местах в рясе! Ведь это — религиозная пропаганда!» «Вы понимаете, что вы говорите? — вступаю я в разговор. — Офицер имеет право носить военную форму, врач — медицинскую. Почему же монаха вы лишаете естественного права ходить в своей одежде?» Однако между нами встал отец Савва, он попросил меня замолчать и отойти в сторону. Спокойным и добродушным словом батюшка смягчил гнев чиновника, снял напряжение. «Смотрите, чтобы больше вы не появлялись в таком виде!» — раздалось нам вслед напутствие идеолога от атеизма.
Благодаря отцу Савве мне представилась возможность познакомиться со святынями Кавказа: местами захоронения святителя Иоанна Златоу-стого в Каманах, мученика Василиска. В горах жители показывали место Третьего обретения главы Иоанна Крестителя.
В Псково-Печерской Лавре в ожидании посещения кельи схиигумена Саввы много раз беседовал с архимандритом Иоанном (Крестьян-киным): их кельи размещались по соседству.
Беседовал и с архимандритом Алипием32, архимандритом Иринеем33, архимандритом Александром34. Трогательное общение установилось с иеродиаконом Ксенофонтом35. Интересной жизни человек: скромный подвижник. Дожив до пятидесяти лет, сказал детям: «Вырастил вас, дал образование. Вы благоустроены. А теперь я должен поработать во славу Божию». И ушел в монастырь.
Он был труженик, добродушный человек. Я, тогда еще молодой, думал: «Боже мой, откуда же у него такие силы?» Ночью сторожит, утром в пять часов идет на братский молебен, потом — за ящик работать, потом еще что-то выполняет. Я говорю: «Отец Ксенофонт, когда же ты спишь?» А он любил делать квасок. Ему прихожане много всякого варенья приносили. И вот я как-то лежу в его келье,

С матушкой Наталией в Троице-Сергиевой Лавре

отдыхаю (поздно вечером приехав в монастырь, не знал, где мне до утра переночевать, но встретил отца Ксенофонта и он предложил свою келью). Я лежу и слышу: «Ш-ш-ш» — кто-то шипит, потом: «Бух!» Утром я ему говорю: «Отец Ксенофонт, что это у тебя в келье завелось такое, всю ночь шипело, не давало мне спать?» «Это,—говорит,—квас. Если бы не квас, то не было бы и нас». Такой стихотворный язык у него был. Я-то потом понял, что у него проблема с желудком была, попьет он этого кваску, у него потом и аппетит, и силы появляются.
— А в Псково-Печерский монастырь вы уже с матушкой ездили?
— Впервые мне посчастливилось побывать в Псково-Печерском монастыре в 1961 году, на втором курсе семинарии. Плененный необычайным благолепием и красотой монастыря, я старался по возможности посещать это святое место. До вступления в брак с семьей матушки несколько раз приезжали в монастырь. Они прекрасно знали близлежащие деревни и монастырские постройки в них. После же вступления в брак — как вместе, так и отдельно—постоянно кто-то паломничал в монастырь.
— Отец Георгий, ваше священническое служение началось в 1967 году. Что было самым сложным в первые годы?
— Главные сложности — в духовном устроении, в том, чтобы не потерять духовное отношение к богослужению и другим священническим
обязанностям. Потому что священник, я часто это говорю, идет для того, чтобы отдавать. А вот где он сам получит этот заряд? Только у престола.
В период служения в советские годы все священнослужители сталкивались со следующими трудностями: во-первых, на приходах не хватало служащих. Московские храмы были переполнены. Приходилось месяцами служить без выходных: один священник и — море треб.
В плане духовного окормления паствы: служба только в храме. За стенами церкви все контакты пресекались. Проповеди редактировались. Если народ во множестве окружал священника, мог последовать перевод его в отдаленные места.
— Вы крестили на дому?
— В редких случаях. Более удобно было назначать тайные крестины боящимся оформления документов. В неурочное время священник заводил их в храм и там, в отсутствие народа, крестил (или венчал) при закрытых дверях.
— Кто вам запомнился особенно из прихожан того времени?
— Приход — большая семья, и все становятся духовно родными. Молитвенная память хочет обнять всех, с кем Господь судил пройти годы священства: и малых, и убогих. И как наставлял архимандрит Тихон (Агриков)36, преподаватель па-
стырского богословия: «Любите этих старушек. Ведь у них за плечами — страшные войны, бедствия, разруха. Бог привел их в храм». Если же выделять из числа прихожан интеллигентных и известных — им было намного труднее принимать участие в богослужении. Многие из них старались оставаться незамеченными. Скорее, удобнее привести по памяти тех, кого могу назвать друзьями, с кем мы дружили семьями. Назвать их по фамилиям и именам — значит обозначить список и — ничего не сказать. В то же время потребуется специальная книга, чтобы изложить то, что было пережито и пройдено с ними вместе.
Опытные духом старцы не советуют молодым, начинающим священникам быть духовниками, но прежде набраться опыта и познать самого себя. Но во времена военных действий и солдат становится генералом. Нечто похожее происходило со мной. Буквально на второй год моего служения схиигумен Савва благословил всемирно известного литератора и переводчика Николая Михайловича Любимова161 обратиться ко мне.
1960-х гг. был преподавателем в московских духовных академии и семинарии, духовником учащихся. Затем жил на Кавказе и в Закарпатье. Незадолго до кончины принял схиму с именем Пантелеимон.
161 Любимов Николай Михайлович (1912-1992) — знаменитый переводчик классической литературы, в основном с французского и испанского. Переводил произведения М. Сервантеса, Ф. Рабле, Ж.-Б. Мольера, П. Бомарше,
Я храню в сердце все наши встречи и беседы. Между нашими семьями установились теплые, сердечные отношения. До сего времени не только сын Николая Михайловича — Борис Николаевич Любимов, ректор Высшего театрального училища им. Щепкина,—но и вся его семья связана духовными узами с нашей семьей.
через схиигумена Савву мы познакомились со ставшим близким и духовно родным для нас протоиереем Владимиром Ивановым162, одним из образованнейших людей нашего времени, искусствоведом, философом и богословом, служащим в Берлине и много лет преподававшим в Мюнхенском университете. Интересна его судьба. Отец у него был ленинградским писателем, мать — литературоведом. Он получил прекрасное образование — окончил Ленинградский университет и был искусствоведом, знал много языков, изучал богословие, перечитал западную богословскую литературу, ориентировался в направлениях богословия, разбирался в античной философии. Я даже боялся с ним беседовать, потому что у него мышление было очень развито. А я,
П. Мериме, М.-А. Стендаля, Г. Флобера, Ги де Мопассана, М. Пруста, Ф. Шиллера, Дж. Бокаччо и др.
162 Протоиерей Владимир Иванов (род. 1943) — искусствовед, окончил Ленинградский государственный университет, затем Московскую духовную академию, доктор богословия. В настоящее время — настоятель домового храма Прп. Сергия Радонежского в Берлине.
хоть и не имел возможности получить такое образование, но все-таки интересовался античной философией, читал Платона, Аристотеля.
Когда мы познакомились с будущим отцом Владимиром, он был еще молодым человеком, художником, искусствоведом, литератором. Это было в 1970 году. Мы с ним как-то сдружились, я понимал, что это профессионал высокого уровня в области искусства. Он меня любил, и мы друг друга чувствовали, общались семьями. Он уже работал, вступил в брак, и его ко мне направил отец Савва, к которому Владимир обратился с вопросом: где можно найти священника, с которым я мог бы встречаться, вопросы решать, дружить. Отец Савва сказал: «Ты пойди к отцу Георгию». И мы так подружились.
Как-то однажды беседую с ним, а он мне говорит: «Отец Георгий, я заметил сейчас такое явление. Интеллигенция потеряла вкус к современной идеологии, к тому, что пропагандирует советское государство. Сейчас у многих появляется интерес к религии». Когда он мне так сказал, я стал наблюдать и действительно заметил, что интеллигенция меняется, постепенно поворачивается лицом к христианской культуре.
С Владимиром мы специально снимали дачи рядом, в Нахабине. Я уже давно такую мысль затаил: он готов для священства, но как-то боялся к нему подойти с этим. И вот однажды, когда отдыхали совместно на даче, говорю:
— Слушай, тебе надо решиться на то, чтобы стать священником. Образование у тебя потрясающее, христианскую культуру ты знаешь, все иконы и школы иконописи знаешь. Посоветуйся с супругой. Захочешь, я тебя представлю ректору Духовной семинарии и академии. Ты человек, нужный для Церкви.
— А что решаться, давай сейчас поедем.
Я смеюсь:
— Давай поедем.
Разговор состоялся рано утром, часов в 8-9. На улице солнышко, хорошо, сидим в саду. Приходим домой, я говорю: «Мы уезжаем в Троице-Сер-гиеву Лавру». И что интересно, мы действительно собрались и поехали. Я иду и не знаю, что нас ждет, потому что надо найти ректора, а получится ли — неизвестно. Вдруг нас пропускают, и почти сразу удалось попасть к ректору — тогда им был владыка Филарет (Вахромеев), в настоящее время он Минский митрополит. Я к нему захожу:
— Владыка, вот привел к вам человека, который уже готов принять сан. Вы его испытайте, посмотрите. Я думаю, он очень полезен.
Владыка Филарет с ним пообщался и говорит: «Ну, я тебя сразу принимаю». В Духовной академии есть основанный Патриархом Алексием I (Симанским) музей — археологический кабинет, и владыка взял его туда. Владимир работал очень плодотворно: сделал атрибутику всех находящихся там книг, древних икон. Также он преподавал
церковную археологию. В 1982 году состоялась его диаконская хиротония, в 1983-м — иерейская. Позже, в связи с тем что он хорошо знал языки, его отправили в Германию, он стал служить в Берлине, преподавал в Мюнхенском университете курс по искусству восточных славян — показывал связь искусства с христианским мировоззрением. Как я знаю, на лекции его собиралось всегда очень много людей.
До настоящих дней не теряется молитвенное единение с семьей известного художника Михаила Шварцмана37, произведения которого есть в фондах Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства. Он был человек веры, подвижник искусства. Впервые увидев его во время посещения Псково-Печерского монастыря с супругой, схиигумен Савва, обладавший даром прозрения, сказал: «Он — настоящий израильтянин, в котором нет лести»38. В 70-е годы он представлял авангард интеллигенции, ищущей Бога. Во всей последующей жизни я действительно
убедился, что это человек, кристально честный во всем. Мы близки до сего времени с его семьей, внуками.
Незабываем для нашей семьи образ друга — Всеволода Сергеевича Семенцова, научного сотрудника Института востоковедения, известного полиглота и индолога, ставшего крестным отцом моего сына. Он был не просто ученый, но вообще очень одаренный человек, знал как современные европейские языки, так и несколько древних — древнееврейский, санскрит. Когда он, еще не крещеным, был в Индии, обратился к известному гуру — проповеднику и духовному наставнику, к нему ездили со всей Индии. А Всеволод был знатоком древней индийской культуры, изучал ее, знал язык, читал древнейшие фолианты на санскрите, сам написал несколько книг. И вот пришел он к гуру с вопросом, что ему делать, с чего начинать духовный путь. Он думал, что старец сейчас ему скажет: «Оставайся здесь, учись, ты знаешь язык», — а тот ответил: «Нет, тебе не надо здесь ничего искать, у вас в России все есть, когда возвратишься туда, все там найдешь». И он понял, что ему надо креститься, и принял крещение. Мы жили в соседних домах и благодаря этому свободные часы посвящали длительным беседам на духовные темы во время прогулок. Мы беседовали дорогой, брали детей с собой, то на санках, то пешком, они еще маленькие были, он их носил, так как мощный
был такой, высокий. Мы шли так из Печатников иногда до самых Кузьминок и обратно.
Через него потянулась вереница сотрудников МГИМО. Видный профессор-политолог Алексей Самгин, Владимир Кириллович Шохин, заведующий кафедрой в Институте философии, Зубов Андрей Борисович, профессор и доктор истории. В праздничные дни он подвизается в качестве алтарника нашего прихода. Благодаря книге «История религии» и лекциям, которые читает Андрей Борисович как в разных регионах России, так и за рубежом, у него много студентов-после-дователей, активно участвующих в жизни нашего прихода. Общность интересов, связанных с Православной Церковью, побудила многих из них вступить в брачные союзы. Так что каждый год у нас появляются новые юные члены прихода.
через Андрея Зубова пришел ко мне тогда еще совсем молодой преподаватель МГИМО Валерий Васильев, ныне — Иннокентий, архиепископ Виленский и Литовский. Под влиянием Благодати Божией, воодушевившись примером своих друзей-однокурсников, обратившихся к Православию, он резко порвал с членством в партии, чем привел в ужас партийное руководство института, когда положил партбилет со словами: «Я стал верующим!» — «что ты делаешь? Ведь нас всех снимут с должности! Давай как-то незаметно: ты потерял партбилет. Остальное уладим». Все друзья переживали за него. Он удалился
в пределы Белгорода, к старцу Серафиму (Тяпоч-кину)39. Прошел долгий путь служения в качестве священника в Сибири и иеромонаха — на Дальнем Востоке.
— Отец Георгий, вы во времена хрущевских гонений пришли в Церковь, при Брежневе стали священником. Затем вы активно восстанавливали два храма — это был период возрождения церковной жизни в нашей стране. Вы можете сравнить людей, прихожан, верующих на разных этапах истории?
— После Великой Отечественной войны Церковь пополнилась мужественными, стойкими людьми, через горнило испытаний обретших веру. Наверное, каждый приход имел в своем составе героев Отечественной войны. Из числа прихожан выделялись женщины, которые были в партизанских отрядах. Когда местная исполнительная власть угрожала репрессиями, они готовы были первыми встать на защиту прихода, что очень помогало в жестких ситуациях. Самые
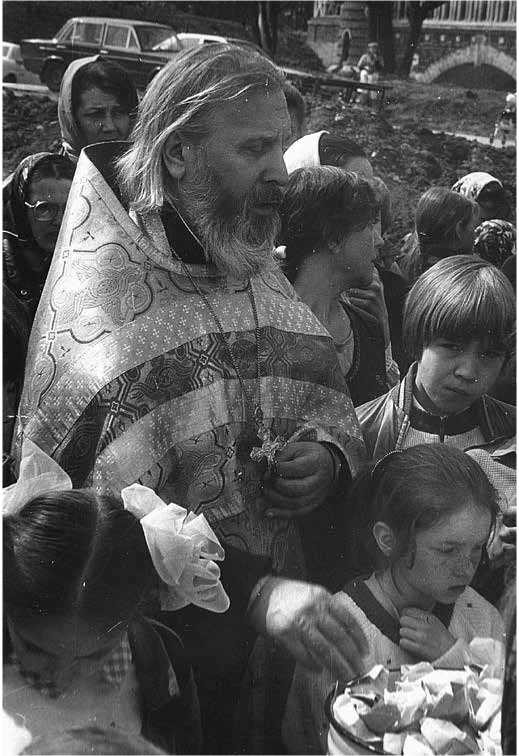
Первые годы в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно
ревностные из прихожан принимали тайное монашество, чтобы в новом качестве угождать Богу и служить Церкви. Известные старцы существующих монастырей совершали постриг или в церквах, или на квартирах.
В конце шестидесятых годов и начале семидесятых чувствовалось, что в основной своей массе прихожане были традиционно воспитаны в Православии. Нетрудно было заметить, что на каждом приходе был контингент лиц, связанных с жизнью бывших монастырей. Выгнанные из обителей старые инокини несли всякого рода послушания: и алтарниц, и певчих, и просфорниц. Другие были ревностными прихожанами храма, готовыми безоговорочно выполнять любые просьбы священников. Правда, ряды этих верных чад год от года редели. Во времена безбожия и гонений они были мощной, невидимой, но действенной опорой духовенства. через них тянулись ниточки связей к тем, кто занимал высокое положение в обществе, скрывая свою принадлежность к Церкви.
Совершенно новое и невиданное открыло себя в годы обретения свободы: стали передаваться новообразовавшимся православным общинам разрушенные здания бывших церквей и монастырей. Сквозь слезы не верилось: неужели это — правда?!. Грудь распрямилась, стало свободней дышать. Сколько, казалось, нерешаемых задач сразу свалилось на плечи малого стада. Многие из народа потянулись к Церкви. В неимоверно
сложных обстоятельствах оказались и иерархия, и рядовое духовенство. Откуда взять такое количество духовенства? Открыта церковь, и — нет священника. Самая непростая задача, с которой справилась Патриархия: каждый настоятель должен был подготовить и выдвинуть кандидатов на рукоположение. Богослужение проходило в ужасных условиях: стоять у престола и бояться, как бы не грохнулась на него штукатурка со стены еще не восстановленного храма.
Иногда казалось, что задача, выдвинутая временем, невыполнима. Когда же посмотришь на вновь пришедших прихожан, их нескрываемую одушевленность и радость, понимаешь, что все будет прекрасно. Надо не покладая рук трудиться и учиться строительству, разбираться в архитектуре, чертежах.
Вспоминается первое крещение в полуразрушенном храме. Еще не полностью очищена трапезная храма от заводских конструкций — приходит семья из шести человек. «Отец Георгий, ты завтра всех нас крести!» — «Вы же видите, какие у нас условия, как же я должен вас крестить?» А мать семейства с радостным лицом отвечает мне: «Батюшка, как замечательно! Ведь мы тоже — разрушенные храмы! И потому мы не хотим креститься в прекрасно благоустроенной церкви!» Меня аж всего пробило! Какое меткое, сильное слово! На всю жизнь запомнилось: мы — разрушенные, поруганные храмы...
— А как вам кажется, верующим сейчас в духовном плане сложнее или проще, чем в советские времена?
— Прежде всего, самому себе и всем вопрошающим хочется сказать: каждый век и новое время приносят нам свой, какой-то особенный крест. Многого мы не чаяли и не ожидали, но оно пришло. Неслучайно Спаситель призывает нас трезвиться и бодрствовать, потому что в самом временном потоке есть некое лукавство, обманчивость: стоит человеку духовно расслабиться, как тут же теряем себя и спасительные ориентиры. Возьмите советское время. Многие, доработав до пенсии, считали, что старость обеспечена. А ведь получили шестьдесят рублей. Деловая жизнь была инертна, пассивна. Зато было больше свободного времени и возможности чаще ходить в церковь. Сейчас совершенно другой ритм жизни. Если это малый предприниматель, он способен обеспечить семью, а рабочий день — по десять и более часов. Удивляешься иногда, как активно трудящиеся прихожане воскресные и праздничные дни стараются провести в церкви. В те времена рождаемость детей в основном один, два, сейчас — благодарение Богу — многодетные семьи не редкость. Остается непростая проблема наших дней — трудоустройство и малые зарплаты.
Если рассмотреть современную жизнь в духовном плане, ее преимущество заключается в огромных возможностях свободно изъявлять
свою веру, окормляться духовно в церквах и монастырях, пользоваться изобилием святоотеческой литературы, получать духовное образование. При всем этом дух горения, ревностного самоотверженного служения Богу заметно слабеет. Причин много, но все они связаны с бытовой материализацией сознания.
В духовной жизни одни трудности преодолеваются, потом наступают другие. Должна быть к этому внутренняя готовность. Ко всем трудностям надо готовить и детей, и себя, эта активность сейчас от нас требуется, а опустить руки — значит быть выброшенным вовне.
«Богословские труды» — научно-богословский журнал РПЦ, выпускаемый Издательским отделом Московской Патриархии с 1960 г.
Лосский Владимир Николаевич (1903-1958) — богослов Парижской школы, сын известного философа Н. О. Лосского (1870-1965). Впервые на русском языке его труды «Очерки мистического богословия Восточной Церкви» и «Догматическое богословие» вышли в 1972 г. в восьмом выпуске «Богословских трудов».
Семенцов Всеволод Сергеевич (1941-1986) — филолог, литературовед, востоковед, крупнейший отечественный индолог и санскритолог XX в. В 1968-1983 гг. — научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. Исследователь индийской литературы, религий, философии. Автор первого полного поэтического перевода «Бхагавад-гиты» на русский язык (1985).
«Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах» — основное сочинение отца Павла Флоренского (1914).
Карташёв А.В. Вселенские соборы. Париж, 1963.
Пивоваров Юрий Сергеевич (род. 1950) — историк, доктор политических наук, профессор, академик РАН, директор ИНИОН РАН, преподаватель МГУ и РГГУ, почетный президент РАПН. МГИМО окончил в 1972 г., в 1975 г. — аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
Иван Васильевич Киреевский (1806-1856), Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) и Юрий Федорович Самарин (1819-1876) наряду с братьями Аксаковыми и Ф. В. Чижовым являются основоположниками славянофильства — направления философской и общественной мысли, отстаивавшего идею самобытности русского исторического и культурного пути.
Иеросхимонах Макарий (Иванов, 1788-1860) — один из четырнадцати оптинских старцев, прославленных
Церковью в лике святых. Благодаря ему при монастыре было положено начало изданию святоотеческих трудов. Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада — супруги Киреевские. Под влиянием прп. Макария возникла школа издателей и переводчиков духовной литературы.
Зенон Косидовский (1898-1978) — польский писатель, автор научно-популярных книг по истории древних цивилизаций и культур. У советских читателей большой популярностью пользовались две его книги: «Библейские сказания» (1963) и «Сказания евангелистов» (1977), посвященные критическому анализу Ветхого и Нового Завета. Помимо критических очерков эти книги содержали подробный пересказ текста Священного Писания.
Протоиерей Валентин Асмус (род. 1950). Сын известного философа и литературоведа В. Ф. Асмуса (18941975). По окончании филологического факультета МГУ (1975) занимался преподавательской деятельностью, в том числе в ряде московских духовных школ. В 1979 г. рукоположен в диакона, служил в храме свт. Николая в Кузнецах; в 1990 г. принял сан священника; с 1993 г. — протоиерей; с 2000 г. — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе; доцент Московской духовной академии (МДА), член ученого совета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), преподаватель Николо-Угрешской семинарии.
Симония Нодари Александрович (род. 1932) — востоковед, действительный член РАН (1997), с 1998 г. академик-секретарь Отделения международных отношений РАН, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. В 19581988 гг. — старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий отделом Института востоковедения АН СССР.
Алаев Леонид Борисович — доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО. С 1956 по 1988 г., а также с 1999 г. по настоящее время — научный сотрудник Института востоковедения РАН, в 19811988 гг. — заведующий сектором «Энциклопедия Азии». В 1988-1999 гг. — главный редактор журнала «Народы Азии и Африки» (с 1991 г. — журнал «Восток»). С 1970 г. — преподаватель МГИМО.
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М.: Наука, 1990.
Пиотровский Борис Борисович (1908-1990) — ученый-археолог, египтолог, с 1964 г. — директор Государственного Эрмитажа.
Примаков Евгений Максимович (род. 1929) — государственный деятель, дипломат, доктор экономических наук, академик РАН. С 1970 по 1977 г. — заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР, в 1977-1985 гг. — директор Института востоковедения АН СССР, одновременно — профессор Дипломатической академии (с 1979 г.), в 19851989 гг. — директор ИМЭМО АН СССР. С 1989 г. — член ЦК КПСС. Занимал должности председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1989-1990), руководителя Центральной службы разведки СССР (1991), директора Службы внешней разведки России (1991-1996), министра иностранных дел РФ (1996-1998), Председателя Правительства Российской Федерации (1998-1999) и президента Торгово-промышленной палаты РФ (2001-2011). Депутат Государственной думы РФ третьего созыва (2000-2001).
Протоиерей Николай Ситников (1929-2006) — с 1954 г. служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне алтарником и чтецом, с 1957 г. — диаконом. С 1962 г. — штатный священник, а с 1970 г. — настоятель храма.
Архиепископ Иннокентий (Васильев, род. 1947) — закончил МГИМО в 1974 г., рукоположен в священника в 1981 г. В 1980-х гг. — клирик Курской и Иркутской епархий, в 1989 г. заочно закончил Московскую духовную семинарию. В 1992 г. пострижен в монашество, в том же году хиротонисан в епископа. С 2002 г. — архиепископ Корсунский. С 24 декабря 2010 г. — архиепископ Виленский и Литовский.
В 1922 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей В. И. Ленин пишет в секретном письме членам Политбюро: «чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Лигачев Егор Кузьмич (род. 1920) — государственный деятель, член ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПСС в 19831990 гг. В марте 1985 г. поддержал кандидатуру М. С. Горбачева на должность генерального секретаря ЦК КПСС. В 1985-1988 гг., будучи секретарем ЦК КПСС по идеологии, фактически был вторым человеком в партии и государстве.
Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931) — генеральный секретарь ЦК КПСС с 11 марта 1985 по 24 августа 1991 г., одновременно: председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988-1989), председатель Верховного Совета СССР (1989-1990), президент СССР (1990-1991). Лауреат Нобелевской премии мира. В период его руководства государством произошли серьезнейшие масштабные изменения как в политическом курсе, так и в экономике страны (перестройка), повлиявшие на весь мир.
Митрополит Филарет (Вахромеев, род. 1935) — с 31 января 1990 г. предстоятель Белорусской Православной Церкви с титулом митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Сидоров Алексей Иванович (род. 1944) — профессор, доктор церковной истории. В 1975 г. окончил исторический факультет МГУ, работал научным сотрудником в Институте русской истории РАН, кандидат исторических наук (1981). С 1993 по 2008 г. работал в Институте мировой литературы РАН, возглавляя группу византийской литературы. С 1987 г. — преподаватель истории Древней Церкви и патрологии в Московской духовной академии и семинарии, а с 1997 г. и Свято-Тихоновского богословского института. С 1990 г. — заведующий аспирантурой при МДА. Автор десяти книг и главный редактор пяти книжных серий, посвященных святоотеческой традиции.
Архиепископ Александр (Тимофеев, 1941-2003) — с 1982 г. епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, ректор Московской духовной академии и семинарии, с 1986 г. — архиепископ, председатель Учебного комитета при Священном Синоде. С 1995 г. — архиепископ Саратовский и Вольский.
Гаврюшин Николай Константинович (род. 1946) — кандидат философских наук, с 1971 г. — сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (ныне РАН). С 1980 г. сотрудничает с Издательским отделом Московского Патриархата. С 1987 г. — преподаватель философии Московской духовной академии и семинарии. С 2002 г. — профессор Московской духовной академии. Одновременно — преподаватель истории философии, истории русской и белорусской религиозно-философской мысли и истории религии минских духовных академии и семинарии. В 1997— 2000 гг. главный редактор «Богословского вестника», издаваемого МДА.
Комаров Виктор Степанович (1893-1974) — регент правого хора в Московском кафедральном Богоявленском соборе в Елохове (1943-1974), композитор, врач-гомеопат.
Протоиерей Николай Устинов (род. 1930) — почетный настоятель Михайловского храма города Вильнюса, Литва.
Саров — закрытое административно-территориальное образование в Нижегородской области, образовано в 1946 г. в связи с размещением секретных научных и промышленных предприятий по разработке и изготовлению оружия массового поражения. В документах именовался «Горький-130», «Арзамас-75», «Арзамас-16», «Кремлев». С 1995 г. — «Саров». В центре города расположена Саровская пустынь, место, где подвизался преподобный Серафим Саровский (1754-1833). В 1925-1927 гг. монастырь был ликвидирован, имущество и здания переданы в ведение Нижегородского управления НКВД. В 2006 г. Священным Синодом принято решение об открытии монастыря, в 2009 г. в монастырь назначен наместник.
В селе Дивееве Нижегородской области находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Первая община (Казанская) — основана Агафьей Семеновной Мельгуновой (в постриге Александрой) во второй половине XVIII в. В 1789 г. попечение над общиной взял прп. Серафим Саровский, тогда — молодой иеродиакон. До своего преставления старец Серафим окормлял сестер общины. В 1826 г. по благословению старца Серафима недалеко от Казанской основана девичья Мельничная община. В 1842 г. обе общины были объединены с наименованием Серафимо-Дивеевской. В 1861 г. община получила статус монастыря. После 1917 г. обитель продолжала действовать как рабочая артель, в 1927 г. закрыта. Возрождение монастыря началось с 1988 г., 21 июля 1991 г. Священным Синодом принято решение о восстановлении обители. В этом же году в монастырь прибыли мощи прп. Серафима Саровского.
Воспоминания Наталии Бреевой опубликованы в книге: Лученко К. Матушки. М.: Никея, 2012.
Схиигумен Савва (Остапенко, 1898-1980) — один из известных подвижников-монахов и старцев XX в. До 48 лет жил и работал в миру (инженером-строителем). В 1946 г. принял монашество, будучи насельником Тро-ице-Сергиевой Лавры, выполнял послушания эконома и духовника богомольцев (имел около 7 тыс. духовных чад).
Переведен в Псково-Печерский монастырь, где занимал должность благочинного. Автор ряда духовных сочинений.
В восстановленном Покровском ставропигиаль-ном женском монастыре в Хотькове и ныне находятся мощи родителей преподобного Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марии.
Архимандрит Алипий (Воронов, 1914-1975) — в 1959-1975 гг. наместник Псково-Печерского монастыря, иконописец, художник и коллекционер (в 1974 г. основная часть коллекции передана в Русский музей), не раз отстаивавший монастырь в период хрущевских гонений.
Архимандрит Ириней (Пономарев, 1928-1975) — эконом Псково-Печерского монастыря.
Архимандрит (потом схиархимандрит) Александр (Васильев) — братский духовник и благочинный Псково-Печерского монастыря.
Иеродиакон Ксенофонт (Чистяков, 1900-1982) — в 24 года вступил в брак, имел двух сыновей; в 1942 г. был взят на фронт и затем демобилизован в связи с ранением; в 1947 г. осужден по 58-й статье и до 1955 г. находился в заключении в лагерях; в 1956 г., будучи вдовцом, пришел в монастырь, принял постриг и сан иеродиакона.
Архимандрит Тихон (Агриков, 1918-2000) — насельник Троице-Сергиевой Лавры; в конце 1950-х — начале
Шварцман Михаил Матвеевич (1926-1997) — художник-авангардист. С 1966 г. работал главным художником Специального художественно-конструкторского бюро легкой промышленности (СХКБ Легпром). Произведения есть в фондах Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства и др.
См.: Ин. 1: 47.
Архимандрит Серафим (Тяпочкин, 1894-1982) — один из известных старцев XX в. Священническое служение начал в 1921 г. После ранней кончины жены остался с тремя дочерьми. В 1940 г. арестован, в 1941 г. приговорен к десяти годам лишения свободы, потом еще четыре года провел в ссылке. После освобождения продолжил священническое служение. В 1960 г. принял монашество. С 1961 г. до своей кончины служил настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитное Белгородской области, куда за духовным окормлением к нему стекались верующие со всей страны.

Ольга Гусакова—ведущий редактор направления «Биографии и жития» издательства «Никея», кандидат исторических наук.
Родилась в 1978 году в Москве.
Окончила историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета в 2001 году.
Более десяти лет проработала журналистом и редактором в различных журналах и книжных издательствах гуманитарной направленности.
В 2012 году в Институте всеобщей истории РАН защитила кандидатскую диссертацию по истории Церкви и культу святых в раннесредневековой Англии.
Автор ряда научных публикаций, участник российских и международных конференций.
Для нас православное христианство—это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.
В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо—это изменение человеческой души. От зла к добру! От бессмысленности—к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!
Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.
Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!
Теперь наши книги по издательским ценам в центре Москвы!
Друзья! Теперь книги «Никеи» по издательской цене можно купить в центре Москвы. Новый магазин расположился в помещении издательства около Арбата. Вы можете приходить и выбирать книги, держать их в руках, рассматривать, можете сесть в кресло и почитать. В магазине представлен полный ассортимент книг издательства: прикладная, детская и религиозная литература.
+7 (495) 510-84-12 (магазин)
+7 (495) 600-35-10 (издательство)
Адрес: Сивцев Вражек, 21, домофон 27к
График работы: пн.- чт. 10:00-18:00 пт. 10:00-17:00
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! Интересные события, участие в жизни издательства, возможность личного общения, новые друзья!
Художественная и религиозная литература Б facebook.com/nikeabooks П vk.com/nikeabooks
Детская и семейная литература Б facebook.com/nikeafamily И vk.com/nikeafamily
Ф МИЛОСЕРДИЕ
ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ
Программа «Сиделки» создана для сбора средств на оплату сиделок для беспомощных инвалидов, тяжелобольных детей и стариков. Сейчас на попечении программы 34 человека, большинству из них требуется ежедневный квалифицированный уход. Даже небольшая помощь очень нужна!
Подробнее о программе «Сиделки»

Матушки
Жены священников о жизни и о себе
О чем эта книга?
В этой книге собраны рассказы жен священников о своей жизни. Их называют «матушками», по аналогии с тем, как священников называют «батюшками». Жизненный опыт матушек—во многом опыт ежедневных жертв. Но проблемы у нас у всех общие. Как их преодолевают матушки, жены тех священников, к которым мы часто обращаемся за советом?
Для кого эта книга?
В «Матушках» представлены в первую очередь непростые судьбы сильных, удивительных женщин. Эта книга понравится каждому, кому интересна жизнь со всеми ее взлетами и падениями, наградами и испытаниями, слезами и радостями, в которых внимательному взгляду открывается действие Промысла Божьего. Автор-составитель — Ксения Лученко.
О выборе и о свободе

Монахи
О чем эта книга?
Эта книга о том, почему люди, наши современники, бросают мир и уходят в монастырь. Громко сказано? Но это именно тот вопрос, который ставился перед нашими героями — 9 монахами и монахинями Русской Православной Церкви. Отвечая на него, они говорят о своей жизни и пути к Богу, о сомнениях и решимости, о слабости человеческой и силе Божией. О том, как невозможное делается возможным, а казавшееся абсурдным — единственно правильным. Разные люди, с непохожими судьбами, интереснейшим жизненным опытом - что поставило их в один ряд, в «авангард» войска Христова? Судить читателю.
Для кого эта книга?
Эта книга интересна для тех, кто хоть раз задумывался о том, как можно изменить свою жизнь, что вера открывает человеку и как действует воля Бога в человеческой жизни.
Автор-составитель — Юлия Посашко.
Вы можете приобрести наши книги по издательским ценам на сайте