Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)

«Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» — собрание очерков о древних и новых писателях. Литературная критика Мережквоского — одно из безусловных достижений Серебряного Века. Здесь вспоминается знаменитое определение акмеизма, данное Мандельштамом: «тоска по мировой культуре». Эссе и исследования Мережковского, посвященные литературе не просто были проявлением такой тоски, они сами были — ярким, блистательным образцом мировой культуры, образчиком ее бытия на русской почве.
В эту книгу вошли как и сами «Вечные спутники», так и дополнительные материалы:
ПРЕДИСЛОВИЕ
АКРОПОЛЬ
«ДАФНИС И ХЛОЯ»
МАРК АВРЕЛИЙ
ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ
КАЛЬДЕРОН
СЕРВАНТЕС
ФЛОБЕР
ИБСЕН
ДОСТОЕВСКИЙ
ГОНЧАРОВ
МАЙКОВ
ПУШКИН
ДОПОЛНЕНИЯ
СТАТЬИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИЗДАНИЕ «ВЕЧНЫХ СПУТНИКОВ» 1914 г.
ТРАГЕДИЯ ЦЕЛОМУДРИЯ И СЛАДОСТРАСТИЯ
ТУРГЕНЕВ
ГЁТЕ
РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СТАТЬЯМ ИЗ «ВЕЧНЫХ СПУТНИКОВ»
МАРК АВРЕЛИЙ. Э. РЕНАН О МАРКЕ АВРЕЛИИ
ВЫПИСКИ И ЗАМЕТКИ О МОНТАНЕ
МОНТАНЬ
ГЁТЕ
СТАТЬИ 1880 —1890–х гг., НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ»
СТАРЫЙ ВОПРОС ПО ПОВОДУ НОВОГО ТАЛАНТА
РУССО
РАССКАЗЫ ВЛ. КОРОЛЕНКО
МИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАШЕГО ВЕКА
ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА
ПАМЯТИ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА
О ПРИЧИНАХ УПАДКА И О НОВЫХ ТЕЧЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
I. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
II. НАСТРОЕНИЕ ПУБЛИКИ. ПОРЧА ЯЗЫКА. МЕЛКАЯ ПРЕССА. СИСТЕМА ГОНОРАРОВ. ИЗДАТЕЛИ. РЕДАКТОРЫ
III. СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ КРИТИКИ
IV. НАЧАЛА НОВОГО ИДЕАЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА, ГОНЧАРОВА, ДОСТОЕВСКОГО И Л. ТОЛСТОГО
VI. СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРАГЕДИИ СОФОКЛА «ЭДИП–ЦАРЬ»
КРЕСТЬЯНИН ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ОЧЕРКИ
БАЛЬЗАК
МИШЛЕ
НЕОРОМАНТИЗМ В ДРАМЕ
БРЮНЕТЬЕР О ЗАКОНАХ ДРАМЫ
ЛЕМЕТР О МИСТИЦИЗМЕ В ТЕАТРЕ
МЕТЕРЛИНК О БУДУЩНОСТИ ТРАГЕДИИ
НЕМЕЦКАЯ КРИТИКА О СКАЗОЧНОМ ТЕАТРЕ
МИСТЕРИИ МОРИСА БУШОРА
БОБУР И ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА
О СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ДРАМЕ И ГАУПТМАНЕ
НОВЕЙШАЯ ЛИРИКА
ЖЕЛТОЛИЦЫЕ ПОЗИТИВИСТЫ
РЕЦЕНЗИИ НА «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» (1897)
Д. Ш. [Д. П. Шестаков] Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ.
[А. М. Скабичевский] ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ, ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Ар. Горнфелъд КРИТИКА И ЛИРИКА
В. Спасович Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ И ЕГО «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ»
Скриба [Е. А. Соловьев] Г. СПАСОВИЧ О Г. МЕРЕЖКОВСКОМ
В. Л. [В. Л. Величко]ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ.
ИЗ РУССКИХ ИЗДАНИЙ. ДВА КРАЙНИХ МНЕНИЯ О ПУШКИНЕ
КРИТИКА И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СПб., 1897.
Приложения
Е. А. Андрущенко СПУТНИКИ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО
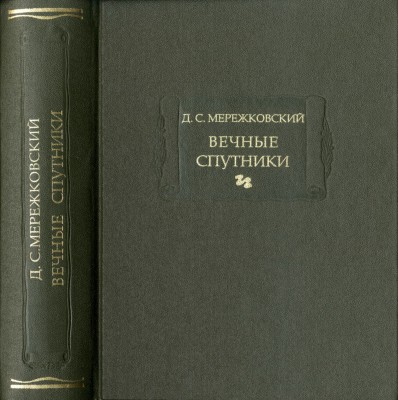
Портреты из всемирной литературы
Предполагаемое издание состоит из ряда критических очерков. Цель автора заключается не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какой‑либо стороны, течения, момента во всемирной литературе; цель его — откровенно субъективная. Прежде всего желал бы он показать за книгой живую душу писателя — своеобразную, единственную, никогда более не повторявшуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души — иногда отдаленной от нас веками и народами, но более близкой, чем те, среди кого мы живем, — на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, как представителя известного поколения. Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу по образу и подобию своему.
Несомненно, что Эсхил, Данте, Гомер для XVI века были не тем, чем сделались для XVIII, еще менее тем, чем стали для конца XIX, и мы не можем представить себе, чем они будут для XX, — только знаем, что великие писатели прошлого и настоящего для грядущих поколений будут уже не такими, какими наши глаза их видят, наши сердца их любят.
Они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели; они продолжают любить, страдать в наших сердцах как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно сохраняя кровную связь с человеческим духом. Для каждого народа они — родные, для каждого времени — современники, и даже более — предвестники будущего.
Вот почему, кроме научной критики, у которой есть пределы, так как всякий предмет исследования может быть исчерпан до конца, — кроме объективной художественной критики, которая также ограниченна, ибо раз навсегда может дать писателю верную оценку и более не нуждаться в повторениях, — есть критика субъективная, психологическая, неисчерпаемая, беспредельная по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение требуют объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения.
В этом издании собран ряд небольших очерков (появлявшихся в печати от 1888 до 1896 г.) — как бы галерея миниатюрных портретов великих писателей разных веков и народов — для русской публики в значительной мере великих незнакомцев, ибо кроме их имени русский читатель до сих пор знает о них разве по отрывкам неудовлетворительных переводов или по безличным выдержкам из курсов литературы и справочных книг.
За это соединение столь различных, по–видимому, чуждых друг другу, именно в одну семью, в одну галерею портретов могут упрекнуть автора в отсутствии систематической связи. Но он питает надежду, что читателю мало–помалу откроется не внешняя, а субъективная внутренняя связь в самом я, в миросозерцании критика, ибо — повторяю — он не задается целями научной или художественной характеристики. Он желал бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни.
Это — записки, дневник читателя в конце XIX века.
Субъективный критик должен считать свою задачу исполненной, если ему удастся найти неожиданное в знакомом, свое в чужом, новое в старом.
Д. Мережковский Ноябрь 1896 г.
Мне давно хотелось побывать в Афинах. Это была моя мечта в продолжение многих лет.
Я проехал через южную Францию в северную Италию. Недели три прожил во Флоренции. Удивительный город. Благодаря солнечному свету, чистому и нежному, благодаря воздуху, мягкому и прозрачному, о каком мы в Петербурге и понятия не имеем, все там кажется прекрасным, каждый предмет, даже самый прозаический, скульптурным. Краски — не столь яркие, как например в Неаполе или Венеции, скорее, тусклые и однообразные, но зато очертания далеких холмов, деревьев на горизонте, средневековых зданий, — каждая форма, каждая выпуклость точно из особенного драгоценного вещества. Живешь в этом солнечном свете, в этом воздухе, как в непрерывном сне.
По этому берегу мутного Арно ходил Данте Аллигиери и обдумывал «Божественную комедию»[1]. От каждого стиха мрачной поэмы веет флорентийским воздухом, на страшных описаниях «Ада» виден как будто слабый отблеск этого нежного солнца. Вот на склоне горы, среди кипарисов, вилла Пальмьери, где происходило знаменитое собрание дам и кавалеров, рассказывавших друг другу сказки во время флорентийской чумы, как о том передает веселый Боккачио в «Декамероне»[2]. Вот холм, где некогда была обсерватория Галилея. Вот дом Микель Анжело Буонаротти. Я вхожу в него, вижу его рисунки, модели и рукописи. Вот народная площадь; собор Maria del Fiore; «райские» двери крестильницы, вылитые из бронзы великим Гиберти; Венера Медичейская…[3]. Это сделал на маленьком клочке земли маленький народ. Что это были за люди — как они жили, как были не похожи на нас, сильные и свободные[4]!
Дворец Питти[5] в котором собраны самые нежные, воздушные создания кисти Рафаэля, Бартоломео, Тициана, Мурильо, Джиорджионе, весь построен из огромных кусков дикого камня, даже неотесанного. Эти люди так любили все простое, прямо вышедшее из рук природы, что боялись исказить первобытную красоту камня, обтесывая и сглаживая неровности. Глыбы нагромождены на глыбы в основании дворца, точно скалы; столь царственного здания больше нет нигде на земле. Кое–где, среди старого, грубого камня, львиные головы с открытою пастью, из которой бьет вода в мраморные бассейны… Зодчий презирает все, что искусственно и вычурно. Да, нужно быть таким простым, таким первобытно–искренним, чтобы быть великим. Чувствуется, что этот дворец выстроил себе не мелкий тиран, а сильный человек, вышедший из лона великого народа. И во всем — дух народа. Тут понимаешь, что значит не любить своего народа, какое безумие надеяться что‑нибудь создать вне его и без него[6].
Таланты, как Гирландайо или Вероккио — художники, подготовившие расцвет флорентийской живописи, — могли возникнуть и в другой стране и в другую эпоху. Но нигде в мире они не имели бы того значения, как именно на этом маленьком клочке земли, у подошвы Сан–Миньято, на берегах мутно–зеленого Арно. Только здесь у Гирландайо мог явиться такой ученик, как Буонаротти, у Вероккио — Леонардо–да–Винчи. Нужна была атмосфера флорентийских мастерских, воздух, насыщенный запахом красок и мраморной пыли, для того чтобы распустились редкие цветы человеческого гения. Как будто мрачный и пламенный дух неукротимого народа долго томился в своей немоте, искал воплощения и не мог найти. Он едва брезжит, как бледная полоска в утренних тучах, — в больших глазах еще иконописных, полувизантийских мадонн Чимабуэ, он проясняется в реализме Джиотто, сияет уже ярким светом у Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется в религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдруг, наконец, как молния, все озарить — в Микель–Анжело и Леонардо–да–Винчи. Какое торжество для народа! Отныне флорентийский дух нашел себе полное выражение, неистребимую форму. Вокруг могут происходить всевозможные перевороты, все может рушиться: Флоренция Возрождения сама себя нашла, она бессмертна, как Афины Перикла, как Рим Августа. Я узнаю резец Донателло в отчеканенных, металлически звучных терцинах Аллигиери. На всем печать свободного флорентийского духа. Он чувствуется в самых ничтожных подробностях архитектуры: в прекрасных чугунных грифонах, которые вбиты в камень на уличных перекрестках по углам палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Так, в двустишии греческой эпиграммы я узнаю дух Гомера, в обломке мрамора, наполовину скрытом мхом и землею, — стиль ионической колонны. На всех созданиях истинно великих культур, как на монетах, отчеканен лик одного властелина. Этот властелин — гений народа.
Чем больше я всматривался в создания Renaissans’a, тем более чувствовал, что невозможно проникнуть в дух нового человека, не побывав в Греции, не увидев собственными глазами воплощение древнего эллинского духа. Он лежит как глубочайшая, иногда бессознательная, основа во всем, что творят истинно–прекрасного и вечного художники новых времен. Есть греческое спокойствие и совершенная чистота линий в мадоннах Рафаэля, который считал греков своими учителями. В библиотеке Лаврентия Медичи я встретил рядом с древними рукописями Данте и Петрарки «Энеиду» Виргилия на пергаменте VI века. Недаром божественный Виргилий — спутник Данте в Аду средних веков[7]. Когда я смотрел на бронзовые двери крестильницы и любовался воздушными, чисто эллинскими складками туник древнебиблейских женщин в сценах из «Пятикнижия» Моисея, мне вспомнилось невольно то, что я видел раньше в Помпейских картинах. В бронзе Гиберти — та же древняя грация, полнота жизни и спокойствие, как в обнаженном теле юноши Давида у Микель–Анжело, в его Леде и Вакхе[8]. И тот же отблеск эллинской музы в терцинах Данте. Всюду во Флоренции неотступное воспоминание о ней. Что же люди создали там, на клочке каменистой, бесплодной аттической земли? Почему народы через двадцать веков после торжества христианской проповеди, уничтожившей Олимп, не могут забыть о веке Перикла? Что там было? Я понимал, что никакими книгами, никакими словами нельзя передать эллинского духа. Должно быть, то же чувство, непреодолимое и священное, влекло средневековых пилигримов в Иерусалим, которое теперь влечет меня в Акрополь…[9].
Несмотря на все мои ожидания, а может быть, именно благодаря им, Адриатическое море на меня не произвело особенного впечатления — море как море.
Так бывает почти всегда: когда приближаешься к тому, чего слишком долго и сильно желал, сердцем овладевает непонятная грусть и разочарование. И я смутно начинал бояться, что Афины не дадут мне того, чего я ожидал.
Впечатление от моря не сравнимо ни с чем и всегда ново. Нельзя налюбоваться изменчивостью и постоянством «свободной стихии». Каждое мгновение она принимает новые оттенки, у нее нет мертвенной неподвижности гор: она живет. И вместе с тем от первого дня творения и до последнего море остается таким, как было — оно неизменно.
В природе нет ничего величественнее простой черты горизонта там, где вода сливается с небом. Все другие, более сложные линии и очертания на земле, как бы они ни были прекрасны, кажутся ничтожными перед этим величайшим доступным для людей символом бесконечности.
Но в этот раз — не знаю почему — сердце мое оставалось холодным. Я искал прежних впечатлений от моря и не находил. Мне казалось, что я еду по какой‑то гигантской географической карте. Кое–где мелькали, выплывая из моря и потом опять погружаясь в него, воздушно–голубые острова Архипелага.
Я затаил в душе моей сомнения относительно Греции.
С этим сомнением переправился я с парохода в маленький городок Корфу. В первый раз в жизни я ступил на эллинскую землю. Меня встретили довольно противные лица туземцев, пыль, вонь и жара. Пошли непонятные драхмы, лепты и оболы вместо понятных и благородных франков. Я сразу почувствовал, что из Европы попал в Азию, но не в настоящую дикую Азию, а в полу культурную, т. е. самую неинтересную. Черномазые греки напоминали мне петербургских продавцов губок в Гостином дворе. Солнце палило несносно. Я чихал и кашлял от белой, знойной пыли и был рад, когда опять выехал в открытое море, и вольный ветер освежил мое лицо. Говорили, что в Афинах будет еще жарче. Я смотрел уже с глубоким равнодушием на берега Эллады. Промелькнул очаровательный остров Зантэ. Теперь, глядя на серое небо Петербурга, я с нежностью и печалью повторяю это имя…
Мы приближались к обрывистым скалам Морей, где была Спарта, древний Лакедемон. Обогнули знаменитый, страшный древним мореплавателям мыс Матапан — самую южную точку Европы.
— «Завтра я увижу Афины», — сказал я себе, ложась на койку, и заснул с безмятежным равнодушием.
Рано утром, выйдя на палубу, я увидел амфитеатр спускавшихся к морю гор и холмов с легкими очертаниями. Это были берега Аттики.
Я посмотрел в бинокль на выходивший как будто из самого моря остроконечный холмик. На его вершине что‑то неясно мелькало.
Стоявший рядом со мной австриец произнес: «Акрополь».
Сердце мое пробудилось в первый раз после отъезда. Но я тотчас же победил волнение. Мне почему‑то нравилось мое равнодушие.
Соленая влага пенилась и шумела. Мы въезжали в огромный залив; в тумане подымались обрывистые горы Коринфского перешейка. Вот Саламин, вот мыс Сапиум, где до сих пор сохранились дивные колонны храма Паллады.
Мне иногда казалось, что все это я вижу во сне.
К десяти часам утра мы въехали в Пирей. Помню, еще мальчиком я повторял с восторгом стихи А. Н. Майкова:
…Беги со мною!..
…Уйдем скорей!..
Возьмем корабль! летим стрелою
К Афинам, в мраморный Пирей
Там все иное — люди, нравы!
Там покрывал на женах нет!
Мужам поют тут гимны славы,
Там воля, игры, жизнь и свет!..[10]
И мы въехали в Пирей. Самая прозаическая торговая гавань. Уродливые железные броненосцы, закоптелые от каменноугольного чада торговые пароходы, конторы, бюро, агентства, громадные сараи. Ни кустика, ни травки, ни садика на выжженных, печальных холмах. Из фабричных труб валит черными клубами дым, уносясь в бледно–голубое аттическое небо. Визжат блоки, грохочут цепи и машины. Вот он — «мраморный Пирей»!
Я нанял лодку и отправился на берег. Утреннее солнце жгло беспощадно. Что будет в Афинах? Ступив на пыльную набережную, я почувствовал отчаяние.
Никогда в жизни я не испытывал такой жары. Казалось, что огромная тяжесть навалилась на голову и плечи. В ушах шумело и ноги подгибались. Для нас, северных людей, в таком солнце есть что‑то лютое, почти страшное. Я понял здесь, что у Гелиоса–Аполлона стрелы могут быть смертоносными.
В душном вагоне железной дороги, соединяющей Пирей с Афинами, казалось не то что прохладнее, а возможнее дышать.
Наконец я вышел на грязный, зловонный вокзал в Афинах.
Нас окружили бесчисленные гиды, от которых невыносимо пахло чесноком. Мы кое‑как от них отделались. Я не взял ни одного, чем привел в негодование всех.
Мы влезли в огромную, дребезжащую колымагу вроде кареты, запряженную отвратительными клячами. В это время года (в конце мая) в открытых экипажах здесь нельзя ездить без некоторой опасности солнечного удара.
Кажется, если бы я увидел теперь не только Акрополь, но собрание олимпийских богов, я бы остался бесчувственным и разве попросил бы бога–тучегонителя затмить это солнце.
После долгих криков, понуканий, хлопанья бича мы, наконец, взобрались на холм по крутой, обрывистой дороге. Колымага остановилась. Кучер отворил дверцы, и мы вышли.
Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял — скалы Акрополя, Парфенон, Пропилеи[11], и почувствовал то, чего не забуду до самой смерти.
В душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. Смешной заботы о деньгах, невыносимой жары, утомления от путешествия, современного, пошленького скептицизма — всего этого как не бывало. И — растерянный, полубезумный — я повторял: «Господи, да что же это такое».
Вокруг не было ни души. Сторож открыл ворота.
Я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным, как никогда. Под отвесными лучами солнца надо было подниматься по раскаленной каменной лестнице между раскаленными стенами. Но это были те самые ступени, по которым шествовали в Акрополь Панафинейские праздничные феории[12].
И, когда двери закрылись, мне показалось, что все мое прошлое, все прошлое человечества, все двадцать болезненных, мятущихся и скорбных веков остались там, позади — за священной оградой, и ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии и вечного покоя. Наконец‑то настало в жизни то, для чего стоило жить! И странно: как во всех важных, единственных обстоятельствах жизни мне казалось, что я все это уже где‑то и когда‑то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах. Я смотрел и вспоминал. Все было родным и знакомым. Я чувствовал, что так и должно быть и не может быть иначе, — ив этом была радость.
Я всходил по ступеням Пропилей, и ко мне приближался чистый, девственный, многоколонный на пыльной побледневшей лазури полуденного неба, несказанно–прекрасный — Парфенон…
Я вышел, сел на ступени портика под тенью колонны. Голубое небо, голубое море и белый мрамор, и солнце, и клекот хищных птиц в полдневной высоте, и шелест сухого колючего терновника. И что‑то строгое и сурово–божественное в запустении, но ничего печального, ни следа того уныния, чувства смерти, которое овладевает в кирпичных подземельях палатинского дворца Нерона[13], в развалинах Колизея. Там — мертвое величие низвергнутой власти. Здесь — живая, вечная красота. Только здесь, первый раз в жизни, я понял, что такое — красота. Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался — я был спокоен.
Вольный ветер с моря обвевал мое лицо и дышал свежестью.
И не было времени: мне казалось, что это мгновение было вечным и будет вечно.
Я обошел Акрополь, маленький храм богини Nike Apterae («Бескрылой Победы»), Эрехтейон с девами–кариатидами[14], Парфенон, Пропилеи.
Я смотрю на гладкую, совершенно голую стену в Пропилеях. Кажется, что может быть красивого в голой стене? Но четвероугольные продолговатые куски мрамора так нежно отполированы, так гармонично расположены, что и здесь вы чувствуете печать эллинского гения. Солнечный свет как будто проникает мрамор насквозь, и ничто не может сравниться с голубою, легкою тенью, которая углом ложится от соседней стены на мраморную поверхность.
Здесь, над крутым обрывом, откуда виднеется море и свидетель эллинской славы — остров Саламин, возвышается маленький храм Победы. Греки назвали ее Бескрылой — в знак того, что она должна вечно оставаться в Афинах. Храм Нике миниатюрный по внешним размерам: он едва ли больше, чем средняя комната в наших современных домах. Но какая стройность! Великое в малом. Вот что отличает греческую архитектуру от римской, от средневековой. Римляне действуют внешней грандиозностью, подавляющими размерами своих зданий. Но у них под плитами мрамора — кирпич. Развалины римских зданий производят впечатление огромных, мрачных остовов. В Акрополе ни одного кирпича. Вы ступаете на белую мраморную пыль. Под ногами искрятся и хрустят, как снег, обломки пентеликонского камня…[15]. Здесь не утоляет зрение. Надо ощупывать каждую выпуклость мрамора, пожелтевшего от древности, золотистого, пропитанного солнечным светом, теплого, как живое тело. Не верится, чтобы человеческие руки могли создать Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон. Они сами вышли из недр земли по законам божественным, не человеческим. Недаром кругом на выжженных холмах и равнинах ни дерева, ни кустика. Вместо деревьев из каменистой земли под знойным солнцем Аттики выросли эти белоснежные колонны и увенчали красноватые глыбы Акрополийского утеса. Кругом ни одного зеленого листика. И не надо деревьев.
В Эрехтейоне я наклонялся к некоторым обломкам, покрытым мелкими, сложными арабесками. Я хотел узнать, нет ли малейшей неточности резца, случайной небрежности. Но чем ближе всматривался я, тем больше понимал, что совершенству нет пределов. В какой‑нибудь мелочи, которой надо любоваться чуть ли не в лупу, в мраморном завитке, в мэанд1 & ° ° ре, в коринфскои пальмовой ветке — такая же непогрешимая точность, законченность и гармония, как в очертаниях целого.
И все это, кажется, без труда, само собою вышло из рук ваятеля. Твердый, белый камень, над которым пролетели 2,000 лет, не тронув его красоты, под резцом художника мягче воска, нежнее только что распустившихся лепестков лилии.
Люди здесь к природе не добавили ничего своего. Красота Парфенона и Пропилеи — только продолжение красоты моря, неба и строгих очертаний Гимета[16] и Пентеликона. В северных зданиях люди уходят от природы, не доверяют ей, прячутся в таинственный полумрак между стрельчатыми колоннами, пропускают солнечный луч сквозь разноцветные стекла, зажигают перед страдальческими ликами угодников тусклые лампады, заглушают звуки жизни звуками органа и покаянным воплем.
Dies irae, dies ilia,
Solvet saeclum in favilla [17] .
А здесь, в Элладе, человек отдается природе. Он не хочет, чтобы здание скрывало ее. Вместо крыши в Парфеноне — небо. Между белыми колоннами — голубое море. И всюду солнце. Нет уголка, откуда не виднелась бы даль. Воздух, солнце, небо, море — вот материал в руках зодчего. Простые, умеренные, спокойные линии мрамора — то отвесные, то поперечные — служат ему для того, чтобы яснее ограничить, окружить рамкою, выделить в природе то, что человек считает в ней прекрасным и божественным. Перенесите Акрополь в другое место, в другой пейзаж, и следа не останется от его красоты. Здесь полная, никогда уже более не повторявшаяся гармония между творениями рук человеческих и природою: величайшее примирение этих двух от вечности враждующих начал — творчества людей и творчества божественного. Согласно с природою! Вот основа и вдохновение всей греческой архитектуры.
В портике между двух колонн я вижу море. Разве я и раньше не видал его? Но я никогда не знал такого моря. Между колоннами оно так же, как небо, и горы, и солнечная даль, принимает какой‑то новый смысл — эллинское выражение. Это уже вовсе не та практически–утилитарная «водная поверхность», по которой ходят железные броненосцы и современные торгово–промышленные пароходы, это вечная QaXacca*, лазурная, кипящая влага, из которой вышла Венера–Анадиомена, богиня красоты[18].
Так в Парфеноне, с грустью вспоминая нашу скучную жизнь, я думал: мы больше не умеем творить согласно с природою. Вот уже двадцать веков, как мы отошли и отреклись от нее. Безумные, бессильные! Чего мы ищем? Куда идем? Что поселило в нашем сердце смятение, недоверие к природе, страх перед жизнью и перед смертью? Нет у нас в душе ни героизма, ни счастия. Мы гордимся нашими знаниями и теряем образ человеческий, становимся подобными варварам среди унылой и нелепой роскоши, среди грандиозных изобретений современной техники; мы одичали в наших безобразных гигантских городах — этих твердынях из камня и железа, воздвигнутых против стихийных сил природы…
Только здесь, в Акрополе, понимаешь, что значит дух свободного, великого народа.
Все, что мы разделяем так мучительно и упорно; все, что доводит нас до невыносимых противоречий — небо и земля, природа и люди, добро и зло, сливалось для древних в одну гармонию. Творчество художника было высшим подвигом, и подвиг героя — высшей степенью красоты. Это — два откровения одного начала. Единое в единой душе человека.
Неужели нам нет спасения и противоречия нашего ума и сердца неразрешимы? Неужели не суждено людям повторить того, что здесь было, и никогда новый Парфенон не будет создан новым эллином, богоподобным человеком на земле?
Я пишу эти строки осенней ночью, при однообразном шуме дождя и ветра, в моей петербургской комнате. На столе у меня лежат два маленьких осколка настоящего древнего камня из Парфенона. Благородный петеликонский мрамор все еще искрится при свете лампы… И я смотрю на него с суеверной любовью, как благочестивый паломник на святыню, привезенную из далекой земли.
Кто написал эту удивительную поэму или роман, представляющий маленький, замкнутый, ни на что другое не похожий мир — произведение, так одиноко стоящее не только в древне–греческой, но и во всемирной литературе? Из какой почвы, из какой среды, из какого быта и эпохи вырос этот редкий, даже по–видимому, единственный, нежный до болезненности и все‑таки свежий цветок поздней эллинской культуры? Или короче — когда, кем и при каких условиях написана поэма «Дафнис и Хлоя», которая начиная с XVI века приобрела популярность во всех европейских литературах и о которой, однако, нигде, ни одним словом не упоминается ни у греческих, ни у римских, ни у позднейших византийских авторов?
К сожалению, на все эти интересные вопросы история литературы не дает никакого удовлетворительного ответа. На книге стоит ничего не говорящее имя автора — Лонгус. За этим именем, — может быть, псевдонимом, — скрывается тайна, которую, вероятно, не суждено осветить никакими литературными исследованиями. Высказывают предположение, что поэма написана не ранее II века, т. е. приблизительно эпохи Марка Аврелия, и не позже IX, т. е. в те мрачные времена, когда государство уже предписывает разрушать и низвергать неподражаемые создания олимпийского многобожия. Промежуточные семь столетий — весьма и даже слишком широкое поле для всяких догадок и более или менее остроумных гипотез.
За недостатком внешних указаний мы принуждены обратиться к самому произведению, чтобы посмотреть, нет ли в нем каких‑либо внутренних указаний и свидетельств, по которым можно бы судить об условиях его возникновения. Но и здесь наша надежда будет в значительной мере обманута. Поэма будто нарочно задумана так, чтобы нельзя было определить с историческою точностью время действия: пастушеский роман, в котором, несмотря на некоторые внешние фантастические подробности, много смелого натурализма, представляет совершенный и самодовлеющий круг, из которого во внешний исторический мир почти нет выходов. Автор избегает намеков на эпоху, когда происходит действие поэмы. Кажется, что он хочет сам забыть о времени, о своем времени, — быть может, об одном из тех безнадежных, душных и гнетущих времен, когда люди прежде всего ищут в поэтическом вымысле сладости и забвения. Вот почему он как будто убаюкивает нас, неуловимо и безболезненно отрешает, отрывает от вечно–жестокой и оскорбительной действительности и, как волшебник, заманивает, все глубже и глубже втягивает в заколдованный круг пастушеской поэзии, сладкой и легкой, как сон.
С бытовой точки зрения то, что происходит в «Дафнисе и Хлое», могло происходить и в эпоху афинской гегемонии, и македонского владычества, и римского завоевания, и в позднейшие времена упадка императорского Рима, и даже на самом рубеже византийского христианства. Таково свойство древней культуры, что главные социальные устои жизни, как напр, рабство, прикрепощенность сельского жителя к земле, муниципальная автономия отдельных городов, остаются почти неизменными и неподвижными в течение многих столетий.
Но, с другой стороны, чем внимательнее рассматриваешь поэму, тем очевиднее становится, что это — произведение поздней, утонченной культуры, что оно написано не эллином, а эллинистом, т. е. человеком, для которого Эллада — веселие, полнота и прелесть языческой жизни, языческого духа являются уже не действительностью, а призраком; не настоящим, а более или менее далеким прошлым; не тем, что есть, а тем, что было и должно быть. Именно такой, т. е. неизъяснимо–печальною, и чем более печальною, тем более прекрасною, как бы озаренною мягким светом вечернего солнца, являлась Эллада Филострату, Либанию и другим сотоварищам великого, непонятого императора — того, кто в IV веке уже дерзнул сделать попытку эллинского Возрождения. Я разумею Флавия Клавдия Юлиана, которого злорадные византийцы хотели заклеймить, а на самом деле украсили — как бы темным венцом увенчали — прометеевым именем «Отступник». Быть может, один из этих эллинистов, окружавших Юлиана, один из этих утонченных и одиноких мечтателей, безнадежно влюбленных даже не в бездыханное тело, а только в прекрасную тень умершей Эллады, создал нежное, грустное видение пастушеской любви Дафниса и Хлои — двух невинных детей, покинутых в уютном уголке блаженного Лезбоса. Не оттого ли, когда читаешь поэму, в душе возникает такая томительно–сладкая грусть, что невольно думаешь: этой красоты нет, или уже нет на земле, и кто знает, будет ли она еще когда‑нибудь? Невольно чувствуешь, что сам автор не верит в действительность и возможность того, что изображает, а если и верит, то все‑таки не так наивно, как например Гомер — в мужество Гектора, верность Пенелопы. Поэт убаюкивает нас, но не до конца; заставляет поверить в правду и счастье простой человеческой любви, но не совсем. Беспокойство и недоверие, о котором он, впрочем, не упоминает ни словом, остаются в его душе и в нашей, и, быть может, эта тревога тем сильнее и мучительнее, что она — безмолвная. Так иногда бывает, когда заснешь с тяжелым горем на сердце: сквозь сон, как бы он ни был сладок и тих, чувствуешь смутно горечь действительной жизни, как будто сквозь легкую ткань прощупываешь холод скрытого лезвия.
«Умер, умер Великий Пан!» — этот вопль уже прозвучал из края в край по всей опечаленной и потемневшей земле богов, по волнам, омывающим светлый берег Лезбоса. С пустынного холма Палестины, от позорного орудия римской пытки — двух деревянных перекладин, положенных крест на крест, протянулась такая черная и длинная тень по всему миру, что от нее нельзя уже спастись и в самом теплом солнечном уголке блаженного острова.
Но для нас, людей XIX века, ожидающих в сумерках нового, еще неведомого солнца, предчувствующих, что Великий Пан, умерший пятнадцать веков тому назад, скоро должен воскреснуть, тихая грусть поэмы Аонгуса делает ее особенно близкой, понятной и пленительной.
Они — эти странные, одинокие и утонченные эстетики, риторы, софисты, гностики IV века — люди глубоко–раздвоенные, люди прошлого и будущего, только не настоящего. Дерзновенные в мыслях, робкие в действиях, они стоят на рубеже старого и нового. Они — люди Упадка и вместе с тем Возрождения; в одно и то же время гибнущие, доводящие утонченность дряхлого мира до болезни, до безумия — и возрождающиеся, предрекающие знаменьями и образами то, чего нельзя еще сказать словами. Тогда именно, около IV века, александрийскими неоплатониками и эллинистами, окружавшими Юлиана «Отступника», — с одной стороны, и такими великими учителями церкви, как Василий, Григорий Назианзин и позже Иоанн Златоуст, — с другой, была сделана грандиозная, слишком ранняя попытка гармонического слияния древнего олимпийского и нового галилейского начала в одну, еще неиспытанную и невиданную культуру, — слияния, о котором уже мечтал Климент Александрийский. Эта попытка IV века не удалась. Но она была повторена в Италии через тысячелетие, причем сущность Возрождения (Rinascimento) осталась та же в XV веке, как в IV и V. Сущность эта заключается в наивном или преднамеренном сопоставлении двух начал — христианского и языческого, Голгофы и Олимпа, — в страстной, хотя и неутолимой жажде разрешить это противоречие. И в XV и XVI веках так же, как в IV и V, попытка Возрождения не удалась — противоречие эллинства и христианства не было разрешено, примиряющая гармония двух начал не была найдена. Чрезмерные надежды наивных кватрочентистов не оправдались, и первые лучи восходящего солнца потухли в душном, кровавом сумраке — в церковной инквизиции второй половины XVI века, в холодной академичности XVII.
К сожалению, до сих пор не найдены законы этих исторических волн, этих перевалов — периодических спусков и подъемов человеческого духа, неизменно следующих друг за другом. Но даже простой эмпирический взгляд открывает в них общие, глубоко родственные черты, повторяющиеся и в IV веке, и в XV: в такие эпохи каждый раз выступают все яснее две силы, два течения, два начала, вечно враждебные друг другу и вечно стремящиеся к новым примирениям, к новым неведомым сочетаниям. Не только в главном, но и в самых мелких подробностях, века Возрождения иногда поражают нас удивительными сходствами: как будто из народа в народ, из тысячелетия в тысячелетие братские голоса перекликаются и подают друг другу весть, что странники идут по одному пути, к одной цели, через все исторические перевалы, через все долины и горы.
Чтобы вернуться к «Дафнису и Хлое», я укажу на это удивительное сочетание порочного с целомудренным, болезненно–утонченного с наивным, чистым, робким, как самое раннее, даже еще не душистое, а только свежее веяние весны. И то же самое своеобразное сочетание нового и старого, которое придает неподражаемую прелесть пасторали IV века, повторяется в произведениях итальянских художников XV века — в детски–наивных и соблазнительных картинах, быть может, величайшего из ранних кватрочентистов — Сандро Боттичелли. В его Primavera[19] так же, как и «Дафнисе и Хлое», невинная игра любви и величайшее целомудрие граничат с опасным и утонченным соблазном. Что может быть чище и девственнее грациозных пляшущих нимф, обвитых воздушными туниками, или пастушков, не знающих даже имени любви? Но вы невольно чувствуете, что если герои еще и не знают любви, то поэт уже слишком хорошо, слишком безнадежно познал, что такое любовь. Быть может, нет книги более сладострастной, чем «Дафнис и Хлоя», так же, как нет картины более сладострастной, чем рождающаяся из моря Венера Боттичелли. А между тем и здесь, и там — какая весенняя, непорочная свежесть, какое незнание греха, какое целомудрие! Но неопытные игры в любовь у Лонгуса, грустные, как будто заплаканные очи средневековой Афродиты у Боттичелли, более обольстительны, чем грубая и откровенная нагота Тициана или Рубенса, чем буржуазная, добродетельная чувственность Ариосто или Боккачио. Как будто поэт IV века и живописец XV соблазняют, предлагая нам вкусить от запретного плода новой красоты, нового греха, оставаясь сами невинными. Но иногда спрашиваешь себя, действительно ли эти художники весенних целомудренных игр так невинны и простодушны, как желают казаться? Быть может, они и сами уже отравлены ядом, которым хотят отравить наше сердце.
Вот в чем трагизм таких людей, как Лонгус и Боттичелли. У них нет настоящей силы, которая позволила бы им преодолеть зародыши тлена и упадка и достигнуть горных вершин Возрождения; у них нет того дерзновения, которое создает героев–художников, истинных пророков новой жизни. Эти первые ранние обольстители сами боятся своих, по–видимому, невинных, на самом деле опасных и глубоких созданий. Они грешат, чтобы раскаяться; они не выдерживают до конца и отступают. Так, Боттичелли раскаялся, услышав громовой, страшный голос доминиканца[20], и вернулся от Афродиты, выходящей из пены морской, к плачу постаревшей от горя Марии–Девы над гробом Спасителя. Кто знает, может быть и автор «Дафниса и Хлои», как многие в те времена, покаявшись, под черной одеждой византийского монаха с угрызением вспоминал о книге, которую написал во дни своей языческой молодости на зло «галилеянам» и которая через много веков должна была воскреснуть, чтобы соблазнять наши сердца своей неувядаемой целомудренно–грешною прелестью.
Не надо забывать, что Дафнис и Хлоя — не настоящие пастухи и поселяне, какими они кажутся, а дети городских, богатых родителей. Конечно, сельская жизнь очистила, укрепила их, вернула их душу к первобытной ясности, сделала более здоровыми и способными к простой, естественной и вместе с тем божественной любви. Но все‑таки даже здесь — в природе, наследственный опасный яд поздней культуры остался в их крови, и он беспрестанно проявляется в их чрезмерной, почти болезненной чувствительности. Она облагораживает их страсть, углубляет и одухотворяет, но вместе с тем лишает всякой силы, всякого мужества. Дафнис — мужчина только телом, не духом: кожа у него темнее, мускулы крепче, но по характеру он такая же девушка, как Хлоя. В его действиях, так же как во всем романе, нет ни одной черты героизма. Он не выносит вида вооруженных людей. В опасности только плачет, молит или дрожит. От врагов убегает, как трусливый ланенок, как овцы Хлои, прячется в дупле старого бука, даже забывает о судьбе своей подруги. И потом, при каждом удобном случае, он плачет, заливается слезами, как девушка, от любви, от горя, от радости. Когда, после долгой разлуки, Дафнис встречается с Хлоей, он едва держится на ногах, едва не падает в обморок. И у Хлои такая же изнеженная чувствительность городской утонченной культуры, несмотря на то что она одевается не в пурпур, а в овечий мех, ест грубый хлеб, пьет козье молоко, смешанное с вином и диким медом. У нее нет и следа женской силы, женского упорства и бесстрашия в любви. Она даже не ревнует, не возмущается, не восстает при мысли, что Дафнис может ее разлюбить, а только умирает с беспомощной покорностью, в тихом отчаянии, как нежное растение увядает от холода. Они оба не выносят никакого страдания, и каждое прикосновение жизни к их обнаженной, беззащитной и страстной душе почти смертельно. Если бы Нимфы, Пан и Эрот немного меньше заботились о них, эти слишком прекрасные, робкие дети неминуемо должны бы погибнуть. С таким безоружным и покорным сердцем нельзя жить, нельзя любить в этом мире. Ум, сердце, воля — все существо их изнемогает, тает от любви, как мягкий воск. И жало страсти, которую они, бедные и невинные, даже не умеют назвать, проникает в их душу и уязвляет с пронзительной болью и наслаждением, подобным смерти. Они не сопротивляются, только молятся и плачут, отдаваясь этой дикой силе, и она поглощает их, уносит, как весенний поток уносит лепестки цветов. Настоящие эллины так не любили, так не страдали. Там надо всем веет благодатное дыхание Рока, свежее и грозное. Там и на самой нежной любви — у Антигоны, у Алькестис[21] — печать героизма, суровости и величия.
Когда Федра или Медея вопят об оскорбленной, ревнивой страсти, то в этом вопле слышится львиное рыкание, от которого даже сердца героев трепещут. Страшно, когда эти жены титанов кричат от любви или молчат, замышляя в сердце недоброе, но еще страшнее, когда они, обманывая и притворяясь побежденными, плачут: в эллинских трагедиях слезы жен предвещают кровь мужей.
В поэме Лонгуса священный огонь древнего эллинского героизма потух. Вот они — последние потомки сильных мужей, создателей «Скованного Прометея», победителей при Марафоне[22], — влюбленные слабые дети, пастушок и пастушка на острове Аезбос. Вместо ледяного блеска горных вершин, вместо укрепляющего дыхания грозы — только благовоние ядовитых цветов, только нега и зной. Я почти готов сказать, что в этом детском и беспомощном смирении, в этих слишком частых молитвах и слезах, в этом постоянном вмешательстве слишком добрых и доступных богов, в этом безоружном терпении и кротости Дафниса и Хлои есть уже что‑то совсем наше, непонятное и враждебное истому греку, что‑то христианское и средневековое. Чрезмерная, как будто лихорадочная чувствительность, сложная психология любви, впоследствии — в эпоху рыцарских нравов и нового мистицизма, будут увеличены, доведены до последних пределов провансальскими трубадурами и через Vita Nuova Данте, через томные вздохи и слезы о Лауре, через сентиментальную идиллию Новой Элоизы[23] переданы XIX веку в его психологический, любовный роман. Если бы Лонгус мог прочесть то, что я о нем пишу, он, вероятно, очень удивился бы и, если бы понял, сказал, что в его произведении нет ничего подобного, что он желал только написать пастушескую идиллию во вкусе Феокрита, обычный для того времени роман с памятными знаками, с покинутыми и найденными детьми. И автор был бы в значительной мере прав: я до сих пор еще не касался здорового, крепкого ядра поэмы; а такое ядро, истинно эллинское, неистребимое временем, сочное и свежее, несомненно есть в поэме.
Гёте, отличавшийся такой вещей проницательностью, вовсе не замечал или по крайней мере не хотел заметить болезненной утонченности слишком поздней культуры, мягкости и сладости чересчур зрелых, осенних плодов, глубоко скрытой двойственности в «Дафнисе и Хлое». Вот отрывок из его разговоров с Эккерманом:
«Воскресенье, 20 марта 1831.
Сегодня Гёте за обедом сказал мне, что на днях перечел „Дафниса и Хлою”.
— Поэма так хороша, — сказал он, — что в наши скверные времена нельзя сохранить в себе производимого ею впечатления и, перечитывая ее, изумляешься снова. В ней все освещено ясным солнечным светом, и кажется, будто видишь картины из Геркуланума; равно эти картины оказывают обратное действие на книгу и при чтении приходят на помощь фантазии.
— Мне нравится известная замкнутость, выдержанная в поэме, — сказал я (т. е. Эккерман). — Почти нет чуждых намеков, которые выводили бы нас из счастливого круга. Из богов действуют только Пан и Нимфы, другие едва упоминаются, и ясно, что потребности пастухов ограничиваются этими божествами.
— И однако, несмотря на значительную замкнутость, — сказал Гёте, — перед нами раскрывается целый мир. Мы видим всякого рода пастухов, земледельцев, садовников, виноградарей, корабельщиков, разбойников, воинов и именитых граждан, важных господ и рабов.
— Мы видим также людей на всех жизненных ступенях от рождения до старости; равно перед нашими глазами проходят различные домашние занятия, которые приносят с собой переменяющиеся времена года.
— А ландшафт! — сказал Гёте, — он немногими чертами обозначен так ясно, что позади действующих лиц мы видим: вверху виноградники, нивы, плодовые сады, внизу луга с речкой и небольшой рощей, а вдали расстилается море. И нет следа пасмурных дней, тумана, облаков и сырости; всегда голубое, чистое небо, приятный воздух и постоянно сухая почва, где можно лечь без одежды. Вся поэма, — продолжал Гёте, — свидетельствует о высоком искусстве и образованности. Она так обдумана, что в ней нет ни одного недостающего мотива, и все они как нельзя более основательны: например, клад, найденный на берегу моря в гниющем трупе дельфина. И какой вкус, какая полнота и нежность чувства! Их можно сравнить с лучшим, что только было написано. Все отвратительное, вторгающееся извне в счастливую область поэмы, как то нападение, грабеж и война, всегда рассказано самым кратким образом и не оставляет почти никакого следа. Порок является вследствие влияния горожан, и притом не в главных лицах, а в аксессуарных. Все это первостепенные красоты.
— И еще, — заметил я, — мне очень понравилось, как рисуются отношения между господами и слугами. Первые обходятся по–человечески, а последние, при всей наивной свободе, почтительны и желают всемерно угодить своим господам. И молодой горожанин, которого Дафнис возненавидел за предложение противоестественной любви, — и тот, когда Дафнис признан сыном господина, старается снова снискать его милость, отнимая у коровьих пастухов похищенную Хлою и возвращая ее ему.
— Во всем этом виден большой ум, — сказал Гёте, — прекрасно также, что Хлоя до конца романа сохраняет невинность и любящиеся не знают ничего лучшего, как, раздевшись, спать друг подле друга; все это к тому же так отлично мотивировано, что при этом говорится о величайших человеческих делах. Требуется написать целую книгу, чтобы как следует оценить все достоинства этой поэмы. Следовало бы ее перечитывать раз в год, чтобы поучаться из нее и вновь чувствовать впечатления ее большой красоты»[24][25].
Итак, «великий язычник» смотрит на поэму как на одно из безупречных созданий эллинского духа. Он говорит о «Дафнисе и Хлое» почти так же, как мог бы говорить о произведении Гомера и Софокла. Он не видит ни одной тени, ни одного недостатка в этой классической книге, в которой он советует нам — и не без глубокого основания — «искать поучения», т. е. высшей мудрости Эллинов. Но, оценивая отзыв Гёте, не следует забывать об одной удивительной особенности этого человека, подобного которому природа, может быть, никогда не создавала: душа его обладала способностью вбирать, впитывать в себя из жизни только свежее и светлое, только здоровое и прекрасное, извлекать даже из ядовитых цветов только чистейший нектар. Об остальном он умалчивал, не замечал или не удостаивал заметить. И эту естественную способность он увеличил эстетическою и нравственной дрессировкой, укрепил величайшим самообладанием и привычкой поддерживать себя постоянно в хорошем и бодром настроении, в свежем здоровье духа и тела. К старости он достиг в этом отношении редкого совершенства, не чуждого, однако, некоторой окаменелости. Он не допускает в свой обиход ничего темного, тревожного и двусмысленного, ничего, что могло бы возмутить его божественное спокойствие, купленное ценою таких страшных усилий и борений, ничего, что могло бы нарушить его олимпийскую гигиену. Замечательно, что даже Эккерман своим неумным, бестактным замечанием о благородных отношениях рабов и господ, т. е. крепостных и помещиков, в поэме Лонгуса не вызвал Гёте на возражения, не вывел его из терпения. Вообще здесь должно сказать, что, помимо всех своих других несомненных достоинств, книга Эккермана отличается и таким, которого почтенный автор вероятно не подозревал. Она учит нас, с каким трогательным терпением гениальные люди умеют переносить человеческую глупость и даже пользоваться ею для своих возвышенных целей: ибо воистину нужно было героическое терпение Гёте, чтобы так благодушно переносить те глупости и пошлости, которыми Эккерман осыпает своего великого покровителя.
Но если бы у Гёте был другой, более проницательный собеседник, то он мог бы, заведя речь именно об отношениях господ и рабов в поэме, указать на некоторые зловещие тени, свидетельствующие, впрочем, не о промахах автора, а лишь о том, что это — не произведение цветущей эпохи, а поздней, склоняющейся к упадку и вырождению культуры, что, кажется, Гёте не хотел принять в расчет.
Сначала мы не замечаем, но по мере движения и развития поэмы все с большей и большей ясностью чувствуем, что Дафнис и Хлоя — не свободные люди, а рабы, крепостные богатого помещика. Вовсе не поверхностной и мимолетной, а, напротив, страшной и глубокой в своей наивности кажется мне та сцена, когда образованный и добрый юноша Астил, брат Дафниса, соглашается подарить хорошенького пастушка своему развратному нахлебнику для удовлетворения его противоестественной похоти. С каким легким сердцем они говорят об этом, как шутят, как смеются! Астил отдает Дафниса блюдолизу в награду за несколько смешных и льстивых слов, как отдают собаку или вещь. Здесь чувствуется возможность ужасающей трагедии; правда, идиллия только скользит по ней, почти не касаясь; но неизгладимое впечатление остается в душе читателя. И невольно приходит на ум, что это — вовсе не простая случайность, как, по–видимому, утверждает Гёте. Напротив, только простая случайность спасает Дафниса от гибели, а именно — памятные знаки, обычная и банальная подробность всех греческих романов, — то, что Дафнис оказался не рабом, а сыном помещика.
Неслучайная подробность в романе — непобедимый, суеверный, преследующий бедных влюбленных детей во сне и наяву страх перед господами, которые скоро должны приехать в деревню, которые могут сделать с ними все, что вздумается, — обидеть их, разлучить или соединить. Дафнис молит Нимф, чтобы они защитили его и Хлою от господ, как от разбойников или врагов. Не случайность также — ужас старого садовника Ламона, который уверен, что его повесят, а Дафниса засекут за несколько испорченных цветочных грядок в любимом саду помещика. И Хлоя видит уже кровавые рубцы на спине Дафниса от господского бича.
Должно отметить такую же характерную черту нравов в откровенном и наивном признании отца Дафниса: он покинул своего маленького сына на произвол судьбы только потому, что ему казалось достаточным число бывших у него детей. Дафнис родился лишним, сверх счета, — и отец выбрасывает его из дому, как щенка. Так же поступает отец с Хлоей, извиняясь, впрочем, бедностью и невозможностью приличным образом воспитать свою дочь и выдать замуж. Вот черты семейного вырождения и позднего византийского варварства, которое прихотливо переплетается с болезненной утонченностью нравов, как во все эпохи упадка. Это не языческая патриархальная суровость, которая встречается у Гомера и у трагиков, — а, скорее, одичалость, огрубелость нравов вырождающейся культуры. Конечно, было бы нелепо обвинять автора: он только взял из жизни то, что нашел, а украшать жизнь препятствовала ему глубокая художественная объективность. Напротив, должно удивляться великому искусству, с которым он сумел скрыть, стереть эти невыгодные черты эпохи, насколько было возможно при сохранении жизненного реалистического фона картины. Подобные черты языческой жестокости в социальных и семейных отношениях встречаются — повторяю — и у Гомера, и у трагиков. Но там они производят совсем другое впечатление: там они проистекают из первобытной величавой суровости духа, еще полудикого и не укрощенного никакими человеческими цепями; там они сопровождаются чертами высокого, бессознательного героизма, который все оправдывает, все очищает и превращает самую кровь в жертвоприношение, угодное богам, столь же светлым и беспощадным, как люди. А здесь, на фоне бесконечной нежности, в очаровательной поэме любви, черты жестокости выделяются с особенной резкостью и оставляют в душе читателя болезненный, глубокий след, как нестерпимое противоречие. Замечательно, что та же самая жестокость, среди византийской утонченности, встречается также в легендах и житиях святых, близких по времени к «Дафнису и Хлое». Мрачные черты монашеского изуверства, мелочная и варварская жестокость византийского законодательства, а рядом болезненная чувствительность, сложная и глубокая психология страстей, та неведомая древним грекам поэзия, из которой выросли золотые цветы итальянского XIII века — «Fioretti» св. Франциска.
Тем не менее Гёте прав. Он первый почувствовал огромное эстетическое и философское значение книги, которой до тех пор только забавлялись, не понимая; которую любили, как драгоценную игрушку, не придавая ей особенного значения. Гёте осмелился сказать, что мы должны благоговейно перечитывать эту наивную сказку любви, как один из недостижимых классических образцов, должны искать в ней поучения и мудрости. Такова сила эллинского духа: она побеждает все, даже старость, и среди глубокого византийского упадка и одряхления неожиданно дает новые весенние ростки, показывает миру неподражаемую красоту, которой суждено быть восторгом и отчаянием последующих веков. Есть отдельные страницы в поэме Лонгуса, которые дышат юношескою, неувядаемою свежестью Гомера. Через тысячелетия опять веет в них этот крепкий и соленый запах ионического моря, как будто ни разочарований, ни упадка, ни старости, ни варварства, ни Рима, ни христианства не было в мире, — и божественный странник Одиссей все еще плавает по волнам, гонимый Поссейдоном и Гэрой. Люди могут создать что‑нибудь иное, столь же великое, но более прекрасного никогда ничего не создадут. С вечно новым и новым изумлением, перечитывая некоторые простейшие описания у Гомера и Лонгуса, чувствуешь в них совершенство самой природы. Древние описывают легко, почти небрежно, точно мимоходом, едва касаясь предмета, и в их красках есть воздушная, нежная тусклость, которая заставила Гёте так остроумно сравнить пейзажи Лонгуса с живописью Геркуланума. Они не искали, не думали, не скорбели и от рождения, по какому‑то счастливому дару богов, знали меру вещей, ту золотую меру всего, которую мы называем красотой. Они ничего не исчерпывают до дна, умеют останавливаться вовремя, не любопытствовать и не углубляться, удовлетворяясь великим, но не безмерным. И в этом тайна эллинской прелести.
Ничего не может быть проще замысла поэмы. И в то же время как он глубок в своей простоте и ясности! Бог любви принял участие в детях, покинутых людьми. Здесь уже чуется влияние и близость нового, более человечного и сентиментального миросозерцания, из которого вышло христианство. Эти обездоленные, покинутые дети, которые, по–видимому, обречены на голодную смерть, оказываются избранниками богов, баловнями природы. Мир божественный именно потому принимает их, что они исторгнуты из мира человеческого. Суровый Пан, от которого храбрейшие воины бегут в ужасе, покровительствует обиженным детям; Нимфы заботятся о них; сама Природа заменяет им мать: коза кормит мальчика, овца — девочку, и надо всем витает невидимая, всепроницающая власть бога Любви. В сущности поэма Лонгуса есть не что иное, как одна хвалебная песнь могуществу любви. Эрос владычествует над всеми богами, и в этой исключительной власти бога Любви чувствуется переход от олимпийского многобожия к новому религиозному и философскому единобожию. Наибольшей метафизической высоты поэма достигает в VII гл. второй книги, в рассказе старого Филетаса о видении Эроса, — рассказе, который по вдохновенному лиризму можно сравнить только с лучшими хорами в трагедиях Софокла и Эсхила.
Филетас говорит Дафнису и Хлое:
«Дети мои, Любовь есть бог юный, прекрасный и окрыленный… Такова его сила, что даже сила Громовержца не может с нею равняться. Он царствует над стихиями, он царствует над светилами. Он царствует над прочими богами с большею властью, чем вы — над вашими козами и овцами. Все цветы созданы Любовью, и Любовь вызвала на свет из недр земных растения. Любовью движутся реки, любовью дышат ветры. Я видел влюбленного быка: он ревел, как ужаленный оводом».
И сам бог Любви говорит о себе:
«Я по виду — дитя; на самом же деле более стар, чем Сатурн, более стар, чем все века».
Галилеяне утверждали, как Лонгус, — Бог есть Любовь. Но Галилеяне под любовью понимали братскую жалость, а Лонгус — сочетание мужского и женского начала во вселенной — то, что мы теперь называем гением рода.
Любовь есть вечное детство мира, вечное веселие Эроса. Все, что живет и умирает, — только бесцельная и упоительная игра божественного ребенка. И забавы его важнее великих дел человеческих. Вечный шалун, насмехающийся над всякой властью, преступающий все законы, он забавляется то кровавыми ужасами, то невинными и пастушескими играми и переходит от одних к другим с беспечною легкостью: он — вне добра и зла.
Любовь Дафниса и Хлои — только одна из его бесчисленных игр, одна из его очаровательных прихотей. Маленький бог играет неопытными сердцами покинутых детей так же, как в саду старого Филетаса, вместе с бабочками и птицами, играет он недолговечными розами и золотыми плодами осени. Смысл мировой жизни, мировой трагедии — не рок, не скорбь, не борьба, а только игра вечно юного бога, ибо «любовью движутся реки, любовью дышат ветры».
Люди больших городов, удалившись от природы, утратили вечный смысл жизни; занятые тем, что считают важным и серьезным: деньгами, войнами, славою, книгами, они забывают единственно важное и серьезное дело — божественную, бесцельную игру любви. Они воображают, что слишком хорошо знают любовь, и потому не любят. Они омрачили любовь пороком, лицемерною стыдливостью, скукою, тяжестью семейных обязанностей, тщеславием, выгодой, платонизмом, — и Эрос с отвращением уходит от того, чем мы гордимся как высшей степенью культуры, — уходит из городов в тихие поля к пастухам, козам и овцам, в запущенные сады, где слышно жужжание пчел и падение спелых плодов сквозь листву, на пустынные берега моря, в забытые уголки природы, где до сих пор еще люди живут, как боги и звери. И здесь он опять заводит свою детскую, непонятную игру, в которой открывается тайный смысл мировой жизни; сладострастный Пан и чистые Нимфы помогают ему, овцы и козы учат детей любви, — здесь «любовью движутся реки, любовью дышат ветры».
В сущности Дафнис и Хлоя — это новые Адам и Ева в древнем, вечно–девственном раю природы. Они так же невинны, так же не знают ни греха, ни стыда, как наши библейские прародители. Среди культуры, склоняющейся к упадку, Лонгус в своем романе показывает опыт первобытной человеческой любви, освобожденной от всех условностей и предрассудков, от всех покровов и цепей. В этом — он истинный эллин и, кажется, один из всех, писавших о любви, осмелился показать нам любовь в ее первоначальной наготе. Вот почему эллинский натурализм Лонгуса гораздо глубже нашего современного натурализма, в котором чувствуется порывистая решимость отчаяния и страха. Лонгус показал нам любовь как верховную силу природы, любовь — вне добра и зла, выше добра и зла, — любовь как высшую свободу и познание мира в красоте.
Есть еще одна особенность, которая делает эту поэму доступной и близкой нам, — я разумею возвращение к природе от лицемерия, лжи и условностей культуры. В сущности это и есть главная философская тема всех великих поэм любви начиная от «Песни песней» Соломона и «Сакунталы» Калидазы[26]: любовь возвращает человека к природе, и это дает случай поэту изобразить прелесть сельской, наивной и здоровой жизни в ее противоположности с болезненной культурой больших городов. Пастушка Суламита, чью любовь Соломон не может купить за все сокровища, тоскует от любви к пастуху, изливает в жалобных песнях простодушное горе в такой же цветущей пустыне, как Дафнис и Хлоя. Сакунтала, воспитанница буддийских монахов, в тропическом лесу обнимает на прощание любимую лань и целует ее с такою же нежностью, как Дафнис и Хлоя своих коз и овец. Здесь мы затрагиваем глубочайшие свойства нашего сердца: ибо одинаково у арийцев и семитов — у древних евреев, греков и индейцев природа присоединяет свои бесчисленные братские голоса к песнопению человеческой любви. Любовь не отделяется от природы, как будто страсть мужчины и женщины есть только вечное возвращение человеческого существа к природе, в лоно бессознательной жизни. Любовь и природа — одно и то же; любовь — бегство души к первобытному стихийному здоровью от искусственно привитой болезни, которую мы называем культурой. Такова любовь Дафниса и Хлои, и вот почему последняя книга поэмы, в которой рассказывается возвращение влюбленных пастухов в городскую жизнь, в покинутую культурную среду, производит впечатление тягостное и дисгармоническое. Вы не верите поэту, когда он говорит, что пастушка Хлоя сделалась прекраснее в городских роскошных одеждах, и вам кажется, что лучше бы Дафнису умереть, чем забыть свою любовь хотя бы на одно мгновение, как он забывает ее в упоении богатством и почестями. Вообще конец — самая слабая часть: поэма выиграла бы в значительной мере, если бы последняя, четвертая, книга была потеряна, и надо удивляться, что Гёте, при своей художественной проницательности, этого не почувствовал.
Самая сильная часть поэмы — та, в которой изображается новая, неведомая древним грекам любовь к природе. Впрочем, нельзя даже сказать, чтобы Дафнис и Хлоя любили природу в том смысле, как мы ее любим: они с нею — одно. Козы и овцы, о которых влюбленные пастухи так нежно заботятся, за которых они готовы умереть, принимают не меньшее участие в действии поэмы, чем люди. Козы и овцы прыгают от радости, когда Дафнису и Хлое весело; стоят, понурив голову и не щиплют травы, когда им грустно, слушают их музыку и как будто понимают разумную жизнь. Здесь уже предчувствуется новое братство между человеком и животным, которое получает такое огромное значение в средневековых легендах. Здесь побеждена древне–библейская и древне–греческая гордыня, которая ставила человека вне мира животных, на высоте, как одинокого царя природы и полубога. Человек уже не презирает зверя, потому что вспоминает, что они оба — дети одной матери: он спускается ко всем живым тварям с благосклонным любопытством и в их ласковых, глубоких, лишенных мысли очах, в их бессознательной жизни находит вещие проблески и откровения. И здесь, в этой братской любви к животным, проникающей поэму Лонгуса и придающей ей пленительную нежность, мы встречаемся, в самой глубине древнеэллинского духа, с первым предвестием нового средневекового и христианского миросозерцания. В добром пастухе Дафнисе есть что‑то напоминающее некоторые образы в римских катакомбах. Дух пасторали веял тогда над миром, одинаково проявляясь и в душной темноте катакомб, и на солнечном Лезбосе. Умные, кроткие, послушные музыке овцы Хлои всегда казались мне предками той средневековой овечки, как повествуют Fioretti di S. Francesco, однажды в церкви, вместе с монахами, при звуках торжественного органа, вся белая и чистая в солнечном сиянии, преклоняла колени пред Франциском Ассизским. И древнеэллинская цикада, милая певунья, которая, спасаясь от ласточки, разбудила Хлою и, когда девушка положила ее к себе под одежду на грудь, продолжала петь, — должно быть, близкая родственница той итальянской цикады, которую однажды, в жаркий летний день, св. Франциск взял к себе на руку, тихонько гладил по зеленой спинке и, в поучение монахам, хвалил за то, что она не ленится прославлять Создателя ни днем, ни ночью. И цикада продолжала петь на исхудалой бледной руке святого так же безбоязненно и радостно, как на цветущей груди Хлои.
I
Передо мною последний том громадного исторического исследования Ренана — книга, озаглавленная: «Marc Aurele et la fin du monde antique»[27]. Это одно из самых блестящих характерных созданий его гения.
Сентиментальный и чувственный культ художественного католицизма, несмотря на отречение от него Ренана, оставил на нем неизгладимые следы. Эпохи мистического созерцания ему более симпатичны и доступны, чем эпохи сильного религиозного творчества и борьбы. Темперамент писателя лучше всего узнается по стилю. В этом отношении Ренан — полная противоположность Тэну. Язык Тэна стремится к чрезмерному изобилию образов, к роскоши и силе. Он не чужд пестроты, гипербол и преувеличений. Тэн подражает колориту Рубенса, которого он любит. Таков характер его творчества. Тэн по преимуществу описывает эпохи крайнего напряжения воли, сосредоточенного драматизма и действия — революцию, Возрождение с его великими характерами и борьбою страстей. Он любит изображать темпераменты цельные, с избытком жизненной силы и воли, как Свифт, Рубенс, Бетховен, Наполеон[28].
Стиль Ренана прежде всего удивляет простотою. Он напоминает древних благородным изяществом, чуждым всех украшений. В конце концов сила в языке Тэна переходит в напряжение, а напряжение утомляет и делается однообразным: если долго всматриваться в образы Тэна, яркость начинает казаться пестротою и этот слишком красивый язык, уснащенный романтическими контрастами и образами, может, наконец, пресытить читателя, как слишком пряное блюдо. Ренан никогда не пресыщает. В его легком классически–прозрачном стиле есть спокойная грация. Без толчков, без сотрясений он подымает нас незаметными переходами, как будто по волнообразным холмам, на недостижимую высоту, с которой обрывистые вершины романтического вдохновения кажутся небольшими возвышенностями. Мы понимаем, что в писателе спокойствие столь же драгоценно, как сила: великая тишина — такой же признак гения, как и великое волнение. Ренан перестал быть священником, но он остался ропtifex maximus[29] Неведомого Бога. Если он и снял рясу, то все‑таки считает неприличными слишком резкие и быстрые движения: по его тихой, торжественной манере вы можете узнать человека, привыкшего священнодействовать. Иногда в этом спокойном, глубоком стиле современного парижского скептика слышатся далекие отголоски органа, тихие церковные напевы, залетевшие откуда‑то из‑под сводов католического собора.
Темперамент Ренана прежде всего аристократический. Вот что препятствует ему проникнуть в психологию массовых движений: Ренан бессознательно боится толпы, и тем более взволнованной, фанатической толпы; как бы он ни изучал ее, она остается ему навеки чуждой. Он не терпит ничего резкого и порывистого. Чрезмерная сила страсти кажется ему грубой и оскорбительной; он отворачивается от нее так же, как от чрезмерной силы веры, на которую, впрочем, смотрит редко с негодованием, как на фанатизм, — чаще с грустной снисходительной улыбкой, как врач на проявление хорошо известной ему болезни. Он не выносит слишком громких криков — ни священного экстаза, ни гневной толпы, ни предсмертных страданий. Он набрасывает на агонию своих мучеников успокоительную дымку; они умирают у него спокойно и красиво: невольно кажется, что в действительности было страшнее. Он придает их последним минутам не более трагизма и ужаса, чем могут вынести нервы современной светской женщины. И к этому побуждает его не только аристократизм темперамента, но и то внешнее благолепие, которое соблюдают жрецы всех времен и всех верований, даже жрецы неверия.
Эпоха, описанная в «Марке Аврелии», — от шестидесятых до восьмидесятых годов второго века, — в высшей степени доступна проникновению Ренана, благодаря свойствам его темперамента. Это — по преимуществу эпоха философского созерцания, а не народного творчества; аристократической мудрости, а не бурных массовых движений; внутренней жизни, а не внешнего действия. Кончились пять актов всемирной трагедии христианства, продолжавшейся от царствования Тиверия до смерти Антонина. Подъем человеческого духа, создавший новую религию, начинал ослабевать; гений народов, утомленный творчеством, стремился к отдыху. Свободные верования сердца люди снова записывали на скрижали догматов. Вместе с тем трагедия дома Цезарей завершилась ясным веком — как будто тихим закатом после бурного дня — веком Траяна, Адриана и Антонинов. В грядущем предстояли последние бури, последняя борьба язычества с христианством, античного мира с варварами. Эпоха Марка Аврелия — недолгий перерыв, глубокое затишье между двумя бурями. Бывают осенние дни, когда летние грозы прошли, а поздние ненастья еще не наступили, — когда в туманном воздухе, в мягком, бледном свете солнца царит усталость, нежная грусть и успокоение, как будто примирение со смертью…
Такой осенний день в истории — век императора Марка Аврелия. По–видимому, всюду распространяются блага римской цивилизации — «pax Romana»[30], и вместе с нею внешнее счастье, просвещение и материальное довольство. Народы благодарны императору, все его любят, ничто не угрожает внутреннему процветанию государства. Люди не знают, на что жаловаться, а между тем чувствуют необъяснимые, с каждым днем возрастающие тревогу и утомление. Над этим культурным обществом, завершившим цикл развития и достигшим зрелости, веет предчувствием смерти. И мудрость великого Цезаря сияет над миром, обреченным на гибель, как позднее солнце осени, никого не утешая и не радуя.
Настроение эпохи Марка Аврелия соответствует настроению конца нашего века. То же внешнее благосостояние и внутренняя тревога, тот же скептицизм и жажда веры, та же грусть и утомление. Ренану стоило только оглянуться на современное общество, чтобы заимствовать тысячи аналогий, посредством которых он умеет придавать рассказу о далеком прошлом столько жизни и художественной правды. Быть может, нет в истории ничего трогательнее, чем тяготение друг к другу, бескорыстная духовная связь, соединяющая мыслителей, разделенных веками. В самом деле, Ренан любит Марка Аврелия, как человек любит человека, родного ему по духу. Что же это за таинственное духовное сродство современного скептика с римским императором второго века?.. Вот с каким благоговением и нежностью говорит Ренан о культе, который воздавали Марку Аврелию после его смерти («numen Antoninum»[31]):
«Никогда культ не был более законным, и в настоящее время мы его разделяем. О да, все мы готовы скорбеть о Марке Аврелии, как будто вчера еще он умер. Вместе с ним царствовала философия. Благодаря ему мир одно мгновение был управляем лучшим и величайшим человеком времени. Во всяком случае, важно, что опыт был сделан. Будет ли он повторен? Воцарится ли, в свою очередь, современная философия, как древняя? Найдет ли она своего Марка Аврелия, окруженного Фронтонами и Юниями Рустиками? Правление человеческими делами будет ли еще раз принадлежать мудрейшим? Впрочем, не все ли равно? Это царство не могло бы продлиться больше одного дня и, без сомнения, еще раз за ним последовало бы царство безумцев. Привыкнув с улыбкой созерцать вечную смену человеческих иллюзий, современная философия слишком хорошо постигла закон мимолетных увлечений толпы»[32].
От последних строк веет безнадежным холодом, который всегда таился в душе Ренана, даже в порывах любви и нежности. Он чувствует себя таким же одиноким в современном обществе, как Марк Аврелий в Риме второго века. Неутолимая скорбь, одиночество, презрение к современникам и мистическая вера без догматов связывают таких людей, как Ренан и Марк Аврелий, через все века, культуры и религии. Они узнают друг друга и заключают союз.
II
Взглянув на древние бюсты Антонина — на это печальное, кроткое, почти христианское лицо, понимаешь, что народы недаром назвали его Pius, что в самом деле святой император был добрым гением человечества. В семье Антонинов, в которой воспитывался Марк Аврелий, мудрость и добродетель были наследственными. Владычество Нервы, Траяна, Адриана и Антонина, проникнутое философским и республиканским духом, не имело ничего общего ни с грубым унизительным деспотизмом востока, ни с преувеличенным ребяческим благоговением перед правом крови, царившим в средние века. Власть императора при Антонинах превратилась в род гражданской великой службы — без риторики величия, без пышности. В этом доме ненавидели самое воспоминание о прежних великолепных, развратных и жестоких цезарях. Ни блеска, ни страха, ни благоговения, — властью спокойно обладали и равнодушно делили ее между собою, заботясь о пользе государства. Таинственный ореол, окружавший трон, померк в глазах цезарей, скептиков и философов. В такой среде вырос Марк Аврелий. Адриан заметил этого тихого, печального ребенка, когда ему было еще восемь лет, и полюбил его. В продолжение двадцати двух лет Марк спокойно ждал власти. И вот когда однажды вечером Антонин в своей вилле Лориум, почувствовав приближение смерти, велел, по обычаю, перенести в комнату наследника золотую статую богини Счастия, Марк остался таким же спокойным и грустным, как прежде. Проникновением философа он постиг ничтожество всех радостей и полный кротким, но глубоким разочарованием в людях и в жизни, ничего не ждал от власти.
Его юность протекала среди сельской природы; под наблюдением Фронтона он занимался изучением латинской риторики. Однажды философ Юний Рустик дал Марку из своего книгохранилища «Разговоры» Эпиктета[33]. Эта книга сделала его стоиком.
Философия требовала умерщвлений плоти: она походила в то время на суровый монастырский устав. С двенадцати лет царственный отрок одел грубый плащ философа, привык спать на голых досках и исполнять другие требования стоического воздержания. Мать должна была просить и настаивать, чтобы он покрыл свое жесткое ложе звериной шкурой. От этой жизни несколько раз страдало его здоровье. Время он разделял на строго определенные часы работы и созерцания, как монах. Внешностью походил на своих учителей: простая скромная одежда, небрежная прическа, истощенное тело, глаза, утомленные работой. Вопросы долга и нравственности были единственными, которые волновали и захватывали всю его душу. Но ему недоставало — как выражается историк — поцелуя феи при рождении, той страны мудрости, которая учит, что нельзя сводить жизнь на воздержание, на стоические «abstine et sustine»[34], что в мире есть кроме долга и радость, и смех, и солнечный свет, дарованный нам самими богами.
От философского педантизма и сухости его спасали неиссякаемая доброта и мягкость души. Встречая пороки людей, он говорил: «таков порядок природы — такие люди по необходимости должны так действовать.
Желать, чтобы было иначе, это все равно, что желать, чтобы фиговое дерево давало не свои плоды»[35].
Народ его боготворил, несмотря на то что император не делал черни ни малейших уступок, никогда не искал ложной популярности.
Еще со времени Адриана возвышенные принципы стоической философии начинают проникать в римское право. С царствования Антонина и Марка Аврелия кроткие законы окончательно сломили суровый дух древнего римского законодательства и превратили его в кодекс, который впоследствии мог быть принят как основание для законов всех цивилизованных государств.
Заветным желанием императора было полное уничтожение кровавых зрелищ цирка, уже давно возмущавших нравственное чувство лучших людей эпохи. Но народ слишком любил эти игры. Когда Марк Аврелий вооружил гладиаторов во время войны с германцами, произошло чуть не восстание. Историк Капитолин рассказывает, что толпа кричала: «он хочет отнять наши забавы, чтобы заставить нас философствовать!»[36].
Но между тем как в шумном амфитеатре радостные крики народа приветствовали смерть гладиаторов, в тишине кабинетов юрисконсульты работали над новыми законами, воздвигая то вековечное здание римского права, которое впоследствии способствовало уничтожению рабства. Близился день, когда Ульпиан должен был написать великие слова, неизгладимые в памяти народов: «по естественному праву все люди рождаются свободными и равными»[37].
Тогда начинается то, что Ренан назвал «царством философов». Марк Аврелий стремился к идеалу Платона[38]. Мудрецы окружают императора. Его бывшие учителя делаются министрами и государственными людьми. В прежнее время консульская власть была исключительно привилегией древних аристократических фамилий; теперь консулами делаются по очереди философы — Аттик, Фронтон, Юний Рустик, Клавдий Север, Прокл. Император расточает им неслыханные почести; приветствуя перед народом, обнимает, воздвигает статуи, и после смерти приносит жертвы на их могилах. Со всех концов мира стекаются к нему знаменитые мыслители. Он основывает новые кафедры в Афинах и, без двора, без свиты, смешивается с толпою философов на улицах Александрии. Он смотрит на них, как на братьев, с которыми следует делить власть. В то время философия еще не успела выродиться, как в эпоху римского упадка, когда, по свидетельству одной мозаики времен императора Гонория, единственная обязанность философа заключалась в том, чтобы держать зонтик над госпожой и прогуливать ее комнатную собачку. При Марке Аврелии философия делается почти религиозным культом. У нее свои пророки, миссионеры, исповедники и казуисты. Знатные особы держали при себе домашнего философа. Образовалась профессия мудреца: для нее надо было обладать представительной внешностью, красивой бородой, умением с достоинством носить широкую тогу. Говорят, Румеллий Плавт имел при своей особе двух докторов мудрости — Церана и Музония, — одного грека, другого этруска: их обязанность состояла в том, чтобы наставлениями освобождать душу вельможи от страха смерти[39]. Как в наши дни перед кончиной призывают священника, так тогда призывали мудреца. Тразеа умирает, напутствуемый циником Деметрием. Кан Юлий шествует на казнь, сопровождаемый «своим философом». Таким образом, параллельно с христианскою проповедью начинается настоящая языческая проповедь философии. Дион Хризостом, Теаген в Риме превращают политеизм в своеобразную, почти мистическую доктрину. Максим Тирский — в «Проповедях» уже монотеист — смотрит на образы языческих богов как на символы, необходимые для человеческой слабости, и верит в единого Бога.
Философы, как впоследствии иезуиты, более всего стремятся овладеть совестью государей. Они в этом вполне успевают, делаются неразлучными друзьями императора: мудрец — его comes[40], он состоит у государя как бы на службе и получает определенное жалованье.
Мечта Сенеки и Платона, по–видимому, исполняется: на земле водворилось доныне небывалое царство философов.
Марк Аврелий, обладая величайшей самоотверженностью и безграничной властью римского цезаря, преследует задачу счастья и справедливости на земле так решительно, упорно и страстно, как до тех пор еще никто не преследовал этой цели. Достиг ли он чего‑нибудь?.. В том ответе, который приходится дать, обнаруживается вся ирония человеческих судеб.
Варвары перешли через Дунай[41]. Движение началось издалека. Вся масса германцев и славян двинулась и заколебалась. Римские легионы не выдержали этого страшного толчка и отступили. По всей Италии распространилась паника. Началось великое движение народов, которое должно было окончиться смертью римской империи. Говорили, что со времени пунических войн[42] государство еще ни разу не подвергалось такой опасности. К войне присоединилась моровая язва.
Марк Аврелий, как философ, ненавидел войну. Военные подвиги казались ему бессмысленными или преступными. Он пишет в дневнике: «паук гордится, поймав муху; тот — поймав зайца; другой — сардинок; третий — кабанов; четвертый — медведей; пятый — сарматских воинов. С точки зрения принципа, все — разбойники»[43].
Понимая нелепость войны, он из чувства долга сделался великим полководцем. Он защищал римскую цивилизацию против стихийной, дикой силы варваров. Чтобы иметь больше денег для войны, император продавал драгоценную мебель из дворцов; вооружил гладиаторов, рабов, диогмитов (полицейских чиновников), даже разбойников.
Отныне царственный философ должен был проводить почти всю жизнь на берегах Дуная и Грана, на диких унылых равнинах Венгрии, в полуварварских городах Карнонте и Сирмиуме. Он испытывал беспредельное отвращение к войне и скуку, но побеждал себя и вел эту однообразную, бесконечную кампанию против квадов и маркоманов терпеливо, медленно и успешно. Армия его любила. С дикими варварами он обращался как истинный философ, уважая и в них человеческое достоинство. Весь день он проводил среди военных упражнений в лагере и только вечером, когда шум оружия, звуки труб и военной команды затихали, одинокий и печальный, уходил в свою походную палатку, чтобы, наконец, успокоиться, подумать о бесполезности борьбы, которую он ведет, и, засветив лампаду философа, почитать любимую книгу Эпиктета или записать какую‑нибудь мысль в свой дневник. В такие грустные, бессонные ночи, когда уже солдаты спали и в лагере воцарялась глубокая тишина, прерываемая только сигналами часовых, император, должно быть, выходил из своего шатра, смотрел задумчиво на звездное северное небо, и ему являлась мысль, которую я нахожу в его дневнике:
«Пифагорейцы предписывают подымать на заре наши взоры к светилам небесным, чтобы напомнить себе об этих существах, стремящихся вечно по тем же законам, вечно по тому же пути, чтобы напомнить себе об их порядке, безупречной ясности и наготе, так как они являются нам без покровов». Император хотел, чтобы душа его была во всем подобна этим существам — такой же светлою, простою и чуждою всех тайн перед людьми.
Ему уже минуло пятьдесят лет. Приближалась преждевременная старость. Он умертвил в себе личную жизнь, все желания и, по–видимому, достиг покоя. Но судьба готовила новые испытания.
Авидий Кассий, умный и образованный человек, когда‑то любивший Марка Аврелия, был убежден, как римлянин старых традиций, что греческая философия в делах правления может только повредить государству. Он называл императора «доброй, философской женщиной». Часть римского общества и даже народа сочувствовала ему. Философия, наконец, всех утомила. Высоких целей не понимали, а видели, что циники, эти грубые люди — псы, как они сами себя называли, с огромными палками, запущенной бородой, мешками, в изодранных грязных плащах буйствуют на больших дорогах и площадях, считая себя, ввиду покровительства императора, не ответственными перед законом. Чернь смеялась над знаменитыми учителями философии: «за его длинную бороду ему платят жалованье в десять тысяч сестерций; что же? надо бы платить жалованье и козлам!» Нищие беглые рабы, ленивые ремесленники, плохие актеры спешили записаться в цех «философов», находя это ремесло наиболее выгодным и легким. Люди сумели превратить и царство мудрецов в глупый фарс. Пользуясь искренним негодованием, с которым смотрела консервативная часть общества на этих проходимцев, считавших Марка своим человеком, Авидий Кассий поднял возмущение не против Марка Аврелия императора, а против Марка Аврелия философа.
Таким образом, доброта и мудрость государя повредили ему больше всего. Как истинный римлянин, он питает инстинктивное отвращение к восточным религиозным суевериям. К ним он причислял и христианство. Его пугал этот непонятный и непобедимый мистицизм, отрицавший весь государственный строй Рима. Император разрешил чиновникам преследовать христиан, как членов преступной ассоциации, как мятежников. Кровь невинных была пролита с разрешения самого кроткого из людей. Единственный раз, когда он принудил себя быть суровым, суровость повредила ему столько же, как доброта.
И в личной жизни, как во всем, император был мучеником. Жена его не понимала. Быть может, Фаустина любила мужа в то время, когда они еще жили во дворце Лориум или в затишье лесов виллы Ланувиум на последних отрогах Альбанских гор. Но любовь прошла, и философия наскучила молодой красивой женщине. Выдержки из Эпиктета возбуждали в ней тоску; спокойствие и кротость мужа раздражали ее, казались оскорбительными. Распространилась клевета, которая повторялась даже со сцены актерами, но, вероятно, не имела основания: говорили, что императрица в преступной связи с приближенным ее мужа, Луцием Вером. Император не обращал внимания на насмешки и как будто не видел зла. Но он с горечью чувствовал, что Фаустина от него удаляется, затаил в себе грусть, молчал и не изменял до конца отношения к жене, которое Ренан называет «неумолимой кротостью»[44].
В эти последние годы ни на одно мгновение не покидала его мысль о смерти. Он жил в императорских дворцах, как великие христианские отшельники Аммоний, Нил, Пахомий жили в пустынях Фиваиды. Мудрость никому не достается даром. Невозмутимое спокойствие, кротость, приветливое лицо скрывали страшную внутреннюю болезнь души. Он познал ничтожество всего, даже последней иллюзии — славы, человеческой любви, и скорбь его была беспредельна. Силы падали. В последнее время он мог говорить только тихим голосом и ходил маленькими шагами. Зрение ослабевало. К вечеру он так утомлялся, что не был в состоянии держать в руках книгу. Император перед смертью начинал понимать, что царство философов остается невыполнимой мечтою. Он предчувствовал, что Риму не победить варваров; искусства и науки падали; в народе распространялись грубые, нелепые суеверия. Одни только законы сделались немного мягче и справедливее, но люди остались такими же несчастными, невежественными и жестокими. Во всех слоях общества царствовала скорбь, утомление жизнью — то, в чем христиане видели предчувствие конца мира.
Между тем на краю могилы император понял, что его любимый сын Коммод, наследник престола, кому он должен вручить после своей смерти судьбу человечества, за кого он отвечает перед людьми и перед Богом, — полузверь, будущий Нерон, Калигула или Домициан, более похожий на сына гладиатора, чем на сына мудреца. Зло обнаружилось мало–помалу, и кроткий император почувствовал весь его ужас, когда было уже поздно. Он не мог лишить Коммода престола, зная наверное, что тот подымет восстание, а для государства в смутное время, когда отовсюду грозили варвары, междоусобная война была бы гибельнее, чем самое жестокое правление. Природа посмеялась над тем, кто всю жизнь верил в Провидение. Это был его ребенок — кровь от крови, плоть от плоти: он узнавал свои черты в чертах бессмысленного атлета с молодым цветущим телом, с кровожадным сердцем. Марк Аврелий, возлагая последнюю наивную надежду на воспитание, окружил Коммода знаменитейшими учителями философии и морали. Тот слушал их, по выражению Ренана, как слушал бы молодой лев, зевая и показывая острые зубы. Наследник Марка Аврелия чувствовал себя вполне дома только среди мимов, наездников цирка и гладиаторов, которых он превосходил силой и грубостью.
«О, смерть, приди скорее, не медли!..» — писал император в своем дневнике. «Я удаляюсь из этой жизни, где даже спутники мои, за которых я столько боролся, страдал, которым я так искренно желал блага, ждут, когда же, наконец, я умру, надеясь, что после моей смерти им будет лучше»[45].
«Посредством анализа, — говорит Ренан, — он до такой степени разлагает жизнь, что она уже почти не отличается от смерти. Он достигает всепрощения, равнодушия, умеряемого жалостью и презрением… Последние движения жизни в этой душе были почти так же тихи, как едва слышные звуки во внутренности гроба. Он достиг буддийской нирваны, евангельского мира. Как Сакья–Муни, Сократ, Франциск Ассизский и еще три или четыре мудреца, он окончательно победил смерть. Он мог говорить о ней с улыбкой, так как воистину она более не имела для него смысла»[46].
10 марта 180 года он заболел в лагере на берегах Дуная и, с радостью почувствовав приближение смерти, стал воздерживаться от всякой пищи и смотрел на себя как на умирающего.
Но, исполняя последний долг отца перед сыном, императора перед народом, он имел еще силу выйти к войску и представить ему наследника. Лицо философа, как всегда, было бледно, спокойно и приветливо. Но он знал, что делает, — знал, кому отдает в руки судьбу человечества. В эти последние страшные минуты изменила ли ему философия, пробудилась ли в нем жизнь и вместе с нею отчаяние, или ничто уже не могло нарушить покоя?..
Через семь дней, чувствуя, что наступил конец, он покрыл себе лицо, как будто желая уснуть, и в следующую ночь скончался.
Люди воздавали ему божеские почести; заключили его останки в мавзолей Адриана; называли не иначе как: «Марк — мой отец», «Марк — мой брат», «Марк — мой сын», смотря по возрасту. Но, вероятно, многие, узнав про его смерть, подумали: «ну, слава Богу! кончен долгий пост, кончилось унылое царство мудрецов!» — и вздохнули с облегчением.
После отца–философа на престол вступил сын–гладиатор. «Прощай, добродетель! прощай, разум! Если Марк Аврелий не мог спасти мир, кто же спасет его?.. Да здравствует безумие, да здравствует сириец и его сомнительные боги!» (Ренан)[47].
Попытка философа сделать человечество мудрым завершилась кровавым фарсом Коммода, и после краткого перерыва снова победила человеческая глупость.
III
Если вы ищете в книге новых фактов, знаний, отпечатка исторической эпохи, поэзии или философской системы, то дневник Марка Аврелия даст вам немного. Это книга, более чем какая‑либо другая, независима от условий места и времени, от всякой предвзятой системы, от требований литературного слога, от желания нравиться или открывать новые истины. Ее глубокая цель — отрешение от жизни; ее область — душа человеческая, освобожденная от всего, что сковывает ее на земле. Стоицизм века оставил след на мыслях Марка Аврелия, но это — след внешний. В сущности нравственное настроение императора имеет часто более сродства с апостолом Павлом и Сакья–Муни, чем со стоиком Эпиктетом.
Если же вы возьмете эту книгу в руки с искренней жаждой веры, с тревожной совестью и душою, взволнованною великими несмолкаемыми вопросами о долге, о смысле жизни и смерти, — дневник Марка Аврелия вас увлечет, покажется более близким и современным, чем многие создания вчерашних гениев. Вы почувствуете, что это — одна из тех бесконечно редких книг, которых сердцем не забываешь и о которых приходится вспоминать не в библиотеках, ученых кабинетах и аудиториях, а в жизни, среди страстей, искушений и нравственной борьбы. Эта книга — живая. Она может не произвести никакого впечатления, но, раз она затронула сердце, ее уже нельзя не любить. Я не знаю более сладкого и глубокого ощущения, чем то, которое испытываешь, встречая свои собственные, никому не высказанные мысли в произведении человека далекой культуры, отделенного от нас веками. Тогда только перестаешь на мгновение чувствовать себя одиноким и понимаешь общность внутренней жизни всех людей, общность веры и страданий всех времен. С каким удивлением и радостью узнаешь все, о чем только что говорил с близким человеком или думал наедине с собой, все, чем мы в настоящее время живем и от чего гибнем, все наше неверие и наши нравственные муки — в этих небрежных заметках, в этом походном дневнике, торопливо набросанном в палатке где‑то на берегах Дуная, среди варваров, во II веке римским императором, умершим более чем за полторы тысячи лет назад. Но это не император, это не римлянин, это даже не человек с его обычным лицемерием и самолюбием — это душа, обнаженная от всех покровов, которую мы созерцаем лицом к лицу, как нашу собственную душу. Вся книга — один монолог из трагедии сердца великого и непонятого людьми. Предвидишь неминуемую развязку трагедии, но герой умирает с таким величием, с таким презрением к смерти и к жизни, что гибель его внушает больше благоговения, чем всякая победа. Не думая о догматах, он создал веру, доступную всем векам и народам; не думая о философских системах, он создал неразрушимое нравственное учение; не думая о литературном стиле, он создал глубокую поэму человеческой совести.
«Всегда смотри на себя как на умирающего» (кн. II, 2). «Через одно мгновение ты будешь горстью пепла, скелетом, именем, или даже имя твое исчезнет. Имя — только шум, только эхо! То, что мы так ценим в жизни, — пустота, тлен, ничтожество: собаки, которые грызутся, дети, которые дерутся, только что смеялись и сейчас же после этого плачут… Чего же ты ждешь?..» (кн. V, 33).
Его преследует мысль о смерти. Это хорошо знакомый нам страх, никогда не затихающий и неотразимый. Он преследовал римлян времен упадка, лишенных веры, и теперь, после долгого перерыва снова пробудился; он преследует людей XIX века самых различных темпераментов, национальностей и направлений — одинаково Бодлера, как Леопарди, Байрона, как Толстого, Флобера, как Ибсена.
Один из последних питомцев эллинских муз, еще приносивший, в угоду толпе, жертвы светлым богам Олимпа, уже говорит о радостях жизни с презрением и злобою, бичует их, нарочно употребляя самые грубые оскорбительные слова, как будто перед нами не ученик греческого ритора Фронтона, а суровый христианский отшельник. Говоря о славе царей и о величии, император в избытке негодования вдруг обрывает свою речь почти бранными словами: «о, какое зловоние, какой тлен!» (кн. VIII, 37). «Что такое ванна? — масло, пот, грязь, мутная вода — одним словом, все, что только есть отвратительного. Вот — жизнь; вот — предметы, доступные твоим чувствам» (кн. VIII, 24). «Игры и драки детей… души, облеченные в плоть — души, носящие на себе трупы!..» (IX, 24).
Он чувствует общее всем людям той эпохи — язычникам и христианам, утомление жизнью, разочарование в попытках человечества достигнуть свободы и равенства на земле: «не надейся, когда бы то ни было, осуществить республику Платона» (IX, 39). «Вечное повторение тех же предметов внушает отвращение: это мука всей нашей жизни. От высокого до низкого предметы всегда те же, происходят от тех же начал. До каких пор, наконец?» (VI, 46).
«Подумай только о нравах окружающих, с которыми приходится жить. Самый добрый из людей едва выносит их. Но что говорю? каждый едва выносит самого себя. Среди этого мрака, грязи, в потоке, увлекающем и материю, и время, и движение, и все предметы, знаешь ли ты хоть что‑нибудь достойное твоего уважения и твоих забот? Я ничего не знаю» (V, 10).
«Оставаться тем же, чем ты был до этого дня, и вести прежнюю жизнь, полную тревог и оскорблений, значит, не иметь чувства достоинства, значит, быть рабом жизни, похожим на тех несчастных, которые на арене цирка, когда звери уже наполовину загрызли их, все еще, покрытые ранами и кровью, умоляют народ оставить их жить хоть до завтра, зная, что и завтра на том же месте они будут преданы когтям и зубам тех же зверей» (X, 8).
«Быть властелином своей души, погасить все желания» (IX, 7) — вот, к чему он приходит. Это тот же вывод, как у буддистов и Шопенгауэра, — полное отречение от воли и страстей, внутреннее самоубийство.
«Будьте бесчувственны, будьте подобны камням!». В том же настроении, как великий пессимист–император, другой пессимист–художник — Микель–Анжело, написал сонет о своей мраморной, страдальческой «Ночи»: «мне сладко спать, еще слаще быть каменной в эти времена бедствий и позора. Ничего не видеть, ничего не чувствовать — великое блаженство. О, не буди же меня, умоляю! говори тише!»[48]. Так на пределах скорби наступает окаменение сердца. Человеческая душа, как Ниобея, превращается в камень[49]. Но и тогда для нее нет успокоения. Душа не умирает, и слезы живой любви и скорби продолжают струиться даже из каменных очей Ниобеи. И мраморная Ночь Микель Анжело живет и страдает.
«Будьте бесчувственны, будьте подобны камням» — вот неумолкаемый, из века в век повторяющийся завет стоиков, аскетов, буддистов, художника Микель Анжело, философа Шопенгауэра, императора Марка Аврелия. Но если камни не страдают, — они и не любят и не верят в богов. А кроткое сердце императора полно любви, сострадания к людям и веры в божественное начало мира. Это противоречие спасает его от сухости и омертвения души, в которое впадали более последовательные стоики, отрицая во имя разума все волнения, даже волнения жалости. Для себя он признает свободу воли, но, чтобы прощать других людей, он проповедует, что зло и пороки так же естественны, как розы — весною, как плоды — осенью. Это противоречие разрушает систему, но делает его книгу человечной: это неразрешимое противоречие нашего собственного сердца. «Если ты сердишься на кого‑нибудь, — советует он, — представь себе этого человека мертвым, лежащим в гробу, и ты простишь его». Таким образом сознание ничтожества нашей борьбы, страх смерти переходят в жалость к людям. «Помни об одном: через очень короткое время и ты, и он — вы оба умрете, а потом скоро даже имена ваши исчезнут» (IV, 6). Противник христиан говорит почти словами Евангелия: «человеку свойственно любить тех, кто делает ему зло» (VII, 22). Суровый стоик, который советует нам, слабым людям: «сохраняйте невозмутимое спокойствие, даже если тело ваше будут резать и жечь!» — обладает кротким и нежным сердцем: «о, душа моя, будешь ли ты, наконец, доброй, простой, всегда неизменной и открытой, обнаженной, более видимой для глаз, чем тело, твоя оболочка? Вкусишь ли ты наконец от блаженства любить, любить всех людей!» (X, 254).
Кроме доброты сердца, его спасает от аскетической сухости, квиетизма и отчаяния вера в непобедимость человеческого разума. «Помни каждое мгновение дня, что ты должен показывать в своих действиях твердость, как подобает римлянину и мужу» (II, 5). Человек должен «иметь в душе внутренний храм» (VI, 3). «Подчиняйся владычеству бога, живущего в твоем сердце; будь мужественным, зрелым, другом народного блага, римлянином, императором, солдатом, стоящим на посту и ожидающим сигнала трубы, человеком, готовым покинуть жизнь без сожаления, чье слово не нуждается ни в клятвах, ни в свидетельстве других людей» (III, 5). «Разум — это божественный гений, живущий в каждом человеке» (V, 27).
Его Бог — человеческая совесть. Это — простая, чистая и бескорыстная религия долга и любви. У него нет определенной веры в богов, нет никаких догматов. Сердце и ум не могут быть более свободными. Он ничего не утверждает. Сомнение никогда не исчезает из его веры. Его мысли всегда имеют две стороны: одну — если Бог и душа существуют, другую — если их нет. «Или все — неопределенная смесь, хаос, атомы, которые собираются и рассеиваются, или же в мире есть порядок, единство, провидение. В первом случае — неужели ты можешь желать оставаться в этом случайном смешении атомов? О чем мне тревожиться? Сила уничтожения подействует на меня, что бы я ни делал. Во втором случае — я боготворю Существо, управляющее нами; оно — мой покой, оно — моя вера» (VI, 10). «Что бы ты ни делал и ни думал, не забывай одного: возможно, что в следующее мгновение ты умрешь. Покинуть мир, если есть боги, не страшно: они тебя не сделают несчастным; если же их нет или если они не заботятся о людях, стоит ли жить в таком мире, где нет богов и нет промысла?» (II, 11). Вот чем Марк Аврелий близок нам, людям XIX века, таким скептикам, жаждущим веры, как Ренан. Марк Аврелий имеет силу никогда не выходить из этой дилеммы, он понимает, что ее нельзя и не следует разрешать. В этом трагизм нравственной жизни. Живая вера поддерживается внутренней борьбою, сомнением, вечно возрождающимся и вечно утоляемым верою. Вот почему вера — величайшее утешение и вместе с тем величайшее страдание души. Она дает жизнь сердцу и сжигает его, пожирает, как сильное пламя — сухое дерево. Только великая душа способна выдержать эту борьбу; слабые гибнут или успокаиваются на внешних догматах. Марк Аврелий до конца не изменил себе, до конца сомневался, верил и боролся со своими сомнениями за свою веру; он пал, обессиленный в борьбе, но не побежденный. В этом его величие.
Он иногда достигал такой высоты, где уже не слышно ни одного земного звука, где в безмолвии всех страстей исчезает даже скорбь. «Надо жить в согласии с природой это неуловимое мгновение, пока мы существуем; надо покинуть жизнь с покорностью, как спелая олива падает, благословляя землю, свою кормилицу, и благодаря дерево, на котором она выросла» (IV, 48).
Это успокоение мудреца граничит с гармонией и красотой, которых достигают только великие художники: «посмотри, каков луч солнца, когда свет перед нашими глазами проникает в узкую щель темной комнаты. Он протягивается прямой линией, потом ложится на какой‑нибудь твердый предмет, который преграждает ему путь и заслоняет то, что находится дальше и что он мог бы осветить. На этой преграде луч останавливается, не скользя и не падая. Так душа твоя должна сиять, изливаться на внешние предметы, никогда не изнемогая, а только стремясь, не делая насилия и не ослабевая, когда встречаются преграды. Пусть она не падает, но останавливается, как луч солнца, освещая то, что может принять свет» (VIII, 57).
О смерти никто не говорил более простых и глубоких слов, чем следующие заключительные строки дневника императора: «О, человек! ты был гражданином великого города. Не все ли тебе равно, прожил ли ты в нем пять или три года. То, что согласно с законами, не может быть несправедливым ни для кого. Какая же в том обида, что тебя удаляет из города не тиран, не судья неправедный, а сама природа, которая тебя поселила в нем? Так из театра отпускает актера тот же самый претор, который пригласил его на сцену. — „Но я еще не сыграл пяти актов, а только три”. — Ты говоришь хорошо. Но в жизни довольно и трех актов, чтобы пьеса была цельной. Тот, кто определяет твой конец, некогда соединил части твоего тела; он же — виновник их разложения. Ни то, ни другое от тебя не зависит. Уйди же из мира со спокойным сердцем. Отпускающий тебя не гневается» (XII, 36).
Но для того, чтобы достигнуть этих высочайших вершин мудрости, откуда человек созерцает смерть, как путник, достигший горных снегов, за облаками созерцает лицом к лицу вечно–ясное небо, ему надо было пройти страшный путь, подобный крестному пути всех мучеников. Иногда мы не в силах следовать за ним. Мы ужасаемся полного умерщвления воли и чувств, этого добровольного самоубийства. Он слишком презирает наши страдания и наши слабости. Он уверяет, что мы можем быть вполне счастливы, если бы даже все человечество восстало на нас с проклятиями, что мы можем сохранить невозмутимую ясность души, если бы даже хищные звери терзали наше тело. Быть может, это верно, но во всяком случае человеческое сердце возмущается против нечеловеческой логики стоицизма, и предел мудрости нам, слабым смертным, начинает казаться пределом жестокости. В самом деле, преступник, убивающий людей, уничтожает жизнь в ее чистых пределах. Мудрец, который ненавидит жизнь и отрицает ее сущность — волю жить, хочет истощить самый источник жизни, — быть может, совершает более страшное преступление, чем убийца. Вот величайший трагизм существования: последняя цель добродетели — отречение от воли, от жизни, уничтожает самую добродетель. У Марка Аврелия есть образчик стоической молитвы. «Другие молятся о сохранении жизни своих детей, ты молись: Господи, сделай так, чтобы мне было все равно — умрет ли мой ребенок, или нет»[50].
К счастью, Марк Аврелий не дошел до этой молитвы, о чем, между прочим, свидетельствует одна прелестная интимная записочка императора к его старому учителю Фронтону, которую я приведу целиком.
«Цезарь Фронтону.
По воле богов мы, наконец, снова можем надеяться на спасение (я опускаю наивную и реалистическую подробность о пищеварении молодой принцессы, которую император сообщает с великой радостью). Приступы лихорадки исчезли. Но остается еще худоба и немного кашля. Ты уже наверное угадал, что я говорю о нашей дорогой маленькой Фаустине, которая нас так беспокоила. Как твое здоровье? Напиши мне об этом, мой милый учитель».
В этой коротенькой записочке аскет, умерщвляющий свое сердце, изменяет неумолимому учению: он любит. Воображаю великого императора, чей памятник стоит теперь над Капитолием, воображаю того, кто защищал столько лет римскую империю от варваров, кто молился богам, чтобы они в сердце его погасили последнюю искру земной любви, воображаю его у постели маленькой больной дочери — как он рукой щупал ей голову: есть ли жар? Бедная Домиция Фаустина умерла. О, величайший из стоиков, неужели в ту минуту, когда перед тобой лежало маленькое холодное тело Фаустины, ты имел силу молиться богам: «сделайте так, боги, чтобы я не жалел ее!»
У буддистов есть легенда: Сакья–Муни много лет сидел в пустыне, неподвижный, вперив взор на небо, не видя земли. Он созерцал вечное, он был близок к Нирване. Протянутая рука его окостенела, и в ладони ласточки, принимая отшельника за камень или дерево, свили гнездо. Они прилетали к нему каждую весну. Но однажды улетели и уже более не вернулись. И тот, кто умертвил в себе все желания и волю, кто не страдал и не думал, кто погружался в блаженное спокойствие Нирваны, кому завидовали боги, — увидев, что ласточек нет, заплакал о них.
Таково человеческое сердце: оно не может достигнуть полного спокойствия и мудрости, потому что оно не может не любить. И — кто знает — эта слабость его не есть ли величайшая сила?
Так вихорь дел забыв для муз и неги праздной, В тени порфирных бань и мраморных палат Вельможи римские встречали свой закат…
Пушкин [51]
I
«Ты спрашиваешь, как я провожу дни на моей тосканской вилле? Просыпаюсь, обыкновенно, часу в первом (по солнечному времени), иногда раньше, редко — позже. Окна оставляю закрытыми: мысль ярче и живее во мраке и безмолвии… Если у меня что‑нибудь начатое, принимаюсь за работу, сочиняю в уме, располагаю слова, поправляю. Работаю то больше, то меньше, смотря по тому, чувствую ли себя расположенным. Потом зову секретаря (нотария), велю открыть ставни, диктую то, что сочинил. Он уходит; зову его снова, опять отсылаю. Часу в четвертом или пятом, иду гулять, смотря по погоде, или в крытую галерею, или в сад. Продолжаю сочинять и диктовать. Сажусь в колесницу; когда мой ум возбуждается переменой впечатлений, возвращаюсь к той работе, которой был занят, лежа в постели, и прогуливаюсь. Немного отдохнув, громко читаю какую‑нибудь латинскую или греческую речь более для укрепления груди, чем голоса, но и голосу это полезно. Еще гуляю, меня натирают елеем, занимаюсь гимнастикой, беру ванну. Во время обеда за столом сидит со мною жена или несколько друзей; что‑нибудь читаем вслух. За десертом в залу приходит комический актер или музыкант с лирою. Беседую с моими поверенными, среди которых есть очень образованные люди. Вечер затягивается в разнообразных беседах, и даже долгие летние дни проходят незаметно.
Иногда я слегка изменяю порядок дня. Если долго лежу в постели, то делаю более краткую и быструю прогулку верхом. Из соседних вилл приезжают навестить меня и я провожу с друзьями часть времени. Они развлекают меня, дают полезный отдых. Изредка охочусь, но никогда не забываю своей записной книжки; возвращаюсь домой если не с убитым зверем, зато с литературною добычею. Посвящаю несколько часов моим колонам (крестьянам, арендующим земли), — слишком немного, по их мнению. Но вечные деревенские жалобы заставляют меня еще сильнее любить нашу литературу, наши городские дела. Vale[52]»[53].
В приведенном письме Плиния есть то, что так редко встречается в памятниках исторических, — будничная сторона жизни. «Письма Плиния Младшего»[54] — одна из самых удивительных книг, какие нам оставила древность, — особенный род литературы, близкий нашему современному вкусу, исключающий все условное и внешнее, немного поверхностный, но зато грациозный, очаровательно–разнообразный. Читается эта маленькая драгоценная книга как интересный роман, полный живых характеров, движения и страстей. Это — что‑то вроде наших дневников, семейных записок или мемуаров XVIII века.
Роскошная летняя жизнь в безмолвии мраморных вилл, шум и говор римских судебных мест — базилик, где адвокаты произносят напыщенные и лживые речи, ужасы Домицианова правления, мудрость Траянова века, застольные песенки и анекдоты светских людей, героическое самоубийство римских стоиков, литературные обеды и чтения — вся эта пестрая картина возникает перед нами с необыкновенной ясностью. Слышится и смех веселых шутников, и грохот колес по римской мостовой, и шелест деревьев в затишье Лаврентинской виллы[55]; не верится, что все это умолкло, потухло, умерло восемнадцать веков тому назад.
Как эти древние люди похожи на нас! Как мало меняется самая ткань повседневной человеческой жизни. Только узоры — иные, основа — старая.
«Тогдашний литературный вкус, — говорит Э. Ренан о веке Траяна, — был весьма плохой… Все портила декламация… Все говорили о красноречии, о хорошем стиле, но почти никто не умел писать… Общий дух литературы — нелепый дилетантизм, который овладел даже императорами, глупое тщеславие, которое побуждало всякого выказывать свой ум. Отсюда необыкновенная приторность, бесконечные „Тезэиды», драмы, написанные для чтения в маленьких кружках, нестерпимо–банальные, которые можно сравнить с эпопеями и трагедиями, сочинявшимися в самом начале нашего века во Франции»[56].
Этот строгий отзыв великого историка христианства верен только относительно художественной литературы, и то лишь в ограниченной степени. Проза Тацита едва ли стоит ниже стихов Горация и Вергилия. Век Траяна был веком историков, а не поэтов. Быть может, никогда еще гений римской прозы не поднимался так высоко. Во времена, близкие к литературному упадку, стиль достигает, ненадолго, величайшей красоты и выразительности — в языке чувствуется зрелость и сочность самых поздних осенних плодов.
II
Плиний стоит перед нами, как живой. Он нарисовал себя в своих письмах, как художники, которые оставляют потомству собственные портреты. Нельзя кончить этой книги, не полюбив автора, открывающего свое сердце с такою благородною простотою.
Плиний родился в городе Комо в 61 году после P. X. В молодости своей он пережил худшую эпоху римского цезаризма и навсегда сохранил о ней тягостные воспоминания. Вот как изображает он страшные времена императора Домициана в письме к философу Аристону: «тогда добродетель была подозрительной; порочность всеми уважаемой; никакой власти у начальников, никакой дисциплины в войсках; все человеческое поругано; хотелось одного, как можно скорее забыть то, что видел. А видели мы сенат трепетный и безгласный (curiam trepidam et elinguem) — говорить в нем было опасно, молчать позорно. Чему мы, юноши, могли научиться, да и какая польза была в учении, когда сенат созывался для полного бездействия или для гнусного злодейства? Над ним издевались или заставляли его дрожать. Решения были смешными или плачевными. Эти бедствия продолжались долгие годы. Мы и выросли, и сами сделались сенаторами, испытав такие несчастия, что с той поры на всю жизнь сердца наши остались окаменелыми, измученными, разбитыми (ingenia nostra in posterum quoque hebetata, fracta, contusa sunt)»[57].
Императору Домициану, кровожадному зверю в образе человека, курились алтари, приносились жертвы, как Богу. По дороге в Капитолий проходили стада, которые предназначались для этих нелепых и кощунственных жертвоприношений. Знаменитый римский оратор Квинтилиан пресмыкался у трона, чтобы сохранить себе жизнь[58]. Лучшие граждане, философы, ученые изгонялись, как преступники. Многие добровольно умирали, полные презрения к своему отечеству.
Плиний перенес ужасные времена с героизмом. Он не берег жизни и ни разу не унизился до лести. Один из его друзей, философ Арпимидор, был изгнан императором. Плиний, исполняя должность претора, что еще усиливало опасность, не побоялся посетить друга в загородной вилле. Арпимидору нужны были деньги, чтобы уплатить долг. Многие из богатых и могущественных друзей его не решались помочь изгнаннику; Плиний занял деньги и дал ему. В то самое время, как он оказывал ему опасную услугу, семь лучших друзей его были казнены или изгнаны Домицианом. Сенекион, Рустик, Гельвидий убиты; Маврик, Гратилла, Арриа и Фанния изгнаны. «Молния, которая поразила столько близких людей, судя по многим признакам, угрожала и мне. Но я сделал то, что должен был сделать, чтобы не заслужить бесчестия»[59], — заключает Плиний с благородною скромностью.
Среди ужаса домициановского Рима он верен себе так же, как ввиду погибающей Помпеи при знаменитом извержении Везувия, которое он списал с живостью очевидца и беспристрастием философа в двух своих лучших письмах к Тациту, этих совершенных образцах латинской художественной прозы. И в то время, когда он переступает в доме своего изгнанного друга Арпимидора порог, который грозит сделаться порогом смерти, и под страшным заревом вулкана — грустное и доброе лицо римского патриция сохраняет отпечаток возвышенного спокойствия, не изменившего ему ни в позоре, ни в славе, ни в жизни, ни в смерти.
III
Светоний и Ювенал нарисовали такую ужасающую и вместе с тем величественную картину древне–римского цезаризма[60], современные историки так усердно и красноречиво описывают нам нравственное падение языческого Рима, что мы давно усвоили привычку преувеличивать мрачные стороны этой эпохи. Кажется, если бы не христианское возрождение, мир неминуемо должен был погибнуть. Но так ли это? Не было ли христианство проявлением того, что невидимыми путями подготовлялось в недрах языческого мира? Быть может, не Домициан и Каракалла, а Тацит и Плиний — представители того цезарского Рима, страшного города, который с омерзением автор Апокалипсиса называет «Великою Блудницею»[61] — «Magna Meretrix».
Правда, у Плиния нет «духа смиренномудрия». Он никогда не отрекается от своего человеческого достоинства; смотрит прямо в глаза людям и судьбе; любит жизнь, еще больше славу, и не стыдится этой любви. Вот что он пишет Тациту: «я не знаю, заслужим ли мы оба почести в потомстве не нашим умом (надеяться на это было бы тщеславием), но нашим трудолюбием, нашим уважением к потомству. Будем продолжать путь: если и немногих он привел к свету и славе, то все‑таки многих вывел из мрака и забвения»[62]. В другом письме к тому же великому другу он говорит с еще большею искренностью и нескрываемою жаждою славы: «какая сладкая, какая благородная дружба, о Тацит! Как радостно думать, что, если потомство не забудет нас, то всюду будут говорить о нашем союзе, о нашей искренней дружбе, о нашем братстве! То будет редкое и прекрасное зрелище двух людей почти одних и тех же лет, одного и того же круга, с некоторою литературною славою (если я большего о тебе не говорю, то лишь потому, что в то же самое время говорю и о себе), людей, ободрявших друг друга к благородным трудам! Еще будучи юношей, видя тебя в ореоле славы, я уже горел нетерпением последовать за тобою, идти по пятам твоим, правда, „далеко позади, но все же первым за тобою”, — по выражению поэта. Тогда в Риме было много знаменитых мужей, но сходство наших душ побуждало меня смотреть на тебя, о Тацит, как на предмет высокого подражания, как на совершенный образец. Вот почему я горжусь тем, что наши имена произносятся вместе на литературных беседах, и тем, что невольно вспоминают меня, когда говорят о тебе. Многих писателей предпочитают нам обоим. Но какое мне дело, буду ли я на первом месте или нет, только бы мне быть с тобою!»[63].
IV
Автор писем — не герой, не редкое исключение, а типичный представитель времени. Добродетели его — добродетели среднего хорошего человека той эпохи. Он не разыгрывает роли гения, напротив, — не хочет и не умеет скрывать своих маленьких слабостей, своих недостатков, а главный недостаток его — литературное тщеславие. После каждого из своих блестящих адвокатских успехов он не может скрыть неумеренного торжества. Предвосхищая суждение, которое принадлежит потомству, Плиний в наивном увлечении сравнивает себя с Эсхином и Демосфеном[64]. Когда он хвалит литературных друзей с преувеличенным усердием, чувствуется, что он ожидает и от них таких же шумных восторгов. «Нельзя слышать вашего голоса, — пишет он какому‑то неведомому гению Антонину, — не представляя себе старца Гомера, чьи речи были слаще меда. Нельзя читать ваших произведений без того, чтобы не казалось, что пчелы сообщили им благоухание самых редких цветов!»[65].
Его родная стихия, где он живет полною жизнью, — не форум, не уединенная келья мудреца, даже не природа, которую он умно и сердечно любит, а литературный кружок, собрание утонченных, немного поверхностных риторов. Настоящего служения тем строгим музам, которые некогда царствовали в Афинах, здесь давно уже нет. Эти римские литературные кружки, скорее, напоминают изящные легкомысленные салоны XVIII века. И здесь, и там слишком много говорят о поэзии, слишком мало ее чувствуют. Шекспир и Эсхил кажутся вечно–восторгающимся и в сущности очень холодным ценителям грубыми варварами. Здесь нужно остроумие Вольтера, декламация Сенеки. Их безукоризненный стиль своим лоском напоминает блестящий паркет или мозаичный мрамор, по которому скользят привычные ноги, обутые в башмачки с красными каблуками или в золоченые сандалии.
«Год был обилен поэтами, — сообщает Плиний как о важном событии, — в месяце апреле не проходило, кажется, дня без какого‑нибудь литературного чтения. Я люблю видеть, как процветает поэзия, как проявляется гений, несмотря на ту небрежность, с какою наши современники относятся к новым произведениям. Никто не жалеет времени, потраченного на форуме в скучных деловых разговорах… А между тем даже самые праздные люди, хотя бы их предупреждали и несколько раз повторяли приглашение, не приходят на литературные собрания. Если же удостаивают прийти, то жалуются на потерянный день, между тем как тех‑то именно дней и не следует считать потерянными, которые посвящены поэзии»[66].
Все это так. Но мы знаем, что истинных поэтов не было в те времена, и, несмотря на трогательное негодование Плиния, понимаем людей, которые неохотно посещали эти риторические оргии говорунов–дилетантов, влюбленных в себя, где подражатели Сенеки душили слушателей снотворными трагедиями. Нельзя сомневаться, что там царствовал дурной вкус: Плиний, благодаря прирожденному таланту, отличающийся превосходным сжатым стилем, восхваляет «многословие» (amplificatio) как немалое достоинство ораторского искусства. По его мнению, хорошая вещь выигрывает, если ее увеличить в размерах. Чем больше, тем лучше. Вот чего никогда не сказал бы житель благородной Аттики, современник Платона.
Иногда мелочное тщеславие Плиния возбуждает невольную досаду. Писатель, гордящийся дружбой с Тацитом, превозносит до небес жалкие стишки какого‑то Сентия Авгурина за то, что в них заключен ловкий комплимент ему, Плинию. Как может проницательный и умный человек придавать значение такому вздору? Странно и грустно через столько веков наблюдать маленькую борьбу маленьких самолюбий, взаимные любезности, расточаемые светскими дилетантами.
Но такова человеческая природа: на всякого мудреца довольно простоты; у каждого века свой комизм, которого избегают только исключительные люди. Плиний потому‑то и заслуживает нашего особенного внимания, что стоит не выше века, а наравне с ним, и с удивительной полнотой отражает его недостатки и добродетели, его слабости и величие.
V
«Я провел все эти последние дни в глубоком спокойствии среди моих книг и восковых табличек. Вы, конечно, спросите: как это возможно в Риме? А вот как. Было время цирка, который не имеет для меня никакой прелести. Я не нахожу в нем ничего нового, ничего увлекательного, ничего такого, что стоило бы видеть более одного раза»[67].
«Наши гладиаторские игры, — продолжает Плиний как настоящий христианский учитель, — развратили нравы всех народов. Эта болезнь распространилась всюду из Рима, как из главы империи. А ведь именно те болезни, которые начинаются с головы, наиболее опасные в человеческом, как и в государственном теле»[68].
Плиний сочувствует просвещенному императору, который, уничтожая гладиаторские зрелища в городе Виенне, впервые произнес знаменательные слова: «Vellem etiam Romae tolli possit» — т. e. «я хотел бы, чтобы и в Риме их можно было уничтожить»[69].
Вот где таятся причины будущего торжества христианства. Плиний, средний хороший и умный человек языческого Рима, сам того не зная, — христианин. Милосердие, любовь к ближнему не есть исключительная особенность какого‑нибудь вероисповедания, а коренится в самой природе человеческого сердца.
У Плиния есть та доброта, которая во всяком случае стоит гения. Без ложного смирения, слишком часто прикрывающего высокомерие фанатиков, умеет он быть снисходительным к людям и прощать. Вежливость сливается у него с врожденною, естественною благосклонностью к людям: «мне кажется, — пишет он, — что самый совершенный человек тот, кто прощает, как будто сам постоянно делает ошибки и вместе с тем избегает ошибок, как будто никогда не прощает другим… Будем снисходительнее даже к тем, кто умеет прощать только себя… Человек милосердный есть в то же время великий человек… Если ты делаешь добро, скрой имя того, кому благодетельствуешь. Так лучше»[70].
В письме к Патерну Плиний сообщает, что позволил своим рабам подписывать завещания, которые он так же свято соблюдает, как если бы они были законными[71]. Он признается, что любит слуг, как родных, и смерть каждого из них огорчает его, как потеря близкого человека. Эта жалость к рабам — черта новая, которая, как мы видим, развилась самостоятельно и независимо от христианства в лучшей части языческого Рима. Рабы такие же люди, как мы, — эту мысль, противоречившую сущности древнего миросозерцания, впервые высказали не только христианские проповедники, но и благородные римские граждане века Траяна, Адриана, Антонинов.
Болезнь раба — настоящее семейное горе в патриархальном доме Плиниев. «С тем большей откровенностью могу признаться тебе, — пишет он Паулину, — в сострадании к рабам, что я знаю, с каким милосердием ты относишься к своим людям. Я храню в своей памяти этот стих Гомера: „Был он как нежный отец”у а также и наше римское старинное выражение „pater familias”»[72][73]. Он с негодованием говорит о людях, которые, щеголяя бессердечным отношением к слугам, имеют бесстыдство называть себя «философами». Плиний, между прочим, намекает и на стоиков, издевавшихся над жалостью простых людей, хваставших своим равнодушием, ataraxia, — добродетелью, безмерно прославленной впоследствии Марком Аврелием.
VI
Самоотречение, самоуничижение, подавление личности — ценой этих страшных жертв религиозное настроение, охватившее тогда человечество, достигло тех результатов, которых лучшие образованные люди древнего мира, подобные Плинию, достигают легко и естественно, прислушиваясь к внутреннему голосу своей человеческой природы.
Плиний не стесняет, не урезывает своей личности унылым аскетизмом во имя отвлеченного нравственного идеала, напротив, — он развивает ее, дает ей полный простор и сливает ее возвышенную духовную жизнь с жизнью народа, с жизнью человечества. Плиний уже «гуманист» в том смысле, как это слово будут понимать в эпоху Возрождения.
Однажды он приобрел маленькую драгоценную статую — «Сатира», из настоящей коринфской бронзы, великолепной античной работы. Как он радуется этому сокровищу, как подробно описывает своим друзьям, стараясь, чтобы в словах его запечатлелся точный образ, каждый изгиб, каждый мускул бронзового тела[74]! Он не сохраняет драгоценности для себя и жертвует бронзу, которую купил за огромные деньги, на украшение храма Юпитера в родном городе Комо, чтобы все могли видеть прекрасное и наслаждаться. Он не боится красоты. Напротив, чувствует, что, любя себя, он любит в себе и все духовное, бескорыстное, все, что соединяет его с другими людьми, составляет humanitas — свойство, которое он ставит выше всего в просвещенных людях. Вот почему он не отрекается ни от одной истинно–человеческой радости, и благосклонная улыбка веселья и мудрости никогда не сходит с его лица.
Он основывает школы и библиотеки на собственные деньги — «в знак любви к своему дорогому отечеству». Если знания доставляют ему радость, он спешит разделить ее с другими людьми, и тогда она становится совершенною.
Эта врожденная способность извлекать радость из жизни особенно драгоценна и удивительна.
У Плиния есть горький опыт мира и людей, грустное знание человеческой низости. Недаром живет он в Риме, который послужил темой для беспощадных сатир Ювенала, недаром перенес кровавые ужасы домицианова века. В письмах его попадаются острые, ядовитые стрелы эпиграмм, в свое время причинявшие не меньше боли и злости, чем львиные когти великого сатирика. Он очерчивает одним словом смешных, подлых или глупых людей, как выбивают человеческий профиль на медалях:
«Не они владеют золотом, а золото ими владеет».
«Свойственно многим идти на смерть в слепом порыве страстей, но спокойно взвешивать жизнь и смерть, избирая ту или другую, согласно с тем, как потребует разум, — принадлежит только великому духу»[75].
«Nihil desperare, nulli rei fidere», т. e. «ни в чем не отчаиваться, ни на что не надеяться», — таков стоический девиз Плиния.
Он часто думает о краткости человеческой жизни, и эта мысль укрепляет его решимость не медлить, не тратить времени даром, пользоваться каждым мгновением для наслаждения, для добра и знания. Краткость жизни увеличивает ее ценность.
В этом миросозерцании все претворяется в радость, все служит примиряющей мудрости. Эта способность так развита в Плинии, что и в самых мрачных сторонах жизни, напр, в болезни, он умеет отыскивать прелесть: «недавно, — пишет он Максиму, — болезнь одного из друзей моих натолкнула меня на следующую мысль: все мы очень добродетельны, пока больны. Видел ли ты когда‑нибудь больного, одержимого скупостью или похотью? Больной равнодушен к любовным наслаждениям, не жаждет почестей, пренебрегает богатствами, доволен тем, что имеет, зная, что придется, рано или поздно, все покинуть. Верит в богов, сознает себя человеком. Никому не завидует, не удивляется, никого не презирает. Злословие не огорчает и не радует его. Он грезит только о прохладной воде и купаньях: это — предмет его надежд, предел его желаний. Если ему посчастливится выздороветь, он думает только о том, чтобы отныне вести праздную и тихую жизнь, т. е. самую счастливую и веселую»[76].
Вот что делает Плиния более близким нам, чем суровых и сумрачных представителей римского стоицизма. К их мудрости примешивается что‑то холодное, педантическое и отталкивающее. В характере Плиния чувствуется не меньшая, чем у стоиков, выдержка, непоколебимость римской добродетели. Это вовсе не баловень судьбы, не сладострастный ученик Аристиппа. Не раз видел он смерть лицом к лицу. Но вместе с тем, как у самого очаровательного из скептиков — Монтаня, у Плиния есть любезность и мягкость — эта живая прелесть живого человеческого сердца. Он понимает лучше, чем кто‑либо, строгую добродетель Катонов, но это не мешает ему любить и легкие, недолговечные розы Марциала:
Quum regnat rosa, quum madent capilli,
Tunc me vel rigidi legant Catones[77][78].
VII
Жизнь Плиния — прекрасная и счастливая человеческая жизнь. Все в свое время. Он не жалеет юности, когда юность проходит; он призывает к себе тихую старость, с надеждою, с нетерпением, как свободу, как награду. «Мы должны отдать отечеству, — говорит он, — первую и вторую часть нашей жизни; а третью, последнюю, — себе… Когда же, наконец, достигну я этой свободы! Когда же позволит мне старость подражать тебе, любезный Помпоний, твоему сладостному уединению. Когда же досуг мой не будет более называться ленью, а спокойствием!»[79].
Плиний, один из первых, сумел выразить новое чувство, которому суждено было иметь в тысяче разнообразных форм такое беспредельное значение, — чувство природы, красоту лесов, гор, полей, морского берега, наслаждение простотою сельской жизни; один из первых противопоставил шуму и суете города тишину и уединение виллы, подметил многочисленный «романтический» контраст, о котором через много веков должны были вспомнить Монтань и Ж. Ж. Руссо и передать его грядущим поколениям. Всматриваясь в легкие, изящно–условные ландшафты, набросанные греко–римскими художниками на склонах помпейских домов, невольно приходишь к заключению, что современное наслаждение природой уже в те времена зарождалось в людях и выступало в художественном сознании. К сожалению, это глубоко–арийское чувство не успело окрепнуть и развиться, застигнутое семитическим вторжением, бесплодным и жгучим ветром с Востока. Любовь к природе, которая в иной, более систематической и научной форме выразилась в сочинениях Плиния Старшего Натуралиста (родного дяди автора писем), была подавлена религиозно–аскетическим отвращением к природе «бледных людей в черных одеждах», видевших в Bona Mater[80] только соблазн, только воплощение нечистых сил, создание дьявола. Природа застилается мраком так же, как богоподобная нагота человеческого тела скрывается под темной одеждой аскетов.
«Странное дело, — пишет Плиний Минуцию Фундану, — спроси о каждом дне, проведенном в Риме, в отдельности, и я дам тебе отчет; соедини несколько дней или все, и я не в состоянии буду дать никакого отчета. Попробуй предложить кому‑нибудь вопрос: что ты сегодня делал? — „Я был, — ответит он тебе, — на семейной церемонии принятия мужской тоги (officio togae virilis). Меня пригласили не на обручение или свадьбу. Я присутствовал при совершении формальностей по завещанию. Один поручил мне дело; другой просил у меня совета”. Каждое из этих дел, в то время, как ими занят, кажется важным; но когда вспомнишь, что так проходят все дни, чувствуешь их пустоту. Тогда говоришь себе: на какие пустяки потратил я время! Вот что часто повторяю я в моей лаурентинской вилле, где я читаю, пишу, предаюсь телесным упражнениям для того, чтобы бодрость тела способствовала деятельности ума. Я не слышу, я не говорю ничего, в чем бы мне потом приходилось раскаиваться. Никто при мне не бесславит чужого имени. Я осуждаю только себя, когда недоволен тем, что писал. Никаких желаний, никакого страха и суеты. Я беседую лишь с самим собою и своими книгами. О простая, истинная жизнь! О благословенная тишина! Не лучше ли, не плодотворнее ли этот отдых, это спокойствие, чем всякое дело! О, море, о, берег, о, сладкое и пустынное обиталище муз! Сколько дум вы во мне пробуждаете, сколько вдохновений! Беги, беги и ты, любезный Минуций, от городскою шума, от пустоты и жалкой суеты! Забудь тщетные дела свои! При первой возможности, предайся, как я, науке или отдыху, вспоминая мудрое и шутливое слово нашего Аттилия: „otiosum esse, quam nihil agere — лучше ничего не делать, чем делать пустяки”»[81].
Он отправляется на охоту, чтобы быть ближе к природе, как передает о том записочка к Тациту:
«Ты будешь смеяться, и на здоровье! Я — тот самый, которого ты знаешь, поймал трех кабанов, и притом огромных. Как, неужели сам? Ну да, сам! Впрочем, мне — признаться — не пришлось для этого особенно изменять своей обычной лени и бездействию. Я сидел у капкана: рядом были не охотничья рогатина или копье, а только невинный стилос и записная книжка. Мечтал, писал, утешал себя надеждою вернуться домой если с пустыми руками, то с полными восковыми табличками. Не пренебрегай таким способом писать. Ты не можешь себе представить, до какой степени движение тела возбуждает деятельность ума, не говоря уже о том, что тень лесов, уединение, глубокая тишина, которой требует охота, — все благоприятствует вдохновению. Вот почему, когда вздумаешь охотиться, бери корзину с припасами и бутылку, но не забывай и восковых табличек. Увидишь, что Минерва не менее, чем Диана, любит горы и леса»[82].
С особенной ясностью чувство природы выражается во всех подробностях великолепного устройства знаменитой виллы Плиния — Laurentinum, которую он описал в одном из лучших своих писем. За каждой мелочью утонченного и грандиозного комфорта скрывается умение наслаждаться природою, извлекать из прекрасной местности все, что она может дать:
«Моя вилла Лаурентинум отстоит только на 17 тысяч шагов от Рима. Можно, окончив дела в городе, отправиться туда, не нарушая ежедневного порядка жизни… С обеих сторон дороги разнообразные виды (varia hinc atque inde facies). To обступают ее леса, то извивается она по широким равнинам. Многочисленные стада овец и быков, табуны коней пасутся, наслаждаясь сочными травами и вечной весной, даже в то время, как зимние холода уже свирепствуют в горах.
Вилла удобна, а содержание ее стоит небольших денег. Прежде всего — атриум, простой, но не лишенный изящества. За ним портик, дугообразный наподобие буквы D, окружающий маленький прелестный двор, восхитительное убежище от непогоды, защищенное стеклянными рамами (specularibus) и крышею. Далее внутренний двор, светлый и веселый. Оттуда можно пройти в красивую столовую, которая вдается в море, так что брызги волн достигают подножия стен, когда дует африканский ветер; эта комната со всех сторон имеет двустворчатые двери и окна, такие же большие, как двери; спереди, и справа, и слева открываются как бы три различных моря. Сзади виднеются в перспективе — внутренний двор, портик, внешний двор, еще портик, атриум, и в самой глубине — леса и далекие горы…
Угол, образуемый триклиниумом (столовой) и стеною другой меньшей комнаты (cubiculum), собирает и сосредоточивает в себе чистейшее солнце (angulus, qui purissimum solem continet et accendit). В этом месте слуги наслаждаются зимним теплом, устроив гимназию для телесных упражнений; все ветры здесь умолкают, кроме тех, которые приносят тучи и застилают солнце, но не мешают оставаться на воздухе. К этому углу примыкает круглая зала или ротонда, окна которой последовательно принимают лучи солнца во всякое время дня. В стену ротонды вделан глубокий шкаф, который служит мне библиотекой; в нем находятся не те книги, которые следует прочесть, а те, которые следует постоянно перечитывать (non legendos libros, sed lectitandos). Рядом спальные комнаты, отделенные от библиотеки коридором, — с трубами, идущими по стенам и распространяющими приятное тепло. Остальная часть флигеля занята рабами и вольноотпущенниками, но большая часть комнат содержится так чисто, что во всякое время они готовы для приема гостей.
В противоположном флигеле изящный кабинет; затем большая зала, которая вся так и сияет от моря и солнца (quae plurimo sole, plurimo mare lucet). Еще несколько комнат и, наконец, ванная. Здесь просторная холодная купальня и друг против друга, по стенам, два бассейна — таких больших и глубоких, что в них можно плавать. Рядом уборная, теплая баня и комната для потения… Ванны нагретой воды устроены так чудесно, что, купаясь в них, видишь море…
Некоторые комнаты помещаются в высоких башнях нарочно для вида; среди них одна пиршественная зала, окна которой открываются на виллы, на далекое прибрежье, на беспредельное море.
Не менее восхитителен сад, окружающий виллу: аллеи с утоптанным твердым песком, обсаженные вечно–зелеными пахучими буксами или розмарином. Среди фиг и слив, которым благоприятствуют особенности почвы, возвышается сводчатая галерея; с обеих сторон окна, — со стороны, выходящей в море, вдвое больше, чем в сад. Когда воздух ясен и неподвижен, все окна открываются настежь; если же с какой‑нибудь стороны ветер, то — открываются с противоположной, безветренной. Перед галереей цветник душистых фиалок (xystus violis odoratus). Стены, отражая лучи солнца, собирают их теплоту и вместе с тем защищают от аквилона.
В конце галереи и цветника — павильон; это мой любимый уголок. Я построил его сам. Здесь „настоящий солнечный очаг” (heliocaminus), который с одной стороны выходит на море, с другой — на цветник фиалок, и с обеих принимает солнечные лучи… Посередине той стороны павильона, которая обращена к морю, — маленький кабинет; его можно, по желанию, соединять с большою залою или отделять посредством стеклянных рам и занавесок. Здесь, в очаровательном уголке, помещается ложе и два стула (cathedrae): у ног своих видишь море, за собою — виллы; впереди — леса; три окна соединяют три различных пейзажа, не смешивая их… В этом павильоне мне кажется, будто я очень далеко даже от моей собственной виллы; я люблю проводить в нем долгие часы, особенно во время сатурналий, когда вся остальная часть дома наполняется криками веселья, дозволенного по обычаю праздничных дней. Таким образом, ни я не мешаю удовольствиям моих слуг, ни они не нарушают моих занятии».
Это описание — одна из самых характерных и поразительных страниц римской древности. За каждой мелочью чувствуется здесь бесконечная способность наслаждаться прелестью мира.
Любовь к солнцу — вот что руководило строителем виллы. Солнце — источник красоты и радости; всюду видна забота не потерять ни одного луча: портики, дворы, двери, окна принимают солнце, собирают его в глубоких мраморных залах, как воду в цистернах.
Солнце и море окружают виллу со всех сторон. Белый мрамор колоннад на фоне легкой лазури небес и глубокой синевы Средиземного моря, запах фиалок в безветренном воздухе, любимые книги, беседа с друзьями, безмолвие библиотек, которое нарушается только отдаленным плеском волн или жужжанием пчелы, залетевшей в открытое окно, — такова вилла, которая навсегда останется Элизиумом тех, кто любит мудрость, тишину и поэзию.
Образ жизни в таких виллах соответствует их величавому и простому комфорту. В одном письме Плиний изображает сельскую жизнь старого римского вельможи Спуринны, удалившегося на покой после шумной деятельности:
«Я люблю, чтобы жизнь людей, в особенности стариков, правильностью своей походила на неизменное течение светил небесных… Утро Спуринна проводит в постели. Ко второму часу обувается и делает пешком прогулку в три тысячи шагов. Ум упражняет он не менее, чем тело. Если присутствуют друзья, ведет с ними благороднейшие беседы; если же он один, ему читают, — ив присутствии друзей, когда все желают того. Немного отдыхает, опять берет книгу или возобновляет разговор, более увлекательный, чем книга. Потом садится в колесницу с женою, редкою, очаровательной женщиной, или же с кем‑нибудь из друзей, как например в последний раз со мною. Какая тихая беседа, какое сладкое уединение! Сколько воспоминаний о древности! Сколько мудрых изречений! Какие дела, какие люди воскресают в словах его! А между тем все это говорится с такою скромностью, что и мысли не может прийти, что он поучает. Проехав семь римских миль, еще одну милю идет пешком. Потом опять немного отдыхает, или удаляется в рабочий кабинет и пишет. Он искусен в лирической поэзии на обоих языках — греческом и латинском. Стихи его обладают сладостью, гармонией, весельем неподражаемым; их красоту возвышает добродетель поэта.
Когда ему объявляют, что час купанья настал, он раздевается и гуляет на солнце нагой, если погода тихая».
И здесь — солнце, и здесь, как везде, — любовь к солнцу.
«Затем он играет в мяч долго и с увлечением: это также одно из телесных упражнений, которые помогают ему бороться и преодолевать старость (pugnat cum senectute). После ванны ложится в постель и, в ожидании обеда, слушает чтение увеселительное и легкое. В это время друзьям предоставляется делать то же самое или что‑нибудь другое, смотря по желанию. Обеденный стол — не менее изящный, чем простой, с массивным старинным серебром. Есть также и вазы коринфской бронзы, которым он радуется, но без чрезмерного пристрастья. Нередко возлежащие за трапезой увеселяются комедиями, чтобы наслаждения сопровождались искусством. Обед затягивается до ночного часа, даже в летнее время, и никто не жалуется, до такой степени очарователен разговор. Благодаря этому образу жизни, в семьдесят лет сохранил он совершенно ясное зрение, чуткий слух, сильное и здоровое тело; старость принесла ему только одно — мудрость.
К такой жизни стремлюсь и я, уже заранее предвкушаю ее и начну с радостью, как только годы позволят мне удалиться от государственных дел. Теперь же, когда меня изнуряют разнообразные труды, пример Спуринны поддерживает и утешает меня, потому что и он, пока того требовал долг гражданина, отдавался важным заботам, занимал должности, управлял провинциями и долгими трудами заслужил себе право отдыха. Я избираю такой же путь, такую же цель, и да будет это письмо мое к тебе документом: если ты увидишь, что я затягиваю мою деловую жизнь долее положенного срока, — произнеси законный приговор и обреки меня на покой, когда уже нельзя будет упрекнуть меня в лености»[83].
Этот почти восьмидесятилетний старик, греющий на солнце свое обнаженное тело, свои еще крепкие мускулы, играющий в мяч, побеждающий старость, — кажется живым воплощением и символом античной жизни. Древние — истинные дети солнца.
VIII
Дядя Плиния Младшего был знаменитый Плиний Натуралист, посвятивший всю свою долгую жизнь огромным работам по естественной истории. По–видимому, любовь к природе была наследственною в этой талантливой семье. Плиний Старший погиб замечательною смертью, величие которой соответствовало всей его прекрасной жизни: он умер при извержении Везувия, засыпавшем Помпею, — при этом грандиозном и ужасающем явлении любимой им природы, которую он наблюдал до самого конца с бесстрашным любопытством. Плиний Младший рассказывает о смерти своего дяди и о гибели Помпеи в двух письмах к Тациту. Здесь выражается уже не мирное наслаждение мирною природою, а чувство еще более новое, неожиданное в древнем человеке, несмотря на то что сам рассказчик нисколько не скрывает испытанного им страха, — в каждой строке вдохновенного рассказа чувствуется эстетический восторг, наслаждение художника, равнодушного к собственной гибели.
«Ты просишь меня, — пишет Плиний Тациту, — рассказать о кончине моего дяди, чтобы ты мог с тем большею точностью передать повествование об этом событии потомству… С готовностью исполняю твою просьбу. Дядя был тогда в Мизене, — он управлял флотом. В девятый день перед сентябрьскими календами, в седьмой час дня, моя мать сообщила ему, что появилась туча необычайная и по размерам своим, и по виду. Посидев на солнце и взяв прохладительную ванну, он по обычаю возлежал, предаваясь научным занятиям. Тотчас же потребовал он сандалии и взошел на высокое место, откуда мог лучше наблюдать явление. Туча (на таком расстоянии нельзя было решить, над какой именно горой, — потом узнали, что это был Везувий) поднималась в воздухе, имея образ и подобие дерева, скорее всего, — итальянской пинны, потому что, возносясь к небу, как исполинский ствол, она в вершине своей разветвлялась. Может быть, сильный ветер, сначала поднявший облако, теперь затих; а может быть, ослабевая и опускаясь от собственной тяжести, распростиралось оно по небу. Туча казалась то белой, то грязно–желтой и пятнистой, то пепельной, то земляного цвета.
Дядя мой, в качестве ученого наблюдателя, нашел явление достойным более внимательного исследования. Он заказал либурнский корабль и предложил мне сопровождать его. Я ответил, что предпочитаю заниматься. Выходя из дома, дядя получил записку Ректины, жены Цезия Басса, испуганной опасностью (вилла ее была расположена у подошвы Везувия и можно было спастись только морем); она просила оказать помощь. Тогда он изменяет намерение и делает во имя долга то, что прежде делал во имя знания. Велит приготовить квадриремы и садится, чтобы ехать на помощь не только к Ректине, но и ко многим другим жителям, поселившимся на этом очаровательном прибрежье. Спешит туда, откуда все бегут; направляет свои корабли в самое опасное место, до такой степени чуждый страха, что все последовательные изменения, все картины этого бедствия наблюдает, отмечает и диктует свои заметки.
Уже на корабли падал пепел более горячий и густой, по мере того как приближались к Везувию; падали и целые глыбы, черные камни, обожженные, изъеденные огнем; море внезапно обмелело, и берег был загроможден извержениями вулкана. Дядя одно мгновение колебался, не вернуться ли, но сказал кормчему, который советовал возвратиться: „храбрым помогает судьба; правь к Помпонию!” Помпоний жил в Стабиях, на другой стороне маленького залива, потому что здесь морской берег образует едва заметные изгибы. Сюда Помпоний, ввиду опасности еще далекой, но постепенно приближавшейся, перенес свое имущество на корабли и, готовый к бегству, ожидал, чтобы затих противный ветер, для дяди моего оказавшийся самым благоприятным. Он приехал к нему, обнял трепетного друга, утешил, уговорил и, для того чтобы рассеять страх своим спокойствием, приказал отнести себя в купальни; взял ванну, возлег на трапезу и был весел или, что не менее свидетельствует о величии духа, казался веселым.
А между тем на Везувии, в различных местах, сияли широкие огни и огромные зарева: темнота ночи еще усилила блеск. Дядя успокаивал всех и говорил, что горят виллы, покинутые в жертву огню испуганными поселянами. Потом лег отдохнуть и, в самом деле, уснул настоящим сном, потому что сквозь двери слышалось дыхание, тяжкое и звучное, вследствие его дородности. А между тем двор начинал до такой степени наполняться пеплом и камнями, что, останься он дольше в этом здании, ему было бы уже невозможно выйти. Его будят. Он выходит, присоединяется к Помпонию и другим, которые бодрствовали. Они совещаются, остаться ли под кровлей или уйти в открытое поле, так как здания, потрясенные частыми и сильными подземными ударами, колебались и, как будто сорванные со своих оснований, то двигались по различным направлениям, то опять возвращались на прежние места. С другой стороны под открытым небом грозило падение камней, хотя и легких, изъеденных огнем. Из двух опасностей выбрали вторую. У дяди довод побежден доводом, у остальных страх страхом. Они привязывают посредством холщовых полос подушки к головам для защиты от падающих камней.
В других местах рассветало, а здесь по–прежнему была ночь чернее, гуще всех ночей, хотя и озаряемая как бы отблеском факелов многими и разнообразными огнями. Пошли на берег, чтобы посмотреть вблизи, не утихло ли море, но оно было такое же бурное и опасное для плаванья, как прежде. Дядя лег на растянутый покров, два раза просил холодной воды и осушал кубок. Скоро огни и запах серы, предвещавшие пламя, заставили его встать, а всех остальных обратили в бегство. Он подымается, опираясь на двух молодых рабов, и в то же мгновение падает мертвым. Я думаю, что густой дым остановил дыхание и задушил его, потому что грудь его от природы была слаба и он часто страдал одышкой. Когда дневной свет опять появился (на третий день после кончины дяди), тело его нашли цельным, неповрежденным, с одеждой, оставшейся неприкосновенной, и вид его был скорее спящего, чем мертвого»[84].
Еще более замечательно второе письмо Плиния к Тациту о том же извержении Везувия:
«Ты говоришь, что письмо, в котором я рассказал о смерти моего дяди, внушило тебе желание узнать тревоги и опасности, которым и я подвергался, оставшись в Мизене, так как именно на этом месте я прервал мой рассказ.
Хотя вспоминать мне страшно,
Все же начну…
По отъезде дяди, некоторое время продолжал я занятия, для которых остался. Потом взял ванну, пообедал и уснул ненадолго тревожным сном. Несколько дней чувствовалось землетрясение, довольно мало беспокоившее нас, так как явление это — обычное в Кампании. В ту ночь, однако, землетрясение усилилось: казалось, все не только двигается, но и разрушается. Мать бросилась ко мне в спальню. Я вставал, чтобы разбудить ее, если бы она оказалась спящей. Мы сели на дворе, который узким пространством отделял дом от моря. Не знаю, как назвать мой образ действий — мужеством или неблагоразумием, — мне тогда было только восемнадцать лет, — но я велел принести книгу Тита Ливия и, как бы на досуге, принялся читать и даже делать выписки. Друг дяди, недавно приехавший из Испании, увидев меня и мать сидящими, меня читающим, упрекнул ее в хладнокровии, меня в беспечности. Однако с не меньшим усердием продолжал я чтение.
Был первый час дня. Свет до тех пор казался тусклым и сумрачным. Здания вокруг нас сотрясались с такою силою, что в этом тесном, хотя и открытом, пространстве угрожали раздавить нас, если бы рухнули. Тогда мы решаем выйти из города. За нами следуют испуганные жители и, так как в страхе люди думают, что подчиняться чужой воле безопаснее, чем своей, то огромная толпа устремилась за нами, теснит и гонит нас. При выходе из города мы останавливаемся, — видим много удивительного, много страшного. Взятые нами колесницы среди поля сами собою раскатываются в разные стороны и нельзя их удержать, даже подкладывая камни под колеса. Кроме того, море как будто уходит, всасывается собственной пучиной и отгоняется от берега землетрясением. Дно обнажается у берега и многие морские животные остаются на песчаной отмели. С другой стороны ужасающая черная туча, раздираемая огненными вихрями, изрыгает из зияющих недр своих целые потоки пламени, подобные громадным молниям.
Тогда друг, о котором я упомянул, с еще большею настойчивостью и силою убеждает нас: если твой брат, если твой дядя жив, он хочет, чтобы вы спаслись. Если погиб, то, конечно, хотел, чтобы вы пережили его. Зачем же медлите бежать? — Мы ответили, что не можем думать о своей безопасности, пока не уверимся в спасении дяди. Тогда он устремляется прочь от нас и убегает. Скоро туча спустилась на землю и покрыла море. Она облекла Капрею, окутала Мизенский мыс, так что мы больше не могли их различать. Мать умоляет, заклинает, приказывает мне бежать во что бы то ни стало, — говорит, что это легко при моей юности, тогда как ей самой, отягченной годами, отрадно умереть, только бы не сделаться причиной моей смерти. Я возражаю, что лучше погибну, чем покину ее. Беру ее за руку и принуждаю ускорить шаг. Она слушается с неохотой и продолжает обвинять себя, что задерживает мое бегство.
Пепел уже падал, хотя еще редкий. Оглянулся и вижу: густой дым ползет за нами по земле, расстилаясь, как поток, и приближается. Я говорю моей матери: «свернем в сторону, пока видят глаза, для того, чтобы нас в темноте не раздавила бегущая за нами толпа». Только что мы остановились, как воцарилась тьма, — не такая, как в туманные или безлунные ночи, а как в комнате без окон, когда потушили свет. Слышался вой женщин, плач детей, крики мужчин. Одни звали родителей, другие детей, третьи своих жен, перекликались и старались узнать друг друга по голосу. Один скорбел за себя, другой за близких. Иные молились о смерти, от страха смерти. Некоторые простирали руки к богам; многие уверяли, что больше нет богов, что теперь наступила вечная, последняя ночь мира. Были и такие, которые к действительной опасности прибавляли еще мнимые ужасы. Возвещали, что такое‑то здание в Мизене рушилось, такое‑то объято пламенем, и этим ложным слухам все верили.
Блеснул слабый свет, который, однако, был предвестником не света дневного, а приближающегося огня. Он остановился вдали от нас. Снова — мрак. Снова — пепел, густой и горячий. Иногда мы подымались, чтобы стряхнуть его с себя: иначе бы он засыпал и задушил нас своей тяжестью. Я мог бы похвастать, что ни один малодушный крик, ни одна жалоба не вырвалась из уст моих среди опасностей; но меня поддерживало горестное и все же великое утешение, что вместе со мною погибает весь род человеческий, что это — конец мира.
Наконец черная тьма рассеялась, как дым или облако. Скоро мы увидели день; блеснуло даже солнце, но мрачное, каким оно бывает во время затмения. Нашим глазам, еще полным ужаса, все представилось изменившимся, все было покрыто пеленою глубокого пепла, как снегом.
Мы вернулись в Мизен. Расположились в домах, чтобы отдохнуть, как могли, и провели неверную, беспокойную ночь, между страхом и надеждой. Страх преобладал, потому что землетрясение продолжалось, и почти все, напуганные предзнаменованиями, преувеличивали и свои, и чужие бедствия. Но и тогда, несмотря на все эти уже испытанные и ожидавшие нас опасности, мы решили не удаляться, пока не получим известий о дяде.
Ты прочтешь этот рассказ, хотя, конечно, и не введешь его в свою „Летопись”, так как он едва ли достоин такой чести; если же он покажется тебе не заслуживающим столь подробного изложения в письме, обвиняй себя, так как ты сам требовал от меня этих подробностей. Vale»[85].
IX
В письмах Плиния есть еще одна черта, драгоценная и любопытная для характеристики Траянова века: это отношение автора к христианам.
В 111 году Плиний был послан Траяном в качестве римского проконсула для управления областями Вифинией и Понтом, т. е. всею северною частью Малой Азии.
«Эта провинция, — говорит Ренан (Les Evangiles), — до тех пор управлялась крайне небрежно проконсулами, сменявшимися ежегодно, сенаторами, выбиравшимися по жребию. Официальный римский культ приходил в упадок, со всех сторон теснимый туземными религиями… Христианская вера, пользуясь распущенностью чиновников, которым было поручено сдерживать ее, распространялась на свободе, пускала все более крепкие корни»[86].
В таком печальном для Рима положении застал дела провинции Плиний.
Как безупречный гражданин, как точный исполнитель императорской воли, он с усердием принялся восстановлять в доверенных областях римский закон и порядок. Но ему недоставало настоящей опытности: это был скорее любезный гуманист, чем администратор. По поводу каждой мелочи он пишет непосредственно императору, испрашивая у него совета. Эта переписка, к счастью, сохранилась. Здесь мы с удивлением замечаем, как боязливо, враждебно к проявлениям умственной свободы, мелочно–придирчиво было так называемое просвещенное правление римского деспота, которого века не уставали прославлять. Траян запрещает всякие, даже самые безобидные в политическом отношении, «гетерии», т. е. товарищеские союзы, братства, артели с невинными или полезными целями, как напр, пожарные или установленные для празднования местных и семейных торжеств. Плиний (таков дух времени) беспрекословно и безропотно исполнял суровую волю кесаря. Последние независимые проявления народной жизни истребляются во имя безличного закона, во имя того, кого чиновник Плиний с официальной почтительностью называет «tutela generis humani»[87].
Христианские церковные общины должны были подвергнуться гонениям при этой мелочной политике, которой всюду мерещились призраки злонамеренных гетерий, которой даже общество в 50 человек, учрежденное для охраны от пожаров, казалось подозрительным (см. Plin. Epist. X, 33, 34). Несколько раз Плинию пришлось встречаться с последователями новой религии. Доносы становились многочисленнее; произведено было несколько арестов; следуя юридическому обычаю того времени, проконсул приказал объявивших себя римскими гражданами отправить в Рим. Подверг допросу двух диаконис. Все, что ему удалось открыть, казалось настоящим ребячеством.
Эти осложнения особенно обострились в городе Атизосе, на берегу Черного моря, осенью 112 года. По всей вероятности, последние события, которые так сильно обеспокоили проконсула, произошли в Амастрисе, городе, ставшем со второго века средоточием христианства в Понте. Плиний писал императору:
«Священным долгом считаю обо всем, что возбуждает мои сомнения, извещать тебя, государь. В самом деле, кто лучше твоего укрепит меня, наставит? Мне никогда раньше не случалось присутствовать при суде над христианами: вот почему я не знаю, какие деяния, в какой мере должно преследовать и наказывать. Так, например, неизвестно, следует ли принимать в расчет в этих делах различие возрастов, или с детьми поступать так же, как с взрослыми; должно ли прощать раскаявшихся, или же для того, кто был раз в жизни вполне христианином (omnimo christianus), раскаяние более не должно иметь никакого значения; наказуется ли имя помимо преступных действий, или преступные действия помимо имени? А пока вот по каким правилам поступал я с теми, которых приводили в мое судилище как христиан. Спрашивал их самих: христиане ли вы? Если не сознавались, спрашивал во второй и в третий раз, угрожая пыткой. Когда они упорствовали, я отдавал их в руки палачей, будучи уверен, что, — какова бы ни была сущность того, в чем они сознались, — все же достойны наказания их упрямство, их непослушание властям. Некоторых несчастных, одержимых тем же безумием (similis amentiae), велел отослать в Рим, так как они были римскими гражданами.
Скоро, во время самого судебного разбирательства, обвинения расширились и обнаружились более разнообразные формы преступных деяний. Обнародован был донос без имени, содержавший имена многих лиц, которые, однако, отрицали, что они в настоящее время — христиане, или даже были христианами. Когда в моем присутствии они призвали богов и молились, сожигая фимиам и выпивая вино твоему изображению, которое я нарочно велел принести вместе со статуями прочих богов, когда, кроме того, проклинали они Христа (к чему — как я слышал — истинных христиан никакими силами нельзя принудить), — я счел возможным отпустить их на волю. Другие из названных доносчиками сперва сознались, что они — христиане, потом отреклись, утверждая, что были христианами некогда; одни говорили — три года тому назад, другие — больше, некоторые даже двадцать лет; все они поклонились твоему изображению и ликам прочих богов, все они проклинали Христа.
Впрочем, утверждали, что вина их или ошибка заключались в следующем: в назначенный день собирались они до восхода солнечного; по очереди пели гимн Христу, как богу; клялись не совершать дурного, воздерживаться от воровства, убийства, прелюбодеяния, от нарушения обетов, от присвоения доверенного имущества; после того расходились, чтобы собираться для общей трапезы, пристойной и невинной. Но и от этого они, по словам их, стали воздерживаться со времени моего эдикта, которым я, согласно твоей воле, воспретил всякие дружеские сообщества (гетерии). Я счел необходимым, для разъяснения дела, подвергнуть пытке двух служанок, называемых у них диаконисами. Но я не нашел у них ничего, кроме печального и безмерного суеверия (superstitionem pravam et immodicam). Вот почему я прекратил следствие, желая предварительно узнать твою волю. Дело, как мне кажется, заслуживает особого внимания ввиду многочисленности этих несчастных. Целые толпы всех возрастов, всех сословий, обоих полов привлекаются к суду и будут привлекаемы. Не только в городах, но и в селениях, и в деревнях распространяется зараза этого суеверия (superstitionis istius contagio). Впрочем, думаю, что можно излечить и прекратить его. По крайней мере с ясностью обнаружилось, что с некоторого времени снова стали посещаться почти покинутые храмы богов, и жертвоприношения, которыми давно пренебрегали, возобновляются; всюду продаются жертвенные животные, прежде не находившие покупателей, — из чего явствует, какое множество несчастных может быть обращено на путь истины, если оказать милость раскаявшимся»[88].
На это длинное послание Плиния император Траян ответил следующей краткой запиской:
«Ты поступил как должно, любезный Плиний, с теми, которые подверглись обвинению в христианском суеверии. В подобных делах нельзя установить какого‑нибудь общего правила, которое имело бы вполне определенную форму. Разыскивать их не следует. Если призовут в судилище и обвинят, должно наказывать; однако тех, кто будет отрицать свою принадлежность к христианам и подтвердит свое отречение, поклонившись нашим богам, следует прощать и миловать, как бы ни были подозрительны их прежние действия. Впрочем, неподписанных доносов ни в каком случае не принимать. Это было бы дурным примером и несвойственно духу нашего века (пес nostri saeculi est)»[89].
Вот живая страница из летописей первоначального христианства. Здесь скрывается страшный и незабвенный урок для тех, кто судит слишком поверхностно и насмешливо о новых стремлениях, о новых верованиях и запросах темных народных масс.
Мы видели, что сердце Плиния обладает даром безыскусственной доброты; мы видели его чисто христианское милосердие к рабам, гладиаторам, вольноотпущенникам; всю свою жизнь он посвящал бескорыстной и просвещенной деятельности на пользу народа, основывал школы, библиотеки, жертвовал в храмы прекрасные художественные произведения. И что же? Умный, добрый человек, которого нельзя не полюбить, прочтя его письма, гуманист Траянова века, — ничуть не задумываясь, будучи убежден, что делает благородное и разумное дело, посылает на пытку двух, по всей вероятности столь же добрых и мужественных, как он сам, служанок–диаконис. Быть может, изнывая в мучениях, они смотрели в лицо своему палачу с ужасом, между тем как Плиний встречал их взор с удивлением и жалостью. Что мог узнать друг Тацита, римский проконсул, из неясного бреда этих несчастных? Он признается императору, что нашел в их словах только «печальное и безмерное суеверие».
X
Таковы письма Плиния, которые дают нам всего человека, как дневник, как жизнеописательный роман, как исповедь. Мы видели его в самых разнообразных положениях: и героем в темную кровавую эпоху Домициана, и суетным стихотворцем в римских литературных кружках, и бесстрашным художником–наблюдателем извержения Везувия, и эпикурейцем в библиотеках Лаурентины, и суровым римским проконсулом, беспощадным истребителем «христианского суеверия» в судилищах Понта и Вифинии, и просветителем народа, основателем школ и библиотек в уединении на берегах своего родного озера Комо.
Он обладает редким гением, этот уравновешенный, умный и добрый человек, — он умеет быть счастливым. В душе его нет ничего тяжелого, смутного и болезненного. В этих письмах слышится бодрое и свежее дыхание радости, подобное дыханию моря.
Но в то же время в них есть и бессознательная грусть — не горькое разочарование, а тихая вечерняя грусть. Как будто Плиний, подобно многим людям его эпохи, сердцем чует, что варварская ночь скоро покроет землю, что конец мира, его мира, прекрасного и разумного, приближается.
Но странно — это чувство великого конца не возбуждает в нем ни ужаса, ни отчаянья. В письмах его разлита прелесть вечера, прелесть осени.
Унылая пора — очей очарованье…
В багрец и золото одетые леса…[90]
Багрец и золото, пышные краски увядания, царственное великолепие смерти облекает литературу Траянова века. Так, входя в осенний лес, чувствуешь иногда в прохладном живительном воздухе зловещий и нежный запах, аромат увядающих листьев. От лучших писем Плиния веет этим благоуханием осени, — вот почему они навсегда останутся драгоценностью для редких и благородных любителей увядания — для тех, кто предпочитает старость молодости, вечер — утру [91] неизменяющую осень — лживой весне.
I
25 мая 1681 года, в Троицын день, на сценах всех главных городов старой Испании — Мадрида, Толедо, Гренады, в ознаменование торжественного праздника, по обычаю давались аллегорические драмы на сюжеты из Священного Писания. Эти мистерии назывались «autos sacramenteas». Каждый большой город избирал любимого поэта и заказывал к предстоящему празднику auto, что в Испании считалось величайшим триумфом и почестью для драматурга[92]. В тот год все мистерии принадлежали одному знаменитому престарелому писателю, придворному поэту короля Филиппа IV — Дону Педро Кальдерону де–ла–Барка. Он достиг вершины славы. Начиная королем и грандами, кончая ремесленниками и странствующими монахами народ испанский любил его. Седая голова восьмидесятилетнего поэта была увенчана всеми лаврами, какие только могла дать ему родина.
Но в то время как зрители на веселом празднике наслаждались созданиями гения и, быть может, завидовали его славе, поэт умирал. Он имел право спокойно смотреть в лицо смерти. За ним была жизнь, полная славы, перед ним — бессмертие. Благоговейные поклонники рассказывали, что в тот самый час, когда перед закрытием занавеса актеры произносили прощальные стихи его пиесы во всех главных театрах Испании, — он закрыл глаза навеки. Кончилась мистерия, кончилась и жизнь поэта.
Кальдерон родился 7 янв. 1600 года в богатой аристократической семье де–ла–Барка–Барреда, секретаря при королевском совете финансов. Слава улыбнулась ему рано. Когда Дону Педро было только девятнадцать лет и он еще не кончил курса в Саламанкском университете, его трагедии уже давались на всех главных сценах Испании, и публика с восторгом приветствовала в молодом студенте восходящее светило поэзии. По призванию он поступил в военную службу, участвовал в походах, много путешествовал, посетил Италию и Фландрию. Насколько можно судить по его комедиям, Кальдерон, вероятно, был одним из блестящих кавалеров на праздниках итальянского Возрождения, в загородных дворцах Милана и Пармы. Лопе‑де–Вэга, самый авторитетный из тогдашних испанских писателей, провозгласил его в своей поэме, «Лавр Аполлона»[93], величайшим гением эпохи. Король осыпал его почестями и наградами, приблизил его к себе, поручил ему постановку пиес на собственном театре и наблюдение за придворными празднествами. С той поры Кальдерон посвятил всю жизнь искусству.
Пятидесяти лет он поступил в монашеский орден[94]. Два величайших утешения, доступных людям, — религия и поэзия, озаряли его безмятежную старость. Он умер, как Библия говорит о самых счастливых людях, — «насыщенный днями»[95].
В старинных испанских изданиях Кальдерона сохранился его портрет. Он в монашеской одежде. На груди — ордена Св. Жака и Калатравы. Спокойные черты, седая борода, строгое, почти надменное выражение губ и во всей наружности что‑то властительное, указывающее на привычку повелевать: видно, что это старый воин, что ни созерцание поэта, ни смирение монаха не уничтожили в нем мужества и воли.
Воля — таково основное вдохновение всякого драматического действия. Где нет воли, там не может быть драмы.
Слишком поздние и развитые формы культуры, когда непосредственные движения воли ослабляются философским размышлением и привычкой сдерживать желания, мало благоприятствуют драматическому театру. Вот почему поэты новых времен, быть может, чувствуя недостаток в своих изображениях героической воли и борьбы, пытались перенести интерес драмы на то, что составляет не сущность ее, а только фон и обстановку: волю и трагическое действие хотели заменить — одни, подобно Гёте и Шиллеру, величием философской идеи; другие, подобно Виктору Гюго, — яркостью романтических контрастов; третьи, подобно Генриху Ибсену, — новизной психологического анализа; четвертые, подобно нашим Грибоедову и Гоголю, — сатирой, верностью бытовой обстановки. Они превзошли наивных драматургов прежних веков знаниями по истории, психологии, гениальными картинами быта, совершенством внешних форм, но никто из писателей XIX века в сущности драмы — в изображении великой страсти и трагической воли, не только не превзошел, но даже не сделался равным ни древнегреческим трагикам, ни английским и испанским драматургам XVI и XVII веков. Новые силы постоянно развивающейся всемирной литературы переносятся в другие области — в лирику и философскую поэму, в психологический роман, а драма постепенно падает и ослабевает. Трудно сказать, возродится ли она когда‑нибудь в будущем.
Кальдерон был монахом и воином. Это вполне определяет нравственное содержание его драм. Нельзя ставить себе ничего более далекого от современного взгляда на жизнь, чем миросозерцание Кальдерона. Видно, что сомнение никогда не касалось этой суровой и могучей души. Он без малейших колебаний верит в военную честь так же, как в католические догматы[96]. И в произведениях его — странное смешение теплого воздуха испанской ночи с атмосферой инквизиции, возвышенных понятий чести и рыцарской любви с жестокостью и фанатизмом. Если мы будем судить пиесы Кальдерона с точки зрения современных философских и нравственных требований, то эти чуждые нам произведения покажутся устаревшими, почти мертвыми, имеющими только историческое значение. Но, несмотря на все предрассудки, на бедность бытового колорита, на ограниченность основных идей и мотивов, в испанской драме есть нечто, чем она превосходит современную. В ней есть основа сценического пафоса — движение, основа жизни — воля, основа драмы — действие. Сила побеждает, а величайшая сила жизни — воля. Герои Кальдерона — эти люди XVI века, через сотни лет, через бездны культуры действуют на сердце своей непобедимой волей. Они живут. А жизнь не может устареть: она одна через все века и предрассудки возбуждает ответное волнение. Современные герои умеют чувствовать и размышлять, а те умеют желать и действовать.
Узость основных мотивов не только не ослабляет действия драмы Кальдерона, но усиливает его. Один из этих мотивов — любовь к женщине, другой — честь. И слепая воля стремится между этими двумя преградами, перескакивая через все препятствия или увлекая их за собою, к неизбежной катастрофе — к победе или смерти[97].
Нет ни размышлений, ни нравственных колебаний, ни раскаяния — действие почти быстрее мысли.
Кальдерон по преимуществу поэт национальный. Он понимает толпу так же, как толпа понимает его. Он не стремится быть выше своих современников, делит и с ними веру и предрассудки, беспредельность чувства и ограниченность знаний. Зато он и не чувствует себя таким одиноким, таким оторванным от народа, как поэты более поздних цивилизаций. Он — воплощение народной души; его зрители — голос народа. Национальность определяет и ограничивает его гений.
Шекспир отдален от испанского драматурга только одним поколением. Но у Шекспира мы встречаем уже безграничную свободу. Он вполне понимает толпу, но толпа понимает его только отчасти.
Кальдерон приближается к Шекспиру нарушением единства места, хотя он все‑таки не так легко и быстро переменяет декорации, как Шекспир. Единство времени испанский драматург соблюдает только отчасти. Его драмы совершаются в течение трех «дней», причем каждый «день» соответствует одному действию. Но он всегда сохраняет если не единство действия, то главного психологического мотива — единство страсти[98].
За этим исключением, в пьесах Кальдерона, как в английской драме, все неправильно, все нарушает симметрию. Здесь красота основана на резкости и глубине контрастов. Подобно Шекспиру, Кальдерон вводит в свои драмы параллель смешного и ужасного, пошлого и великого. На сцене появляются рядом с королями и дамами шуты и комические простонародные типы. В архитектуре испанской драмы царствует неправильный готический стиль. Рядом с фигурами рыцарей и святых чудовищные звери и смеющиеся, безобразные лица дьяволов, как в средневековых соборах[99].
Кальдерон выбирает для декорации самые живописные, мрачные и дикие пейзажи; он любит резкие эффекты, фантастические приключения, загадочные интриги, фабулы, напоминающие сказки; он рисует сцены поругания монахинь в кельях монастыря, пробуждение святых чувств в душе злодеев, молодых девушек в роли атаманов разбойничьих шаек. И самый стих испанской драмы — обрывистый, короткий и быстрый, подобен тонким, стрельчатым столбикам в готических соборах, как будто стремящихся к небу, — в противоположность плавному, будто широко расстилающемуся античному ямбу, который своей торжественной гармонией напоминает очертания древнего храма.
II[100]
Греческая трагедия вышла из обрядов, которые совершались на празднествах бога Диониса. Впоследствии, в развитом и законченном виде, она все еще сохраняет следы религиозного происхождения. Трагедия основана на величайшей мистической идее, какая была в языческом многобожии, — на идее Рока, Справедливости, заложенной в основу мира, карающей преступления не только людей, но и богов. Таким образом, театральное зрелище древних — род священного обряда, богослужения, литургии язычников во славу управляющей мирами Судьбы — этого безначального и непознаваемого Существа, тройственной Мойры[101], образа, в котором светлое множество олимпийских богов исчезает и разрешается в божественном Единстве.
Так же, как древняя трагедия связана посредством праздников Диониса с религиозным культом, испанская драма связана посредством средневековых мистерий с культом католической религии. Шекспир порвал эту связь. В его драме — полная философская свобода, нет и следа религиозного происхождения. Кальдерон — глубочайший мистик, но отнюдь не философ.
Символы — это философский и художественный язык католицизма. Таинства религии открываются верующим в символах. Из них состоит богослужение, они украшают церковь и служат материалом для религиозного искусства. Мистерия Кальдерона, которая еще не вполне отделилась от религии, заимствует у католицизма символический язык, подобно тому как греческая трагедия заимствовала от культа многобожия язык мифологических образов[102].
Свет человеческой мысли, вечные вопросы о жизни и смерти проникают и в драму Кальдерона, но только пройдя сквозь католические догматы, подобно тому как лучи солнца проникают в готическую церковь сквозь разноцветные стекла окон, окрашиваясь в яркие цвета.
Занавес поднимается. Перед нами — горная дикая местность; вдали — Крест[103]. Как символ будущей мистерии, Крест царит над мрачным пейзажем, среди пустынных туманов и сосен, над бездною. За сценой слышны ругательства и громкий разговор шута–крестьянина Жиля и его подруги Менги. Осел свалился в ров; они не могут его вытащить. Но юмор, как блеск солнца сквозь грозовую тучу, мелькнул и потух; тень становится еще мрачнее. Входят Лизардо и Езэбио. Лизардо: «Остановимся. Это место, уединенное и далекое от дороги, удобно для меня. Вынимай шпагу, Езэбио! Я привел тебя сюда, чтобы драться!» Езэбио спокойно спрашивает о причине. «Я — Лизардо дэ–Сена, сын Лизардо дэ–Курцио… Юлия — моя сестра… Благосклонности женщин такого происхождения, как она, не принято добиваться посредством любовных записочек, сладких комплиментов и тайных посланий… Мы бедны. А вы знаете, что, если рыцарь не может дать за своей дочерью приданого, приличного ее знатности, — скорее он заключит ее в монастырь, чем согласится на неравное супружество. Так и решил мой отец: завтра Юлия во что бы то ни стало, добровольно или насильно, сделается монахиней… Не следует, чтобы монахиня сохраняла залог такой безрассудной любви, такой постыдной слабости. Вот почему я возвращаю вам эти письма с твердой решимостью отделаться не только от них, но и от того, кто их писал. Итак, вынимайте вашу шпагу и пусть на этом месте кто‑нибудь из нас обоих падет мертвым: или вы, чтобы прекратить преследования, или я, чтобы не быть их свидетелем». Езэбио отвечает ему целой исповедью, рассказом о своей жизни. Он не знает, кто был его отец: он родился в пустыне, у подножия Креста. Его колыбелью был камень. Пастухи нашли младенца и отнесли в деревню, где сеньор Езэбио, владетель замка, принял его и воспитал как родного сына. «Мое рождение чудесно, — говорит Езэбио, — такова и судьба моя: в одно и то же время она — и враждебна, и благосклонна. Когда я был грудным ребенком, мой суровый и дикий нрав уже успел обнаружиться. Одними деснами я разрывал грудь женщины, кормившей меня. Однажды, обезумев от гнева, доведенная до отчаяния болью, она тайно от всех бросила меня в колодец. Но услышали мой крик, спустились и увидели меня, — как рассказывают, — невредимым, плавающим на воде, с младенческими руками, сложенными крест–накрест». Далее следует ряд наивных чудес в средневековом духе, в которых Крест, как знамение таинственной благодати, охраняющей этого человека, играет символическую роль: в огне пожара Езэбио не горит, потому что пожар случился в день Воздвижения Креста. В воде, во время бури и кораблекрушения, Езэбио не тонет, потому что он ухватился за обломок корабля, имевший форму креста. «Знак креста отпечатлен на моей груди, заключает он, так как небо назначило меня обнаружить действие какой‑то загадочной силы. Но, хотя я самого себя не знаю, такое мужество меня одушевляет, такой огонь и сила наполняют мое сердце, что я сделаюсь достойным Юлии, потому что, надеюсь, приобретенное благородство не менее знатности предков! Вот кто я. И хотя я мог бы дать вам полное удовлетворение, но я так оскорблен вашими словами, что не хочу ни оправдываться, ни слушать ваших жалоб. Вы не желаете, чтобы я был мужем вашей сестры, знайте же: ни отчий дом, ни монастырь не спасут ее от моих преследований, и ту, которую вы не удостоили дать мне в супруги, я сделаю все‑таки моею…».
«— Езэбио, когда должна говорить шпага, — возражает Лизардо, — язык молчит». Они дерутся. Лизардо падает. «Я ранен!» — «Как, ты не умер?» — «Нет, и у меня еще довольно силы, чтобы…» (он хочет встать и снова падает). «Увы, земля ускользает из‑под моих ног»… — «И ты сейчас умрешь!» — «Дай мне покаяться пред смертью!» — «Умри, негодяй!» — «Не убивай меня, я заклинаю тебя этим Крестом, на котором умер спаситель!» — «Это слово тебя спасло. Встань. Когда слышу имя Креста, гнев мой потухает и руки падают без силы. Встань!». В душе Езэбио необузданные страсти сменяются благочестием, и рыцарское великодушие таится в глубине этого неукротимого сердца. Со словами утешения он берет в объятия умирающего врага и несет в соседнюю обитель отшельников, чтобы он мог покаяться перед смертью.
Вторая сцена первого дня происходит в покоях Юлии, в замке Курцио, отца убитого Лизардо. Юлия рассказывает своей служанке Арминде, что брат ее, Лизардо, случайно нашел у нее в шкатулке любовные письма Езэбио и показал их отцу. В это время тихонько, незамеченный никем, в комнату входит Езэбио. Он недолго колеблется. «Когда она узнает судьбу брата и почувствует себя в моей власти, она должна будет примириться с неизбежным». Он произносит имя Юлии. — «Кто это? Вы здесь?» — Он умоляет ее именем любви сейчас же покинуть дом отца и бежать с ним. Арминда предупреждает, что в комнату идет Курцио, отец Юлии. Та в смущении прячет Езэбио в соседний покой. Входит Курцио. Он объявляет, что все готово для поступления дочери в монастырь. «Вы имеете право, — отвечает Юлия отцу, — располагать моей жизнью, но не свободой». Тогда Курцио отвечает ей оскорблением: он уже не сомневается в неверности своей жены. Юлия — не дочь его. Иначе она не могла бы «оскорблять отца, чье имя и слава блеском превосходят солнце!». Курцио, чтобы отомстить дочери, рассказывает подозрения в неверности ее матери. Некогда граждане дэ–Сена отправили его посланником к папе Урбану III. Во время его отсутствия жена, на которую «все в городе смотрели как на святую», осталась дома. Вернувшись через восемь месяцев, муж нашел ее беременной. Несмотря на ее уверения, он имел основания подозревать. «Я не говорю, — продолжал Курцио, — что я был вполне уверен. Нет! Но человек знатной крови не должен ждать доказательств. Ему довольно одного подозрения… О, неумолимая честь, о, жестокий закон света!.. Среди мрачных мыслей я не мог ни есть, ни спать, все мне сделалось ненавистным… И хотя часто в моих думах я считал жену невинной и оправдывал ее, но один страх подвергнуться позору был в моей душе так силен, что я, наконец, решил отомстить ей, не за ее вину, но за мои подозрения!..».
Шум прерывает его. Входит Арминда и возвещает горе. Лизардо, сын Курцио, убит в поединке. Крестьяне с Жилем во главе вносят окровавленный труп Лизардо на носилках. Отец спрашивает, кто убил его. Жиль произносит имя Езэбио. «Увы, — восклицает Курцио, — так, значит, Езэбио в одно и то же время отнял и жизнь мою, и честь мою! (К Юлии): Теперь оправдывай свою любовь… Уверяй, что она была невинной, когда кровь моя свидетельствует о позоре твоей любви!» — «Сеньор!..» — Но отец прерывает ее: «ты поступишь в монастырь, или умрешь. Не пытайся бежать! Я прикажу запереть все двери дома». Он уходит со слугами. В комнате остается одна Юлия, между мертвым телом брата и его убийцею, своим возлюбленным, который подходит к ней. Но она отталкивает его с негодованием. «Лучше бы мне умереть! — говорит он. — Потому что, пока я жив, я буду вас любить, и знайте, если даже вы будете заключены в ограду монастыря, и там вы не спасетесь от моих преследований!» — «Берегитесь, — гордо отвечает Юлия, — я сумею себя защитить!» — «Позвольте мне вернуться к вам?» — «Нет!» — «И нельзя ничего сделать?» — «Не надейтесь!..» — «Вы меня ненавидите?..» — «Я должна бы…» — «Вы обо мне забудете?..» — «Не знаю». — «Но я увижу вас снова?..» — «Никогда». — «Как? Для вас — ничто вся наша прошлая любовь?» — «А для вас — ничто эта кровь, пролитая вами?.. Но сюда идут. Сейчас откроют дверь… Бегите, бегите, Езэбио!» — «Я ухожу, чтобы исполнить вашу просьбу, но я вернусь». — «Никогда! Никогда!» Езэбио скрывается. Входят слуги и уносят тело Лизардо. На этом кончается первое действие.
Второй день. Та же местность, как и в первой сцене первого дня: в горах над скалами крест. Раздается выстрел из пищали. Входят Рикардо, Челио и Езэбио в платьях разбойников и вооруженные пищалями. Езэбио, думая, что они убили странника, велит похоронить его и поставить крест. Здесь, как и всюду, в характере Езэбио обнаруживается смесь религиозного чувства и неукротимой страстности. Возмущением против несправедливости общества он напоминает Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера: «я хочу, чтобы мои преступления сравнялись с несправедливостями, которым я подвергся. Сограждане преследуют меня с ожесточением, как будто я изменнически, а не в честном поединке убил Лизардо, и эти преследования вынуждают меня убивать людей, защищая свою жизнь. У меня отняли имущество, меня прогнали из моих замков, мне отказывают даже в необходимом!.. Зато всякий, кого я ни встречу в этих горах, будет убит и ограблен!». Между тем возвращается Рикардо и разбойники приводят старого монаха Альберто. Рассказывают новое чудо Креста. Пуля не ранила монаха, хотя попала прямо в грудь: свинец был остановлен переплетом книги, спрятанной на груди Альберто. Эта книга, написанная самим монахом, озаглавлена «Чудеса Крестного Знамения». Езэбио отпускает его с благоговением и просит: «я вижу, что вы желаете мне добра. Помолитесь же Богу, чтобы Он не дал мне умереть без покаяния». Монах торжественно клянется разбойнику: «где бы я ни был, но как только ты меня позовешь, я оставлю все и приду, чтобы тебя исповедать». В это время другой разбойник, Чилиндрина, приносит весть, что граждане дали Курцио, отцу Лизардо, военный отряд, с тем чтобы он захватил Езэбио живым или мертвым. Юлия заключена в монастырь.
Входит Курцио. Он замечает, что дикое, горное место, в котором находится, — то самое, где несколько лет тому назад он хотел убить свою жену из ревности. «Мне кажется, что здесь вокруг меня все — и деревья, и скалы, и цветы восстают на меня и укоряют за низкое дело!.. Я вынул шпагу… Розмира упала на колени и призывала Крест во свидетели своей правоты — и невинность сияла на ее лице». Он поднял руку, чтобы ударить. Но благодать Креста защитила невинную. Курцио шпагой поражал воздух и не мог коснуться Розмиры. В отчаянии он бежал, покинув жену, полумертвую от ужаса. Но, вернувшись домой, он нашел ее цветущей и радостной, с младенцем на руках. Это была Юлия. Ребенок имел на груди знак, подобный знаменью крестному из огня и крови. Мать смутно припомнила, что у подножия Креста родила другого ребенка, близнеца Юлии, который остался в горах… Здесь опять, во второй раз, воспоминания Курцио прерывает один из предводителей отряда, Октавио, известием, что разбойники недалеко. «Собери же людей, — приказывает Курцио, — и выступим против них. Я не успокоюсь, пока не отомщу!».
Сцена переносится в местность перед оградой монастыря. Ночь. Езэбио взбирается на стену по висячей лестнице, которую держат Рикардо и Челио. Вдруг его ослепляет сверхъестественное пламя. «Я пройду через этот огонь, — восклицает он, — и весь огонь ада меня не остановит!».
/
Следующая сцена в коридоре монастыря. В ночном мраке виднеется ряд келий. Езэбио ищет Юлию: «какое безмолвие, какой мрак, какой ужас!.. Но я замечаю свет лампады в соседней келье, и если не ошибаюсь, эта монахиня — Юлия!.. (Он отдергивает занавес — в глубине видна спящая Юлия). Но что со мной?.. Отчего я медлю заговорить с ней?.. Какая сила заставляет меня колебаться, между тем как другая влечет к ней?.. О, как она прекрасна в этой смиренной одежде!., быть может, потому, что у женщин вся красота в целомудрии?..». Наконец Юлия просыпается и в ужасе отталкивает его. Именем Бога заклинает она не осквернять святой обители кощунственными словами любви. Тогда Езэбио в отчаянии грозит ей: «твое сопротивление меня только воспламеняет. Если я пришел сюда, проник через стены и наконец отыскал тебя, — знай, что не одна любовь привела меня, но еще какая‑то сила неведомая, таинственная, которой я не мог не послушаться. Услышь мои мольбы, смилуйся надо мною, иначе я скажу всем, что ты сама впустила меня и уже несколько дней скрывала в своей келье, а так как мое горе доводит меня до отчаяния, я способен, Юлия»… — «Остановись, Езебио… Подумай… Увы! я слышу шум. Идут в часовню… Что делать?.. Я вся дрожу… Нас увидят… Вот пустая келья. Войдем туда, Езэбио!» — Езэбио (про себя): «о любовь моя, ты победила!» — Юлия (про себя): «о судьба моя, я погибла!» — Они оба уходят.
Четвертая сцена опять перед оградой монастыря. Рикардо и Челио поджидают атамана. Наконец в галерее над стенами обители появляются Юлия и Езэбио. Она старается удержать его, но он бежит, преследуемый мистическим ужасом. Она уступила его мольбам, готова была отдаться ему, как вдруг он увидел на ее груди знак, похожий на крест из огня и крови. Он спускается по лестнице. Ему кажется, что все небо наполнено багровым пламенем и молниями. Он падает, но призывает на помощь Крест, произносит Ave Maria и убегает с Рикардо и Челио, забыв лестницу у монастырской ограды. Юлия в отчаянии. «Когда Езэбио умолял со слезами любви, я не слушала его: а теперь, когда он покинул меня, я сама готова бежать за ним!..». Она видит лестницу. Сначала колеблется, потом страсть превозмогает. Она спускается с ограды и чувствует ужас: «я — падший ангел, нет больше надежды вернуться на небо. Но я не чувствую раскаяния!.. Вот я покинула святую обитель, и ночное безмолвие и мрак наполняют душу мою смятением и ужасом… Что делать, куда идти?.. Только что я была бестрепетной, полной отваги, а теперь!.. Ноги мои как будто окованы, страшная тяжесть давит, и кровь стынет в жилах… Нет, не пойду дальше, вернусь в монастырь. Я во всем признаюсь, вымолю прощение у Господа… О да, я заслужу прощение, потому что милосердие Божие беспредельно. Чьи‑то шаги… Спрячусь, а потом, когда уйдут, вернусь в обитель — и никто не увидит». Входят Рикардо и Челио: они берут забытую лестницу и уносят с собой. Юлия: «теперь, когда они ушли, я вернусь, никем не замеченная… Но где же лестница?.. Ее нет!.. Может быть, дальше… И здесь нет! Господи!.. Что мне делать?.. Но я понимаю Тебя, Всемогущий!.. Ты закрываешь мне все пути, и в то самое мгновение, когда, полная раскаянием, я хотела вернуться, ты делаешь мое возвращение невозможным. О, если так, если Ты покинул, если Ты отвергаешь меня, я гордо принимаю судьбу мою, и Ты увидишь, что отчаяние женщины наполнит мир удивлением и ужасом!».
Третий и последний день. Дикое место в горах. Езэбио входит, погруженный в воспоминания о Юлии: «причина моих поступков не во мне самом, но в могуществе высшем, которому я повинуюсь. Юлия, я жаждал тебя с невыразимой страстью, я нашел бы в тебе блаженство; но я увидел на твоей груди тот же знак Креста, как на моей, и с благоговением отступил. О, Юлия, если мы оба родились отмеченные Крестом, должно быть, в этом есть какая‑то непостижимая тайна, доступная одному Богу!». Разбойники приводят к нему неизвестного человека в черной маске, в плаще и со шпагой. Незнакомец не хочет сказать своего имени. Оставшись наедине, он вызывает Езэбио на поединок и нападает на него с обнаженной шпагой. Езэбио защищается и требует, чтобы по законам чести противник открыл лицо. Когда тот снимает маску, Езэбио узнает Юлию: «смотри, — вот что сделала со мною моя любовь и твое презрение. Для того чтобы ты знал, что ничто не может остановить женщину, когда гордость ее оскорблена, — слушай: не только я не раскаиваюсь в моих грехах, но готова на новые».
Другая часть горной местности. Шум сражения и крики. Юлия видит, что отряд Курцио побеждает, разбойники бегут и Езэбио в опасности: «я иду к нему, я остановлю беглецов и возвращу их в битву на помощь Езэбио». И она бросается в сражение. На сцену входят Езэбио и Курцио с обнаженными шпагами, сражаясь; но оба чувствуют, что какая‑то неведомая сила останавливает их. В сердце нет вражды друг против друга. Езэбио первый произносит слова мира, он готов пасть к ногам старика, чтобы молить о прощении. Курцио хочет спрятать своего врага и спасти от нападающих. Но поздно — они требуют смерти Езэбио. Тот сражается один против всего отряда и отступает, преследуемый врагами.
Последняя сцена драмы происходит в том же самом месте, где и первая первого дня. Входит Езэбио, тяжело раненный, и падает на землю. Он видит Крест и, чувствуя приближение смерти, обращается к нему с последней молитвой: «я — бедный грешник, требую твоей защиты как справедливого, потому что Господь для того и умер на святом дереве Креста, чтобы спасти грешников. Я — один из них, и Ты должен меня защитить! О Святой Крест, которому я всю жизнь поклонялся с таким благоговением, не дай мне, умоляю Тебя, умереть без покаяния!.. Я верю — меня должна спасти сила искупления, заключенная в Тебе»… Входит Курцио. Он с нежностью наклоняется над тем, кто был для него врагом и кто связан с ним теперь таинственной любовью. Он хочет ощупать его рану и вдруг замечает на груди запечатленный знак Креста — такой же, как у Юлии. Езэбио открывает ему, что не знает, кто был его отцом, что он родился на этом самом месте, у подножия Креста, и от рождения носит на груди это знамение. Тогда Курцио узнает, наконец, своего сына. «И здесь я должен испытать счастье, равное моему горю. О сын мой, какое блаженство и какая скорбь тебя видеть!.. Здесь твоя мать родила тебя. Бог наказывает меня на том же самом месте, где я согрешил». Езэбио перед смертью в последний раз призывает Альберто и на руках отца умирает. Входят поселяне и солдаты из отряда Курцио. Несмотря на сопротивление отца, они лишают Езэбио христианского погребения и хоронят труп в чаще леса под густыми ветвями и грудой сухих листьев. Потом все удаляются, оставив одного Жиля на страже. В это время входит монах Альберто, который на возвратном пути заблудился ночью в горах. Из глубины леса, во мраке, он слышит чей‑то жалобный голос: «Альберто!» Монах прислушивается. Голос снова повторяет: «Альберто!» — «Мне кажется, что я приближаюсь к нему. О голос, повторяющий мое имя так упорно, — кто ты?» — «Я — Езэбио. Подойди, Альберто, сюда, поближе, где я погребен, и подыми эти ветви. Не бойся». Альберто исполняет его просьбу, и на мгновение воскресший Езэбио рассказывает, что сила благодати и прощения так велика, что она победила смерть: он воскрес, чтобы не предстать пред лицо Божие без покаяния. Езэбио уходит за Альберто для исповеди в грехах, «которые более многочисленны, чем морской песок и атомы солнца». Появляются Юлия во главе разбойников и с другой стороны Курцио: дочь и отец готовы вступить в сражение, но Жиль рассказывает им о чуде. Все в ужасе и в благоговении смотрят, как за сценой воскресший мертвец, коленопреклоненный, исповедуется монаху. Кончив исповедь, он падает снова мертвым на землю. Юлия, услыхав, что Курцио называет Езэбио сыном, восклицает: «да поможет мне Господь! Что я слышу?.. Я — невеста Езэбио, я была его сестрой… Так пусть же узнает отец, пусть узнают все, кто меня слушает, пусть весь мир узнает: смотрите, перед вами Юлия, преступная Юлия!.. Мой грех был всенародным и покаяние мое пусть будет всенародным; с глубоким смирением я непрестанно буду молить о прощении людей и Господа!». — Курцио: «О преступная! Я убью тебя моими собственными руками!» — Юлия: «Защити меня, Божественный Крест!»
В то самое мгновение, когда Курцио бросается, чтобы ударить шпагой Юлию, она, припав к подножию Креста, вдруг исчезает. Этим кончается драма.
III[104]
«L’amor che muove il sole e l’altre stelle» — «Любовь, движущая солнцем и другими звездами», последний стих «Божественной комедии» — выражает основу произведения Кальдерона[105]. Сущность драмы — великая нравственно–религиозная идея.
У одного древнего учителя христианской церкви, Ефраима Сирийского, есть глубокое психологическое наблюдение: «мы все изменчивы по своей воле, но не по своей природе»[106]. Природа человека двойственна: воля его не может остановиться ни на чем, не может отдаться всецело ни пороку, ни добродетели, ни полной свободе, ни полному самоотречению, ни счастью земному, ни счастью небесному. Она жаждет успокоения и вечно колеблется, потому что мы — дети двух миров.
Эзэбио, Юлия — близнецы не только по рождению, но и по характеру. Трагедия их жизни была решена еще в то мгновение, когда отец из ревности, т. е. от недостатка веры и любви, хотел убить их мать. Они родились между пороком и добродетелью — между рукою убийцы и символом искупления, Крестом. Такова и жизнь их. Они не могут отдаться ни плоти, ни духу, ни демону, ни Богу. Их воля мечется между покаянием и возмущением. Они думают, что сейчас коснутся дна бездны, что больше падать некуда, что нет возврата. Но тотчас же овладевает ими другая стихия и выносит из глубины на поверхность. Когда еще сердце не перестало биться от возмущения, греха и страсти, они уже плачут слезами молитвы и покаяния.
Кроме человеческой воли действием драмы управляет другая высшая сила. Эта сила — «любовь, которая движет солнцем с другими звездами». Сила любви вызывает Эзэбио из бездны смерти, чтобы он мог покаяться. Одна мысль о Боге спасает преступницу Юлию, которую отец хотел убить собственными руками. Рок, идея возмездия и справедливости, управляющей миром, — основа древнегреческой трагедии. Бог, идея любви, движущей солнцем и другими светилами, — основа мистерии христианского поэта.
Честный немецкий протестант и гуманный эстетик Мориц Каррьер искренно возмущается чувственным католицизмом Кальдерона. Вот что он говорит о «Поклонении кресту»: «Это произведение оскорбляет и нравственное чувство и мыслящее самосознание, мешая символ с понятием, отрывая религию от морали, так что первая становится одною привязанностью к церковным обрядам и поклонением только фигуре Креста, то есть чистым фетишизмом, откуда выходит то отвратительно–гнусное учение, что человек властен творить ужаснейшие злодейства, лишь бы он уважал раз освященные внешности. Благоговейное поклонение Кресту не мешает Эзэбио быть убийцею, разбойником и растлителем, но он ставит кресты на могилах своих жертв, и вот крестообразно сложенное дерево выручает его из беды при кораблекрушении… Конечно, все ужасы изуверства, — восклицает умеренный протестант, — французская Варфоломеевская ночь и костры испанской инквизиции заключены в этой пиесе… Не высокий образ Иисуса, а лишь фигура Креста служит предметом тщетного поклонения. Место веры, приносящей плод добрых дел, заступает безумное и бездушное суеверие, обильно порождающее плевелы преступления». («Искусство в связи с общим развитием культуры»)[107].
В этих словах заключено несколько общепризнанных истин, в которых странно было бы сомневаться. Конечно, Богу надо поклоняться в духе и правде, а не во внешних обрядах; конечно, обоготворение самого дерева креста как орудия спасения — грубый фетишизм.
Но если мы полемизируем с монахом Кальдероном, не следует забывать, что прах его давно истлел в могиле и что, — по выражению Софокла, — «мало чести убивать мертвого». Жив только поэт Кальдерон, который написал мистерию «Жизнь — сон»[108]. Для Сигизмунда, героя мистерии, вселенная, равно как и для нас, — только сновидение, только мираж, за которым скрывается тайна.
Душа драмы «Поклонение кресту» — та идея, которая составляет одно из оснований христианского учения. Если нет веры в Бога, если нет любви к Нему, — нет добра и зла. Внешние добродетели, подвиги не спасут того, кто сердцем далек от Бога. «Если я предам и тело мое на сожжение, но любви не буду иметь, я — ничто»[109]. Первая, верховная, заповедь, которую Христос дает людям и на которой основано все его учение: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим»[110]. И уже из веры, из любви к Богу вытекает вторая, подчиненная, человеческая и земная заповедь: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»[111]. Добрые дела — только воплощение нашей любви к Богу. Любовь омывает все грехи, примиряет все противоречия, любовь оправдывает. Вот почему сила покаяния — беспредельна. Нет такой глубины падения, из которой вопль грешника: «Господи, помилуй меня!» — не мог бы спасти и вознести его к Богу. Евангельский рассказ о разбойнике, который покаялся на кресте и был спасен одним мгновением веры, оправдывает Кальдерона. Вдохновение его драмы сосредоточено в той сцене, где умирающий разбойник Езэбио обращается с почти требовательной молитвой к Богу: «Ты должен спасти меня!»
Моралисты всех времен угадывали опасность, заключенную в учении о беспредельной силе покаяния и любви. Слабые могут соблазниться этим учением. Но Кальдерон не принадлежал к числу робких и слабых. Он проник в глубину христианской любви, показал условность добра и зла, преступления и подвига перед ее силой. Добро и зло для него — только знамения, только обряды любви. Умеренным, рассудительным и трезвым людям, как Мориц Каррьер, это кажется дерзостью и возмущением против здравой морали. Осторожный эстетик и благочестивый протестант ужасается перед бездной Божьего милосердия, куда увлекает его поэт, и робкий доктринер закрывает глаза, стараясь слабыми руками удержаться за человеческие помочи, за наши земные цепи, за эти перегородки, отделяющие стойло овец от козлищ, — за добро и зло.
С совершенно другой точки зрения, но не менее строго осуждал христианского мистика «великий язычник» — Гёте. «Шекспир, — говорит Гёте, — подносит нам полные, спелые гроздья винограда прямо с лозы; мы можем лакомиться им по ягодке, можем его выжать в давильном чане, отведывать или пить его в виде виноградного сока или в виде перебродившего вина: он во всяком случае отрадно освежит нас. У Кальдерона, напротив, зрителю по его выбору и воле не предоставлено уже ровно ничего: ему дают выделенный, перегнанный винный спирт, только приправленный специями и подслащенный; надо выпить его, как он есть, как вкусное, раздражительное средство или же совсем от него отказаться»[112].
В этом отзыве Гёте всецело принадлежит XVIII веку. В нем чувствуется еще непримиренный, воинствующий гуманизм. Для Гёте ненавистен этот средневековый монах с его рабским подчинением католическим догматам, наивными суевериями, с его огненным и мрачным мистицизмом. Предвзятое мнение заставило его принять благородное, старое, испанское вино за что‑то горькое или кислое вроде винного уксуса. Однажды, во время своего первого путешествия по Италии[113], Гёте проезжал Ассизи, городок Умбрии, родину Св. Франциска. Он долго стоял со слезами умиления на глазах перед колоннами полуразрушенного храма Минервы и прошел мимо Францисканского монастыря в Ассизи — этой сокровищницы средневекового искусства, не только равнодушно, но с ненавистью к памятнику религиозных суеверий и человеческого рабства. Около ста лет после Гёте через Ассизи проезжал человек современный — Ипполит Тэн. Воинствующий гуманизм не помешал уже ему зайти в монастырь Св. Франциска, и, не отрекаясь от свободомыслия, он мог любоваться на древних стенах обители фресками Джиотто и Чимабуэ. Наш гуманизм многим отличается от гуманизма XVIII века. Мы так же свободны от средневековых догматов, как Вольтер и Гёте, но все‑таки можем находить, что Франциск Ассизский столь же близок божественному началу мира в своей простоте, любви и смирении, как поэт–Олимпиец. Мы уже без страха, только с любопытством изучаем нашу старую темницу, потому что вполне уверены, что не вернемся в нее никогда. Средневековый католицизм для нас мертвый враг, и мы перестали даже ненавидеть его. Мы смело можем снять с него доспехи, чтобы любоваться красотой и художественной отделкой страшного тысячелетнего вооружения, облитого кровью стольких жертв. То, над чем Вольтер злобно смеется, Ренан спокойно объясняет и, объяснив, начинает любить и находит, что под омертвевшей легендарной оболочкой таится вечно живое нравственное содержание.
При всех слабостях, при всем недостатке идеализма и творчества людям XIX века принадлежит оригинальное свойство, одна великая способность, которая возвышает их в известном отношении над всеми веками. Сквозь самые чуждые и непонятные догматы, сквозь призму мертвых религиозных форм они умеют находить вечно живую красоту человеческого духа. С этой точки зрения — все религии, вся поэзия, все искусство народов являются только рядом символов.
Но пусть сам Кальдерон оправдывает себя и пред трезвой моралью Каррьера, и пред воинствующим гуманизмом Гёте:
«Бог — дух, источник жизни и мудрости, создатель всего, властвует над природой. Что в святые ночи таинственного творчества ни вызывает она в своих грезах к цветению и гибели, сама себя не понимая, — все это делает она по воле вечного Его могущества. Открывая себя в каждой человеческой совести живым законом, Бог есть правосудие и этой жизни, и будущей… Он сам — вестник своего величия; всем громко заявляет Он бытие свое как единый Отец детям. И слово Его — Бог: те певучие голоса, что несутся из лесу и из бездны моря, отдались в сердце человека и внушили ему новый язык, каким открывается ему сам Создатель. И что же, в самом деле, говорит в нем, когда он созидает храмы, соединяя один громадный камень с другим; когда он измеряет земли, моря, пути светил небесных; когда другой человеческий образ веет на него любовью и он стремится воплотить то, что всего прекраснее, — что ж иное, как не Бог!
Источник всей человеческой мудрости — Он один; от Него одного рождается красота; Им одним созревает вечность в изменчивом».
Едва ли поэта, написавшего эти слова, можно обвинять в том, что он поклонялся дереву Креста, а не Любви, которой Крест служит для него только символом.
I
Каждому новому критику великих писателей прошлых веков может быть сделано одно возражение по существу: доступен ли был тот порядок философских идей и нравственных понятий, на основании которого судит современный критик, миросозерцанию поэтов более или менее отдаленных исторических эпох.
Возьмем для примера образ Прометея в знаменитой трагедии Эсхила[114]. Для нас, людей XIX века, образ этот связан по неразрывной ассоциации с идеей протеста свободной человеческой личности против подавляющего религиозного авторитета. Но, спрашивается, доступна ли была подобная идея античному греку времени марафонской битвы[115]? Конечно, нет. А между тем если мы заставим себя видеть в Прометее только то, что могли видеть в нем древние греки, — если мы искусственно уменьшим этот образ, выраставший в продолжение многих столетий, то значительная доля прежней красоты и величие типа исчезнет в наших глазах, и, строго соблюдая букву литературно–исторической, объективной вероятности, мы, может быть, принесем ей в жертву внутренний смысл, живую душу произведения. Если понимать доступность идеи как возможность вполне ясно и сознательно формулировать ее в определенных философских терминах, то, конечно, современная идея протеста не могла быть доступна автору Прометея. В органическом, непроизвольном процессе творчества гений помимо воли, помимо сознания неожиданно для самого себя приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества. Весьма вероятно, что через несколько столетий другие поколения читателей найдут в Эсхиловом Прометее новое, еще недоступное нам философское содержание, и они будут правы с своей точки зрения. Бессмертные образы мировой поэзии служат для человечества как бы просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое поколение подходит к ним и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает новые миры, новые отдаленнейшие созвездия, незамеченные прежде, — зародыши неиспытанных ощущений, несознанных идей; эти звезды и раньше таились в глубине произведения, но только теперь они сделались доступными глазам людей и засияли вечным светом. Как бы ни были усовершенствованы способы исследования — анализ, критика, вкус, — всей глубины звездного неба исчерпать невозможно: будущее поколение снова подойдет к просвету и откроет в гениальном произведении новые миры, новые созвездия…
Итак, в спокойные, чуждые творческого возбуждения минуты автор может сам не подозревать глубины и величия своего произведения, подобно тому, — если позволить себе это сравнение, — как гениальный Колумб не подозревал громадности открытого им материка. Субъективная критика именно потому, что в ней есть сочувственное волнение, потому что она отражает живые впечатления читателя, в которых всегда до некоторой степени воспроизводится творческий процесс самого автора, может иногда открыть внутренний смысл произведения лучше и вернее, чем критика исключительно объективная, которая стремится только к бесстрастной исторической достоверности.
Как относился Сервантес к своему роману? Можно сказать с уверенностью, что не сознавал его громадного значения. Вот что говорит об этом замечательный знаток испанской литературы Луи Виардо в статье, предпосланной французскому переводу «Дон–Кихота»: «Стоит только обратить внимание на странные небрежности, противоречия, ошибки, которыми кишит первая часть романа, чтобы найти в этом явное доказательство, что автор начал свое произведение в минуту дурного расположения духа, бутады, без определенного плана, отдавая перо в полную власть капризному воображению, будучи романистом по природе, не приписывая никакой серьезной важности своей книге, величия которой он, по–видимому, не понимал». В самом деле, в ней есть поразительные оплошности, которые возможны только при самом пренебрежительном отношении к собственному труду. Вот одна из них: Сервантес подробно рассказывает, как освобожденный Дон–Кихотом каторжник Гинес Пассамон ночью украл осла у Санчо–Панса, как последний огорчился по этому поводу и оплакивал своего верного спутника. Через несколько глав осел снова появляется, причем автор не дает никаких объяснений: очевидно, он просто забыл о краже осла, описанной в предшествующих главах. Такие небрежности попадаются нередко и во второй части, которая в общем написана более тщательно. Сервантес заставляет самого Дон–Кихота вступать в полемику с Авелланедой, автором апокрифического продолжения «Дон–Кихота»[116]. В качестве одного из доказательств, что противник его не имеет понятия о содержании романа, Сервантес замечает устами героя: Авелланеда «утверждает, что имя жены оруженосца Санчо–Панса — Мария Гутьеррец, тогда как на самом деле зовут ее Терезой Панса; тот, кто ошибается в такой существенной подробности, не может отвечать за правдивость всего рассказа». Но дело в том, что в этой «существенной подробности» ошибается вовсе не Авелланеда, а сам Мигуэль Сервантес: он забыл, что в первой части романа и даже в VII гл. второй, он назвал жену Санчо — Жуаной Гутьеррец. Оплошность мелкая, но чрезвычайно характерная, показывающая, как небрежно и невнимательно относился гениальный писатель к своему лучшему труду. Таких наивных несообразностей и непоследовательностей встречается в романе очень много и они свидетельствуют о том, как небрежно, почти эскизно создавались, конечно, не основные положения, а второстепенные детали великого произведения.
В предисловии к роману Сервантес называет историю Дон–Кихота — «легендой сухой, как тростник, бедной по замыслу и языку, лишенной остроумия и эрудиции, без примечаний на полях и комментариев в конце книги». Конечно, здесь есть некоторое преувеличение, некоторое «унижение паче гордости», но все‑таки нельзя не заметить по общему тону предисловия, что Сервантес, выпуская в свет «Дон–Кихота», гораздо больше опасался за него и меньше рассчитывал на успех, чем издавая другие сочинения. Во второй части, в то время когда книга доставила уже автору громкую европейскую славу, Сервантес дает более благоприятный отзыв о своем произведении, но все‑таки говорит так умеренно и скромно, как будто удивляется, что его «сухая, бедная легенда» могла иметь серьезный успех. Между прочим, устами одного ученого гуманиста, Самсона Карраско, он не без некоторого самодовольства замечает, что книга его особенно распространена в «прихожих знатных лиц», среди лакеев и пажей: «нет ни одной передней вельможи, где бы вы не нашли экземпляра „Дон–Кихота”; один оставляет, другой тотчас же принимается за него; этот требует, тот уносит его с собой». Сервантес с трогательной наивностью, которая встречается только у очень больших, бессознательно–гениальных художников, думает, что он оценил себя вполне справедливо, когда дает следующий отзыв о «Дон–Кихоте»: «история эта — самое приятное времяпрепровождение и наименее предосудительное из всех других, так как во всей книге нельзя найти ни одного непристойного слова, ни одной мысли, которая не была бы вполне католической».
Автор до такой степени не понимал глубины и значительности бессмертного романа, что ставил гораздо выше свои посредственные стихи (напр., юношескую поэму «Галатея»[117]) и еще более посредственные комедии. Вот, между прочим, как узко и поверхностно определяет он содержание «Дон–Кихота», ограничивая его тенденциозным протестом против рыцарских романов: «у меня не было иного желания, как предать проклятию людей ложные и нелепые сказки о рыцарях, которые, будучи поражены на смерть правдивой повестью о моем Дон–Кихоте, могут теперь только кое‑как, спотыкаясь, продолжать свой путь, а в будущем, без всякого сомнения, падут окончательно». Вследствие подобных признаний автора распространился взгляд на «Дон–Кихота», как на остроумную сатиру, направленную против смешных и вредных сторон рыцарской литературы. Но что подобная рассудочная тенденция могла быть только второстепенным, побочным выводом, а никак не первоначальной творческой идеей всего произведения, доказывается следующим фактом. В 1615 году были закончены обе части «Дон–Кихота», а ровно через два года, в 1617 году, появилось произведение Сервантеса — «Персилес и Сигизмунда»[118] написанное в неестественном и напыщенном стиле тех самых рыцарских романов, возможность которых была, по–видимому, уничтожена «Дон–Кихотом». Здесь нет и помина о какой бы то ни было насмешке или пародии, напротив, это искреннее восторженное подражание образцам нелепой литературы, послужившей причиной сумасшествия бедного ламанчского гидальго. Сервантес почти стыдится гениального «Дон–Кихота», говорит о нем скромно и робко как о незначительном, шутливом произведении, — и тот же самый Сервантес объявляет с само довольствием и гордостью как об огромном литературном событии о выходе в свет «Персилеса и Сигизмунды» — слабейшего из его произведений. Очевидно, что тенденция, которую общепринятое мнение считает идейным ядром «Дон–Кихота», так поверхностна и недорога самому автору, так мало связана с бессознательной глубиной его творческого вдохновения, что левой рукой он без малейшего колебания восстанавливает то, что старался разрушить правой. Очевидно, не сатира, не рыцарские романы, а нечто другое, чего сам автор не сознает и не видит, составляет источник смеха и трагизма, проникающих его книгу.
Иногда эта сознательная, внешняя тенденция по своей ограниченности и даже бессердечию диаметрально противоположна идее, которая теплится внутри, в тайниках произведения. Не только в испанской, но и во всемирной истории едва ли найдется явление более возмущающее душу, чем изгнание полутора миллионов морисков[119] — самого лучшего, трудолюбивого населения Испании, совершившееся по одному мановению короля Филиппа III в 1610 году. Сервантес прославляет фанатика короля за проявление неслыханного деспотизма и эту грубую, недостойную лесть влагает в уста одной из жертв несправедливости, одного из изгнанников–морисков. Сервантес называет это злодеяние «мудрой, великой политической мерой», «героической решимостью короля», «удивительной предусмотрительностью». Автор, как плохой политик, старается оправдать деспотическую меру, а между тем бессознательный органический процесс творчества приводит его как художника (в тех главах, где описывается правление Санчо–Панса на острове Бараториа) к сатире на власть.
Есть идеи, образы, великие для этой эпохи, когда они родились, но мало–помалу теряющие свою жизненность, подверженные дряхлости и умиранию; они засыпаются наслоениями последующих цивилизаций и исчезают в них, как развалины древних городов в недрах земли. Есть другие образы, жизнь которых связана с жизнью всего человечества; они поднимаются и растут вместе с ним, — это не мертвые развалины, а вечно живые деревья, которые растут вместе с уровнем земли. Прометей, Дон Жуан, Фауст, Гамлет — образы эти сделались частью человеческого духа, с ним они живут и умрут только с ним. Дон–Кихот принадлежит к таким спутникам человечества. Исчерпать его содержание невозможно, потому что он еще не закончен, он еще развивается вместе с нами и уловить его нельзя, как собственную тень. В этом гениальном образе таится зародыш единственно возможного на земле бессмертия — бессмертия великой идеи.
Прежде чем перейти к личности Дон–Кихота и Санчо–Панса, я скажу несколько слов о художественных приемах Сервантеса. При изображении человеческого мира гениальный поэт обладает всеми красками — от ярких эффектов до самых нежных полутонов. Но вместе с тем вас поражает в книге полное отсутствие природы, картин окружающей местности. На протяжении всего романа найдется не больше трех или четырех описаний, причем краски самые умеренные, почти скудные; по–видимому, природа мало привлекает автора. За очень редкими исключениями, он указывает на место действия с краткостью драматурга, отмечающего перемену декораций двумя–тремя словами: «берег Эбро», «монтиелевская равнина», «ущелье в горном хребте Сиерра–Морена» — простое, точное определение местности без всяких подробностей. Это отсутствие пейзажа поражает тем более, что кисть Сервантеса далеко не чужда миниатюрной живописи. Напротив, все, что относится к человеческому миру — внутренность домов, особенно наружность действующих лиц, костюм, пищу, он описывает с самыми мелкими подробностями, как истинный колорист, так, что интимный, домашний быт Испании XVII века воскресает перед нами с изумительной полнотой и точностью. Сервантес не забывает сообщить нам, какого цвета были занавески на окнах гостиницы и какие именно фигуры были на них изображены; он описывает наружность, покрой платья, качество материи, упряжь на коне случайного спутника, который попался Дон–Кихоту на большой дороге. Он не пропустит ни одной детали в той сцене, где Санчо в обществе веселых капуцинов с блаженством прикладывается губами к громадному меху с вином, уплетает ломти пшеничного хлеба и козьего сыра, облизывая бумагу, в которую они были завернуты. Длинная, костлявая фигура Дон–Кихота, в комическом вооружении, на благородном Россинанте, и Санчо, с толстым животом и тонкими ногами, на добродушном осле, возникают перед глазами так живо, как будто мы читали не роман, а долго смотрели на яркую картину.
При этой силе пластической изобразительности еще более поражает отсутствие пейзажа. Для Сервантеса природа не существует сама по себе, как нечто живое и близкое сердцу, какой она кажется Шекспиру, Байрону, Гёте, Шелли — северным художникам–пантеистам, проникнутым мистическим поклонением тайне мира. Это поклонение является лишь тогда, когда замкнутые формы религиозного чувства, обращенного к Богу, разрушаются скептицизмом, — их мистическое содержание, как влага из разбитого сосуда, проливается на мир, и к природе направляется тот молитвенный экстаз, с которым прежде поэт обращался к Богу–Отцу. Сервантес — преданный сын римско–католической церкви; благочестие его заключено в определенные, ограниченные формы ортодоксальных догматов и ни одна капля религиозного чувства не пролилась на природу, не воскресила ее для художника, не показала вечной тайны за призрачной декорацией неба, земли, моря и гор. Вот почему гений Сервантеса чуждается всего туманного, незаконченного, неясного. Представитель романского духа, он озаряет мельчайшие подробности человеческой жизни спокойным, теплым, прозрачным светом, как южное солнце на фоне голубого неба вырезывает тончайший архитектурный рисунок мраморного здания.
В «Дон–Кихоте» нет собственно никакой интриги, узла последовательно–развивающегося действия; есть одно основное, почти неизменное с начала до конца драмы положение, необыкновенно сильное по своей идее, и на эту громадную ось романа нанизываются едва уловимые мелочи жизни. Вот почему содержание «Дон–Кихота» рассказать почти невозможно, как нельзя рассказать вполне правдиво сырые будни какого‑нибудь действия жившего, невыдуманного лица. Жизнь наша главным образом состоит вовсе не из тех драматических перипетий, которые обыкновенные романисты делают канвой своих произведений, а из целого ряда тусклых мелочей. Эти‑то мелочи Сервантес умеет передавать с неподражаемым реализмом, и вместе с тем он делает их значительными благодаря тому, что в них просвечивает одна и та же идея.
С одинаковой любовью описывает он широкие гомерические сцены правления Санчо на острове Бараториа и все подробности его диалога с хозяином таверны по поводу бараньей ноги, зажаренной к ужину; эпизод смерти Дон–Кихота, — изумительный по своему трагизму, по евангельской простоте рассказа, и огорчение бедного рыцаря по поводу того, что у него оторвались пуговицы от чулок. Там, где нужно, резец Сервантеса высекает изваяния в цельной каменной глыбе, но это не мешает ему останавливаться на отделке мелких подробностей, изящных, миниатюрных камей.
II
Ламанчский гидальго — мелкопоместный испанский дворянин. Каждый день суп с капустой; чаще баранина, чем говядина, на жаркое; вечером — винегрет; по воскресеньям голубь, в виде лишнего блюда, поглощали три четверти его скромного дохода. Остальное уходило на обувь и платье из тонкого сукна. Охота и чтение были единственными занятиями, которые могли наполнить скучный деревенский досуг тогдашнего захолустного дворянина. Дон–Кихот увлекается книгами. «В минуты праздности, т. е. приблизительно в продолжение целого года, он предавался чтению рыцарских книг с таким удовольствием и постоянством, что почти окончательно бросил охоту и управление имуществом». Не факт, а вымысел, не действительность, а литература, не жизнь, а книга сделались точкой отправления, главной причиной его смешного героизма, безумных, никому не нужных подвигов и трагической гибели.
Конечно, многое из деятельности Дон–Кихота надо отнести прямо на счет умственного расстройства. Но мы не имеем права все проявления его характера сводить к помешательству. Иначе тип Сервантеса превращается в грубую и бесцельную карикатуру, его горькая сатира — в издевательство над несчастным больным человеком. Чтобы могло сохраниться какое‑нибудь эстетическое впечатление, сумасшествие должно быть отнюдь не главным и существенным, а только второстепенным фактором в развитии характера.
Дон–Кихот вмещает в себе весь энциклопедический круг образованности своего века. Он знаком с космографией Птоломея, с естественной историей Плиния, объясняет Санчо, как настоящий гуманист, филологические тонкости словопроизводства, цитирует юридические трактаты и постановления отцов церкви, Цицерона, Виргилия, Горация и других античных писателей, постоянно иллюстрирует свою речь ссылками на древнюю и новую историю, обладает познаниями по военным наукам. По количеству и разнообразию знаний ламанчский рыцарь — вполне типический представитель современного ему общества. Все горе тогдашней образованности заключается в том, что она является системой мертвой, схоластической: в ней нет самого живого и плодотворного элемента науки — начала опыта, скептического исследования, критики. Авторитет, все равно чей — Библии или Аристотеля, Вселенских соборов или Аверроэса, но, во всяком случае, авторитет, т. е. чуждая науке внешняя власть, исключает всякую самостоятельность и свободу мысли, требует бесконтрольного подчинения и послушания. Дон–Кихот, как истинный представитель схоластической образованности, безгранично подчиняется незыблемому и священному для него авторитету рыцарских книг. Он прежде всего дитя своего века — и выше книжной истины для него не существует ничего в мире: малейшее сомнение в правдивости излюбленных им фантастических романов он считает кощунством, преступлением. В этой области всякое проявление скептицизма превращает добродушного мечтателя в озлобленного яростного фанатика. Ноты инквизиционного судилища звучат в его речи, обращенной к неосторожному вольнодумцу, который при нем осмелился высказать сомнение в реальном существовании Амадиса Галльского[120]: «человек, дерзнувший, как ваша милость, кощунственно отзываться о вещи, всеми признанной, заслуживает того самого наказания, которому вы желали бы подвергнуть непонравившиеся вам книги (т. е. сожжения на костре). В самом деле, утверждать, что Амадиса так же, как и других рыцарей, о которых ходит столько легенд, никогда не было, — это все равно, что утверждать, что солнце не греет, лед не охлаждает, земля не поддерживает». В рыцарях он видит «вполне законченный и совершенный образец добродетели даже для будущих поколений». «Амадис был полюсом, звездою и солнцем храбрых и влюбленных рыцарей; все, кто только записался в рекруты под знамя любви и рыцарства, должны подражать ему». Подобно тому как высшим научным принципом Дон–Кихот считает авторитет книг, так величайшее нравственное правило он усматривает в подражании. К подражанию чужому мертвому образцу — какому‑то Амадису Галльскому, жившему за несколько столетий, сводится для него вся практическая мораль. Подчиненность ума, подчиненность совести — вот что он считает необходимым условием добродетели.
До какого абсурда доходит это рабское подражание книжному идеалу, видно, между прочим, из тех нелепостей, которые Дон–Кихот проделывает в ущелье Сиерра–Морены. Он притворяется перед самим собою умирающим от любви к Дульцинее только потому, что среди странствующих рыцарей принято умирать от любви. С добросовестным упрямством и педантизмом настоящего схоластика он подражает до мельчайших подробностей эксцентричным проявлениям безумной страсти и отчаяния, о которых он вычитал в рыцарских книгах. Когда Дон–Кихот, голый, прыгает, кувыркается на острых камнях и наконец становится вверх ногами перед изумленным Санчо, он, как истинный теоретик и педант, заботится только о том, как бы ни на одну йоту не отступить от сумасшедших выходок влюбленного Амадиса. Любовь тут, конечно, ни при чем.
Дон–Кихот, несмотря на то что автор поместил действие романа на рубеже новой истории, всецело принадлежит старым началам. Слепая вера вместо свободного исследования, подражание вместо оригинальности и подчинение внешнему авторитету вместо самостоятельной мысли — вот характерные черты средневековой культуры. Отнюдь не будучи невеждой или глупцом, Дон–Кихот не находит в этой схоластической системе ничего, что могло бы предохранить его от смешной, ребяческой веры в рыцарские сказки.
По умственному развитию Дон–Кихот не поднимается выше среднего уровня, но зато по нравственным качествам он стоит неизмеримо выше окружающих. Весь глубокий смысл сатиры Сервантеса заключается в том, что нравственное превосходство Дон–Кихота пропадает бесследно, без малейшей радости для людей, обращается в проклятие для него самого только потому, что оно не соответствует степени умственного развития героя. Он достаточно добр, но мертвая схоластика не может указать пути и цели его самоотвержению.
Дон–Кихот защищает мальчика от побоев жестокого хозяина. Но едва рыцарь успел повернуть спину, как крестьянин уже бьет несчастного ребенка вдвое сильнее, во–первых, за прежнюю вину, во–вторых, за обиду, которую нанес Дон–Кихот ему, хозяину. Этот эпизод Сервантес заключает ироническими словами: «и вот как мужественный Дон–Кихот восстановил поруганную справедливость». Через некоторое время мальчик, избитый до полусмерти по милости самоотверженного рыцаря, встречается с Дон–Кихотом и высказывает мнимому благодетелю следующие горькие истины: «Ради самого Создателя, ваша светлость, если мы с вами встретимся другой раз, не вздумайте снова за меня заступиться, даже если меня будут четвертовать. Сделайте одолжение, оставьте меня в покое. Мои несчастия, как бы они ни были велики, не могут идти в сравнение с теми, которые мне угрожают от заступничества вашей светлости. Я прошу Бога, чтобы Он наказал вас, а вместе с вами всех вообще странствующих рыцарей, которых я от души проклинаю». С такими же упреками обращается к Дон–Кихоту бакалавр, искалеченный по вине героического заступника угнетенных. «Мое призвание, — ораторствует Дон–Кихот, — заключается в том, чтобы странствовать по земле, восстановляя правду и мстя за обиды». — «Я не знаю, что вы разумеете под восстановлением правды, так как из прямого, каким я до сих пор был, вы сделали меня кривым и хромым. Вы видите, — по вашей милости я валяюсь здесь со сломанной ногой и она уже никогда не выпрямится. Мстя за обиду, вы обидели меня жестоко и непоправимо; со мной, конечно, не могло случиться худшего приключения, чем то, что я встретил вас, искателя приключений».
Отсутствие разумности в самопожертвовании Дон–Кихота влияет не только на практические результаты его деятельности. Любовь его к людям — смесь глубокого доброго чувства с мелочным тщеславием и суетностью. Вот как определяет Сервантес мотивы, побудившие Дон–Кихота сделаться странствующим рыцарем: «ему казалось полезным и необходимым столь же для блеска собственной славы, как и для блага отечества, принять посвящение в странствующие рыцари». Он решает отправиться по миру, восстановляя правду, мстя за обиды и «преодолевая опасности, чтобы приобрести бессмертную славу. Бедный мечтатель, он уже представлял себе, как его сила и отвага будут увенчаны по крайней мере короной Трапезондской империи». На монтиелевской равнине, приветствуя зарю первого дня своих странствований и оглядывая мысленным взором предстоящую деятельность, он гораздо больше думает об ожидающей его славе, чем о несчастных, которым намеревается помочь: «счастливый год, счастливый век, когда впервые на свет появятся мои знаменитые подвиги, достойные того, чтобы их вырезали на бронзе, изваяли в мраморе, изобразили красками на вечную память грядущим векам». После одного из комических подвигов Дон–Кихот, проникнутый беспредельным самодовольством, восклицает: «Санчо, заклинаю тебя всем святым, скажи мне, видел ли ты на всей поверхности земли рыцаря более отважного, чем я?» «Я принадлежу к числу тех странствующих рыцарей, — восторгается Дон–Кихот самим собою, — имена которых, несмотря на черную зависть, несмотря на всех магов Персии, браминов Индии, гимнософистов Эфиопии, будут начертаны в храме бессмертия, чтобы рыцари будущих веков могли в них видеть путь, ведущий к военной славе». В другом месте перечисление всевозможных обязанностей странствующих рыцарей он заканчивает словами: «вот, Санчо, средства, чтобы достигнуть елавы». Конечно, не одно мелочное честолюбие было мотивом его деятельности: у ламанчского рыцаря очень много горячей преданности делу, благородства и бескорыстия. Но полная умственная подчиненность, влияние мертвой образованности искажают не только результаты всех его положительных качеств, но и самую их природу.
Все миросозерцание Дон–Кихота сводится к наивному средневековому идеализму. Счастливый «золотой век» в прошлом. Настоящее печально и мрачно, будущее еще мрачнее. Для противодействия возрастающей власти тьмы Бог послал на землю странствующих рыцарей. Они, и только они, — больше чем священники, цари и поэты — сосуды божественной благодати. От них зависит спасение мира. Если центр вселенной — священная коллегия странствующих рыцарей, то центр самой этой коллегии — Дон–Кихот, рыцарь ламанчский. О нем заботятся, из‑за него спорят силы неба и ада; добрые волшебники помогают ему, злые стремятся погубить. Судьбы всего человечества зависят от него одного. Он должен победить, потому что сам Бог руководит им. Веря в свою счастливую звезду, Дон–Кихот смотрит совершенно безнадежно на судьбы истории и человечества. Здесь мы встречаемся с характерной чертой средних веков — мрачным взглядом на будущее мира.
Но у Дон–Кихота есть одна черта новой культуры: он любит простую, первобытную жизнь среди природы, идеализирует быт простых людей, относясь пренебрежительно к благам цивилизации, считая ее злом. В этом отношении Дон–Кихот — прототип и Жан–Жака Руссо, и его новейших последователей. В его нападках на современную культуру, как на искажение естественного счастья, звучат уже первые ноты того протеста, представителем которого впоследствии явится великий философ XVIII века. Дон–Кихот, вынужденный на продолжительное время отречься от сана странствующего рыцаря, решает сделаться пастухом, чтобы вести идиллическую жизнь среди природы: «как ты полагаешь, Санчо, не превратиться ли нам в пастухов, по крайней мере на время моего отречения? Я куплю несколько овец и все предметы, необходимые для пастушеского быта. Я буду называться пастухом Кишотицем, ты — Панцино, и мы будем бродить вместе по горам, лесам и долинам, то там, то здесь, распевая песни и элегии, утоляя жажду в кристальных ручьях и глубоких реках. Дубы будут щедро предлагать нам сладкие и сочные плоды, лесные заросли — ложе и приют. Ивы будут давать тень, роза — благоухание, широкие равнины — ковер, испещренный тысячами цветов, воздух — чистое дыхание, луна и звезды — сладостный свет по ночам, песня — наслаждение, слезы — отраду, Аполлон — стихи, и любовь — сентиментальные размышления, которые, быть может, доставят нам славу и бессмертие не только в настоящее время, но и в будущих веках». Возвратившись в деревню, перед самой болезнью, он не отказывается от мысли сделаться пастухом и наивно приглашает священника Самсона Карраско к «добродетельной пасторальной профессии», изъявляя готовность немедленно же купить стадо овец, «достаточное, чтобы их назвали пастухами».
Дон–Кихоты всех времен и народов бегут в наивную пастораль — к простым людям и первобытной жизни от ненавистной им культуры, в которой усматривают главную причину своих неудач. Они не могут понять коренной своей ошибки. Нельзя сказать, чтобы человечеству недоставало любви, самоотвержения и веры. Мало ли Дон–Кихотов. Они и верят, и любят, они жертвуют собою и ведут на смелые подвиги послушных оруженосцев Санчо–Панса. Но будущее принадлежит не Дон–Кихотам, а тем истинным героям, которые сумеют соединить чувство с разумом, веру с наукой, порыв любви со спокойным расчетом сил. До сих пор одни много знали, но слишком мало любили, другие мало любили и слишком мало знали, но только тот, кто будет много знать и много любить, может сделать для человечества что‑нибудь истинно прекрасное и великое.
III
Санчо — такой же полный и типичный представитель народа, как Дон–Кихот — культурного общества. Его шутовство, его наивность, граничащая с глупостью, — только прозрачный покров, под которым таится поэтическое обобщение. Характер его отнюдь не исчерпывается добродушной глупостью так же, как характер Дон–Кихота нельзя сводить исключительно к безумию. В первом случае глупость — только сатира на главный недостаток народа: на бездействие, лень и неподвижность ума, подобно тому как сумасшествие ламанчского рыцаря — насмешка над недостатком средневековой культуры: над склонностью увлекаться слепой верой в авторитет до фанатизма, до потери здравого смысла. Санчо в философском смысле — такая же необходимая антитеза Дон–Кихоту, как Мефистофель Фаусту: это вечная противоположность здравого смысла и увлечения, действительности и грезы, реализма и книжной отвлеченности. Вот почему смешной и простоватый Санчо, никогда не пользовавшийся благосклонным вниманием критики, на самом деле как тип нисколько не менее значителен и глубок, чем Дон–Кихот. Культурный человек в своем увлечении, доходящем до подвижничества, крестьянин в здравом смысле, граничащем с практической мудростью, оба — трагические представители двух вечно разделенных и вечно тяготеющих друг к другу полусфер человеческого духа — идеализма и реализма.
На крестьянине Санчо гораздо яснее и резче, чем на рыцаре Дон–Кихоте, отразился характер естественных условий его родной страны. Мягкий солнечный пейзаж ламанчской равнины оставил на Санчо неизгладимый отпечаток. Он уживчив, весел и добродушен. В нем нет и следа той мрачности и суровости, которая почти всегда чувствуется в темпераменте северных рас. По средневековой теории он считает себя вилленом — существом низшим и подчиненным сравнительно с урожденными гидальго, но это сознание подчиненности очень поверхностно — оно его нисколько не принижает. Он не ропщет, не жалеет о том, что не родился дворянином: он чувствует себя независимым, держит голову высоко, говорит свободно и просто во дворцах знаменитых герцогов. Во время торжественного приема он обращается к великолепной дуэнье и просит ее позаботиться об его любимом осле, отвести в стойло и задать корму. Взбешенная дуэнья осыпает Санчо ругательствами: «Вы не получите от меня ничего, кроме фиги, грубый невежа!» — «Если этой фиге, — возражает крестьянин, нисколько не смущаясь, — столько же лет, как вашей милости, то по крайней мере она довольно перезрелая». Санчо — авантюрист по природе. Он отправляется в путь за Дон–Кихотом не только из выгоды, но также из инстинктивной любви к цыганской жизни. Обладая беспечным южным темпераментом, Санчо понимает поэзию бродяжнического существования. Полуэпикуреец и полунищий, он с восторгом отзывается о прелестях этой вольной, ленивой, страннической жизни: глотая потихоньку живительную влагу из громадного походного меха с вином, «он больше не помнил об обещаниях, данных ему господином, и смотрел не как на тяжелую обязанность, а как на истинное развлечение, на эти веселые поиски рыцарских приключений, как бы они ни были опасны». «Нет для человека ничего приятнее в мире, как быть честным оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений… Как весело подвергаться всевозможным случайностям, перебираясь через горы, проходя леса, влезая на скалы, посещая замки и останавливаясь на постоялых дворах, причем имеешь право не платить ни единого маравэди по счету, ни гроша даже черту в зубы!».
В характере Санчо, как я сказал, нет печати той суровой жестокости, которая почти всегда налагается на представителей северных наций тяжелым трудом, борьбой за существование: напротив, он слишком мягок и чувствителен, всегда бывает растроган до слез чужим горем и, несмотря на крайнюю бережливость, на любовь к деньгам, готов поделиться последним куском хлеба, последней копейкой с несчастным, просящим пОмощи. Сердце у него, по выражению Дон–Кихота, как будто «из сахарного теста».
Он любит мягко спать, сладко есть; обожает музыку. Одна из обычных философских сентенций Санчо гласит: «там, где музыка, не может быть ничего дурного». Он с нежностью, с непритворным милосердием, входящим иногда в полусмешную, полутрогательную сентиментальность, относится не только к людям, но и вообще живым существам, ко всякому страданию. Он любит животных и жалеет их. Охоту считает жестокой и безнравственной забавой. «Как вельможи и короли, — искренно удивляется он, — могут находить удовольствие в том, чтобы убивать зверей, не причинивших им никакого зла». В отеческой привязанности Санчо к ослу, его верному спутнику и другу, несмотря на внешний комизм, есть много истинно доброго чувства. Разбойники украли его любимого Серяка, который для бедняги «дороже зеницы ока». После долгой разлуки они снова встречаются. «Санчо побежал к ослу, обнял его и сказал: „ну, как здоровье твое, детище мое любимое, дорогой товарищ, сердце мое, ненаглядный ослик?” И с этими словами он целовал и ласкал его, как будто тот был разумным существом. Осел молчал, не зная, что сказать, и принимал ласки и поцелуи Санчо, не отвечая ни слова». Санчо находится в смертельной опасности: ночью он вместе с ослом провалился в глубокое подземелье, что‑то вроде колодца, откуда нет никакой возможности выбраться. Будучи убежден, что ему грозит голодная смерть, он делит с милым Серяком последний кусок хлеба: «он отдал его ослу, которому хлеб понравился, и Санчо сказал ему, как будто животное могло его понять: „когда есть хлеб, легче перенести горе”».
У Санчо нет воинственного задора, условные средневековые понятия рыцарской чести мало развиты в крестьянине. Иногда он кажется трусом, но в большинстве случаев это не трусость, а просто врожденное добродушие, мягкость характера, которая заставляет его ненавидеть идеал военной славы, превозносимый Дон–Кихотом: «Ваша милость — обращается к нему Санчо в минуту откровенности, — человек я тихий, кроткий и миролюбивый, умею забывать обиды, потому что у меня есть жена, которую надо кормить, и дети, которых надо воспитывать. Да будет вашей милости известно, что нигде и ни в каком случае я не обнажу меча ни против виллена, ни против рыцаря, и что с этой минуты и до второго пришествия я заранее прощаю все обиды, которые мне нанесли или нанесут, кем бы они ни были причинены — особой высокого или низкого звания, богачом или нищим, словом, не принимая в расчет ни сана, ни положения». Но естественная мягкость и миролюбие Санчо не имеют общего с рабской забитостью и безответным смирением. Отвага и сознание собственного достоинства сразу обнаруживаются в нем, как только ему приходится защищать свои личные права, свою жизнь или собственность. Вот что он говорит человеку, осмелившемуся угрожать ему побоями: «прежде чем ваша милость возбудит во мне гнев, я так сумею ударами доброй дубины усыпить вашу собственную злобу, что если она и проснется, то только в загробном мире. Все знают, что я не такой человек, чтобы позволить кому бы то ни было коснуться моего лица… Если даже кошка, которую запрут и потом рассердят, превращается во льва, то Бог знает, во что могу превратиться я, человек!». Санчо с такой неожиданной отвагой защищает свою собственность — ослиную сбрую, что сам Дон–Кихот, знаток и специалист в делах рыцарской чести, приходит в восторг: «он даже счел его за храброго человека и решил в глубине души при первом же удобном случае посвятить в рыцари, полагая, что рыцарский сан должен идти к нему как нельзя лучше». — «По природе своей, — признается Санчо, — я люблю мир и терпеть не могу соваться в драки да в ссоры. Но, по правде сказать, когда дело дойдет до шкуры, я не посмотрю ни на какие права, ибо все законы, божеские и человеческие, позволяют каждому защищать себя от обиды». Соединение врожденной веселости южанина, любви к вольной бродячей жизни, мягкости, милосердия к людям и животным и вместе с тем собственного достоинства и отваги дает образ светлый и прекрасный, несмотря на весь внешний комизм. В комизме, может быть, заключается даже не препятствие, а одна из причин той невольной симпатии, с которой мы относимся к Санчо. Чем больше мы смеемся над ним, тем больше его любим.
Впрочем, Сервантес не думает скрывать от нас темных сторон своего типа. В Санчо можно уже проследить зародыш современного буржуа: он обожает деньги, собственность до полного ослепления, до фанатизма. Если он мечтает о положении губернатора на острове, завоеванном Дон–Кихотом, то не столько из честолюбия, сколько из‑за тех материальных выгод — доходов, которые, по представлению крестьянина, связаны с положением губернатора. «Что мне в том, если даже все мои вассалы будут неграми? Тем лучше! Я их сейчас упакую и отправлю в Испанию, где получу за них чистые денежки, а на эти деньги куплю себе какой‑нибудь чин или должность, которые позволят мне провести весь остаток жизни без забот и печалей». — «Столько ты стоишь, сколько у тебя есть, и столько у тебя есть, сколько ты стоишь. В мире два рода людей и две партии — как говаривала одна из моих прабабушек — это партия имущих и неимущих, и она была на стороне имущих… Итак, я подаю голос за Камаша, за богатого Камаша, в чьих кастрюлях накипь состоит из гусей, кур, зайцев и кроликов. Что же касается до бедного Базиля, то у него на столе одна жидкая похлебка» — и Санчо презирает Базиля. Несмотря на это обожание денег, он остается честным и свободным, так как никогда не переходит за известную черту: его спасает от раболепного унижения своеобразная гордость — признак испанской крови. «Берегитесь, Санчо, — предупреждает его Самсон Карраско, — почести изменяют натуру людей: может быть, сделавшись губернатором, вы забудете родную мать?..». — «На это способны только ничтожные людишки, что родились под капустным листом, а не те, у которых на душе пальца с четыре старокатолического жира, как у меня», — отвечает Панса.
Санчо — еще более, чем Дон–Кихот, — преданный сын римско‑католической церкви. У них заходит спор, как лучше достигнуть славы — благочестием или военными подвигами. «Скажите‑ка мне, что лучше: воскресить мертвого или убивать великана?». — Ответ готов: конечно, воскресить мертвого. — «Ага, вот я и поймал вас. Итак, слава тех, которые воскрешают мертвых, исцеляют слепых, хромых и болящих, в чьих гробницах горят лампады, чьи раки с мощами переполнены молящимися, слава этих людей, говорю я, стоит больше для сего века и для будущей жизни, чем известность, которую когда‑либо приобретали или могут приобрести всевозможные языческие императоры и странствующие рыцари, сколько их ни есть в мире»… — «Какое же заключение, Санчо, ты выводишь из всего, что сказал?». — «А то, что мы поступили бы гораздо лучше, если бы постарались сделаться святыми. Мы скорее бы достигли той славы, к которой стремимся… Две дюжины ударов монашеской плетью во время эпитимьи больше значат перед Господом, чем две тысячи ударов копьем, направленные против всевозможных великанов, вампиров и андриаков». Санчо обладает слишком беззаботным темпераментом, чтобы его религиозность переходила в фанатизм. В сущности, она довольно поверхностна — у нее нет глубоких мистических корней, как у сосредоточенной религиозности северных рас.
По своим политическим симпатиям Санчо искренний монархист и убежденный консерватор. Один из морисков, изгнанных Филиппом III, предлагает Санчо вступить с ним в тайный союз для отыскания спрятанного сокровища, обещая в награду несомненное обогащение. Крестьянин, несмотря на всю свою жадность к деньгам, отказывается наотрез: «так как мне кажется, что я совершил бы измену, вступая в союз с врагами моего короля, то я не пойду за тобою, даже если бы ты не только обещал мне в будущем двести червонцев, но сейчас вынул из кармана и положил целых четыреста». На теоретическое положение Дон–Кихота, что он как рыцарь обязан заступиться за каторжников, испытывающих на себе насилие государственной власти, Санчо возражает: «справедливость, которая есть не что иное, как сам король, не может причинить ни насилия, ни обиды подобным людям». «Правда, что я немножко хитер, — определяет он сам себя, — и что в моей натуре есть‑таки маленькое зернышко плутовства. Но все это скрывается и исчезает под широчайшим покровом моей простоты, которая вполне естественна и отнюдь не притворна. Если бы даже у меня не было бы другой заслуги, как то, что я верю искренно и твердо в Бога и в святые догматы римско–католической церкви и от всей души ненавижу жидов, и тогда историки обязаны отнестись ко мне благосклонно и отзываться обо мне милостиво в своих произведениях».
Санчо Панса обладает вполне цельным, законченным миросозерцанием, которое он выражает образными, иногда поразительно глубокими пословицами — в этих афоризмах воплощается живой ум народа. Его мудрость принадлежит, конечно, не ему одному — оно вековое создание целой нации, но он до такой степени слился с этой мудростью, что почти невозможно провести разграничительную черту между его личным творчеством и миросозерцанием народа. Когда Санчо приводит какую‑нибудь известную пословицу, это выходит у него естественно, непроизвольно, и кажется, что она принадлежит ему, что он только что ее выдумал. Когда же он действительно выдумывает какое‑нибудь острое и меткое словцо, оно до такой степени живо, что кажется давно знакомой народной пословицей. Дон–Кихот тщетно преследует эту непреодолимую любовь Санчо к поговоркам и прибауткам. Они раздражают мечтателя своей грубой простотой и силой, он сердится и проклинает болтливого оруженосца, но тот отвечает невозмутимо: «одна только воля Господня может исцелить меня от этого недуга. Я знаю больше пословиц, чем книга, и у меня во рту такое множество их, когда я говорю, что они дерутся друг с дружкой, чтобы выйти наружу…». — «О, будь ты проклят небом, Санчо! — восклицает Дон–Кихот. — Пусть пятьдесят тысяч чертей унесут тебя с твоими пословицами… Я знаю — благодаря им ты кончишь жизнь на виселице. Они заставят твоих вассалов отнять у тебя губернаторскую власть и произведут в государстве междоусобие и брань. Скажи на милость — где ты их находишь, неуч? и как ты умеешь ими пользоваться, дурак? Чтобы найти хоть одну из пословиц и привести ее кстати, я тружусь и потею, как будто ворочаю камни». — «Ну, право же, ваша милость изволит бранить меня из‑за пустяков. Кой черт может мне помешать пользоваться моим же добром. Ведь у меня нет за душою никакого богатства, никакой земли, кроме пословиц».
Иногда этот с виду недалекий крестьянин обнаруживает в своих поговорках глубину мысли, достойную настоящего философа: «горести были созданы не для животных, а для людей, а между тем когда люди предаются им без меры, они превращаются в животных». Санчо–поэт импровизирует что‑то вроде маленькой лирической оды в честь бога сна, которому он так усердно поклоняется: «пока я сплю, нет у меня ни страха, ни надежды, ни горя, ни радости. Да будет благословен тот, кто изобрел сон, — покров, который скрывает все человеческие мысли, пища, которая насыщает голодных, влага, которая утоляет жаждущих, огонь, который согревает озябших, прохлада, которая спасает от жгучего зноя, — словом, всемирная монета, на которую можно купить все, что угодно, и весы, на которых уравниваются император и пастух, мудрец и дурак». Санчо отлично понимает мимолетность всех земных благ и смотрит на сильных мира сего почти свысока, с добродушной иронией: «для пташек полевых сам Господь Бог кормилец и повар… Четыре локтя грубого куэнского сукна куда лучше греют, чем четыре локтя тонкой сеговийской материи… Наследник царя после смерти, когда его кладут в могилу, идет по такой же узкой дорожке, как поденщик, а тело самого папы не займет на кладбище большего пространства земли, чем тело пономаря… Для того чтобы войти в гроб, мы все делаемся маленькими, сжимаемся и ежимся или, лучше сказать, нас делают маленькими, сжимают и ежат, не справляясь о том, нравится ли это нам, и потом — до свидания, доброй ночи!..». Вот почему, если Дон–Кихот вздумает отнять у него, как у дурака, обещанный остров, Санчо примет это решение, как мудрец, и нимало не огорчится — тем более что он сильно сомневается, «не лучше ли быть землевладельцем, чем царем». Когда он говорит о смерти, его речь достигает истинной поэзии и вдохновения, а черты трагической карикатуры, зловещего комизма «danse macabre» придают его словам особенную силу. «У этой дамы (т. е. у Смерти), видите ли, больше могущества, чем вежливости. Она никогда не делает брезгливой гримаски: пожирает все, пользуется всем и наполняет свой мешок людьми всевозможных возрастов, чинов и профессий. Это — жница, не знающая отдыха, которая режет и косит в каждый час дня и ночи траву зеленую и сухую. Кажется, что она не пережевывает куски, а глотает целиком все, что видит перед собою; у нее волчий голод, который ничем и никогда не может насытиться. И хотя у нее нет живота, она страдает водянкой и, чтобы утолить жажду, готова выпить сразу жизнь всех существ, как выпивают горшок холодной воды!».
Здравый ум Санчо ясно обнаруживается в сценах его кратковременного правления на острове Бараториа. Если в некоторых случаях он кажется наивным, простоватым до глупости, то это происходит вовсе не от врожденного недостатка ума, а от лени и неподвижности, от той же привычки подчиняться внешнему авторитету, которая губит и самого Дон–Кихота. Санчо просто не привык думать на свой собственный страх — он прячется за спину рыцаря, которому верит так же безгранично и слепо, как тот верит своим нелепым романам. Но в роли губернатора ему поневоле приходится отказаться от обычной лени и умственной подчиненности и действовать самостоятельно. И как только в нем пробуждается энергия, его ум и дарования обнаруживают недюжинную силу.
Когда Санчо входит во дворец, мажордом, как будто случайно, а на самом деле чтобы польстить ему, называет его «доном Санчо–Панса», но крестьянин возражает придворному: «кого здесь называют доном Санчо Панса?» — «Вашу светлость, конечно, так как никакой другой Панса не садился на это кресло». — «Ну, так знайте, друг мой, что я не обладаю титулом дона и никто из моей фамилии не носил его. Меня зовут попросту Санчо Панса. Санчо — назывался мой отец и Санчо было имя моего деда, и все были Панса, без всяких донов или каких‑либо других приставок. Полагаю, что на этом острове должно быть больше донов, чем камней. Но пока довольно. Бог даст, поживем, увидим, — и, если только правительство будет у меня в руках дня четыре, может быть, я, как плевелы, искореню всех этих донов, которых так много развелось, что они больше надоедают, чем комары и москиты». Освободившись от опеки, Санчо обнаруживает столько милосердия и мудрости, здравого смысла и остроумия в делах правления, что подданные не могут прийти в себя от изумления. Против Санчо целый заговор, чтобы его осмеять и поставить в глупое положение, но, благодаря спокойному чувству собственного достоинства и такту, он выходит полным победителем из борьбы. «Подданные считали своего правителя новым Соломоном». «Государственные меры Санчо, — замечает Сервантес, — были так хороши, что законы его до сих пор действуют в этой стране, где их называют „постановлениями великого правителя Санчо Панса”». Та сцена, где с простотой и равнодушием истинного мудреца он покидает опротивевшую ему власть, — не что иное, как настоящий апофеоз народного духа и народной правды. Санчо окончательно решил уйти из дворца, где ему душно от лицемерия и лжи. «Он пошел в конюшню, куда за ним отправились все присутствующие. Приблизившись к Серяку, он обнял его, тихонько поцеловал в лоб и проговорил со слезами на глазах: „Здравствуй, мой милый товарищ, верный друг, который делил все мои печали и беды. Когда я жил вместе с тобою, счастливы были мои часы, мои дни и годы. Но с тех пор как мы расстались и я пошел по дороге тщеславия и суетности, душу мне терзают тысячи страданий, тысячи несчастий и четыре тысячи забот”. Санчо взнуздал Серяка, сел на него и произнес среди глубокого молчания придворных и толпы граждан: „Расступитесь и дайте мне вернуться к моей прежней свободе! Я хочу снова начать мою старую жизнь, чтобы воскреснуть от этой смерти… Мне слаще утолить голод луковой похлебкой, чем слушать негодяя лейб–медика, который хочет извести меня голодом. Мне отрадней летом спать под тенью дуба, зимой покрываться овчиной, но сохранить зато полную свободу, чем, с вечной заботой о государстве, ложиться на простыне из голландского полотна и одеваться в горностай. Итак — доброй ночи, господа! Я прошу вас доложить герцогу, моему повелителю, что я наг родился и наг умру; я ничего не выиграл, ничего не потерял. Ни копейки у меня не было за душой, когда я принимал это государство, и вот теперь, когда я оставлю его, у меня нет ни гроша. Расступитесь же и дайте мне дорогу!”». Придворные просят его остаться. «Поздно, — отвечает Санчо, — я принадлежу к фамилии Панса, которые упрямы, как черти. Если раз они сказали „нет”, — то уж поставят на своем, несмотря ни на что в мире». Efo спрашивают, не надо ли чего‑нибудь для путешествия. Санчо просит дать ему немного овса для Серяка и полсыра с хлебом для себя: дорога небольшая — ему ничего больше не надо. «Все обнимали его, и он обнимал всех со слезами, и граждане удивлялись его мудрой и непоколебимой решимости». Полхлеба и полсыра — вот вся выгода, которую Санчо сумел извлечь из своего губернаторского сана. На возвратном пути он отдает эту единственную свою награду странствующим монахам, которые попросили у него милостыни, и, прекрасный в своей детской простоте, извиняется, «что больше у него нет ничего с собою».
IV
Между Санчо Панса и Дон–Кихотом существует глубокая связь. Они сошлись тесно и дружески в силу общего закона, по которому в нравственном мире противоположности тяготеют друг к другу. Санчо, хотя и смеется над своим барином, но втайне любит увлечения Дон–Кихота, его способность отдаваться мечтам и поэзии — порывы, которые так противоположны и потому так интересны Санчо. Неисправимый романтик, Дон–Кихот относится свысока к оруженосцу, но, на самом деле, любит и ценит его дерзкий юмор, неиссякаемое остроумие, положительный, практический ум — те именно свойства, которых недостает рыцарю. Вот почему эти люди неразлучны, не могут жить друг без друга и оба остаются верными взаимной привязанности до самой смерти. «Казалось, они вылиты в одной форме, — говорит Сервантес, — так что безумные выходки господина без глупостей слуги не стоили бы ни гроша».
Конечно, мотивы, побуждающие Санчо следовать за полоумным рыцарем, не чужды корыстолюбия. «Дьявол, — признается он, — постоянно тычет мне в глаза то здесь, то там, то с левой, то с правой стороны толстый мешок с дублонами, так что я не могу сделать шага, чтобы мне не казалось, что вот я трогаю их пальцами, беру в руки, уношу домой, покупаю имущество, получаю доходы и живу как царь. В те минуты, видите ли, когда я об этом думаю, мне кажутся ничтожными все беды, которые приходится терпеть с моим полоумным барином, больше похожим, как я твердо в этом убежден, на сумасшедшего, чем на рыцаря».
Но корыстолюбие только один из второстепенных и в сущности неглубоких мотивов его верной службы. У Санчо есть много бескорыстной преданности и любви к Дон–Кихоту. Как‑то однажды оруженосцу случилось попросить у рыцаря определенного жалованья за службу. Дон–Кихот отказывает ввиду того, что древний обычай запрещает странствующим рыцарям назначать жалованье оруженосцам. Санчо огорчен. Его господин оскорблен недоверием слуги: «ну, что ж, так как Санчо не удостаивает следовать за мною, мне приходится воспользоваться первым попавшимся оруженосцем». — «Нет, нет, я удостаиваю, — воскликнул Санчо, тронутый, со слезами на глазах, — слава Богу, я не принадлежу к племени неблагодарных. Известно всему миру, в особенности моим односельчанам, каковы были те Панса, от которых я происхожу». Он признается, что злополучную мысль о жалованье ему внушила его упрямая баба, которая, «уж если заберет себе что‑нибудь в голову, хватает человека за горло так крепко, как клещи, которыми укрепляют обручи на бочках». «В конце концов, — заключает Сервантес, — Дон–Кихот и Санчо обнялись и остались по–прежнему добрыми друзьями». Когда оруженосец отправляется на свой губернаторский пост и приятелям приходится расстаться, они искренне горюют. «Господин благословил слугу со слезами на глазах, и Санчо принял это благословение с подавленными вздохами, как плачущий ребенок». Только что он уехал, Дон–Кихот «почувствовал такую грусть по поводу его отъезда и своего одиночества, что, если бы он мог возвратить назад оруженосца и отнять у него губернаторское назначение, он наверное сделал бы это». Вот как в другом месте Санчо определяет свои отношения к Дон–Кихоту: «В том‑то и заключается мое горе и мои несчастья: я должен следовать за ним, против этого нельзя ничего возразить — мы земляки, я делил с ним хлеб, я его очень люблю, он благодарен, он подарил мне своих ослят, и, кроме того, я по природе своей верный человек. Итак, невозможно, чтобы нас разлучило что бы то ни было, разве только заступ да лопата, когда они приготовят нам постель в сырой земле».
Противоположные по характерам, они превосходно понимают друг друга. «У него голубиное сердце, — говорит Санчо про Дон–Кихота, — он не умеет причинить зла никому, но всем делает доброе, и нет у него ни малейшего лукавства. Ребенок мог бы его уверить, что в двенадцать часов дня — глухая полночь. Вот за это‑то простодушие я и люблю его как зеницу ока и не могу решиться покинуть, какие бы глупости он ни делал».
Несмотря на то что Дон–Кихот искусственно старается сохранить перед мужиком–оруженосцем престиж гидальго и рыцаря, несмотря на то что Санчо целует его руку и даже край его одежды, — между ними все‑таки существует полная равноправность. Дон–Кихот старается иногда казаться официальным и сухим, но это ему не удается, и он сейчас же, сам того не замечая, впадает в интимный тон дружеской беседы. «Санчо Панса, — характеризует Дон–Кихот своего слугу, — один из самых замечательных оруженосцев, какие когда‑либо были в услужении у странствующих рыцарей. В его беседе встречаются такие прелестные наивности, что чувствуешь и удовольствие, и недоумение, что он, собственно, такое — простак или остроумнейший человек в мире. У него бывают злые шутки, которые заставляют думать, что он хитер и тонок, бывают у него и глупейшие выходки, на которые способен только деревенский неуч. Сомневается он во всем и, однако, верит всему; когда я думаю, что вот–вот он погрузится в самую бездну нелепостей, он отпускает такие словечки, которые поднимают его выше небес. Словом, я не променял бы Санчо на другого оруженосца, если бы даже мне за него предложили целый город». Рыцарь очень вспыльчив: ему как‑то раз случилось даже побить Санчо за одну из его слишком дерзких острот. Но, когда мгновенная вспышка гнева прошла, он искренно просит прощения у слуги: «Прости, Санчо. Ты человек разумный и поймешь, как трудно иногда удержать первые движения гнева».
До какой степени Санчо относился свободно к своему господину, как мало в нем рабского, лучше всего показывает та сцена, где он весьма энергично защищается от нападения Дон–Кихота. Рыцаря уверили, что его возлюбленная Дульцинея будет только тогда освобождена от чар злых волшебников, когда Санчо получит три тысячи триста ударов розгами. Так как оруженосец нимало не расположен добровольно подвергнуться этому наказанию, Дон–Кихот однажды, в глухую полночь, в то время как Санчо мирно спал, сделал на него неожиданное нападение и уже приготовился дать ему по крайней мере тысячи две розог, но тот, к счастью, вовремя проснулся. «Он выпрямился, прыгнул на своего барина, обнял его руками и дал ему такую подножку, что Дон–Кихот во весь рост растянулся на земле. Потом придавил ему грудь правым коленом и, поддерживая его руки своими руками, не давал ни двинуться, ни вздохнуть. Дон–Кихот кричал ему задыхающимся голосом: „Как, предатель, ты смеешь бунтовать против твоего законного господина и повелителя! Ты нападаешь на того, кто дает тебе хлеб!” — „Я и не думаю бунтовать, — отвечает Санчо, — я только защищаю свою особу, над которой я сам полный господин. Пусть ваша милость обещает мне не трогать меня и пусть она откажется от намерения меня высечь; только в таком случае я отпущу вас и позволю встать”». Зато какой порыв бесконечной преданности и любви чувствуется в простых словах Санчо, которыми он старается утешить умирающего Дон–Кихота. Припав к изголовью своего бедного барина, он плачет как ребенок от сострадания и нежности: «увы, увы! не умирайте, мой добрый господин, не последуйте моему совету и живите еще много, много лет, так как это величайшее безумие в мире, если человек ни с того ни с сего умирает, когда никто не думает его убивать, без всякого настоящего повода, от одной только скорби. Ну, не будьте же ленивым, вставайте‑ка с постели и пойдем в поля, переодетые в пастухов, как это мы задумали. Может быть, за каким‑нибудь кустиком вы найдете госпожу Дульцинею, освобожденную от чар волшебников, к нашему величайшему удовольствию. Если же ваша милость умирает от горя по поводу испытанного поражения, свалите всю вину на меня — скажите, что вас сбросили на землю только потому, что я плохо оседлал Россинанта». Наивное утешение бедного Санчо ласково и глубоко. В словах его, несмотря на их крайнюю простоту, почти детскость, чувствуется материнское понимание слабостей любимого человека. Сколько тонкой душевной прелести в этом порыве: «свалите всю вину на меня».
В своей комической одиссее эти два друга в сущности пресчастливые люди. Чего им недостает? Они живут как птицы, «даром Божьей пищи». Оба — настоящие дети по душевной чистоте и беспечности. Они так мало похожи на остальных людей. Вся их жизнь — уморительная шутка или трогательная поэма. В минуту смертельной опасности, которая, как все их приключения, впоследствии оказалась сущим вздором, они забавляются сказкой о влюбленной пастушке Торральве, напоминающей нашу сказку о белом бычке. Оба убеждены, что, быть может, через несколько часов им грозит смерть; Санчо еще за минуту перед тем готов был умереть от страха, сам неустрашимый Дон–Кихот испытывал чувство, весьма похожее на робость. И все это не мешает ему забавляться ребяческой шуткой; они серьезно погружены в эту игру, горячатся, увлекаются спором по поводу сказки, выдуманной для трехлетних детей. Опасность, возможная смерть, весь мир забыты для интересного вопроса о том, сколько именно овец удалось перевезти Торральве через реку. Разумные люди смеются над ними, но отчего им так нравится общество этих полоумных чудаков? В этой, по–видимому, нелепой жизни есть легкость, свобода, поэзия — все, чего так недостает людям в их серых, рабочих буднях. Беззаботные искатели приключений, любопытные странники, жадные ко всякой новизне, Дон–Кихот и Санчо Панса вырвались из условных рамок жизни. Рыцарь превращает все, что видит перед собою, в мечту; оруженосец — в шутку, в забаву. Санчо требует только, чтобы жизнь была смешной, Дон–Кихот — чтобы она была фантастической, но оба относятся к ней бескорыстно, т. е. более поэтически, чем все остальные лица романа. И вот почему серьезные люди, утомленные борьбой из‑за насущных интересов, так смеются и так любят то несерьезное, что заключено в мечтаниях этих взрослых детей. Герцог и пастухи, монахи и кабатчики, гуманисты и крестьяне, меценаты и разбойники с большой дороги — люди самых разнообразных темпераментов, убеждений, слоев общества, — озлобленные, скучающие, сходятся в инстинктивной симпатии к этой счастливой парочке беззаботных мечтателей: там, где они, — смех и веселье. Все смотрят свысока на чудаков, шутят над ними и стараются быть поближе к ним, чтобы хоть на минуту согреться около этого смешного, милого счастья.
Тем не менее под светлой оболочкой романа таится печальная ирония. Дон–Кихот и Санчо Панса — чудаки, безумцы, бесполезные мечтатели, но разумнее ли их те, кто смеется над ними? Сервантес обнаруживает перед нами все ничтожество, бессердечность, лицемерие и вечную глупость людей. Чем занимаются герцог и его супруга? Для потехи они стравили своего лакея, здоровенного парня, который одним пальцем может раздавить Дон–Кихота, с полоумным, несчастным гидальго, как стравливают зверей. И вельможи тратят деньги, устраивают великолепный амфитеатр, сзывают гостей, чтобы смотреть на это зрелище. Скука доводит их до зверского бездушия. Кровавая потеха случайно не удалась: бойцы разошлись, не искалечив друг друга. Все негодуют. Публика потеряла даром время. Массы крестьян оторвались от работ, прибежали из далеких деревень. «Большинство, — замечает Сервантес, — разошлось разочарованное и с поникшей головой, видя, что бойцы после такого долгого ожидания не разорвали друг друга на части, подобно тому как маленькие мальчики удаляются печально с площади, когда приговоренный к казни уходит с эшафота, получив прощение от истца или судей».
В сцене смерти Дон–Кихота Сервантес непосредственно от высочайшего пафоса переходит к самой беспощадной иронии. Дон–Кихот еще не умер, он лежит в последней агонии. Весь дом в страшном беспорядке, «но тем не менее у племянницы был превосходный аппетит за обедом, экономка предлагала тосты, и Санчо тоже отлично проводил время, так как людям довольно получить какое‑нибудь наследство, чтобы в сердце их смягчилось чувство скорби, которую должна бы причинить утрата близкого человека».
Крестьяне двух соседних деревень из‑за какого‑то вздора, который не стоит выеденного яйца, из‑за ребяческой шутки идут друг на друга войной. Дон–Кихот становится между двумя готовыми к битве войсками. Он негодует и не в состоянии понять, как люди из‑за подобных пустяков могут желать друг другу смерти. Он, которого считают сумасшедшим, вправе, в свою очередь, считать сумасшедшими этих людей. «Ваши милости, — поучает он, — обязаны по законам божеским и человеческим сложить оружие».
В гостинице лакеи, вельможи, служанки, благородные дамы, чиновники, солдаты, агенты инквизиционного суда спорят, кричат, готовы перерезать друг друга из‑за какого‑то несчастного ослиного седла. «Вся гостиница была сплошным плачем, стоном, криком, с ужасами, беспорядком, несчастием, с ударами копий и палок, с затрещинами и подножками, с ранами и кровопролитием». Дон–Кихот поднимается, громовым голосом заглушает крики, останавливает и успокаивает всех. У этого безумца оказалось больше здравого смысла, чем у разумных людей. «Клянусь именем Бога всемогущего, это позорно и чудовищно, что столько благородных гидальго, сколько их здесь собралось, готовятся перебить друг друга из‑за такого ничтожного повода».
Сервантес, рассказывая различные шутки, проделанные над бедным гидальго при дворе одного вельможи, замечает ядовито и скорбно: «Кто знает, может быть, насмешники были так же безумны, как те, над которыми они смеялись, и герцог с герцогиней были меньше чем на волос от явной глупости, так как они тратили столько усилий, чтобы вышутить двух глупцов».
Санчо–Панса, изумляющий нас мудростью в роли правителя, разве это не насмешка над претензиями серьезных государственных мужей? «Каждый день видишь в мире новые удивительные вещи, — замечает Сервантес с иронической улыбкой, — шутки превращаются в серьезные дела и насмешки оказываются осмеянными».
Все эти здравомыслящие люди, которые смеются над Дон–Кихотом и его оруженосцем, злы, бесчеловечны, самолюбивы и к тому же несчастны. В этом отношении они могут позавидовать осмеянным ими чудакам. Счастье досталось мечтателю, иллюзии которого граничат с безумием, и невежде, умственная апатия и лень которого граничат с глупостью.
Остальных действующих лиц романа преследуют или скука, или несчастие. Горечь и ужас таятся под легкой, сияющей оболочкой этого гениального произведения: оно похоже на воды глубоких озер — на поверхности веселая зыбь, блеск, отражение смеющихся долин, солнца и неба, а там, под волнами, — мрак и бездонный омут.
МОНТАНЬ
Книга Монтаня[121] менее всего напоминает то, что принято называть философскою системой. Это, скорее, обширный сборник случайных, разрозненных заметок; громадный дневник, обнимающий целую человеческую жизнь; беспорядочная, пестрая смесь мыслей, записок, цитат, шуток, стихотворений в прозе, рассказов, хроник, воспоминаний[122]. Он показывает нам не только святая святых своего сердца, на что способен каждый искренний писатель, но и свой кабинет, столовую, детскую, спальню жены, мелкие прозаические подробности повседневной жизни, на что без крайней необходимости и чувства опасения не решается самый чистый, непорочный человек. Он — бесстрашнее, чем Ж. — Ж. Руссо в своей «Исповеди»[123], — показывает нам все свое существо; не прячет ни одного недостатка не только из крупных, но и из самых мелких, т. е. самых некрасивых, которые умные люди скрывают так тщательно и ревниво. Он очень мало заботится, дурным или хорошим, красивым или безобразным покажется, — только бы его увидели и поняли. И все же, в конце концов, он, как истинный художник, неудовлетворен, сознавая, что глубокая, темная часть его существа осталась невысказанной и необнаженной[124].
В этом детальном психологическом самоанализе — вся философия Монтаня. Правда, у него есть элементы для стройной, если не метафизической, то по крайней мере общественной и этической системы: это вполне законченный и чудесно обработанный материал для великолепной постройки. Но Монтань питает отвращение к излишней симметрии: он слишком любит естественное, случайное и безыскусственное. Он предпочитает оставить материал своей философской мысли в том неприкосновенном виде, в каком он получил его из рук природы и жизни. «Опыты» Монтаня можно сравнить с дико разросшимся, густым и живописным лесом, где легко заблудиться. Линии, краски, игра теней и света, формы цветов и растений, пение птиц — все здесь естественно, неправильно и беспорядочно. При виде громадных деревьев, мешающих друг другу, обыкновенному философу–строителю, наверное, пришло бы в голову практичное соображение: хорошо срубить все деревья, распилить на доски, стропила, бревна и построить по всем правилам архитектурного искусства симметричное здание метафизической системы, где все ясно и понятно, где нет возможности заблудиться. Но Монтань предпочел дремучий лес, без дорог и просек. Он инстинктивно чувствовал, что за внешнею неправильностью и беспорядком скрывается иная, высшая, стройность и единство. Он понимал, что движение капли сока в стеблях травы, разветвление корней, рост листа, — словом, все бессознательные, естественные процессы органического развития иногда совершеннее, чем работа тонких и сложных человеческих инструментов. Невозможно привести в систему взгляды Монтаня, не причинив им вреда, не испортив их цементом и искусственными спайками, неизбежными при всякой постройке. Можно только назвать главные составные элементы его философии, определить главные породы бесчисленных цветов и растений, встречающихся в его лесу. Но следует заранее предупредить, что эстетическое впечатление леса непередаваемо[125].
Сомнение для Монтаня — не средство и не цель. Оно не возводится в верховный, всепроникающий принцип, как у Пиррона, с которым, впрочем, Монтань имеет много общего, — скептицизм его не более как простая привычка ума, излюбленное настроение. Он сомневается во всем, но с чисто теоретической точки зрения: не во имя какого‑либо незыблемого положительного принципа, но во имя отрицания всяких принципов, всякой доктрины. Он родился, а не сделался скептиком[126]. По натуре это — человек спокойного, уравновешенного темперамента; по социальному положению — сеньор, барин; по вкусам — дилетант. Ему чрезвычайно удобно быть беспристрастным, чуждым всяких увлечений и крайностей, потому что судьба избавила его от необходимости участвовать в реальной жизненной борьбе, где опасность, чувство самосохранения, сила ненависти и любви вдохновляют человека верой, но вместе с тем делают его в известных отношениях ограниченным, нетерпимым и узким. Вечный зритель, с громадным запасом чисто французской веселости и общечеловеческого здравого смысла, он так хорошо изучил комическую сторону всех крайностей и увлечений, что сам уже не способен попасться на удочку. Если у него нет твердых убеждений, то нет и предрассудков; если он чужд истинной веры, то чужд вместе с тем и всяких суеверий. Последняя цель его скептицизма в том, чтобы объяснить читателю, почему лично он, Монтань, не способен примкнуть ни к какой партии, секте или школе.
Впрочем, мимоходом и по своему обыкновению без всякой системы указывает он и на некоторые объективные источники сомнения. Первый — сознание огромности мира, бесконечного разнообразия мировых явлений и полного ничтожества человека.
«Самомнение — наша естественная, прирожденная болезнь. Человек — самое несчастное и хрупкое из всех созданий, но вместе с тем самое надменное: чувствуя себя помещенным в грязи и нечистоте, прикованным к худшей, безжизненной и гнилой части мироздания, к подвальному этажу вселенной, наиболее удаленному от неба, в соседстве с животными и гадами, он в гордыне своей превозносит себя выше звезд, ногами попирает небо»[127]. Кто дал ему на это право? Он видит ничтожный клочок бесконечно малой части и осмеливается судить о целом.
Итак, вот первый источник скептицизма — ничтожество круга явлений, доступных нашему исследованию, и ограниченность самой познавательной способности.
Второй источник — полнейшая и неизбежная зависимость мысли от эмоции, исследования, — от постоянно меняющегося, субъективного настроения исследователя.
«Мы думаем, — говорит Монтань, — только то, что хотим думать, и только в то время, пока хотим. Подобно коже хамелеона, наше существо меняется под влиянием окружающей обстановки… Человек — воплощенное колебание и непостоянство:
Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum[128]
(т. e. «мы движемся как автоматы»). Мы не сами идем, а даем себя увлекать, подобно предметам, уносимым течением, то медленно, то быстро, смотря по тому, спокойно или бурно течет вода… Мы вечно колеблемся между различными мнениями: мы не желаем ничего свободно, ничего абсолютно, ничего постоянно»[129]. «Ноги мои так нетверды, опираются на такую зыбкую почву, что она грозит ежеминутно провалом; зрение мое так ненадежно, что натощак я чувствую себя совсем иначе, чем после еды; если я здоров и погода ясная, я любезен и приветлив; если меня беспокоят мозоли, я делаюсь угрюмым, злым и необщительным»[130].
Кроме бесчисленных, неизбежных и неуловимых физических влияний, множество явственных, как например самолюбие, корысть, личная выгода, вражда, любовь, видоизменяют по своему произволу наше поведение, увлекают в самые противоположные крайности, нарушают его правильность и беспристрастие. «Вы, например, излагаете какое‑нибудь дело адвокату, он отвечает вам неуверенно и неопределенно; вы чувствуете, что он равнодушен к делу, что ему все равно поддерживать ту или другую сторону; но попробуйте хорошенько заплатить ему, и он сразу принимает живое участие в деле, начинает горячиться, дремавшая воля напрягается, употребляет в дело весь свой разум, все свое знание, вот ему уже кажется, что он видит несомненную истину, он до известной степени искренне верит, заставляя и вас поверить, в правоту вашего дела». Итак, ум человеческий, непостоянный, зыбкий, изменчивый, ни на чем не может остановиться, колеблется и блуждает.
Velut minuta magno Deprensa navis in mari vesaniente vento.
(«Как ничтожная ладья, гонимая в открытом море яростным ветром»)[131].
Люди не могли сговориться даже по поводу того, что разуметь благом: один древний писатель, Варрон, насчитывает несколько сотен сект, расходящихся по вопросу о высшем благе[132]. Философия представляет бесчисленное множество направлений, школ, толков, непримиримых и разногласных, которые возводят на степень абсолютной истины самые нелепые фантазии. В них находится все, что только может создать человеческое воображение. Nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum (т. e. «нет такой нелепости, которая не была бы сказана каким‑нибудь философом»[133]). Но если человек не знает своего блага, потому что каждый понимает его исключительно и субъективно, не знает своего разума, потому что разум представляет непостоянную, бесконечно–изменчивую величину, не знает своей воли, потому что она является лишь слагаемым бесчисленных и произвольных внешних влияний, — словом, если человек не знает даже самого себя, то что же доступно его познанию в остальном мире? Не смеялся ли над нами философ Протагор, принимавший человека за меру вещей[134], — человека, который и своей‑то меры не знает; не хотел ли мудрец лишь показать, что у нас нет и не может быть никакого руководящего начала, никакой путеводной нити в хаосе несвязных впечатлений[135]?
Сомнение Монтаня отличается одною характерной чертой, которая делает скептицизм его оригинальным, не похожим ни на какое другое философское настроение, — сомнение его прежде всего веселое, жизнерадостное. Он только в теории, играючи и мимоходом, разрушает вековечные предрассудки и верования. В ту историческую эпоху, когда писал Монтань, у скептицизма едва–едва прорезывались зубы; это был Геркулес, не сознающий своей силы. Сомнение не успело еще приобрести ядовитого жала. Несмотря на смелость своих теоретических взглядов, Монтань — искреннейший человек в мире — вполне добросовестно и наивно считал себя верным сыном католической церкви и подданным французского короля: всю жизнь он, ничего не подозревая, играл огнем над пороховым погребом.
Мы уже видели отчасти логическое основание его скептицизма. Он отлично понимал чисто словесное значение метафизических споров. «Наши вопросы, — говорит Монтань, — состоят из пустых слов, и ответы на них такие же. Положим, вы утверждаете, что камень — тело; но тот, кто стал бы продолжать вопросы: „А тело что такое?” — „Субстанция”. — „А что такое субстанция?” — довел бы вас, наконец, до невозможности отвечать. Одно слово меняется на другое, притом часто на еще более непонятное: я лучше знаю, что такое человек, чем что такое животное, смертный или разумный. Желая уничтожить одно сомнение, производят три новых — это напоминает голову лернейской гидры»[136]. «Нет ничего постоянного, твердого, — восклицает он в другом месте, — ни в природе, ни в нас; и мы сами, и все наши суждения, и все конечные предметы текут, катятся безостановочно; не может быть никакого неизменного, устойчивого отношения между нашею мыслью и внешним миром, так как и наблюдатель, и наблюдаемое находятся в беспрерывном изменении и колебании»[137]. Que sais~je?[138] — вопрос, бывший девизом Монтаня, в двух словах отлично формулирует его скептическое настроение.
«Все настоящее время, — говорит Монтань, — мы гораздо больше заняты объяснениями объяснений, чем объяснениями самих вещей, и существует больше книг, трактующих о книгах, чем о каком‑либо другом предмете: мы умеем только писать примечания друг на друга. Повсюду кишат комментарии, самостоятельных авторов мало. Понимать ученых — вот главнейшая и высшая наука нашего времени, вот общая и последняя цель наших усилий. Первое из мнений служит стеблем для второго, второе — для третьего, таким образом, мы идем по ступенькам лестницы, воображая, что достигли высоты; между тем тот, кто стоит на вершине, едва–едва на волосок выше стоящих у первой ступеньки[139]. Мы наполняем только память; разум и совесть остаются пустыми.
Подобно тому как птицы, держа зерна в клюве, не проглатывая их, бережно несут, чтобы переложить в клюв птенцов, так наши педанты, поклевав кое–какого знания в книжках, помещают пищу на самом краю губ единственно с тою целью, чтобы выбросить ее изо рта в неприкосновенном виде»[140]. Но и питомцы их также не умеют проглотить пищи и передают ее следующему поколению; таким образом, она переходит от одних к другим, бесполезная и употребляемая только для забавы или для удовлетворения тщеславия. Наукой занимаются люди самые заурядные, руководимые грубым материальным расчетом. Она утратила свое высокое назначение раскрывать смысл жизни, указывать человечеству путь к нравственному совершенству. «Заботы и издержки наших отцов направлены исключительно к тому, чтобы, так сказать, меблировать наши головы различными сведениями: об уме и добродетели никто не заботится»[141].
Монтань применяет свой скептицизм не только к теоретической области человеческой деятельности, но и к практической.
Он сильно сомневается в законности социальных неравенств. «Охотничья собака ценится по быстроте, а не по ошейнику; сокол — по крыльям, а не по сбруе и позвонкам: почему же не ценим мы человека по тому, что составляет часть его самого? У него роскошное убранство, великолепный дворец, большой кредит, большие доходы, но все это вокруг него, а не в нем самом»[142]. Философ бесстрашно, хотя в практическом отношении и не особенно опасно, нападает на королевскую власть. «На короля, ослепляющего вас величием и блеском, посмотрите, когда упадет занавес: он самый обыкновенный человек, нередко хуже последнего из подданных… Трусость, нерешительность, честолюбие, злоба, зависть волнуют его так же, как и всякого другого:
Non enim gazae neque consularis Summovet lictor miseros tumultus Mentis et curas laqueata circum Tecta volantes.
(«Ни сокровища, ни консульский ликтор не прогонят черных дум и забот, витающих под золотыми потолками»)»[143].
«И тревога, и опасение держат царя за горло среди его громадного войска. Заботы не боятся шума и блеска оружия… Разве лихорадка, головная боль, подагра пощадят короля скорее, чем нас, простых смертных? Разве в то время когда старость будет у него за плечами, стражи, поставленные у дверей, защитят его? Когда обнимет его ужас смерти, разве придворные помогут ему? Когда он будет не в духе или ревновать, разве наши поклоны возвратят ему душевное спокойствие? Эти завесы над постелью, вышитые золотом и жемчугом, не обладают ни малейшею способностью утолять страдания во время болезни»[144]. Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигоны, в которых называл его сыном Солнца. На это царь возразил ему: «тот, кто выливает из моего горшка, засвидетельствует, что ты ошибся»[145]. Льстецы старались уверить Александра в его божественном происхождении, но однажды, будучи ранен, он указал им на кровь, вытекающую из раны, и произнес: «Смотрите, будете ли вы еще спорить? Разве это не настоящая человеческая кровь? Разве она похожа на ту, что, по словам Гомера, струилась из ран богов?»[146].
Монтань сомневается в самой сущности законов и государства. Законы по необходимости представляют неподвижные и постоянные нормы, тогда как человеческие действия бесконечно–изменчивы и разнообразны; очевидно, что при наложении ни одна юридическая норма не может вполне совпасть и покрыть собой ни одного человеческого действия, в котором всегда останется некоторый элемент, несоизмеримый с существующими законами. Этот‑то элемент и подает повод к произволу судей. «Самые редкие и общие законы — наиболее желательные. И все‑таки, мне кажется, что лучше было бы вовсе не иметь их, чем иметь в таком количестве, в каком они существуют у нас. Естественные законы всегда справедливее тех, которые устанавливаем мы: об этом свидетельствует изображение золотого века у поэтов и счастливое состояние вновь открытых племен, у которых нет никакого государственного устройства»[147]. Законы, по мнению Монтаня, пользуются уважением не потому, что они справедливы, а только потому, что они — законы. «В этом и ни в чем другом заключается мистическое основание их авторитета. Они нередко сочиняются дураками, чаще такими людьми, которые, ненавидя равенство, не понимают справедливости, но всегда людьми, т. е. суетными и невежественными созданиями. Не существует более тяжкой и глубокой несправедливости, чем та, которая заключается в законах»[148]. «Подумайте о действии законов, которые нами управляют, — восклицает он в другом месте, — вот, поистине, свидетельство людской глупости: так много в нем противоречий и ошибок. То, что мы привыкли называть милосердием и строгостью законов, составляет болезненное, разлагающее начало, несправедливые отклонения в самом сердце, в самой сущности справедливости. Что может быть чудовищнее того, что целый народ обязан слушаться законов, про которые ему никто никогда не говорил? Во всех своих домашних делах — свадьбах, передаче имущества, праве наследства, купле и продаже, он связан правилами, которых не имеет возможности знать, потому что они не обнародованы на его родном языке»[149].
Монтань смеется над важностью так называемых государственных дел. С большою церемонией и пышностью собирают умнейших людей королевства для торжественных заседаний, для рассуждения о великих вопросах, между тем как решение их всецело принадлежит капризу какой‑нибудь хорошенькой женщины или сплетням дамских будуаров. И возникшие таким образом постановления нередко тяготеют над целыми народами.
Сомнение Монтаня касается и религии. Впрочем, он добросовестно старается выгородить католическую религию из общего скептического отрицания, что, однако, не всегда ему удается. Так, например, у него есть целая глава, посвященная остроумной и увлекательной апологии самоубийства[150], которое с точки зрения католической нравственности является величайшим грехом.
Рассуждая теоретически, он смотрит на смерть как на освобождение от всех мучений, что также вовсе не согласно с христианским миросозерцанием, по которому грешники осуждаются после смерти на муки ада. «Подобно тому как наше рождение есть для нас рождение всего мира, так смерть всего мира будет нашею смертью. Вот почему так же безумно плакать о том, что нас не будет через сто лет, как и о том, что сто лет тому назад нас не было». Только при весьма туманном и неопределенном представлении о будущей жизни можно строить такие успокоительные силлогизмы, от которых веет чисто языческим, дохристианским материализмом[151].
Вот как Монтань определяет самого себя. «Я очень празден и ленив по природе и по убеждению; для меня все равно, пролить ли за что‑нибудь кровь, или посвятить чему‑нибудь заботы. У меня душа свободная и никому не подчиненная, привыкшая следовать лишь собственной воле; до сих пор, не будучи никем управляемым, не зная над собой никакой власти, никакой внешней силы, я шел, куда вздумается, жил, как мне нравится. Это изнежило меня и, лишая возможности приносить пользу другим, заставило жить только для самого себя»[152]. В сумму необходимых затрат по хозяйству он включает и то, что будет, по его предположению, украдено слугами. «Я не интересуюсь знать, сколько у меня денег в каждую данную минуту, для того чтобы меньше чувствовать понесенные потери. Я прошу домашних моих в случае, если они не могут относиться ко мне честно и добросовестно, обманывать меня, по крайней мере, и утешать благопристойною наружностью»[153]. Он чувствует себя положительно неспособным заниматься никакими житейскими делами, никакою продолжительною работой, требующей систематичности и напряженного внимания. В подробностях будничной жизни он неопытен и беспомощен, как ребенок, как Обломов. Он не умеет считать на счетах, не знаком с ценностью большинства монет, не знает отличия одного зерна от другого, названия самых простых земледельческих орудий, фруктов, говядины, овощей, ценности обыкновенных товаров. Немного конфузясь, но не без некоторого кокетства, он признается: «только недавно узнал я, что значит замесить хлебы и дать перебродить вину». «Если я долго проживу, — смеется он над собой, — я, кажется, забуду собственное имя»[154]. Как истинный барин, он не скрывает своего глубокого отвращения к денежным делам. «О, презренное занятие! — восклицает он, — следить за доходами, считать и пересчитывать деньги, взвешивать их, любоваться ими! Таким именно путем скупость вкрадывается в наше сердце»[155]. Но вместе с тем он ненавидит бедность, боится ее не меньше, чем болезни и страдания. Ему хотелось бы быть окруженным всевозможными удобствами и комфортом, но так, чтобы нисколько не заботиться об обстановке, чтобы все делалось само собой. У него в ничтожных мелочах вкусы и прихоти барина. Он требует, чтобы его стакан был сделан из прозрачного стекла, а отнюдь не из металла, чтобы он имел известную форму и был поднесен не все равно каким, а его собственным лакеем. Он доходит до такого сибаритства, что велит слугам будить себя несколько раз в продолжение ночи с тою целью, чтобы сон был приятнее.
Монтань провел большую часть жизни в родовом имении, в наследственном замке. Не только сам он, но и несколько поколений его предков не нуждались никогда ни в какой работе, ни в каком напряжении воли[156]. Представьте себе это мирное существование, невозмутимое, как поверхность прозрачного горного озера. Тихо и сладко протекает жизнь в родовом замке, где из окон обширного кабинета виднеются зеленые холмы Перигора, навевающие лень и задумчивость. Время приятно делится между прогулкой, беседой с друзьями и библиотекой.
Природа, семейная жизнь и философия соединяются, чтобы превратить существование в светлый, легкий сон. Трудно представить себе стечение более благоприятных условий для образования типа изнеженного эпикурейца, без воли, без привычки к труду[157], без способности страстно отдаваться чему бы то ни было. Из комбинации наследственного темперамента, умеренного и неподвижного, с огромною внутреннею подвижностью мысли и таланта возникает то свойство монтаневской философии, которое можно назвать дилетантизмом.
Легко проследить корни дилетантизма в низших способностях его ума, например в манере запоминать: «если желают мне возразить что‑нибудь, надо, чтобы возражение было представлено мне по частицам (а рагcelles), так как я не в состоянии отвечать на связную речь несколькими отдельными тезисами; я не мог бы, не записывая, удержать в памяти то, что мне нужно ответить»[158]. Память его, как и остальные способности, тяготится всяким продолжительным усилием.
Вот как он занимается и читает: «Я переписываю то одну книгу, то другую без всякого определенного порядка и намерения; просматриваю их, как придется. От книг перехожу иногда к мечтаниям: потом диктую, что придет в голову». «Книги забавны, — замечает он, — но если занятия ими отнимают у нас здоровье и веселость — драгоценнейшие блага, то лучше бросить книги»[159].
С таким же дилетантизмом относится он и к людям: «Я ищу умных, честных людей… О чем бы мы ни беседовали, нам будет в сущности все равно: мы не будем стремиться к значительности и глубине сюжетов: грация и пристойность украсят наши беседы; в них все будет проникнуто зрелым и спокойным суждением, добротой, откровенностью, веселием и дружбою». Изредка к их разговорам могут примешаться и философские споры, но они не должны производить слишком глубокого, удручающего впечатления: главное их назначение — то же приятное препровождение времени — «nous n’y cherchons qu’a passer le temps»[160] [161].
И к смерти он относится жизнерадостно и шутливо: почти превращает ее, как все, в забаву, в удовольствие. Здесь чувствуется протест против средневекового аскетизма; от этих небрежных, легкомысленных рассуждений веет духом Возрождения. Есть некоторое величие в беспечной и презрительной улыбке, с которой Дон–Жуан протягивает руку Каменному Гостю.
Монтань хочет обставить смерть самым утонченным комфортом: «Я желаю, — говорит он, — находиться в спокойном помещении, без шума, опрятном, не душном, но с чистым воздухом, чтобы смягчить смерть этими подробностями внешней обстановки… Я желаю, чтобы кончина моя была окружена таким же удобством и довольством, как моя жизнь; смерть — великая и важная часть нашего существования; надеюсь, что она не будет противоречить остальной моей жизни. Есть различные роды смерти, из которых одни более приятны, чем другие, и каждый может выбрать смерть по своему вкусу». Как истинный любитель, он тщательно осматривает, взвешивает и примеряет множество смертей, как будто дело идет о выборе вкусного вина или художественной картины. Ему кажется приятнее всего умереть по обычаю римлян императорской эпохи: «они как бы усыпляли смерть всевозможною негою и роскошью; она протекала и скользила для них среди молодых девушек и веселых товарищей; ни одного мнимо–утешительного слова, ни одного намека на завещание, никаких лицемерных выражений сочувствия, никаких разговоров о загробной жизни: они встречали смерть среди пиров, игр, шуток, простых обычных бесед, музыки и любовных стихов».
Монтань не только не чувствовал ни разу в жизни ни малейшего угрызения совести по поводу своего дилетантизма, но возводил его даже в верховный принцип всей своей деятельности. Подобно тому как в теоретической области он изобразил себе девизом знаменитое «Que sais‑je?» — так в практической он удовольствовался формулой: «je ne cherche qu’a passer»[162]. Оба этих девиза соединены, конечно, внутреннею связью и составляют только две стороны одного миросозерцания[163].
«Ум мой устроен так, что ему гораздо мучительнее толчки и сотрясения, производимые нерешительностью и колебанием, чем необходимость примириться и успокоиться на каком бы то ни было решении… Немногие страсти тревожили мой сон, но из работ самая ничтожная не дает мне уснуть. В дороге я избегаю скользких и обрывистых склонов и предпочитаю спуститься в пробитую колею, хотя бы вязкую и грязную, но такую, в которой уже невозможно упасть ниже, — на ней я чувствую себя по крайней мере в полной безопасности. Самый низкий путь — самый надежный и наиболее постоянный. Следуя по этому пути, я надеюсь и опираюсь исключительно на самого себя»[164].
Можно сказать заранее, что подобное состояние воли должно отразиться глубоким консерватизмом в общественных и политических взглядах. Как мы видели, Монтань сильно сомневается в справедливости существующего общественного строя, но из этого сомнения не только не делает революционного вывода, а, напротив, требует безусловной, даже неразумной покорности государственному порядку на том основании, что «всякое изменение может повлечь за собою еще большее зло». «Одни только мысли (т. е. свобода с теоретическим скептицизмом относиться ко всему) не принадлежат государству, во всем же остальном, как в деятельности, имуществе, труде, жизни, следует повиноваться государству и общепринятым мнениям»[165].
«По моему мнению, в общественных делах нет ни одного такого дурного учреждения, которое, если только оно имеет за собой историческое прошлое, не было бы гораздо желательнее перемен и нововведений»[166].
Монтань — консерватор не из страха перед властью, не из личной выгоды, не из мелкого расчета, не из партийной, самолюбивой ненависти к людям противоположного направления: он — консерватор потому, что вполне искренно сомневается в возможности коренных социальных реформ для тогдашней Франции. Воспитание, темперамент, привычка к покою и неподвижности, все внешние и внутренние влияния соединились, чтобы придать его душевному настроению особенный склад, который заставляет его «спускаться в пробитую колею».
Консерватизм Монтаня[167] объясняется также историческими условиями эпохи. «Посмотрите, — говорит автор, — в отдаленных провинциях, как например в Бретани, на жизнь, на отношение к подданным и слугам, на занятия, свиту и церемониал какого‑нибудь сеньора, обитающего в уединении среди домашних и челяди. Посмотрите также на полет его воображения — нет ничего более царственного: о своем короле он слышит раз в год, как о персидском шахе, и признает его только вследствие какого‑нибудь древнего родства, память о котором сохраняется его секретарем. В сущности наши законы достаточно свободны, и французский дворянин чувствует на себе тяжесть самодержавного правления не более двух раз в жизни. На действительное и фактическое рабство осуждены только те, кто сами его выбирают и надеются таким путем достигнуть почестей и богатств, но всякий, кто пожелает вести домашнюю жизнь и будет управлять хозяйством без ссор и процессов, так же независим, как дож венецианский. Paucos servitus, plures servitutem tenent[168]»[169]. «Если бы, — говорит он в другом месте, — законы, которым я подчиняюсь, самым ничтожным образом стесняли меня, я тотчас же отправился бы в другую страну искать других законов»[170]. Итак, существующий порядок вещей, несправедливость которого он, впрочем, хорошо сознает, не нарушает нисколько его личной свободы.
Всякая реформа и нововведение были связаны для Монтаня с представлением о междоусобных войнах, грабежах, насилиях, водворении полной анархии и кулачного права. Королевская власть и государственная централизация казались ему все‑таки желательными по сравнению с бесправием и гнетом средневекового варварства, ужасы которого он имел случай испытать на себе: «в том общем хаосе, в котором мы живем вот уже 30 лет, каждый француз ежеминутно должен ожидать гибели»[171]. Два раза во время путешествия он попадался в руки бандитов, спасаясь только каким‑то чудом. Среди белого дня он подвергается нападению своего соседа, такого же дворянина–помещика, как он сам. Автор приводит это нападение как повседневный, вполне обыкновенный случай[172]. Разбойничьи шайки в то время беспрепятственно бродили по дорогам. Междоусобные войны длились целые годы, не приводя ни к малейшему улучшению, ни к какому результату, и разбойники пользовались знаменем политических и религиозных партий, чтобы покрывать свои злодейства. Известные типы того времени — Екатерины Медичи, Гизы, Карл IX и Генрих III. Деморализация не только при дворе, но и в глуши провинции достигла крайней степени. Кровавые ужасы Варфоломеевской ночи более или менее отразились по всем городам Франции. Жизнь Монтаня совпадает с самым тяжелым временем для его родины: на протяжении второй половины XVI столетия произошло восемь кровопролитных религиозных войн. Борьба Медичи и Гизов, Валуа и Бурбонов, протестантов и католиков, развратного духовенства и не менее деморализованного правительства грозила уничтожить последние социальные и нравственные основы общества и довести Францию до первобытного варварства.
В подобные эпохи искренним и честным людям остается только два исхода. Или, очертя голову, забыв все личные интересы, кинуться в политическую борьбу и пожертвовать жизнью, подобно тому как это сделал доблестный предводитель гугенотов адмирал Каспар Колиньи[173], погибший жалкою смертью от руки убийцы, не осуществив своих великодушных планов. Или же, почувствовав отвращение к междоусобной, годами тянущейся и ничем не кончающейся бойне, отчаявшись в возможности существенных политических реформ, прийти к отрицанию всякой борьбы, всяких переворотов и нововведений, потребовать от общества одного покоя, покоя во что бы то ни стало, хотя бы купленного ценою повиновения плохим, но незыблемым, определенным законам. Монтань по своему характеру и воспитанию не был способен выбрать первый из этих двух исходов — пойти на мученичество, сделаться подвижником и героем. И вот, по необходимости, он избирает второй исход — требование порядка, защиту старинных государственных основ, консерватизм[174]. Королевская власть не стесняла лично свободы тогдашнего дворянства[175]; она не успела еще сделаться синонимом деспотизма и угнетения. Вот почему Монтань избрал роялизм и тесно связанную с ним приверженность к римско–католической церкви как знамя общественного порядка среди всеобщего хаоса и мира, среди бесконечной междоусобицы. Но в консерватизме Монтаня нет ничего фанатического и нетерпимого. Это не более как отрицательное отношение к партийной борьбе, историческая невозможность создать великий и примиряющий социальный идеал и слишком нетерпеливая, страстная жажда утомленного человека[176] — жажда отдыха.
«Тот, кто чувствует собственное человеческое достоинство, — говорит Монтань, — поймет свои обязанности к другим людям и обществу, поймет свое призвание содействовать общественной пользе, исполняя долг гражданина. Тот, кто не живет для других, не живет для самого себя: qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse. Каждому своя обязанность — таково наше главное призвание и для него мы живем в этом мире»[177]. У скептицизма, который привел Монтаня в политической области к глубокому консерватизму, есть другая сторона — терпимость. В ней одна из бессмертных заслуг философа[178]. В разгар фанатической вражды никакая законченная система и доктрина не могла быть так полезна и благодетельна, как проповедь терпимости и скептическое отрицание всякой односторонней, узкой системы и доктрины. Способность не верить в этот век грубого фанатизма была так же дорога и благотворна, как способность верить в наше скептическое время. Подвиг Монтаня заключается именно в том, что он остался в стороне от кровавой резни, остался холодным к теологическим спорам и препирательствам, к узкой политической ненависти и партийной борьбе, сохранил независимость ума, показал своею жизнью образец благородства и справедливости без религиозных увлечений, провозгласил, насколько это было возможно в то время, принцип терпимости и разумной кротости[179].
«Все людские бедствия, — говорит Монтань, — происходят от того, что нас заставляют стыдиться обнаруживать наше невежество, и мы обязаны принимать на веру все, что не в состоянии опровергать: мы обо всем привыкли говорить догматами и заповедями… Но мне внушают ненависть к вещам вероятным, когда их выдают за несомненные. Я люблю эти слова, которые смягчают резкость наших суждений: „быть может”, „пожалуй”, „некоторый”, „говорят”, „я полагаю”… Философия начинается с удивления, развивается через исследование и достигает незнания»^. Это убеждение в собственном невежестве есть не что иное, как терпимость. Тот, кто убежден в своем незнании, никого не осмелится преследовать ни за какие убеждения. В этих немногих словах выражена в сжатой формуле основная мысль Монтаня — то, что у других философов, — более, чем он, доктринеров, можно бы назвать системой: философия начинается с удивления, следовательно, рабства мысли; переходит к исследованию, т. е. к отрицанию и скептицизму; достигает признания собственного невежества, т. е. терпимости и, следовательно, свободы мысли.
У великого скептика хватило мужества и независимости сказать в глаза своему жестокому веку: «надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы из‑за них предавать сожжению живых людей»[180]. «Упорство и страстность мнения, — говорит он с горечью, — есть вернейший признак глупости: что может быть более уверенно, убежденно, презрительно, задумчиво, важно, серьезно, чем осел?»[181]. Он один из первых употребил против суеверия самое опасное оружие — насмешку. Но и к людям, наиболее ненавистным для него, к нетерпимым доктринерам и фанатикам он старается отнестись великодушно. «Глупость — нехорошее свойство: но относиться к ней нетерпимо, приходить по поводу ее в бешенство — это другой род болезни, не менее неприятный, чем глупость…
Я вступаю с кем угодно в рассуждение и спорю с большою легкостью и свободой, тем более что доводы находят во мне такую почву, в которую им очень трудно проникнуть и пустить глубокие корни: никакие предположения не удивляют меня, никакая вера не оскорбляет, как бы она ни была противоположна моим взглядам; нет такой эксцентричной и сумасшедшей фантазии, которая не казалась бы мне вполне естественным продуктом человеческого ума. Мы, люди, не признающие за своим умом права постановлять окончательные приговоры, мягко и снисходительно смотрим на различные мнения. Итак, противоречия моему суждению я не считаю для себя чем‑то враждебным и оскорбительным, — напротив, они возбуждают меня и заставляют думать. Мы избегаем возражений, а между тем следовало бы, наоборот, искать их и принимать с радостью, особенно когда они только предлагаются, а не насильно навязываются как непогрешимые догматы. Когда кто‑нибудь не соглашается с нами, мы заботимся не о том, прав ли он, а лишь о том, как бы отделаться от его возражений, хотя бы ценою правды; вместо того чтобы принять их с распростертыми объятиями, мы с озлоблением боремся против них. Мне очень нравилось бы, если б друзья резко осуждали меня: „ты глуп, ты бредишь”. Я люблю, чтобы честные люди выражали свои мнения смело и откровенно, чтобы слова следовали за мыслью: надо укреплять наш изнеженный слух, закалять его в ненависти к приторной лести… Когда мне противоречат, то возбуждают мое внимание, но не гнев: я сам иду навстречу тому, кто мне противоречит, кто меня учит; интерес истины должен быть общим интересом для той и другой стороны… Что может он отвечать? Раздражение отняло у него способность здраво судить, волнение победило силу рассудка… В каких бы руках я ни встретил истину, я приветствую ее с лаской и весельем, сдаюсь радостно и протягиваю побежденное оружие, только что завижу ее издалека; и если это делают не с важным доктринерским видом, я нахожу удовольствие в том, чтобы со мною не соглашались, и часто соглашаюсь с противниками более из чувства благодарности за возражение, чем из сознания их правоты, — только чтобы показать, как мне приятна полнейшая свобода спора и противоречия»[182].
Феодальный и церковный строй средних веков как будто нарочно был создан для того, чтобы подавлять личность, убивать в зародыше все попытки ее развития. «Люди, — говорит Монтань, — отдают себя внаем; их способности служат не им самим, а тем, кому они себя порабощают… Это всеобщее настроение мне противно. Надо беречь свободу души… Никто не раздает понапрасну денег, а между тем каждый отдает другим и время, и жизнь: на них мы более щедры, чем на что‑либо другое, тогда как в этом единственном отношении следует быть скупыми»[183]. «Посмотрите на солдата: вне себя от ярости, осыпаемый вражьими пулями, карабкается он по разрушенной стене в осаждаемый город; посмотрите на другого, который, окровавленный, истощенный и бледный от голода, твердо решился скорее умереть, чем открыть ворота врагу; вы думаете, что они работают для себя? Нет, они служат человеку, которого, вероятно, никогда не видали, который никогда не узнает об их подвигах; между тем как они страдают за него, он погружен в праздность и наслаждение»[184]. Монтань приглашает человека вернуться к себе, освободиться от стадного инстинкта, оспаривает право государства жертвовать благосостоянием и жизнью граждан.
Он советует бежать от бесцельной житейской суеты, от всеобщей погони за славой, деньгами и наслаждениями, от государственного деспотизма. Но надо стремиться и к внутреннему освобождению. В полном уединении человек может оставаться рабом своих предрассудков и страстей: «они нередко следуют за нами в монастыри и философские школы; ни пустыни, ни пещеры, ни вериги, ни посты не спасают нас от них… Надо возвратить себе власть над самим собою… Следует сохранить в душе убежище неприкосновенное, свободное, в котором мы всегда могли бы найти приют и уединение. В этом убежище надо беседовать с самим собой безмолвно и скрытно — так, чтобы никто не мог нас подслушать; там следует рассуждать и смеяться, не будучи стесненным ничем, как будто у нас нет ни жены, ни детей, ни имущества, ни земель, ни слуг, — чтобы, в случае если мы лишимся их, потеря эта не показалась нам неожиданной. Мы обладаем душой, способной сосредоточиться в самой себе, служить обществом для самой себя; она найдет в своем внутреннем мире, чем нападать и чем защищаться, что принимать и что давать… В этом уединении нам нечего бояться ни скуки, ни праздности:
In solis sis tibi turba locis
(т. e. «в уединении будь толпою для самого себя»)»[185].
«Избавимся от этих страстных увлечений, которые порабощают нас и удаляют от работы над собою. Надо порвать эти крепкие связи. Пожалуй, можно на время привязываться к внешним предметам, но всецело отдаваться следует только высшему благу своей личности… Величайшая вещь в мире — уметь принадлежать только самому себе. Нам следует удалиться от общества, если мы не чувствуем себя в состоянии принести ему пользу: пусть не занимает тот, кто не может отдать. Если силы нам изменяют, соберем их и сосредоточим на самих себе»[186].
Это вовсе не эгоизм, не безразличное отношение к людям. Философ любит людей и ценит их общество, и если бежит в уединение, то не из враждебного чувства, а из любви к свободе, из сознания, что при существующем общественном строе свобода среди людей невозможна. «По природе своей, — говорит он, — я очень общителен и откровенен; я люблю высказываться, не способен ничего скрывать, я рожден для общества и дружбы. Уединение, которое я проповедываю, заключается в том, чтобы возвращать к истинным интересам своей личности рассеянные мысли симпатии, чтобы ограничить и, по возможности, сузить не кругозор, а похоти и заботы, чтобы сбросить с себя все чуждое и бесполезное, бояться, как смерти, рабства и принуждения, избегать скорее хлопот, чем людей. Уединение в сущности еще больше расширяет мой кругозор, делает меня еще более общительным. Когда я один, я легче увлекаюсь общественными интересами и мировыми событиями»[187].
Несмотря на любовь к уединению, он обладает избытком нежной, чисто–женской чувствительности к чужим страданиям. «Больше всех остальных пороков, — говорит он, — я ненавижу жестокость и по врожденному чувству, и по убеждению»[188]. Страдания животных действуют на него не менее сильно, чем страдания людей. «Я очень чувствителен к чужому горю и готов плакать, когда вижу слезы не только в действительности, но и на картине, и на сцене. Я не могу равнодушно смотреть на смертную казнь, как бы она ни была справедлива».
Солдату, которого государство посылает на смерть; схоластику, сгубившему свой век, чтобы «найти истинную орфографию латинского слова»; монаху, угнетенному строгим уставом, Монтань проповедует великий принцип: «каждый обязан любить себя, — не тою порочною и ложною любовью, которая заставляет нас привязываться к славе, схоластической мудрости, богатствам и чрезмерно дорожить всем этим, как частью нашего собственного существа, — также и не тем суетным, себялюбивым чувством, которое, подобно плющу, разрушает и губит то, к чему привязывается, — но любовью истинною и благодатною, приносящею одинаково и пользу и счастье. Кто знает обязанности этой любви к самому себе и выполняет их, тот воистину служитель муз, тот достигает вершины человеческой мудрости и доступного нам блаженства. Вместе с тем тот, кто чувствует человеческое достоинство, поймет свои обязанности к другим людям».
Монтань смотрит на мир и на людей свободно и доверчиво, он один из первых в новой истории пробудился от средневекового кошмара. С каким восторгом приветствует он новую мысль, освобожденную от оков схоластики: «Напрасно представляют философию недоступной детям, с грозным, отталкивающим, нахмуренным лицом: кто надел на нее эту маску, бледную и отвратительную? Нет ничего более веселого, радостного, светлого, и я почти готов сказать — игривого, чем истинная мудрость; она проповедует наслаждение и праздники: если вы видите боязливые, угрюмые лица, будьте уверены, что она не живет среди этих людей»[189].
«Душа, животворящая философию, должна своим здоровьем придавать телу бодрость и силы: ее внутренний мир и счастье должны просвечивать в самой наружности, в которой благородная гордость сливается с деятельною, веселою подвижностью, с благоволением и довольством. Самый главный признак мудрости — это постоянно хорошее расположение духа, состояние такое же ясное и безмятежное, как тихое звездное небо. Ее назначение — успокаивать бури души не ложными софизмами, а простыми и осязательными доводами; цель ее — добродетель, которая обитает не на отвесной горе, обрывистой и недоступной, как уверяют схоластики. Нет — те, кому удавалось приблизиться к ней, рассказывают, что она живет в прелестной долине, плодородной и цветущей, с которой она созерцает простертый у ног ее мир; можно достигнуть ее жилища тенистыми тропинками с душистыми цветами и нежною муравой, по склону мягкому и чуть заметному, как свод небес. Они никогда не посещали этой добродетели — высшей, прекраснейшей, торжествующей, любящей, сладостной и мощной; они никогда не видели этой непримиримой противницы страданий, скуки, боязни и насилий, для которой вождь — сама природа, для которой подруги — счастье и наслаждение, — и вот почему они в ограниченности своей создали этот образ, угрюмый, злобный, сварливый и угрожающий, и поместили его на недоступной скале, среди колючих терний, — пугало, созданное, чтобы устрашать людей»[190].
Эта страница проникнута духом Возрождения. Воскрес великий Пан, воскресло античное чувство природы и радости жизни. «Добродетель, — восклицает Монтань, — кормилица всех человеческих радостей; она делает их справедливыми, а потому надежными и чистыми; умеряя, она сохраняет их юную свежесть и силу; лишая нас одних, она обостряет наслаждение всеми другими и с материнской нежностью позволяет нам до полного удовлетворения, если не до усталости, наслаждаться радостями, которые допускает природа. Она любит жизнь, любит красоту, и славу, и здоровье»[191].
Монтань — оптимист; как большинство его философских воззрений, оптимизм не вылился у него в законченную систему; он является лишь преобладающим настроением, солнечным фоном его миросозерцания. Говоря о печали, Монтань замечает: «Я, более чем кто‑либо, чужд этой страсти; я не люблю и не уважаю ее, хотя обыкновенно принято оказывать печали всевозможные почести: печалью украшают мудрость, добродетель, совесть, — глупое и гадкое украшение!»[192].
Он считает, как истинный эллин, светлым и прекрасным все человеческое существо — не только душу, но и тело. «В этом даре (т. е. в нашем теле), полученном от Бога, нет ни одной части, недостойной нашей заботливости; мы обязаны дать в нем отчет Создателю до последнего волоска». «Я не могу выразить, до какой степени я обоготворяю красоту, эту могучую и благодатную силу. Сократ называл ее „мимолетною тиранией”, Платон — „привилегией природы”. В самом деле, нет другой привилегии, более популярной среди людей: ей принадлежит первое место в общежитии, она идет впереди всех других качеств, чарует и увлекает наш разум…». «Не только в людях, которые мне прислуживают, но и в животных я ценю ее очень немногим меньше доброты»[193].
Еще большее сходство с античным миросозерцанием придает его оптимизму легкая грусть, которая оттеняет радость жизни и возникает из сознания, что все наслаждения временны и мимолетны. Из этого сознания он делает эпикурейский вывод:
«всеми силами — и зубами, и ногтями, следует удерживать наслаждения, которые одно за другим вырываются из наших рук годами
Carpamus dulcia; nostrum est,
Quod vivis: cinis et manes, et fabula fies.
(«Ловите наслаждения, — ваших будет столько, сколько успеете пожить: скоро ты превратишься в пепел, тень, звук пустой»)»[194].
«Другие люди чувствуют сладость счастья и благосостояния; я чувствую ее так же, как они, но не мимолетно и не мимоходом: я считаю нужным выжимать из жизни сок до последней капли, упиваться ею и, так сказать, пережевывать, пока только возможно, чтобы достойно прославить Того, Кто дает нам счастье»'[195]. Даже в его отношении к смерти, как мы отчасти видели, нет и следа христианского мистицизма: она не внушает ему ничего, кроме грациозной и немного легкомысленной меланхолии, такой же светлой, как задумчивость осенних, ясных вечеров. И здесь чувствуется древний грек.
«Размышление о смерти, — говорит Монтань, — есть размышление о свободе; кто научился умирать, тот разучился быть рабом; нет в жизни зла для того, кто понял, что лишение жизни не есть зло. Мысль о смерти и спокойное отношение к ней избавляют нас от всякого подчинения. Что касается меня, я по природе своей не меланхоличен, но задумчив; чаще, чем о каком‑либо другом предмете, я размышлял о смерти даже в самое радостное, цветущее время жизни. Среди молодых женщин и веселья я сижу, бывало, сосредоточенный и молчаливый; товарищи думают, что я влюблен или мечтаю, между тем как на самом деле мне приходит в голову мысль о смерти одного из моих знакомых, который несколько дней тому назад внезапно заболел горячкой на подобном же празднике, веселый, мечтающий о любви, как и я в эту минуту, — и кто‑то твердит мне на ухо:
Jam fuerit, пес post unquam revocare licebit.
(Миг улетит, и никто не вернет его снова)».
«Но от этих мыслей лицо мое нисколько не делается печальнее. Мы рождены для деятельности:
Quum moriar, medium solvar et inter opus
(Я хочу умереть за работой).
Мы должны до последней минуты действовать и исполнять все, чего требует от нас жизнь: я хочу, чтобы смерть застала меня на огороде в то время, как я сажаю капусту, и притом так, чтобы я очень мало заботился о кончине и еще меньше о деле, которое мне приходится покинуть»[196].
До самой старости, несмотря на болезни, страдания и приближение смерти, Монтань сохранил этот взгляд на жизнь[197]. Вот что он говорит в заключение своих «Опытов»:
Ты настолько Бог, насколько Признаешь себя человеком.
(D’autant es tu Dieu, comme Tu te racognois homme).
«В этом высшее и почти божественное совершенство — уметь законно пользоваться своим существом. Мне кажется, что самая лучшая жизнь — та, которая соответствует правильному и обыкновенному человеческому образцу, не выдаваясь никакими крайностями и чудесами. Что же касается нас, стариков, мы заслуживаем, чтобы с нами обращались с некоторою мягкостью. Поручим нашу старость этому богу, покровителю здоровья и мудрости, веселому и общительному. Аполлон, умоляю тебя! — дай мне в полной силе и здравом уме насладиться тем, что есть у меня, и встретить старость не горькую и не лишенную сладостных песен»[198].
Жажда простоты, естественности, возвращения к природе увеличивается, по мере того как жизнь цивилизованного человека становится все более сложною, искусственною и оторванною от жизни народных масс.
Принято считать Руссо родоначальником идеализации первобытного состояния, но в сущности он только подновил и переработал учение, которое мы почти целиком находим у Монтаня.
Скептик XVI века исходит из того положения, что крайнее развитие культурной жизни приводит всякую страну к внутреннему разложению и нравственному упадку:
«Примеры показывают нам, что в Спарте, как и во всех других государствах, подобных ей, занятия науками не только не укрепляют и не увеличивают храбрости граждан, но, напротив, изнеживают и лишают их мужества. Я нахожу, что Рим был более могущественным, когда он не был бы ученым». Это происходит оттого, что наука и цивилизация заботятся только о красивой внешности, не давая людям ни настоящего счастья, ни настоящего знания жизни: «говоря откровенно, люди науки лишены даже простого здравого смысла. Крестьянин и сапожник простодушно и наивно беседуют о том, что они действительно знают, тогда как ученые, желая показать глубину своих познаний, на самом деле весьма легковесных и поверхностных, постоянно путаются и на каждом шагу попадаются в непроходимые дебри»[199].
«С настоящими учеными происходит то же, что с колосьями на ниве: пока они пусты, они гордо и смело подымают голову к небу; когда же наполнит их спелое, тяжелое зерно, они начинают смиренно склоняться к земле. Так и люди: все испытав, все проникнув и не найдя в этом огромном количестве знаний и мудрости ничего твердого, незыблемого и вечного, — ничего, кроме суеты, они отрешаются от гордости и признают свою человеческую слабость»[200].
В этом отношении звери пользуются громадным преимуществом перед человеком. Врожденный и непреодолимый инстинкт не позволяет им удаляться от счастливого естественного состояния. Монтань идеализирует бессознательный животный инстинкт и ставит его выше «суетного» человеческого разума, нарушающего совершенные и мудрые законы природы. «Вести правильную жизнь вследствие неизбежных и естественных условий своего существа, — разве это не почетнее, не выше и не более приближает нас к божеству, чем действовать, подчиняясь лишь собственной дерзкой и произвольной прихоти? Разве не лучше всецело предоставить природе управление и власть над нами?»[201].
Он идеализирует и описывает в самых радужных красках первобытное состояние американских дикарей, с которыми Европа только что начала в то время знакомиться. Открытие Нового Света и невольная параллель, которая возникла между нравами молодых некультурных племен и цивилизацией древних европейских народов, давали сильный толчок стремлению к простоте, к естественности, к патриархальной жизни в природе. Впрочем, сомнение в цивилизации отчасти проявлялось уже и в античном мире, как например в учении циников, в пастушеских романах и буколической поэзии римских и греческих писателей времен упадка. Монтань воспользовался бытом недавно открытых краснокожих дикарей, чтобы возобновить в литературе это оригинальное движение. «Я нахожу, — говорит он, — что в диких племенах нет ничего варварского: варварством каждый из нас называет то, что не соответствует обычаю его страны. В самом деле, у нас нет другого мерила истины и разума, кроме общепринятых мнений и привычек той местности, в которой мы родились: мы находим, что только там — и больше нигде — совершенное правительство, лучшая религия и лучшие нравы. А между тем племена эти настолько же дики, как плоды, которые производит природа своими собственными средствами без помощи людей. Дикими плодами нам следовало бы, скорее, называть те, которые выродились и утратили свой первобытный вид и вкус вследствие нашего искусственного ухода, тогда как в первых, т. е. в настоящих диких плодах, еще живы и сильны истинные, более полезные и естественные достоинства, которые мы извратили, потворствуя нашему испорченному вкусу. Фрукты этих далеких стран отличаются таким ароматом и нежностью, которые не встречаются в наших европейских плодах. Нет, искусство человеческое никогда не получит пальмы первенства в состязании с нашею великою и могучей матерью — природой. Мы до такой степени загромоздили красоту и роскошь ее произведений нашими жалкими выдумками, что, наконец, совсем потеряли ее из вида. А между тем только что природе удается где‑нибудь блеснуть в полной чистоте, она тотчас пристыжает все ничтожные и суетные усилия человека… Наше искусство бессильно воспроизвести гнездо самой маленькой пташки, его устройство, красоту и целесообразность, или паутину какого‑нибудь ничтожного паука»[202].
Вот как рисует Монтань блаженное состояние американских дикарей: «Естественные законы, не извращенные людьми, повелевают ими в полной чистоте. Мне кажется, что счастие этих народов значительно превосходит не только все самые пленительные картины золотого века, созданные поэзией, и пылкие мечты ее о человеческом счастье, но даже высшие требования и цель самой мудрости: никто до сих пор не мог представить себе такую чистую, полную простоту и наивность, которую мы не в мечтах, а в действительности встречаем среди этих народов. У них нет наук и искусств, нет чиновников и властей, нет слуг, богатств и бедности, нет договоров, наследств, разделов, нет никаких занятий, кроме праздных… Самые слова, которые обозначают ложь, измену, притворство, скупость, зависть, клевету, прощение, им незнакомы. Насколько идеальная республика Платона далека от их совершенства! Viri a diis recentes — „это люди, только что вышедшие из рук богов”»[203]. Замечательно, что Монтаня нисколько не разочаровывает, например, такая известная ему черта из быта дикарей: «Убив пленника, они его жарят и едят сообща, посылая куски мяса отсутствующим друзьям. Они делают это не для того, чтобы насытиться, а чтобы изобразить крайнюю степень ненависти»[204]. Его это не возмущает, потому что в инквизиционных ужасах и жестокостях современных ему религиозных войн он видит примеры гораздо больших злодеяний, совершенных во имя Бога. По его мнению, съесть убитого человека не так преступно, как подвергнуть зверским пыткам живого. Природа одаряет дикарей всем необходимым; мы, цивилизованные люди, отвергли эту естественную и благодетельную помощь: «подобно тому как естественный дневной свет мы заменяем искусственным, так собственные наши способности мы заменяем заимствованными»[205]. «Примеры животных уже достаточно показывают нам, что большинство людских болезней происходят от тревожного состояния нашего духа. Долговечность дикарей Бразилии, про которых говорят, что они умирают только от старости, объясняют умеренностью и мягкостью их климата: но я готов, скорее, приписать ее умеренности и мягкости их души, чуждой всякой страсти, мысли или занятия слишком напряженного или неприятного, так как они проводят жизнь в чудной простоте и невежестве, без науки, без законов, без правительства, без религии»[206]. Последние слова характеризуют обычный прием Монтаня в описании счастья дикарей: отрицание главных основ культурной жизни.
Особенно ясно можно проследить эту критику современного Монтаню общественного строя, скрытую под идеализацией естественного состояния, в следующем рассказе о трех представителях одного дикого американского племени, находившихся в Руане, во время пребывания французского короля Карла IX в этом городе. «Король долго с ними разговаривал. Им показали наши обычаи, нашу роскошь, внешность прекрасного и богатого города. После всего этого кто‑то спросил у них, какого они мнения о виденном и что показалось им более всего удивительным. Они ответили, что больше всего их изумили три вещи, из которых одну я, к сожалению, позабыл. Вот остальные две: во–первых, они признались, что для них чрезвычайно странно и непонятно, как могут столько высоких бородатых, сильных и вооруженных людей подчиняться королюребенку, и почему они не выберут какого‑нибудь более достойного повелителя. Во–вторых, они заметили среди нас людей богатых и пресыщенных всевозможной роскошью, тогда как остальная часть народа состояла из бедняков, истощенных голодом и нищетою; и они находили в высшей степени странным, что бедная часть народа добровольно терпит подобную несправедливость, не кидается на богатых, не убивает, не поджигает домов»[207]. Монтань оставляет это место без комментариев, но отношение автора к ответу дикарей вполне ясно: несмотря на весь практический консерватизм, он не может не сочувствовать наивному удивлению тех, которых сам называет «viri a diis recentes».
Идеализация дикарей уже тем сослужила немалую службу европейскому обществу, что[208] разработала и подготовила почву для внимательного и симпатичного отношения к жизни народных масс. В Монтане симпатия к простому человеку прямо вытекает из идеализации первобытного состояния[209]. Философ то и дело переходит от немного фантастических картин счастья «каннибалов» (так называет он американских краснокожих) к наблюдениям из народной жизни. «Я видел в мое время, — говорит он, — сотни ремесленников и земледельцев более мудрых и счастливых, чем ректоры университетов, и более достойных подражания». «Я нахожу, что поступки и речи людей из народа более согласны с предписаниями истинной философии, чем слова и действия наших признанных философов:
plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est, sapit (народ более мудр, потому что он мудр в такой степени, как нужно)»[210]. «Среди простых людей, — замечает он в другом месте, — нередко можно встретить проявление изумительной доброты.
Extrema per illos Iustitia excendens terris vestigia fecit.
(«Среди них, удалившись от нас, справедливость нашла свой последний приют»)»[211].
Припомним основное положение Монтаня, чтобы понять, каким образом он мог дойти до крайних выводов, до восхваления блаженного невежества и полного отрицания науки. «Я не сомневаюсь, — говорит философ, — в могуществе и богатстве природы; я не сомневаюсь в ее благодетельном значении для нас; я вижу, что щука и ласточка вполне довольны ею. Я сомневаюсь в изобретениях нашего ума, в науке и искусстве, во имя которых, переступая всякую умеренность, мы покинули природу, нарушили ее законы». Отсюда он делает вывод: всякое знание вредно. Заключение это утратит свою парадоксальность, если мы его несколько сузим: то знание, образцы которого имел перед глазами Монтань, т. е. мертвая средневековая схоластика, действительно во многих отношениях хуже полного невежества. Он приводит примеры св. Павла, императоров римских Валентиниана и Лициния, Магомета, отрицавших пользу науки, и вполне соглашается с ними. «Тот, кто будет нас судить по нашим поступкам и увлечениям, найдет большее количество хороших людей среди невежд, чем среди ученых»[212]. Философ Пиррон, застигнутый бурей на море, указал своим ученикам, обезумевшим от страха, на спокойствие поросенка, бывшего вместе с ними на корабле и смотревшего на волны без малейшего испуга. «Философия, в конце концов, отсылает нас к примеру какого‑нибудь атлета или погонщика мулов, которые обыкновенно гораздо меньше страдают от страха смерти, от физических болей и других несчастий, чем люди, стремящиеся достигнуть того же посредством науки, но не одаренные необходимыми врожденными качествами»[213]. Монтань угадал, что у настоящего ученого и художника больше общего с простым человеком, близким к природе, чем с узким, самодовольным доктринером. «Люди простые — честные люди, — говорит он, — философы, натуры глубокие и могучие, обогащенные обширными и полезными познаниями, — также честные люди. Но те, которые находятся в середине между ними, презревшие невежество и не достигшие высшей мудрости, — опасны, глупы и смешны. Народная поэзия (Монтань создал первый не только слово это, но и самое понятие) в своей естественности обладает наивностью и грацией, которые позволяют ей занять место рядом с высшими произведениями самой совершенной поэзии: стоит только обратиться к любой гасконской песне и поэтическим произведениям тех диких племен, которые незнакомы с наукой, ни даже с искусством письма. Посредственная поэзия, находящаяся в середине между народною и тою, которая достигает гениального совершенства, не имеет истинного достоинства и цены». Эта мысль о сходстве гения и простого народа повторяется и в другом месте: «Бурям доступна средняя область; оба крайние полюса — философы и народ — соперничают в спокойствии и счастии».[214]
Монтаня пленяет сила народного духа, которая особенно ясно сказывается в стоическом отношении простого человека к смерти. Сколько героизма и терпения обнаружил народ во время религиозных войн и междоусобий той эпохи. «Какой пример небывалого мужества видели мы в простом народе! Почти все отказались от сохранения жизни; главное богатство страны — виноград — висел неубранный на лозах. С величайшим хладнокровием каждый готовился к смерти, которую ожидали сегодня вечером или завтра утром, причем лица и разговоры были до такой степени спокойны, как будто все давно уже примирились с этою необходимостью и ждали только исполнения неизбежного и общего приговора.
Взгляните на них: несмотря на то что умирают дети, юноши, старики, они не удивляются, не плачут. Я видел таких, которые боялись пережить товарищей и остаться в страшном одиночестве, и я замечал среди них одну только заботу — о погребении»[215]. Монтань благоговеет перед этою верой и силой жизни. В каждом из нас таится та же сила, но мы исказили и ослабили ее рассудочным доктринерством и мнимою образованностью. «Погрузитесь в себя, — говорит он, — и вы найдете в вашем сердце истинные и незабвенные доводы против смерти — те самые, которые заставляют умирать простого человека и целые народы так же спокойно, как умирают величайшие философы»[216]. «К чему вооружаемся мы усилиями тщетного знания? Посмотрим вниз, на землю: вот бедные люди, которые рассеяны по ней, с головою, склоненною над работой, которые не знают ни Аристотеля, ни Катона, ни образцов, ни поучений, а между тем каждый день природа показывает нам среди них более высокие и удивительные примеры стойкости и терпения, чем те, о которых повествует нам история. Как много вижу я среди них людей, умеющих спокойно переносить бедность, ожидать смерти тихо, без тревоги и огорчения! Вот этот рабочий, который копает землю в моем саду, быть может, еще сегодня утром похоронил своего отца или сына. У народа самые имена болезней как бы смягчают их и делают более легкими; чахотку они называют кашлем, дизентерию — расстройством желудка, плеврезию — простудой, и соответственно с этими успокоительными названиями спокойно переносят недуг; он должен быть уж очень тяжел, чтобы заставить их прервать работу, в постель они ложатся для того, чтобы умереть»[217].
«Мы покинули природу и желаем чему‑то научить ее — ее, которая вела нас таким счастливым, верным путем. А между тем мудрость принуждена то и дело заимствовать образцы мужества, невинности и спокойствия в грубой среде простых земледельцев, которые, благодаря невежеству, еще сохранили некоторый отпечаток и след благодетельного влияния природы. Не странно ли, что люди науки, полные глубоких познаний, должны подражать этой глупой простоте, и притом в самых важных действиях — в жизни и в смерти, в сохранении имущества и в любви, в воспитании детей и в правосудии?»[218].
«Самое мудрое — в полной простоте отдаться природе. О, какое сладостное, благодатное и мягкое изголовье для избранных — незнание и простота сердца!»[219].
I
Бальзак в одном из своих романов высказывает следующую мысль: «Гениальность — страшная болезнь. Каждый писатель носит в своем сердце чудовище, которое[220] пожирает все его чувства, по мере того как они зарождаются. Кто кого победит: болезнь — человека или человек — болезнь? Надо быть великим человеком, чтобы достигнуть равновесия между своим гением и характером. Если поэт не гигант, не обладает плечами Геркулеса, он должен неминуемо остаться либо без сердца, либо без таланта»[221].
Бальзак, к сожалению, обрывает это[222] рассуждение и не договаривает, в чем именно, по его мнению, заключается болезнь гениальности: почему развитие и сила художественной личности во многих отношениях обратно пропорциональны развитию и силе нравственного типа, — от каких причин зависит их коренной антагонизм, который так часто наблюдается обыкновенным житейским опытом. Всем известно, например, что талантливые писатели, художники, музыканты — в большинстве случаев люди крайне непрактичные[223], что их эксцентричность и легкомыслие нередко граничат с полной нравственной распущенностью, что они плохие отцы семейств и плохие супруги, что, будучи очень чувствительными и отзывчивыми в своих произведениях, они в действительности слишком часто оказываются сухими, черствыми эгоистами[224]. Исследование причин, обусловливающих глубокую противоположность эстетического и нравственного миросозерцания, художника и человека, гения и характера, составляет, бесспорно, одну из интереснейших страниц психологии творчества[225].
Вспомним трагическую сцену гибели Лаокоона, описанную в Энеиде[226]. Граждане Трои должны, конечно, смотреть с отвращением и ужасом, как исполинские змеи душат Лаокоона и его сыновей. Зрители испытывают страх, жалость, желание спасти несчастных; как бы ни были разнообразны их душевные состояния, момент воли играет в них очень важную роль: в чувстве ли самосохранения — у более робких, или в стремлении прийти на помощь — у более мужественных. Но представьте себе в этой взволнованной и потрясенной толпе скульптора, который взглянул на страшную, разыгравшуюся перед его глазами катастрофу как на тему будущего художественного произведения. Он один остается спокойным наблюдателем среди общего смятения, рыданий, криков, молитв. Нравственные инстинкты[227] заглушаются в нем эстетическим любопытством. Слезы помешали бы ему смотреть и он удерживает их, потому что ему непременно надо видеть, какую форму, какое очертание примут мускулы под давлением огромных колец змеи. Каждая подробность картины, вызывающая в других отвращение и ужас, пробуждает в нем радость, непонятную для остальных[228]. Пока они плачут и волнуются, художник рад выражению муки на лице Лаокоона, рад тому, что отец не может помочь своим детям, что чудовища с такой силой сжимают их тело. В следующее же мгновение человек, может быть, победит художника[229]. Но дело сделано — момент жестокого созерцания успел оставить в сердце неизгладимый след.
Ряд подобных настроений рано или поздно должен образовать в душе художника[230] привычку отвлекаться от жизни, смотреть на нее со стороны, извне, не в качестве действующего лица, а спокойного зрителя, искать во всем, что происходит перед глазами, материал для художественного воспроизведения. По мере того как возрастает сила воображения и созерцания, уменьшается страстность и напряжение волевой способности, необходимой для нравственной деятельности. Если природа не одарила волю художника непоколебимой стойкостью, не дала сердцу его неисчерпаемого источника любви[231], то эстетическая отвлеченность может мало–помалу заглушить нравственные инстинкты: гений, по выражению Бальзака, — может «пожрать» сердце. В таком случае категории добра и зла, с которыми больше всего имеют дело люди реальной жизни, воли, действия, стираются в миросозерцании писателя категориями прекрасного и уродливого, типичного и нехарактерного, интересного с художественной точки зрения и неинтересного. Зло, порочность притягивают воображение поэта, если они облечены в неотразимо–привлекательные формы, если они прекрасны и могучи; добродетель кажется бесцветной и ничтожной, если она не представляет материала для поэтического апофеоза[232].
Но художник отличается не только свойством смотреть объективно и бесстрастно на чувства других людей: он относится и к тому, что происходит в его собственном сердце, с не менее жестоким, эстетическим любопытством постороннего наблюдателя. Обыкновенные люди могут всецело, всем существом отдаваться порыву овладевшего ими чувства — любви или ненависти, горя или радости; по крайней мере они думают, что отдаются всецело. Честный человек, когда клянется женщине в любви, верит в искренность своих клятв — ему и в голову не придет сомневаться, любит ли он в самом деле так, как воображает, что любит. Поэт по внешности более, чем другие люди, кажется способным отдаваться чувству, верить, увлекаться, но на самом деле в душе его, как бы ни была она потрясена страстью, всегда останется способность наблюдать за собою, за действующим лицом романа или драмы, следить, даже в минуты полного опьянения, пристальным взором за тончайшими, неуловимыми изгибами своих ощущений и беспощадно анализировать их[233].
Человеческие чувства почти никогда не бывают вполне простыми и однородными: в большинстве случаев они представляют смешение весьма разнообразных по ценности составных частей. И художник–психолог открывает невольно так много лжи в себе и в других даже в минуты искренних увлечений, что мало–помалу теряет всякую веру в свою и чужую правдивость[234].
II
Письма Флобера, — изданные в двух книгах[235], — представляют богатый материал для исследования на живом примере вопроса об антагонизме художественной и нравственной личности[236].
«Искусство выше жизни» — вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но философского миросозерцания Флобера[237]. Тринадцатилетним мальчиком он пишет одному из своих школьных товарищей: «если бы у меня в поэтических замыслах не было французской королевы пятнадцатого века, я почувствовал бы полное отвращение к жизни и уже давно пуля освободила бы меня от этой унизительной шутки»[238]. Через год он приглашает того же товарища к работе с полуискренней риторикой и юношеским увлечением: «будем всегда заниматься искусством, которое, будучи величественнее всех народов, корон и властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме»[239]. Спустя сорок лет, на краю могилы, Флобер провозглашает еще более резко и смело тот же девиз: «человек — ничто; произведение — все» — «ГЬотте n’est rien, Г oeuvre est tout!»[240].
В расцвете юношеских сил, обладая умом, красотой и талантом, он бежит от мира в искусство, как аскеты в пустыню; уединяется в нем, как христианские отшельники замуравливали себя в пещерах. «Навсегда уйти в искусство и презирать все остальное — вот единственное средство не быть несчастным, — пишет он своему другу, — гордость заменяет все, если у нее есть достаточно широкое основание… Конечно, многого мне недостает: я бы, вероятно, сумел быть таким же щедрым, как самые богатые; таким же нежным, как влюбленные; чувственным, как люди, отдающиеся наслаждениям… А между тем я не жалею ни богатств, ни любви, ни наслаждений… С этих пор и надолго я требую только пять–шесть часов спокойствия в своей комнате, зимою большего огня в камине, по вечерам двух свечей на столе»[241]. Через год он советует тому же другу: «сделай, как я, — порви с внешним миром, живи, как медведь, как белый медведь; пошли к черту все, все и даже самого себя, кроме своей мысли. В настоящее время между мной и всем остальным миром такая бездна, что нередко чувствую удивление, когда слышу даже самые обыкновенные, простые вещи… есть некоторые жесты, интонации, голоса, от которых я просто не могу прийти в себя, и от известных глупостей у меня делается почти головокружение»[242].
Даже в минуты опьянения страстью он ставит литературное призвание неизмеримо выше личного счастья, и любовь к женщине кажется ему ничтожной перед любовью к поэзии[243]: «нет, лучше люби искусство, а не меня, — пишет он своей возлюбленной, — эта привязанность не изменит тебе никогда, ни болезнь, ни смерть не могут ее уничтожить. Боготвори идею, только в ней — истина, потому что идея одна — бессмертна»[244]. «Искусство — единственную вещь в жизни, истинную и ценную, можно ли сравнить с земной любовью, можно ли предпочесть обожание относительной красоты поклонению вечной? Благоговение к искусству — вот самое лучшее, что у меня есть; вот единственное, что я в себе уважаю»[245].
Он не согласен признать в поэзии ничего относительного, считая ее абсолютно самостоятельной, независимой от жизни, более реальной, чем действительность; он видит в искусстве «самодовлеющий принцип, который так же мало нуждается в какой бы то ни было поддержке, как звезда»[246]. «Подобно звезде, — говорит он, — искусство, сияющее в своем небе, невозмутимо взирает, как вращается земной шар; прекрасное никогда не исчезнет»[247]. В совокупности частей произведения, в каждой подробности, в гармонии целого Флоберу чуется «какая‑то внутренняя сущность, что‑то вроде божественной силы — такое же вечное, как принцип…»[248]. «Иначе почему же существует необходимое отношение между самым точным и самым музыкальным выражением мысли?»[249].
Скептик, который не останавливался ни перед одним верованием, всю жизнь свою отрицал, сомневался в идее Бога, религии, прогресса, науки, человечества, делается благоговейным и верующим, когда дело касается искусства[250]. Истинный поэт отличается, по его мнению, от всех других людей обоготворением идеи, «созерцанием неизменного (la contemplation de l’immuable), то есть религией в самом высшем смысле этого слова». Он жалеет, что не родился в ту эпоху, когда толпа обожала искусство, когда были еще настоящие артисты, «жизнь и мысль которых была лишь слепым орудием инстинкта красоты. Они являлись органами Бога, посредством которых Он сам себе открывал свою сущность; для этих художников не было вселенной — никто не знал об их страданиях; каждый вечер они ложились спать печальные и смотрели на человеческую жизнь удивленным взором, как мы смотрим на муравейник»[251].
Для большинства художников красота является более или менее отвлеченным принципом — для Флобера она такой же конкретный предмет страсти, как золото для скупого, власть для честолюбца, женщина для влюбленного. Его работа была подобна медленному самоубийству; он отдавался ей с непобедимым упорством человека, одержимого манией, с мистической негой и восторгом мученика, с трепетом жреца, приступающего к таинству. Вот как сам он описывает свою работу: «больной, раздраженный, переживающий тысячи раз в день минуты страшного отчаяния, без женщин, без жизни, без самой ничтожнейшей из этих погремушек земной юдоли, я продолжаю мой медленный труд, как добрый работник, который, засучив рукава, с волосами, орошенными потом, ударяет по наковальне, не боясь ни дождя, ни града, ни ветра, ни грома»[252]. А вот отрывок из биографии Флобера, написанной Мопассаном[253], одним из его преданных учеников и последователей, также изображающий рабочую энергию гениального писателя: «с наклоненной головой, с лицом и шеей, налитыми кровью, напрягая все мускулы, как атлет во время поединка, он вступает в отчаянную борьбу с идеей и словом, схватывая их, соединяя, сковывая, как в железных тисках, могуществом воли, сжимая и мало–помалу, с нечеловеческими усилиями порабощая мысль и заключая ее, как зверя в клетку, в точную, неразрушимую форму»[254].
III
Флобер, более чем кто‑либо, испытал на себе разрушительную силу обостренной аналитической способности. С злорадством, в котором так странно смешиваются отвага модного тогда байронизма и смутное предчувствие неминуемой катастрофы, приступает он еще семнадцатилетним юношей к работе разрушения и внутренней ломки: «я анализирую себя и других, — говорит он в письме к товарищу, — я анатомирую постоянно, и, когда мне удается наконец найти в чем‑нибудь, что все считают чистым и прекрасным, гнилое место, гангрену, — я подымаю голову и смеюсь. Я дошел теперь до твердого убеждения, что тщеславие — основа всего, и даже то, что называют совестью, на самом деле есть только внутреннее тщеславие. Ты подаешь милостыню, может быть, отчасти из симпатии, из жалости, из отвращения к страданию и безобразию, даже из эгоизма, но главный мотив твоего поступка — желание приобрести право сказать самому себе: я сделал доброе; таких, как я, немного; я уважаю себя больше других»[255]. Через восемь лет он пишет любимой женщине: «я люблю анализировать — это занятие меня развлекает. Хотя я не обладаю особенной склонностью к юмористическому взгляду на вещи, я никак не могу относиться к собственной личности вполне серьезно, потому что нахожу себя смешным, смешным не в смысле внешнего театрального комизма, но в смысле той внутренней иронии, которая присуща человеческой жизни и проявляется иногда в самых, по–видимому, естественных поступках, обыкновенных жестах… Все это надо самому чувствовать, а объяснить трудно. Ты не поймешь этого, потому что в тебе все просто и цельно, как в прекрасном гимне любви и поэзии. Тогда как я представляю из себя что‑то вроде арабеска наборной работы: есть куски из слоновой кости, золота и железа, некоторые — из крашеного картона, одни — из бриллианта, другие — из жести»[256].
Жизнь мечты, воображения так богата в нем, что[257] заслоняет впечатления реального мира; они преломляются, получают своеобразную окраску[258], проходя сквозь эту среду. «Антитеза постоянно возникает перед моими глазами: вид ребенка неминуемо пробуждает во мне мысль о старости, вид колыбели — мысль о гробе. Когда я смотрю на женщину, я представляю себе ее скелет. Вот почему веселые зрелища огорчают меня, печальные оставляют равнодушным. Я так много плачу в душе, внутри себя, что слезы не могут выйти наружу; прочитанное в книге волнует меня больше, чем действительное горе»[259]. Здесь мы встречаемся с отличительной чертой большинства натур, одаренных сильным художественным темпераментом. «Насколько я чувствую себя мягким, нежным, отзывчивым, способным плакать, отдаваться чувству в воображаемых страданиях, настолько же реальные остаются в моем сердце сухими, жесткими, мертвыми: они кристаллизуются в нем»[260]. Это душевное состояние, изображенное Пушкиным:
…Напрасно чувство возбуждал я —
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.[261]
Состояние непонятного равнодушия перед несчастьем любимого человека, отчаяния не от горя, а от собственной холодности, от отсутствия печали и жалости было слишком хорошо знакомо Флоберу, и он по своему обыкновению смело анализирует эту черту, между тем как почти все художники стараются скрыть ее не только от других, но и от самих себя, ошибочно принимая ее за противоестественный эгоизм. Он говорит о своем настроении над гробом нежно любимой сестры: «я был сух, как могильный камень, и только страшно раздражен»…[262]. Что же он делает в такую минуту, когда обыкновенный человек, не думая ни о чем, отдается своему горю? С жестким любопытством, «ничего не отнимая от своих ощущений», он анализирует их, «как артист»[263]. «Это меланхолическое занятие облегчало мою грусть, — пишет он другу, — ты, может быть, сочтешь меня человеком без сердца, если я признаюсь тебе, что не мое теперешнее состояние (т. е. печаль по поводу смерти сестры) кажется мне самым тяжелым в моей жизни. В то время, когда, по–видимому, не на что было жаловаться, мне приходилось гораздо больше жалеть себя»[264]. Далее идет длинное рассуждение о бесконечном, о нирване, — рассуждение, в котором автор проявляет много возвышенной поэзии, но очень мало простого человеческого горя[265].
В том письме, где Флобер описывает похороны друга своего детства, его эстетическое отношение к горю достигает даже высоты философского созерцания[266]. «На теле покойника были признаки страшного разложения; мы обернули труп в двойной саван. В этом виде он напоминал египетскую мумию, обвитую погребальными повязками, и я не могу выразить, какое чувство огромной радости и свободы я испытал за него в ту минуту. Туман белел, леса выделялись на небе, две надгробных свечи сияли в белизне зарождающегося дня, птицы запели, и я вспомнил строчку из его поэмы: „полетит он, как резвая птица, чтобы встретить в сосновом лесу восходящее солнце”, или, лучше сказать, я слышал, как голос его произносил эти слова, и целый день они преследовали меня своим обаянием. Его поместили в прихожей, двери были сняты с петель, и свежий утренний воздух проникал в комнату с прохладой дождя, который начал в это время накрапывать… В душе моей проносились неведомые чувства, и, как зарницы, вспыхивали в ней мысли, которых нельзя рассказать: тысячи воспоминаний из прошлого долетали ко мне с волнами ароматов, с аккордами музыки…»[267]. И здесь художник посредством эстетического отвлечения превращает реальное горе в красоту, и в просветленном виде смерть любимого человека не только не причиняет ему никаких страданий, но, напротив, дает мистическое примирение, непонятный для обыкновенных людей экстаз, оторванное от жизни, бескорыстное счастье[268].
Во время пребывания в Иерусалиме Флоберу случилось посетить прокаженных. Вот описание его впечатлений: «это место (т. е. клочок земли, отведенный специально для больных проказой) находится за городом близ болота, с которого вороны и коршуны–ягнятники поднялись при нашем приближении. Несчастные страдальцы, женщины и мужчины (всего около двенадцати человек), лежат все вместе, в одной куче. Покровы уже не скрывают лиц, нет различия полов. На теле их виднеются гнойные струпья, черные впадины — вместо носов; я должен был надеть пенсне, чтобы разглядеть, что висело на конце рук у одного из них — кисти ли рук, или какие‑то зеленоватые лохмотья. Это были руки. (Вот куда бы привести колористов!) Больной дотащился до бассейна, чтобы напиться воды. Сквозь рот, на котором не было губ, как будто от ожога, виднелось нёбо. Он хрипел, протягивая к нам клочья своего мертвенно–бледного тела. А вокруг — безмятежная природа, струи ключа, зелень деревьев, вся трепещущая от избытка соков и юности, свежие тени под горячим солнцем!»[269]. Этот отрывок взят не из романа, где поэт может принудить себя быть объективным, а из путевых заметок, из письма к другу, где автор не имеет основания скрывать субъективный характер своих ощущений. Между тем, кроме двух довольно банальных эпитетов — «несчастные страдальцы» (pauvres miserables), ни одной смягчающей черты, ни намека на жалость[270].
IV
«Я не христианин (je ne suis pas chretien)»[271], — говорит Флобер в письме к Жорж–Занд[272]. По его мнению, французская революция не удалась именно потому, что в ней была слишком тесная связь с религией жалости: «Идея равенства, в которой заключается сущность современной демократии, есть идея по существу христианская, противоречащая принципам справедливости. Посмотрите, до какой степени преобладает в настоящее время милосердие (grace). Чувство — все, право — ничто»[273]. «Мы гибнем от избытка снисходительности, сострадания, от нравственной дряблости»[274]. «Я убежден, — замечает он, — что бедные ненавидят богатых, а богатые боятся бедных; это будет вечно; напрасно проповедуют любовь»[275].
Свою инстинктивную антипатию к идее братства Флобер хочет оправдать тем положением, что идея эта находится в непримиримом противоречии с принципом справедливости: «Я ненавижу демократию (по крайней мере в том смысле, как ее понимают во Франции), т. е. возвеличение милосердия в ущерб справедливости, отрицание права, одним словом, антисоциальное начало (Tanti‑sociabilite)»[276]. «Право милости (вне области теологии) есть отрицание справедливости: по какому праву может кто бы то ни было помешать исполнению закона?»[277]. Но едва ли он верит и в этот принцип, на который ссылается, только чтобы иметь точку опоры для опровержения идеи братства. По крайней мере вот что говорит он в минуту полной откровенности в письме к старому товарищу: «людская справедливость кажется мне самой шутовской вещью в мире. Зрелище человека, который судит своего ближнего, заставляло бы меня смеяться до упаду, если бы не вызывало брезгливой жалости, и если бы в настоящее время (он тогда занимался юридическими науками) я не был принужден изучать систему абсурдов, в силу которых люди считают себя вправе судить. Я не знаю ничего нелепее права, кроме разве его изучения»[278]. В другом письме он признается, что никогда не мог понять отвлеченную и сухую идею обязанности и что она «не кажется ему присущей человеческой природе (ne me parait pas inherente aux entrailles humaines)». Очевидно, что он так же мало верит в справедливость, как и в идею братства. В сущности у него нет никакого нравственного идеала[279].
«В мире для меня существует только одно — красивые стихи, стиль изящный, гармоничный и певучий, закаты солнца, живописные пейзажи, лунные ночи, античные статуи и характерные профили… Я фаталист, как настоящий магометанин, и полагаю, что все, что мы можем сделать для прогресса человечества, так же мало, как ничто. Что же касается до этого прогресса, то мой ум отказывается воспринимать такие туманные идеи. Всевозможная болтовня на эту тему наводит на меня безмерную скуку… Я питаю глубокое благоговение к античной тирании, потому что нахожу ее самым прекрасным выражением человечности, какое когда‑либо было»[280]. «У меня не много убеждений, — пишет он Жорж Занд, — но одно их них незыблемо: это убеждение, что число, масса, всегда состоит из идиотов. Впрочем, следует уважать массу, как бы она ни была нелепа, потому что в ней таятся семена громадной плодородности (d une fecondite incalcuable)»[281].
Флобер делает полушутливую попытку противопоставить доктрине социалистов свой собственный[282] идеал будущего политического устройства. «Единственный разумный исход есть правительство, состоящее из мандаринов, — пусть только у этих мандаринов будут кое–какие знания и пусть даже, если можно, они будут значительные. Народ всегда останется несовершеннолетним и всегда будет занимать последнее место в иерархии общественных групп, так как он представляет из себя число, массу, безграничное… В этой законной аристократии в настоящее время все наше спасение»[283]. «Человечество не представляет ничего нового. Его непоправимое ничтожество еще в молодости переполнило мою душу горечью. Вот почему я теперь не испытываю разочарования. Я убежден, что толпа, стадо будут всегда ненавистными… До тех пор пока люди не преклонятся перед мандаринами, пока академия наук не заменит собою римского папы, вся политика, все общество до последних корней, будет только собранием возмутительной лжи и фальши (de blagues ecoeurantes)»[284]\ Тем не менее в романе «Bouvard et Pecuchet» Флобер направляет все усилия на разрушение верования в незыблемость научных принципов, на доказательство, что современная наука такое же непрочное здание, такая же система противоречий и суеверий, как средневековая теология. Недоверие к науке Флобер высказывал, впрочем, и ранее: так, познакомившись с позитивизмом О. Конта, он нашел эту систему — «нестерпимо глупой (c’est assomant de betise)»[285].
V
Итак, как видим, попытка вступить в некоторый компромисс с преобладающим настроением эпохи не удалась Флоберу. В его[286] рассуждениях на социальную тему искренно только одно презрение к черни[287]. «Сколько бы вы ни откармливали зверя–человека, как бы вы ни золотили его конюшню, какую бы мягкую и роскошную подстилку ни давали ему, — он все‑таки останется скотом. Единственный прогресс, на который можно рассчитывать, заключается в том, чтобы сделать зверя менее кровожадным. Но поднять уровень идей, дать массам более широкое представление о Боге — я очень сомневаюсь, чтобы это было возможно»[288].
В другом письме он откровенно признается, что у него нет никакой веры, никакого нравственного принципа, никакого политического идеала, и в этом, вырвавшемся из глубины сердца, признании слышится уже отчаяние: «Я вижу в настоящее время так же мало возможности установить какой‑нибудь новый принцип, как и уважать старые верования. Итак, я ищу и не нахожу той идеи, от которой должно зависеть все остальное»[289]. Эти немногие слова лучше всего освещают настроение последних лет жизни Флобера[290]. Прежде он находил эту идею в искусстве — теперь он предполагает, что есть иное, высшее, начало, которому надо подчинить само искусство, но найти это начало не в силах[291]. Он ищет забвения в работе[292], но из работы выходит разбитый и еще более неудовлетворенный. Он сознает свое одиночество, и его влечет из объективного созерцания в эту непонятную жизнь, смысл которой он отрицает[293].
Трагизм его положения в том, что он — один среди чуждого мира[294]. И мало–помалу отчаяние его достигает последних пределов. «Когда я не держу книги в руках или не пишу, мною овладевает такая тоска, что я готов просто кричать», — признается он в письме к Жорж–Занд[295]. «Мне кажется, что я превращаюсь в ископаемое животное, в существо, лишенное всякой связи с окружающей вселенной»[296]. «Чувство всеобщей гибели, агонии наполняет меня, и я смертельно грустен. Когда я не изнемогаю над работой, я тоскую над самим собой. Никто меня не понимает, я принадлежу другому миру. Мои товарищи по ремеслу — так мало мне товарищи»[297]. «Я провожу целые недели, не меняясь словом ни с одним человеческим существом, и в конце недели мне трудно вспомнить какой‑нибудь день или хоть одно событие за все время. По воскресеньям я видаю мать и племянницу — вот и все. Стая крыс на чердаке — мое единственное общество: они производят адский шум над головой, когда вода не шумит и ветер не воет. Ночи чернее угля, и меня окружает тишина беспредельная, как в пустыне. Чувствительность страшно обостряется в подобной среде, сердце начинает биться из‑за каждого пустяка»[298]. «Я теряюсь в воспоминаниях молодости, как старик. От жизни я больше не жду ничего, кроме нескольких листков бумаги, измаранных чернилами. Мне кажется, что я иду через бесконечную пустыню, иду неведомо куда, что в одно и то же время я — и путник, и пустыня, и верблюд». «Одна только надежда меня утешает, что скоро я распрощаюсь с жизнью и уже, конечно, не начну другой, которая, может быть, еще печальнее… Нет, нет! Довольно усталости!»[299].
Все его письма к Жорж Занд — один потрясающий мартиролог «болезни гениальности». Иногда у него вырывается наивная жалоба и в ней, сквозь непримиримую гордость бойца, чувствуется что‑то кроткое, надорванное, как в голосе человека слишком измученного. Ярость врагов, клевета друзей, непонимание критиков уже не оскорбляют его самолюбия: он устал ненавидеть. «Вся эта лавина глупостей не раздражает меня, но опечаливает. Все‑таки лучше хотелось бы внушать людям добрые чувства»[300].
Наконец и последнее утешение — искусство, изменяет ему. «Напрасно я напрягаю силы, работа не идет, не идет. Все меня мучит и раздражает, при людях я еще сдерживаюсь, но иногда наедине у меня вырываются такие судорожные, безумные слезы, что, кажется, я умру от них»[301]. На склоне лет, когда нельзя вернуться к прошлому, нельзя исправить жизнь, он задает себе вопрос: а что если и красота, во имя которой он разрушил веру в Бога, в жизнь, в человечество, — такой же призрак, обман, как все? Что если это искусство, за которое он отдал молодость, счастье, любовь, изменит ему на краю могилы?[302].
«Тень обнимает меня», — говорит он, предчувствуя гибель. Это восклицание похоже на крик беспредельной тоски, который вырвался перед смертью у другого художника, брата Флобера по идеалу, страданиям и гению, у Микель–Анжело:
Io parto a mano a mano,
Crescemi ognor piu l’ombra, Ге sol vien manco,
E son presso al cadere, infermo e stanco.
Я ухожу мало–помалу…
Тени растут, солнце все ниже.
И я готов упасть, изнеможенный[303].
Смерть застала его за рабочим столом, внезапная, как громовой удар. Выронив перо из рук, он упал бездыханный, убитый своей великой, единственной страстью — любовью к искусству[304].
Платон в одном из своих мифов рассказывает, как души людей в колесницах, на крылатых конях странствуют по небесному своду[305]; некоторым на короткое время удается приблизиться к тому месту, откуда видна область Идей: они с жадностью заглядывают туда, и немногие, отдельные лучи света глубоко западают в них. Потом, когда эти души воплощаются, чтобы страдать на земле, все лучшее, что есть в человеческом сердце[306], волнует их и влечет, как отражение вечного света, как смутное воспоминание иного мира, в который им удалось заглянуть на мгновенье.
Должно быть, в душу Флобера в светлой области Идей запал слишком яркий луч красоты[307].
Слава Ибсена переступила пределы его родины и сделалась европейской. Но она еще весьма далека, — особенно у нас в России, — от того бесспорного авторитета, который исключает страстное, личное отношение толпы к писателю. Этот пришлец с далекого севера, подобно своим предкам–норманнам, медленно, шаг за шагом, борется и завоевывает Европу. Мы имеем случай наблюдать первое рождение, постепенный рост, не школьный апофеоз, а самую жизнь славы. Каждый разговор об Ибсене — настоящее литературное сражение. Равнодушные зрители очень быстро превращаются или в пламенных врагов, или в столь же пламенных друзей поэта.
Но не должно забывать, что, несмотря на нашу любовь или ненависть, Ибсен переживет нас и наш мгновенный суд. Имя его с каждым днем растет. Будем же осторожнее судить о нем. Попытаемся выяснить, кто он и какое впечатление производит на нас, детей того века, который он дерзнул судить таким беспощадным судом.
I
Генрик Ибсен родился 20 марта 1828 года в Норвегии, в небольшом приморском городке Скиене. Среди его предков мы встречаем целый ряд норвежских шкиперов и купцов — людей, закаленных в опасностях, суровых и энергичных, с примесью немецкой и шотландской крови.
Когда мальчику не было еще и восьми лет, отцу его, сначала обладавшему довольно хорошим состоянием, внезапно пришлось ликвидировать свои дела, и единственное, что осталось у семьи, это — небольшое, порядком запущенное имение, усадьба Венстоб, лежавшая вблизи города. В ней семья Ибсена нашла убежище после крушения. Жизнь, которую она здесь вела, отличалась крайнею бедностью и уединением, что составляло резкий контраст в сравнении с прежним довольством.
Вот первый опыт ребенка. Он почувствовал себя сразу выброшенным из колеи. В одном из юношеских стихотворений Ибсен уже говорит о себе, как об отверженном, как о «неприглашенном в гости на пышный пир житейский»[308].
Мальчик не принимал участия в детских играх. В тесной, холодной каморке, находившейся около входа в кухню, он запирался на крючок и просиживал целые дни за книгами. «Для всех нас, — пишет его сестра, — он совсем не был симпатичным мальчиком, и мы делали все, что могли, чтобы помешать ему, бросая в стену и дверь камни и снежные комья, — мы хотели, чтобы он играл с нами в наши игры. Если он не был в состоянии выдержать более нападения, он выскакивал на двор с тылу. Но так как он не обладал никакой ловкостью и насилие было совершенно чуждо его характеру, то его нападения этим и ограничивались. Когда он, в конце концов, отгонял нас на достаточно далекое расстояние, то возвращался в свою комнату».
Пятнадцати лет Генрику уже приходится выбрать профессию. Он мечтает посвятить себя живописи. Но средства семьи так ничтожны, что мальчик принужден отказаться от всех честолюбивых надежд. Шестнадцати лет он навсегда покинул семью и родной город, чтобы вступить в настоящую суровую борьбу за существование. Ибсен делается аптекарским учеником в Гримштаде, захолустном городке с 800 жителей.
«Как и большинство норвежских городов, лежащих на восток от Христиании[309], — замечает биограф Ибсена[310], — Гримштад представляет из себя небольшой сборный пункт кораблей, стоящих на рейде, пункт основательный и солидный. Благосостояние здесь сопровождается комфортом. Мысли жителей такого маленького городка не отличаются широтой кругозора: всякий выходит за двери своего дома обыкновенно для того, чтобы спросить — благополучно ли прибыл корабль, или чтобы свести последние счеты за клади… В таком городе имеется клуб, аптека, парикмахерская и гостиница. Аптека представляет из себя городскую биржу, куда сходятся все досужие люди поговорить о событиях дня, в особенности о городских происшествиях, которые всегда считаются самыми важными. Все здесь знают друг друга вдоль и поперек. Ни одна подробность семейной жизни не остается неизвестной. Все друг другу кланяются: самому богатому человеку отвешивается самый глубокий поклон, кто менее богат, получает поклон менее глубокий, и так далее, кончая рабочим, которого удостаивают только кивком головы, в то время как он почтительно стоит с фуражкой в руках».
Вообразите себе в этой обстановке никому не ведомого аптекарского ученика, который, с аккуратностью взвешивая граны и унции, питает самые дерзкие мечты о свободе, какие только когда‑либо приходили в голову двадцатилетнему юноше. Перед ним носится мрачный и обаятельный образ римского заговорщика Катилины. Во время приготовлений к экзамену на аттестат зрелости он с жадностью читает Саллюстия и речи Цицерона против Катилины[311], сочувствуя пораженному и оклеветанному герою. Он влагает древнему римлянину в уста свои собственные мысли:
Отмщенья жажду я — за все мечты,
За все мои надежды.
За жизнь разбитую — отмщенья[312]!
И между тем как солидные гримштадские негоцианты, остановившись на перекрестках, ведут неторопливую беседу о предстоящих барышах за продажу пакли или сала, между тем как мирные домики засыпают в ненарушимом покое, — аптекарский ученик, вольнодумный и упрямый, у которого, по мнению гримштадских жителей, «молоко на губах не обсохло», упивается мечтами о всеобщем возмездии.
Об этих мечтах знали обитатели Гримштада, и этого было достаточно, чтобы восстановить их против молодого поэта. Они возненавидели его тою ненавистью, которая пробуждается в курятнике к орленку, пробующему расправить крылья. К счастью для Ибсена, там — за городом, лежит море, приносящее в маленький тихий городок не одни только деньги, бракованные товары и парижские моды, но и вести из далекого, вольного света. От болтовни городских сплетников, из душной аптекарской лаборатории молодой человек уходит иногда на морской берег, смотрит на пустынный горизонт и прислушивается к шуму северных волн.
В то время он еще почти не читал ни Байрона, ни Гёте, ни Шекспира, но сердце его было уже бессознательно–близко к великой, мрачной поэзии новых времен. Мы впоследствии увидим как бы суровый отблеск северного моря — отпечаток стихийной свободы на всех лучших созданиях норвежского поэта.
С большим трудом удалось ему издать «Каталину».
Критика встретила враждебно это замечательное произведение: оно разошлось всего в 30 экземплярах. Одним из немногих, кто заинтересовался книгой, был мелочной торговец: он нашел бумагу, на которой она была напечатана, удобной для завертыванья товара и, во время пребывания Ибсена в Христиании, купил однажды вечером у него и его товарища (издателя книги) целую кучу экземпляров, когда желудки обоих были так же пусты, как и их кошельки. «После этого у нас прекратился недостаток в предметах первой необходимости», — лаконически замечает Ибсен.
В 1850 году он приехал в Христианию, с тем чтобы окончательно приготовиться к университетскому экзамену. Но, когда случайно одна небольшая и сравнительно слабая пьеса его, оказавшаяся гораздо более по плечу публике и театральной дирекции, чем «Катилина», была принята на сцену[313], Ибсен решил всецело посвятить себя литературе и окончательно отказался от намерения держать экзамен в университет. Он поселился в скромном квартале столицы вместе со своим другом, издателем «Каталины», студентом юриспруденции Шулерудом. Гонорар, полученный за пьесу, скоро иссяк, а ежемесячных денег Шулеруда хватало только ему самому. Тем не менее он делился со своим другом всем, что у него было. На обед недоставало, поэтому и не обедали. Но, чтобы не потерять уважения к себе в том доме, где они жили, они уходили около полудня и возвращались домой лишь тогда, когда можно было подумать, что они уже отобедали. После этого пили кофе и ели хлеб, что должно было заменять им обед. В 1851 году новый театр в Бергене пригласил Ибсена в качестве «драматического поэта», а в следующем году театральное управление ассигновало молодому директору 200 специесталеров (около 450 рублей) на дорожные издержки, с тем чтобы он в течение трехмесячного пребывания за границей «практически изучил сценическое дело».
В последующие десять лет — в этот, так сказать, романтический период своего развития, завершившийся драмой «Воители на Гельголанде»[314], Ибсен принимал деятельное участие в национальном движении, охватившем Норвегию в сороковых и пятидесятых годах нынешнего столетия. Его патриотические драмы, внушенные древними норвежскими преданиями, составили ему литературное имя. Разлад с обществом на время был заглушен, чтобы выступить впоследствии с еще большею резкостью. Как сильно увлекался тогда Ибсен национальными стремлениями, видно из того, что ему пришла мысль основать общество для борьбы с иностранными влияниями и для проявления национализма в области искусства. «Представьте себе Генрика Ибсена как основателя общества!» — с понятным удивлением восклицает биограф его, Иегер. Недаром Брандес («Moderne Geister») приводит следующие слова поэта, проникнутые высокомерною иронией крайнего индивидуалиста: «fur das Solidarische hab’ich eigentlich niemals ein starkes Gefuhl gehabt». («К общению с людьми, — собственно говоря, — я никогда не имел большой склонности»)[315]. И в самом деле, ненадолго затаенная вражда против современного буржуазного строя не замедлила выступить наружу.
Покончив с национальной стариной, Ибсен написал пьесу из современной жизни — «Комедия любви»[316], страстную, смелую до дерзости. Пьеса проникнута идеализмом, задумана в лирическом тоне, а между тем, — как это ни кажется странным с первого взгляда, — сатира направлена против брака по любви, причем даже брак по расчету ставится сравнительно выше. Один из героев пьесы утверждает, что в то самое мгновение, когда исчезает «тайна любви», когда любовь делается всеми признанной и освященной, бьет ее смертный час. «Прежде всего являются на сцену кумушки и подруги и прогоняют поэзию любви своим назойливым участием к обрученным; потом наступает брак с его стремлением к внешнему благополучию и с заботами о детях. Что началось как праздник, кончается обыкновенно самым будничным образом, и, вместо того чтобы посредством совместного существования возвыситься, большинство людей прозябает тупо и бессмысленно». Перед нами проходят три пары. «От пламени любви и дыма не осталось. Sic transit gloria amoris[317]!». «В их сердце — ложь, но верность на устах». — Это настоящая трагикомедия любви.
Очень многие называли брак «могилою любви», отрицали его во имя свободных чувственных наслаждений. Но здесь буржуазный брак отрицается во имя высшего целомудрия, во имя божественной и бескорыстной стороны любви.
И Бьернсон в своей «Перчатке», и Л. Толстой в «Крейцеровой сонате»[318] заботятся главным образом о практическом разрешении вопроса: первый — о восстановлении идеала целомудрия, второй — о восстановлении прав женщины в современном обществе. Толстой и Бьернсон проповедуют, жаждут осуществления своих теорий, стремятся к преобразованию. Можно хвалить или порицать Ибсена, но во всяком случае нельзя не согласиться, что он стоит, как художник, совершенно вне практических условий жизни, что он хочет показать нам только высшую красоту бескорыстного взгляда на жизнь и пленяет божественной стороной чувства любви. Фальк и Свангильда расстаются навеки добровольно и безнадежно именно потому, что они так сильно, так чисто любят друг друга. Любовь для них не источник личного счастия, а святыня, проявление бесконечного. Они не хотят осквернить «бесцельного, небесного и ничем неутолимого пламени» прикосновением буржуазности, мелочными денежными расчетами, уродством действительной жизни. Это не романтизм, как могло бы показаться с первого взгляда. Романтизм предполагает юношескую неопытность и наивное ослепление. Между тем Фальк и Свангильда лучше самого разочарованного скептика умеют анализировать жизнь, видят грубую сторону человеческих отношений. Это скорее отрицатели, чем романтики. Но, будучи отрицателями во всем, что касается основ современного миросозерцания, они более чем метафизики, они мистики в апофеозе божественной стороны любви. Ибсен делает попытку среди всеобщего позитивного настроения возобновить идеализм любви, который мы встречаем в «Symposion» Платона[319], в «Vita Nuova» Данте[320] и в первые века христианства, когда мужчина и женщина, любившие друг друга, обрекали себя на добровольную девственность во имя высшего аскетического идеала.
Если бы кто‑нибудь нарочно задался целью написать такую драму, которая оскорбляла бы все принятые взгляды и вкусы современной публики, которая вызвала бы самую ожесточенную злобу и насмешки рецензентов, нельзя было бы придумать ничего лучшего, чем эта трагикомедия современного брака. Когда пьеса была издана, рецензент одной норвежской газеты, «Morgenbladet», объявил, что лежащее в основе произведения понимание любви — мещанское. «Такого понимания любви, — замечает критик, — можно было ожидать от кумушек и тетушек мещанского пошиба, но оно никак не должно было прийти в голову поэту. Основное воззрение, выраженное в пьесе, не нравственно, но так же и не поэтично, как вообще всякое воззрение, представляющее идеализм и действительность как две вещи непримиримые». В другой газете, «Aftenbladet», пьеса, над которой Ибсен работал больше трех лет, была названа «жалким изделием литературной торопливости». «Из пьесы проистекает, — говорит, между прочим, рецензент, — восхваление безбрачия, из чего ясно видно, что у Ибсена были чисто католические мысли, когда он писал свою комедию». Как драматическое произведение, пьеса была названа «абсурдом». Это обвинение Ибсена, свободнейшего из скептиков, в затаенной католической тенденции — памятник поучительный для потомства.
Среди публики книга возбудила бурю негодования. Когда Ибсен в качестве директора национального театра в Бергене просил у государства о ссуде на путешествие, один из профессоров университета заявил, что лицо, написавшее «Комедию любви», вместо ссуды «должно быть награждено палочными ударами».
В 1862 году театр в Бергене ликвидировал свои дела. Ибсен потерял место директора и единственный постоянный свой доход — годовое жалование в 1200 крон. Его нужда в то время была так велика, что многие из его друзей старались употребить все свое влияние, чтобы достать ему какое‑нибудь место по ведомству сбора пошлин или другое подобное занятие. Ему оставалась одна надежда — бежать из Норвегии, чтобы окончательно не погибнуть. Он чувствовал, что долго не вынесет этой борьбы. Ему казалось, что «он стоит на краю могилы, и могилой была Христиания, находившаяся на громадном кладбище — Норвегии». Несмотря на интриги врагов, после бесконечных хлопот и мытарств по различным канцеляриям ему удалось получить из государственной казны небольшую сумму на путешествие.
Удаляясь из Христиании, 2 апреля 1864 года, поэт мог в полном смысле «отряхнуть прах от ног»[321]. Когда он смотрел с палубы корабля, как исчезают берега Норвегии, в душе его не было даже ненависти, а одно презрение к тому, что он оставлял позади.
Через Триест он направляется в Рим. Контраст был слишком неожиданный. Подобно Освальду, — герою «Призраков»[322], Ибсен испытывал такое чувство, как будто убежал из тюрьмы, где сидел в цепях. Ему казалось, что в Норвегии он никогда не видел солнечного света. Как пленник, получивший свободу, он дал себе слово не возвращаться на родину. В Италии Ибсен начинает поэму «Бранд»[323], проникнутую ненавистью к патриотизму. Он вступает в открытую борьбу с Норвегией. «Поживи только в этой стране и познакомься с этими людьми! Каждый, — велик ли, мал ли он, — умеет быть только частью чего‑нибудь». Никто не дерзает «быть самим собою».
Вот с какою проповедью обращается в «Бранде» к людям, подобным Ибсену, представитель норвежской церкви — пробст[324]: «О, не будьте упрямы, не задавайтесь великими целями, раз вы предназначены самым рождением своим для малого! Можете ли вы разбить цепи? У вас есть ваше ежедневное дело, у вас есть библия. Что лежит за пределами этого, все — зло. Какую пользу получите вы от избирательных прав? Охраняйте лучше свой домашний очаг! Дети мои, что думаете вы найти между орлами и соколами, между волками и медведями, — вы, мои овечки!» По мнению Ибсена, задача демократии заключается в том, чтобы всех привести к одному уровню: «каждый должен идти в ногу с другими, идти мерным, ровным шагом — вот метод, которого нужно держаться».
Таким же возмущением и ненавистью к демократии и тупоумию проникнута и другая пьеса — «Союз молодежи»[325]. По поводу этой комедии консерваторы и либералы, молодежь и старики, литераторы и публика, с самых противоположных точек зрения, но с одинаковой яростью напали на Ибсена. Все считали себя оскорбленными. Критики низводили его пьесу до степени политического памфлета. Подымается самое страшное из всего журнального арсенала обвинение — в «трусливом отступничестве», в «измене либеральным убеждениям». Поэт был в Порт–Саиде[326], когда его пьеса, 18 октября 1869 года, в первый раз была сыграна на главной норвежской сцене. Она вызвала целую бурю. Уже при первых словах раздались свистки и аплодисменты, а в конце концов должны были опустить занавес, после чего вышел режиссер и спросил присутствующих: желают ли они продолжения пьесы, — если желают, то их просят соблюдать тишину. Игра продолжалась без перерывов до слов Бастиана Монзена в четвертом акте: «знаешь ли ты, что такое нация? Нация — это народ, это простой народ; те, которые ничего не имеют и являются ничем; те, которые живут в рабстве». Тут снова поднялась буря. Только тогда, когда был потушен газ в зрительной зале, шум прекратился, но он продолжался еще некоторое время в коридорах и на улице.
Уже по этому страстному отношению публики опытный наблюдатель мог бы предсказать близкую победу Ибсена. В самом деле, каждый шаг его к славе отмечен не возрастающей любовью, а возрастающей ненавистью толпы. Такова сила: ее ненавидят, но не могут ей не покоряться. Норвегия была побеждена. Еще в 1866 году стортинг[327] утвердил за Ибсеном «писательскую пенсию», несмотря на то что министр Риддерфольд, заведовавший церковными делами, был против него, потому что — объяснял председатель церкви — он не может отнестись утвердительно к просьбе человека, написавшего «Комедию любви» и резко осмеявшего норвежское духовенство в лице пастора Штромана.
Летом 1874 года Ибсен, после десятилетнего отсутствия, побывал в Норвегии. Ему устроили ряд оваций. Когда он был в театре на представлении «Союза молодежи», студенты, из самых благородных побуждений яростно шикавшие на первом представлении, выказывали теперь столь же пламенное сочувствие автору и даже устроили в его честь процессию со знаменами, пением и музыкой. Впрочем, это было недолгое перемирие. Демон возмущения скоро проснулся в Ибсене. Круг отрицания и вражды еще более расширяется. Теперь поэт стоит во всеоружии своей ненависти и своей силы лицом к лицу не только со своей родиной, но со всей Европой. В последних драмах Ибсен подвергает критике основы современной европейской жизни. Этот фазис его борьбы до сих пор не закончен. Подобно герою пьесы с характерным автобиографическим заглавием «Враг народа»[328] — доктору Штокману, Генрик Ибсен на высоте славы может сказать: «здесь поле сражения, здесь должна произойти битва; здесь я хочу одержать победу!» Перемирие поэта с публикой опять нарушено. По поводу заключительных сцен «Норы»[329], в которых мать бросает детей во имя личной свободы, критики повторяли старое излюбленное обвинение в «безнравственности». Когда же появились «Призраки», друзья Ибсена, следовавшие за ним шаг за шагом, от драмы к драме, в первую минуту боязливо отступили перед открывшейся пропастью. «Большая» публика и ее представители в прессе подняли неистовый крик, какого не слышалось со времени появления «Комедии любви», и как в 1862, так и в 1882 году, и публично, и частным образом, набросились на личность поэта. Такое же негодование вызвала другая пьеса — «Дикая утка»[330].
Когда летом 1885 года Ибсен снова приехал в Норвегию, он с горьким чувством увидел, что его лучшие друзья из мелкой партийной ненависти стали его заклятыми врагами, и самые честные люди считали его «отступником». Теперь уже никакие рукоплескания молодежи, никакие овации не могли его обмануть и утешить. С иронией холодного и спокойного отвращения к людям он замечает о своей поездке на родину: «в целом я получил такое впечатление, что в Норвегии не два миллиона людей, а два миллиона кошек и собак». Теперь для него уже нет резкой противоположности Европы и Норвегии. За чертой горизонта, замыкающей Северное море, он больше не видит нового мира. И здесь, и там — глубокое вырождение человеческой личности, торжество посредственности и мнимого либерализма. Вот что пишет он в 1870 году Георгу Брандесу: «все, чем мы живем теперь, представляет из себя только жалкие крохи от яств прошлого столетия, и это кушанье достаточно долго пережевывалось. Понятия требуют нового содержания и нового развития… Люди хотят только частичных преобразований чисто внешнего свойства»[331]. Но, по мнению Ибсена, который здесь, как и везде, не отступает перед самыми крайними логическими выводами из своих убеждений, центр тяжести заключается «в коренном преобразовании всех наших нравственных понятий, всех человеческих отношений»[332]. Для него отдельная личность и всякая группа, обладающая внешней насильственной властью над личностью, — непримиримые враги.
С тех пор взгляд поэта–мыслителя еще более омрачился. Он видел грубое торжество военной Пруссии, торжество цинического и самодовольного милитаризма. Мечты об освобождении человеческого духа отодвигаются в неизмеримую даль. Силы не покидают Ибсена, а, скорее, возрастают, но борьба становится все безнадежнее. И он уходит в самого себя. Теперь, с точки зрения его крайнего индивидуализма, человек, находящийся в гармонии с обществом, — ничтожная личность, связанная по рукам и ногам условностями и общественными традициями. «Самый сильный человек, — говорит Ибсен, — тот, кто один».
Он уже не верит в близкое пришествие неведомого всеобщего обновления; не верит, что люди — по крайней мере его современники — способны осуществить идеал свободы, о которой он мечтает. И вот, как некогда в Гримштаде бедный аптекарский ученик убегал на пустынный морской берег, так теперь поэт от пошлости и глубокого бессилия современного общества уходит к родному Северному морю. Оно опять на мгновение примирило его с жизнью. Все внутренние диссонансы, противоречия, ненависть к людям разрешились в гармонию, которой проникнуты заключительные сцены самой поэтической из его драм — «Женщина моря» («Эллида»)[333]. Он остался верен себе. Мрачная, неизменная красота Норвежского моря (он задумал пьесу летом, на западном берегу Норвегии, в городке Мольде) всю жизнь была для него символом безграничной свободы, которой он тщетно искал у людей.
Биограф описывает наружность Ибсена: «Он небольшого роста, но тем не менее производит внушительное впечатление. Верхняя часть тела отличается необыкновенной крепостью. Все лицо обрамлено сединами, обильными наперекор его возрасту. Сжатые губы, взгляд, устремленный через очки, и густые брови производят впечатление неустанно напряженной мысли и воли. Надо всем возвышается сильный, развитой лоб… Вся фигура производит впечатление боевой силы… Никто не слыхал, чтобы Ибсен когда‑нибудь хворал. Даже недуги, составляющие обычное явление в преклонном возрасте, пощадили его. Он весь как бы представляет из себя олицетворенное здоровье. Ни ветер, ни буря, ни холод, ни дождь — ничто не смущает его. Во всем, что он делает, он — воплощенная регулярность. Долго пришлось бы искать кого‑нибудь другого, чья жизнь в такой же степени походила бы на часовой механизм».
Биограф замечает с наивностью, что Ибсен, уехав из Норвегии, ведет тихую, «счастливую» жизнь в Германии и в Италии. Слово это звучит довольно странно в применении к такому человеку, как автор «Призраков». У него есть все внешние условия, которые люди считают необходимыми для счастья — здоровье, деньги, слава, семейный очаг. Но стоит прочесть два последних произведения Ибсена — «Гедду Габлер» и в особенности «Строителя Сольнеса»[334], чтобы понять, каково это счастье. Ибсен, как все сильные люди, сохраняет тем большее наружное спокойствие, чем мучительнее его внутреннее смятение. По–видимому, этому человеку незнакомо чувство усталости и примирения. Мы видели, как с годами круг его ненависти, его возмущения и отрицания все расширяется. Сначала ему было тесно в родном Скиене, потом в обществе Гримштада, потом во всей Норвегии, наконец и во всей Европе.
II
«Призраки» — одно из самых мрачных и сильных произведений Ибсена. Это — лучший ответ тем, кто осуждает поэта за последние сцены «Норы», где мать бросает детей во имя свободы.
Представителем буржуазно–добродетельного миросозерцания является здесь в высшей степени честный, убежденный и вместе с тем до ребячества наивный пастор Мандерс. Он осуждает Елену Альвинг, вдову капитана и камергера Альвинга, за то, что она много лет тому назад, подобно Норе, покинула мужа во имя свободы и нравственной чистоты. Но Елена послушалась общественного мнения в лице пастора Мандерса и вернулась к семейному очагу, сделала именно то, чего требуют моралисты от Норы. Она лгала всю жизнь в угоду людям, лгала и своему сыну, уверяя, что развратный отец его был нравственным человеком. Чтобы увенчать многотрудное здание семейной лжи, которое заслужило ей в обществе уважение и любовь, она строит великолепный приют памяти покойного мужа. Пастор Мандерс приехал для освящения здания и привез необходимые казенные бумаги. По поводу семейного торжества, вспоминая прошлую жизнь Елены, он не может удержаться, чтобы не прочесть обычную проповедь о христианском терпении, послушании и отречении. Он вспоминает, что именно ему было дано вернуть ее «на стезю долга, к родному очагу, к ее супругу». Елена замечает с грустной улыбкой: «о да, Мандерс, это было, несомненно, дело ваших рук». А Мандерс прибавляет к ее словам: «А разве то, что я снова возложил на вас бремя долга, не послужило к лучшему, не сделалось благословением на всю вашу последующую жизнь? Разве все не вышло так, как я вам предсказывал? Разве Альвинг не загладил своих увлечений, как это прилично порядочному человеку? Разве он не жил после того всю свою жизнь душа в душу с вами?
Не был ли он благодетелем всего края? Не возвысил ли он вас до такой степени, что вы сделались его помощницею во всех этих полезных предприятиях? И хорошею помощницею. О, я это отлично знаю, госпожа Альвинг! Эту славу вы вполне заслужили. Но я хочу сказать теперь о другой, самой крупной ошибке вашей жизни».
И проповедь длится в том же однообразно–унылом тоне — в холодном свете северного утра, между тем как через стекла соседней комнаты–оранжереи виден мрачный ландшафт фиорда, затуманенный беспрерывным дождем.
«Всю вашу жизнь, — продолжает строгий моралист, — вами руководил дух своеволия и непокорности. Все ваши помыслы были направлены к тому, что незаконно, что не подчинено никаким узам. Вы всегда хотели порвать всякие путы. Все, что только хоть немного угнетало вас в жизни, вы безрассудно и не обращая ни на что внимания сбрасывали с себя, как ненужную тяжесть. Вам не нравилось быть женой, — и вы уехали от мужа. Вам показалось тягостным быть матерью и вы отослали своего сына к чужим людям». По старой привычке церковного проповедника он подымает палец с наставнической важностью: «говоря правду, госпожа Альвинг, вы очень, очень грешная мать!» Это именно те обвинения, с которыми критики обращаются к Норе.
Тогда Елена больше не выдерживает. Она доказывает Мандерсу, что столь высокочтимый и уважаемый всеми покойный камергер Альвинг был развратником и пьяницей, превратившим ее семейную жизнь в ад.
— Я все сносила, хотя отлично знала, что за вещи творились в доме…
— Что вы говорите? Здесь!
— Здесь, среди этих стен. Вон там (показывает на дверь) я узнала впервые все. Я пришла в столовую, мне что‑то нужно было взять там. Дверь была полуоткрыта. Я услыхала, как наша горничная пришла из сада поливать цветы.
— Ну?
— Спустя немного я услыхала также, что пришел Альвинг. Я слышала, что он что‑то сказал ей тихонько. И потом… (с резким смехом) о, еще до сих пор я слышу эти слова, они рвут мое сердце на части и в то же время кажутся такими смешными. Потом я услышала, как моя собственная горничная прошептала: «оставьте меня, господин камергер, оставьте меня в покое!»
Мандерс еще слабо, нерешительно борется. Он ищет смягчающих компромиссов в своей нравственности, он называет поступок Альвинга только «непростительным легкомыслием». Но Елена преграждает ему все пути. Связь с горничной имела последствия.
— И все в этом доме? — восклицает Мандерс, крайне пораженный. — В этом доме!
— Я многое вытерпела в этом доме. Чтобы удержать его вечером, а также и ночью, я должна была делаться его собутыльником во время одиноких кутежей. Я должна была сидеть с ним с глазу на глаз, чокаться, пить, слушать его пошлые, бессмысленные речи, изо всех сил бороться, чтобы оттащить его в постель…
Читатель видит перед собою до последней черты упрямое, наивное и комически–растерянное лицо Мандерса, — этого идеалиста, пропитанного теориями долга и отречения, не имеющего понятия о действительной жизни, этого ребенка с седыми волосами, когда он восклицает, потрясенный ужасом: «у меня просто голова кругом идет. Итак, весь ваш брак, вся ваша долголетняя совместная жизнь с вашим мужем была только пропастью, скрытой для чужих глаз?»
— Именно. Теперь вы знаете…
— Это… я никак не могу понять!.. Это что‑то невероятное!..
В доме у Елены Альвинг живет Регина, незаконная дочь камергера от горничной. Сын Елены, Освальд, молодой художник, только что вернувшийся из Италии, скучает и томится без солнца. Его раздражает беспрерывный дождь. Он не может привыкнуть к серому, холодному небу своей родины. Мать балует его и с возрастающей тревогой начинает замечать, что в Освальде проявляются порочные наклонности отца. Он пьет, он раздражителен и нервен, не умеет ни удерживать, ни даже скрывать неожиданные и необузданные вспышки чувственности. И вот роковая сила, тяготеющая над всеми лицами драмы, — неотвратимая сила наследственности, возмездие за благопристойную ложь, прикрывающую «пропасти семейной жизни», возмездие за грех отца, обнаруживается в последней сцене первого акта. Все еще продолжается в тусклом свете дождливого утра томительный диалог Елены и Мандерса.
«Через два дня, — успокаивает она себя, — мне будет казаться, что покойник никогда не жил в этом доме. Здесь не будет никого, кроме моего сына и его матери.
В столовой слышен шум падающего стула и одновременно шепот.
Голос Регины (резко, хотя шепотом). Освальд! ты с ума сошел? Оставь меня!
Елена (вздрагивает с ужасом). А!..
Она смотрит, как безумная, на полуоткрытую дверь. Освальд кашляет, потом напевает. Слышен звук откупориваемой бутылки.
Мандерс (взволнованный). Но что это? Что же это такое, госпожа Альвинг?
Елена. Призраки! Парочка в комнате с цветами — она опять идет.
Мандерс. Что вы говорите?.. Регина?.. Неужели она?..
Елена хватает пастора Мандерса за руку и, шатаясь, уходит в столовую».
Во втором акте госпожа Альвинг признается Мандерсу, что ощущение ужаса, которое она испытала, увидев поразительное сходство двух влюбленных парочек в комнате с цветами, ей давно знакомо. «Я нерешительна и даже труслива, — говорит она, — потому что всегда чувствую, что во мне, в моей душе, есть что‑то, напоминающее мне призраки.
— Как вы говорите?
— Когда я услыхала разговор между Региной и Освальдом, мне почудилось, что я вижу перед собой призраки. Но мне иногда кажется, что все мы подобны призракам, выходцам из могил. В нас живет, в нас прячется все, что мы наследуем от родителей, все старые, по–видимому умершие, воззрения и верования. Когда я беру в руки газету, мне кажется, как будто призраки проскользнули между строчками. Везде кругом эти могильные выходцы, неисчислимые, как песок морской».
Все в жизни призрачно. Призрачны те, по–видимому, незыблемые, а в сущности совершенно ничтожные основания, на которых зиждется современное общество. Призрачны те начала долга и отречения, которые проповедует Мандерс. Елена говорит ему: «когда вы восхваляли как справедливое все то, что возмущало мою душу своей отвратительностью, у меня явилось желание хорошенько проверить ваши поучения. Я коснулась одного краешка, одного узелка, но едва я развязала его, — вся сеть распуталась. И я увидела, что это машинная работа».
Елена пытается разорвать «машинную работу» лжи, которая опутала ее жизнь. Она открыто восстает на Мандерса, на его теории вечного терпения и покорности. Когда Освальд признается ей, что знаменитый доктор в Париже определил в нем задатки наследственною помешательства или по крайней мере нервного расстройства, происходящего от развратной жизни отца; когда мать видит, что Освальд любит Регину — дочь своего отца, и что эта преступная любовь одна может спасти ее сына от отчаяния и безумия, — она собственными руками отдает Регину Освальду. И на негодующий крик Мандерса: «вы не должны этого делать!» — она отвечает спокойно и непоколебимо:
— И должна, и хочу.
В окнах появляется зарево. В приюте, воздвигнутом и только что освященном в память покойного камергера Альвинга, — пожар. В блеске зарева стоят Регина и Освальд, между ними Елена Альвинг и растерянный, беспомощный пастор Мандерс. Это гибнет все прошлое, все для него священное — пылает и рушится благопристойное, многотрудное здание добродетельной лжи.
Так же, как в «призрачной» влюбленной парочке, под тусклым, холодным светом дождливого утра, — теперь в этой ночи, освещенной заревом пожара, вы чувствуете присутствие рока — того страшного и неотвратимого, что таится в жизни. Напрасно Елена делает усилия, чтобы освободиться от лжи. Призраки ее обступили. Призраки ей мстят.
Сын давно уже освободился от теории мнимого долга, от северного миросозерцания. «Беспрерывный дождь! — восклицает он в отчаянии, — это может продолжаться недели, месяцы… Ни одного солнечного луча… Я не могу вспомнить, чтобы я когда‑нибудь видел на родине солнце!». Он говорит матери о Норвегии: «я не вижу здесь ни веселья, ни счастливого сознания совершаемой работы. Вы привыкли смотреть на работу как на проклятие: чем скорее кончишь ее, тем лучше. По вашему мнению, жизнь — юдоль скорби». И он противополагает миросозерцанию христианского севера миросозерцание языческого юга:
«В том кругу, где я вращался, на жизнь смотрят как на светлое, сладостное существование. Ты заметила, мама, что все, что я нарисовал, — все мои картины разрабатывают именно этот мотив жизнерадостности. В том мире, где я жил, вечно царят солнечный свет, смех, праздничное веселие… Вот почему я боюсь оставаться здесь, на родине».
— Ты боишься? — спрашивает Елена. — Чего?
— Я боюсь, что вся та сила, которая кипит во мне, может выродиться в безнравственность.
«В безнравственность», и он мог бы прибавить — в безумие. В последнем акте, в сценах, написанных с ужасающим реализмом, мы чувствуем, как разлагается все умственное и нравственное существо человека под давлением силы наследственности. Сознание, чуждое всех предрассудков, сознание современного человека, освобожденного наукой, борется против слепой, неумолимой силы — и отступает. Такова действительность, и в свете этой правды рушатся последние опоры современного миросозерцания. Мать оправдывает перед своим сыном, наследственно–развратным или безумным, развратную и безумную жизнь отца. Она как будто просит у сына прощения за грехи мужа. Его безнравственность — объясняет Елена — не что иное, как вырождение свободной жизненной силы, не нашедшей исхода под мрачным небом севера между добродетельной супругой и благочестивым Мандерсом. Вдруг она замечает, что Освальд ее почти не слушает. Потом он говорит, что не любит и в сущности никогда не любил отца, что ему все равно, какой это был человек. И он спрашивает мать, испуганную спокойным низвержением той святыни, за которую она еще цеплялась с упорством отчаяния:
— Неужели ты так крепко держишься за старые предрассудки?
— Разве это не более как предрассудок?..
— Да, это одно из тех воззрений, которые находятся еще в обращении у людей, а между тем уже они…
— Призраки! — доканчивает Елена, потрясенная ужасом.
— Действительно, ты их можешь назвать «привидениями», «призраками».
Остается еще один последний «призрак» — любовь Освальда к Елене, любовь сына к матери. Он признается ей, что не раз чувствовал приступы сумасшествия. «Это отвратительно, — говорит он, бледнея при одном воспоминании, — ах, это отвратительно: снова превратиться в ребенка, которого кормят, за которым… Отвратительно!».
— У ребенка есть мать, она будет ухаживать за ним.
Освальд вскакивает. — Нет! Никогда. Этого именно я не хочу! я не могу вынести сознания, что, быть может, буду лежать здесь долгие годы, состарюсь, поседею. И ты можешь умереть раньше.
Он садится на стул к матери.
— Это обыкновенно не тотчас кончается смертью, сказал доктор. Он определил, что это — размягчение мозга или что‑то в этом роде…
Елена с отвращением замечает на лице Освальда усталую, идиотическую улыбку. Он продолжает.
— «Размягчение мозга». Название болезни звучит так мило, не правда ли? Я всегда вспоминаю при этом темно–красные шелковые драпри, что‑нибудь нежное, мягкое, что приятно погладить…
Елена вскрикивает: «Освальд! Освальд!» Но уже поздно. Он вскочил и быстро ходит по комнате, чувствуя, что припадок повторится скоро, может быть, сейчас, — и тогда нет надежды. Елена видит, как он теряет власть над собой. Наконец, он вынимает из кармана порошок морфия, требуя, чтобы мать отравила его, если припадок повторится.
— Да, мама, теперь ты должна оказать мне эту услугу.
— Я — твоя мать!.. Я отниму у тебя жизнь, когда я сама дала ее тебе!..
— Я у тебя не просил жизни. И какую жизнь ты мне дала? Я не хочу ее. Возьми ее назад!
Последний «призрак», скрывавший сущность жизни, исчез — исчезла святыня материнской любви. Вот страшная укоризна ребенка матери, человека природе: «какую жизнь ты мне дала?»
И Елена понимает, что нет другого исхода, и с клятвой протягивает ему руку, обещая, что убьет его, если это будет необходимо. Он на мгновение успокаивается. Она старается его утешить и не замечает, что боится рассуждать с ним и только баюкает его, как ребенка:
— Вот видишь, припадок прошел. Тебе легко. Я знала это. И день начинается, Освальд. Ты видишь? Какой ослепительный солнечный свет! Смотри, как преобразилось все кругом!
Она подходит к столу и гасит лампу. Глетчеры и горные вершины, лежащие в глубине сцены, видные сквозь стекла соседней оранжереи, озаряются ярким солнечным блеском. Вдруг Освальд, сидящий в кресле, тихо произносит: «Мама, дай мне солнце!» Он весь перегибается. Мускулы его ослабевают. Лицо делается тупым и невыразительным. Глаза неподвижны.
Мать бросается перед ним на колени, охватывает его руками.
Сын, не узнавая матери, беззвучно повторяет: «Солнце… солнце…».
И она стоит над ним с ядом в руках, полная ужаса, и борется с искушением избавить того, кому дала жизнь, от этой бесцельной и отвратительной пытки — с искушением дать ему смерть. Освальд, по–прежнему не двигаясь, беззвучно и бессмысленно шепчет: «Солнце… солнце»…
Вот лучший ответ строгим защитникам семейного начала, которые осуждают Нору за то, что она покинула детей. Елена Альвинг в противоположность Норе пошла на компромисс, вернулась к семейному очагу, вернулась к детям.
Освальд — настоящее дитя той благопристойной лжи и тайного разврата, добродетельной трусости и вечного лицемерия, которые, по–видимому, в крови у современного общества. Он гибнет одной из первых жертв мира, обреченного на смерть. Ибсен в этом произведении так же, как в большинстве других своих драм, мистик и в то же время натуралист. Как врач, он исследует случай вырождения. Но он не останавливается на научном анализе. Ему мало того, что он обнаружил, как мятежная сила жизни — сила гения, не нашедшая исхода в творчестве, граничит с преступностью и с безумием, как закон наследственности мстит за «машинную работу», за добродетельную ложь Мандерсов. В сущности и Мандерс — только невольный, бессознательный виновник гибели Освальда. С этой точки зрения никто ни в чем не виноват. Поэт приводит нас к вечным пределам жизни, открывает перед нами трагическую сущность бытия. Недаром Елена Альвинг замечает с ужасом предчувствия: «мне иногда кажется. что все мы подобны призракам, выходцам из могил». Освальд страдает не более, чем все люди, имевшие несчастие родиться и обреченные рождением на смерть. Тот же трагизм жизни, который древние поэты называли «роком», «необходимостью», — в «Комедии любви» чувствуют влюбленные Фальк и Свангильда и, почувствовав, отрекаются от жизни и расстаются навеки. И Нора не во имя реальных практических целей, а во имя того, что выше действительной жизни — во имя недостижимой свободы, покидает мужа и детей. Вместе с тем этот трагизм в произведениях Ибсена граничит с высшей красотой: он — и безнадежность, он — и огонь человеческой жизни, то, от чего мы гибнем и за что стоит погибнуть.
Всюду поэт показывает нам, что земное существование нельзя ограничить земными пределами, что люди живут и страдают для прекрасных и одиноких мгновений высшего идеализма — все равно, проявляется ли он в безнадежной скорби, или в безнадежном восторге, которые, по уверению Платона, в своих крайних пределах сливаются в одно[335].
Ибсен — художник, не подходящий ни под какие эстетические формулы. Он и классик — по архитектуре произведений, и романтик — по глубине поэтического чувства, и натуралист — по смелости изображений современного общества. Но если мы пристальнее всмотримся в личность поэта, если попробуем определить, что в нем истинно–нового, — может быть, мы придем к выводу, что Ибсен, принимая, подобно Протею, самые разнообразные формы[336], по своей первоначальной природе ни натуралист, ни классик, ни романтик. В поэзии Ибсена восстание против общества и философский идеализм находятся в глубокой преемственной связи с таким же веянием свободы и идеализмом у поэтов начала XIX века — у Гёте, в его юношеских произведениях, и у Байрона.
Две смежные, вечно–борющиеся и необходимые друг другу стихии — знание и вера, шаг за шагом, уступая место одна другой, все более и более расширяются. В обеих — жизнь и сила поэзии. Ни одна из двух не может окончательно победить и вытеснить другую: временная победа реализма неминуемо подготовляет в будущем торжество идеализма; чем дальше достигает прилив, тем больше будет волна отлива. Знание увеличивает неутомимую, быть может, безнадежную потребность веры, как разрушение — потребность творчества, реализм — жажду идеализма. Генрик Ибсен, несмотря на свой вечный ропот, возмущение и отрицание старых богов, является одним из самых сильных подготовителей того великого умственного поворота от разрушительных теорий к созидающей философской и художественной работе, который мы переживаем в настоящее время.
III
В другой характерной пьесе Ибсена — «Гедда Габлер» — нет широкого исторического и социального фона, как в «Призраках», но никогда автор не достигал такой силы в изображении внутренней драмы современного человека. Всю пьесу занимает одна центральная фигура — Гедда Габлер. Это широкое философское обобщение, охватывающее целую сторону современной нравственной жизни, и в то же время индивидуальное лицо. Остальные действующие лица сгруппировались так, чтобы выдвинуть центральную фигуру. Это настоящий драматический портрет.
Образ героини ясен самому поэту; он рисует ее с любовью и мукой, как женщину, которая преследовала его воображение, из‑за которой он страдал. Он видит ее всю, до последней черты лица, до последней складки одежды. Вот как в ремарке первого акта изображает он ее наружность: «дама 29 лет, с благородными аристократическими чертами лица и сложением тела, с матовой бледностью кожи, глаза сероватого, стального цвета и выражают ясное, холодное спокойствие; волосы прекрасного каштанового цвета, но не очень густые». Это «ясное, холодное спокойствие», самообладание даже в страсти, придает существу Гедды аристократическую прелесть.
Ее муж, приват–доцент истории культуры, Иорген Тесман, — воплощение буржуазной пошлости, уродства толпы и трусливой бездарности, которые жена его презирает не в силу какой‑нибудь теории, а бессознательно и непреодолимо, всем существом своим. Почему она вышла за него замуж? Во–первых, потому, что сначала он показался ей приличнее и порядочнее других, и потом от скуки, от равнодушия, от спокойного, сознательного отчаяния и, быть может, от слабой надежды быть более свободной с этим добродушным, благоговеющим перед ней и недалеким педантом, чем с кем‑нибудь другим. Он отличный семьянин, рожденный для самого будничного счастья. Он имеет добродушный, растерянный вид людей непрактичных, но не от избытка идеализма, а, скорей, от недостатка ума. Гедду он оскорбляет каждым своим движением, каждым словом. Он немного заикается, постоянно попадает в неловкое или комическое положение, не может окончить ни одной фразы, не перебив себя, не переспрашивая с рассеянным и глуповато–испуганным видом: «Как? Что?». Но когда дело касается материального обеспечения, казенного места, выгодной профессуры, он становится хитрым, завистливым и злым — по крайней мере вовсе не таким глупым и беспомощным, как мог бы показаться с первого взгляда. Но Тесман смотрит на ученую карьеру не только как на источник доходов, — он любит и книги для книг, с блаженством вдыхает пыль архивов, ему доставляет физическое наслаждение разрезание новых, только что купленных книг. В первом акте он с восторгом, с нежностью к самому себе и умилением показывает Гедде свои старые туфли, принесенные ему любящей теткой из родного дома, — свои старые, любимые туфли, которых ему так недоставало во время путешествия. Одна мысль, что он скоро может сделаться отцом, возбуждает в нем неумеренную, неудержимую радость, глупое и гордое самодовольство. Ему не терпится, он хочет высказать радость кому бы то ни было, хотя бы даже прислуге. Тесман не довольно умен, чтобы понять, что Гедда чувствует к нему отвращение.
Еще не будучи замужем, в доме своего отца, генерала Габлер, Гедда встретилась с молодым ученым Эйлертом Левборгом, будущим соперником Тесмана — как и он, кандидатом на кафедру истории культуры. Левборг любил Гедду. Но она его отвергла, хотя, может быть, была к нему неравнодушна. Она чувствовала в нем большую силу ума и таланта. Левборг — полная противоположность бездарного и добродетельного Тесмана. Левборг имеет мужество быть самим собой. Он любит не книги, а живое знание. Он оригинален и смел. Подобно Гедде, он доходит до последних пределов отрицания и свободы. Он открытый враг буржуазного общества, и оно смотрит на него, как на отверженного.
И все‑таки Гедда не может его любить. Некоторые черты характера Левборга оскорбляют ее врожденный, непреодолимый инстинкт изящного. Так же, как у Освальда в «Призраках», сила таланта, не нашедшая себе исхода, вырождается у Левборга не то в порочность, не то в болезнь. Он дает иногда справедливые поводы для ненависти, которую питают к нему ничтожные люди. У него совершенно нет спокойствия и выдержки. Ненависть и гонение он мог бы еще вынести, но всеобщее равнодушие, серая скука доводят его до отчаяния. Он ищет забвения в вине или в разврате. Он нарочно терроризирует весь добродетельный, буржуазный город своими выходками, которых потом стыдится. Эти вспышки болезненной чувственности оттолкнули от него Гедду. Они казались ей уродливыми, а всякого уродства Гедда боится больше, чем смерти. Может быть, в ней самой слишком много преступного, темного и сродного с безумием, с порочностью Левборга, для того чтобы она решилась протянуть ему руку. Она не чувствует в себе достаточно мужества, чтобы бороться с грубой и безобразной силой. И она совершила настоящее преступление любви, из‑за которого и погибнет, — оттолкнув Левборга, единственного человека, которого могла бы полюбить; отдав жизнь ничтожному, внешне приличному Тесману, которого презирает, но которым может повелевать. Она поступила так из гордости. Она беспощадна и к себе, и к другим. Гедда не умеет и не хочет прощать людям их безобразие. Ее одинокое, властолюбивое сердце, лишенное веры, сжигает и доводит до ненависти, до отвращения к жизни последняя страсть — бесплодная любовь к недостижимой красоте. В этой любви нет ничего благодатного — она похожа на преступную, изнуряющую и безнадежную страсть, на смертельную болезнь. Гедда любит красоту — и не верит в ее возможность на земле.
Впрочем, обо всем этом мы узнаем только из беглых намеков: Гедда почти ничего не говорит о своем внутреннем мире. Она скрытна из презрения к людям, из желания посмеяться над ними или причинить им боль. Чужое страдание ее сердцу, ожесточенному и озлобленному, дает наслаждение. Но до конца не изменяет ей самообладание. Среди пошлости и уродства и потом на краю гибели, не находя ни в чем красоты, сама она остается прекрасной, хотя от этой безотрадной и жестокой красоты веет холодом смерти. У Гедды есть высшая черта духовного аристократизма — простота и мера, которые придают всему ее существу неотразимое очарование.
Аевборга спасла от гибели добрая и тихая женщина Тэа Элвштед. Тэа сделалась ангелом–хранителем и вместе с тем товарищем, сестрой милосердия несчастного. Она окружила его материнской жалостью, терпением и кротостью побеждала его необузданные вспышки, смотрела на его порочность как на болезнь. Еще один шаг, одно усилие — и Левборг будет окончательно спасен. Он издал книгу, которая имеет успех в ученом мире. Ходят слухи, что ему, а не Тесману, дадут кафедру по истории культуры. Его ожидает слава. Бедный Тесман, узнав о неожиданном успехе старого товарища и соперника, стоит — по выражению Гедды — как будто «пораженный громом». Когда начинается драма, Левборг только что приехал из провинции и привез с собою новую книгу, рукопись второго тома своей «Истории культуры», который собирается издать. Эта книга — лучшее, что он написал; она доставит ему победу над врагами и славу. Но Тэа не совсем верит в выздоровление больного. Она боится за него и тайно приехала в город, чтобы следить за ним и, если будет нужно, спасти от искушений. Она всюду ищет Левборга и случайно попадает в дом своей школьной подруги, Гедды.
Вот как Тэа признается Гедде в своих отношениях к Левборгу: «Он отказался от своих старых привычек. Не потому, чтобы я об этом его просила. Я никогда не осмелилась бы это сделать. Но он должен был заметить, что эти привычки мне противны. И он отказался от них».
Гедда (скрывая невольный презрительный смех). Итак, ты его, как говорится, обратила на путь истины, ты — маленькая Тэа!
Тихая, слабая Тэа оказалась мужественнее Гедды: Тэа не отступила перед уродством и просто и легко совершила подвиг любви, на который Гедда не решилась. Гедда не ревнует к ней Левборга: едва ли даже она его любит. Но ее уничтожает сознание, что она слабее Тэа. Гибнущая Гедда не может вынести около себя чужую славу, чужой гений, чужое счастье. Отвращение к жизни, ненависть к людям, долго сдерживаемые, превращаются в необузданный инстинкт разрушения, который не останавливается ни перед какою святынею. Она ни к чему не стремится, ей ничего не надо, она совершает преступление бескорыстно, причиняет муки, забывая себя, делает зло для зла, для наслаждения, которое доставляет ей чужая гибель. Красота ее становится страшной и еще более пленительной. В некоторые мгновения она напоминает красоту грозных, разрушительных стихий. И красотою, и ложью Гедда, как сетями, опутывает всех приближающихся к ней.
Она почти насильно овладевает доверием покорной Тэа. Она вырывает у нее признания. Тэа боится Гедды, бледнеет под ее поцелуями, смутно чувствует, что Гедда хочет ей зла, и все‑таки, окованная страхом и благоговением перед красотою Гедды, не в силах противиться ее воле, ее очарованию. И Гедда едва ли лжет, когда уверяет, что чувствует к своей жертве страстную нежность. Она, лаская, губит ее. Она обращается с ней как с больным ребенком, заставляет ее говорить себе «ты», гладит по белокурым мягким волосам, похожим на лен, и вместе с тем шепчет ей на ухо преступные речи, ласковые и предательские советы, которые должны погубить ее и Аевборга. И Тэа подчиняется Гедде, становится послушным орудием в ее руках. Чем сильнее ужас, тем больше ее покорность.
Поработив Тэа, Гедда обращается к Левборгу. Она напоминает ему прошлое, спрашивает, — счастлив ли он с новой подругой, и узнает, что он не изменил ей, Гедде, что он страдает так же, как она, что он любит ее одну. Тогда Гедда начинает действовать смелее.
Левборг сам еще не верит в свое обращение на путь истины. Устраивается холостой вечер с картами и вином у советника Брака, друга Тесмана и одного из поклонников Гедды. Приглашают и Аевборга. Он отказывается, не надеясь на себя. Он знает, что ему достаточно выпить стакан вина, чтобы потерять власть над собой и не выдержать искушения. Начав пить, он не может остановиться. Гедда смеется над ним в присутствии Тэа, раздражает его самолюбие. Она протягивает ему с вызывающей улыбкой стакан пунша. Он выпивает.
Тэа старается его удержать, овладеть им, и это ее окончательно губит. Он вдруг возмущается против своей сиделки. Ему надоело чувствовать себя больным и несвободным. Назло Тэа он выпивает второй и третий стакан. Тэа, в смертельной тоске за него, молит Гедду, но та смеется и ласкает ее с презрительной улыбкой. Демон проснулся в Левборге, он принимает вызов Гедды. Вино подействовало. Теперь он не боится своей страсти: он уверен, что победил ее. Он идет на вечер и с улыбкой уверяет Гедду и Тэа, что вернется, преодолев искушение, доказав себе и людям, что не нуждается ни в чьей охране, веселый и свободный от порока. Тэа уверена, что он погиб. Гедда говорит ей насмешливо:
«Сомневайся в нем, сколько тебе угодно. Я верю в него. И теперь мы испытаем…».
Тэа. Ты от меня что‑то скрываешь, Гедда!
Гедда. Ты угадала. Я хочу, единственный раз в жизни, иметь власть над человеческой судьбой.
Тэа. Но разве ты не имеешь?
Гедда. Я не имею и никогда не имела.
Тэа. А над твоим мужем?
Гедда. Стоит над ним иметь власть! О, если бы ты могла понять, как я бедна. А ты смеешь быть такой богатой! (Она страстно ее обнимает).
Гедда вспомнила, как однажды в пансионе, когда они еще были девочками, она пугала свою подругу, чтобы посмеяться над ней, — грозила ей спалить ее белокурые, мягкие волосы «раздражающего белого цвета». И теперь, обнимая Тэа, она шепчет ей с нежностью:
— Мне кажется, что я все‑таки спалю тебе волосы!
Тэа вскрикивает:
— Оставь меня, оставь меня! Я боюсь тебя, Гедда!
Но Гедда успокаивает ее, усаживает за чайный столик, называет «маленькой дурочкой». Она так презирает ее, что не считает нужным скрывать перед ней свою ложь, свое торжество.
Предчувствие не обмануло Тэа. Утром советник Брак и Тесман рассказывают им, что произошло ночью. Левборг читал отрывки своей рукописи (которую Тесман называет гениальной) и много пил. Перед рассветом он отправился к своей бывшей любовнице, женщине подозрительного поведения, шансонетной певице, Диане. Он был пьян и по дороге обронил из кармана рукопись. Тесман ее поднял, но не возвратил, боясь, чтобы он снова не потерял. У Дианы произошла отвратительная сцена. Левборг стал громко обвинять всех в том, что у него украли рукопись. Дело кончилось дракой между мужчинами и женщинами. Подоспела полиция. Левборг дал одному из полицейских пощечину. Составлен был протокол.
Гедда, оставшись наедине с мужем, упрашивает его отдать ей рукопись Левборга. После некоторого колебания, Тесман исполняет ее просьбу. Гедда берет рукопись и запирает на замок. Наконец исполнилось ее желание: она чувствует власть над человеческой судьбой. Тэа ничего не знает.
Является Левборг. Не имея духу признаться Тэа, что он потерял рукопись, он говорит, что разорвал ее. Во всяком случае они должны расстаться навеки. Бедной Тэа кажется, что он убил что‑то живое, связанное с ее сердцем, что он убил их ребенка. Это слово — «их ребенок» — глубоко западает в душу Гедды.
Оставшись с Левборгом наедине, она не скрывает своего презрения к нему и к Тэа. Она говорит про нее: «Добренькая, маленькая дурочка держала судьбу человека в своих руках!» Вот чего властолюбивая Гедда не может ей простить. И она наслаждается поражением Тэа. Хотя ей все известно, она заставляет еще раз самого Левборга рассказать о том, как он не убил «их ребенка», а сделал хуже — потерял его где‑то, среди развратных женщин. «В конце концов, все это только книга, — замечает Гедда, — чистая душа Тэа была в этой книге!». — Левборг решил покончить с жизнью, так как чувствует, что больше подняться не может. Гедда дает ему свой револьвер «на память», как она выражается.
И в эту минуту мысль о красоте не покидает ее. Вот последний, единственный ее завет: «Эйлерт Левборг, послушайте, что я вам скажу: не можете ли вы сделать так — так, чтобы в этом была красота?»
Он переспрашивает с удивлением:
— Красота?
— Да, красота. Единственный раз в жизни!.. Прощайте!.. Теперь вы должны идти. И больше не возвращаться.
Он благодарит ее за «подарок», и она еще раз повторяет торжественно:
— Только, чтобы была красота, Эйлерт Левборг. Обещайте мне это.
Когда он уходит, она вынимает из ящика рукопись Левборга, данную
ей на сохранение Тесманом, садится в кресло к печке и медленно, тетрадь за тетрадью, бросает книгу в огонь, шепча: «теперь я сжигаю твое дитя, Тэа! Маленькая Тэа с белокурыми волосами! Твое дитя — и Эйлерта Левборга».
Она бросает в огонь сразу все остальные тетради.
«— Теперь я сжигаю, сжигаю ваше дитя!..».
Эта страшная сцена напоминает легенды Севера. Мы уносимся далеко от действительности. Образ Гедды вырастает до исполинских размеров. Озаренная разгоревшимся пламенем, с бледным искаженным лицом, с выражением сладострастья и жестокости в глазах, она в самом деле похожа на детоубийцу, на Медею[337], или на одну из могучих, таинственных волшебниц Севера, о которых повествуют скандинавские саги. Но, несмотря на ужас преступления, — кто знает, может быть, именно благодаря этому ужасу — наше сердце привлекается к ней непонятной красотой.
Когда Тесман спрашивает Гедду о данной на сохранение рукописи, она отвечает спокойно, что сожгла ее. Конечно, она не боится беспомощного мужа, но ею вдруг овладевает ирония, которая заставляет ее лгать без цели, чтобы смеяться над людьми, — лгать для лжи, потому что ложь доставляет ей наслаждение так же, как и зло. Она лжет так легко, так естественно и бескорыстно, что ложь ее не унижает. Она лжет невольно, потому что сама запуталась, утратила мерило правды, потому что сама себя не знает. Бессознательная ложь свойственна ей так же, как невольная грация движений свойственна красивым и опасным зверям хищной породы, леопарду или пантере. Но ее смех над людьми — зловещий и безотрадный. Блеск ее злых и остроумных шуток напоминает холодный блеск черного гранита пустынной гробницы. Так же смеются люди, которые уже давно не могут плакать.
Гедда, «подавляя почти невольный смех», уверяет мужа, что она сожгла рукопись Левборга из любви к нему, к Тесману, чтобы избавить его окончательно от слишком опасного соперника по соисканию кафедры истории культуры. Муж так самодоволен и ограничен, что, после некоторого колебания, верит Гедде. И вдруг он забывает всякую человеческую пристойность, он отдается самой цинической радости по поводу гибели своего лучшего друга, своего опаснейшего соперника! Ессе homo[338][339]! В это мгновение Тесман, всеми уважаемый человек, со своей радостью и любовью к жизни отвратительнее для нравственного чувства, чем преступная, лживая Гедда со своим отрицанием жизни и ненавистью к людям. Чтобы вполне насладиться его позором и унижением, Гедда сообщает Тесману, что в ту самую минуту, когда она сжигала рукопись, создание Тэа и Левборга, их ребенка, она почувствовала первые признаки беременности. Тогда Тесман обнаруживает до глубины свою природу: мы вдруг понимаем, какая бездна животного эгоизма в том семейном инстинкте, который восхваляется выше всех принципов и верований современной, буржуазной моралью. Тесман ведь только, как будущий отец, как добрый семьянин, радуется, что чужого ребенка нет на свете, что его ребенок будет жить. Радость этого добродетельного представителя мещанской морали — настоящая радость самца–зверя, торжествующего в борьбе за существование. Он не может удержать восторга и хочет сообщить все старой служанке дома, Берте. Тогда Гедда чувствует к его уродству такое отвращение, что больше не в силах смеяться. Она не скрывает, как он гадок ей, и даже на одно мгновение теряет свое вечное самообладание. Она сжимает руки в отчаянии:
— О, я умру, умру от всего этого!
Тесман. От чего, Гедда?.. Что?.. Как?..
Гедда (холодно, овладев собою). От всего смешного, Иерген.
Тесман. — Смешного? Это потому, что я так счастлив. Впрочем, может быть, в самом деле не следует говорить Берте.
И только в самом конце разговора он смутно чувствует, что вел себя непристойно, и вспоминает, что все‑таки надо если не быть, то по крайней мере казаться человеком. Он принимает обычный растерянный вид и вздыхает о бедном погибшем друге: «Нет, нет, Боже мой! А рукопись‑то, рукопись! Как бы там ни было, а вчуже становится страшно, как подумаешь о бедном Эйлерте!»
Когда советник Брак приносит в дом Тесмана известие, что Левборг убил себя, Гедда остается спокойной и холодной, она замечает: «так скоро?» — и расспрашивает Брака о подробностях самоубийства. Ею овладевает любопытство: ей хочется узнать, была ли «красота» в смерти того, кто ее любил.
Брак. Он выстрелил себе в грудь.
Гедда. В грудь?
Брак. Да, как я вам говорю.
Гедда. Значит, не в висок?
Брак. Нет, в грудь, госпожа Тесман.
Гедда. Да, да. В грудь тоже хорошо.
Брак. Как? Что вы этим хотите сказать?
Гедда (уклончиво). Нет, ничего.
И потом, к всеобщему ужасу, она восклицает со вздохом облегчения, почти радости: «Наконец‑то хоть какое‑нибудь действие!»
Тесман, который наедине с нею не стыдился радоваться, теперь вскрикивает с непритворным испугом: «Господь с тобою, Гедда! Что ты такое говоришь?»
Гедда. Я говорю, что в этом заключается красота.
И потом, в более интимном разговоре с советником, вечно сдержанная и холодная, Гедда восклицает почти восторженно:
«О, какое это для меня освобождение — знать, что в мире еще может совершаться что‑нибудь вольное и благородное! Что‑нибудь, на что падает отблеск бессознательной красоты».
И на все упреки, на все удивленные покачивания головой и вопросы она с глубоким чувством радости перед красотою отвечает одно:
«Я знаю только, что Эйлерт Левборг имел мужество прожить жизнь по–своему. На этом есть отблеск красоты: он имел волю и силу уйти с праздника жизни так рано».
Когда советник Брак остается наедине с Геддой, он признается, что из жалости к Тэа не решился сказать всей правды о самоубийстве Левборга. Смерть его была менее прекрасной, чем думает Гедда. Он убил себя не в своей комнате, а в будуаре певицы Дианы. Перед смертью он сделал ей отвратительную сцену, требовал от нее какого‑то ребенка, которого она будто бы украла. И потом пуля попала не в грудь, а в живот. Тогда Гедда с болезненным отвращением восклицает: «О, Боже мой, этого еще недоставало! Зачем смешное и пошлое, как проклятие, ложится на все, к чему я только ни прикоснусь?»
Это — последний крик отчаяния. Когда Гедда перестает верить в красоту, она перестает жить.
Советник Брак доказывает ей, что она замешана в эту историю или по крайней мере он, если захочет, может ее замешать. Полиция захватила револьвер, которым убил себя Левборг, и Брак знает, что этот револьвер принадлежит Гедде. Он показывает ей в перспективе возможность судебного следствия, необходимость отвечать на вопрос: зачем она дала Левборгу револьвер? Впрочем, старый советник с макиавеллевским коварством успокаивает Гедду, что он ведь один знает, кому принадлежит револьвер, и от него зависит молчать или выдать тайну полиции. Тогда она видит, что запуталась в собственных сетях. Советник шепчет ей, что она может купить его молчание, ответив взаимностью на его долгую тайную терпеливую любовь. Итак, Гедда Габлер, под страхом участия в преступлении, под страхом позора, во власти сладострастного и хитрого старика.
Гедда (смотрит на него пристально). Итак, я — в вашей власти. Отныне вы можете меня казнить и миловать.
Брак (шепчет едва слышно). Милая Гедда, верьте мне, я никогда не злоупотреблю этим положением.
Гедда. Тем не менее я — в вашей власти. В зависимости от вашей воли и прихоти. Не свободна. Я — не свободна! (Она быстро встает). Нет, этого сознания я не вынесу! Никогда.
Она, будто скучая, немного посмеявшись над мужем, который вместе с Тэа занят восстановлением рукописи Левборга по черновым бумагам, уходит в соседнюю комнату, закрытую портьерами. И вдруг оттуда раздается дикий плясовой мотив на фортепиано. Все невольно вздрагивают. Тесман напоминает Гедде, что в доме траур, так как умерла его родственница; он просит ее вспомнить Левборга.
Гедда (высовывая голову между портьерами). Ну да, и тетку Юлию надо помнить, и всех. Подождите, я не буду вас беспокоить. (И она опять задергивает портьеру).
В комнате тянется незначительный разговор. Тесман выказывает свою обычную глупость. Так как теперь ему придется проводить вечера с Тэа над восстановлением книги Левборга, он просит советника Брака услужить ему и развлекать по вечерам Гедду, на что Брак с наслаждением соглашается. Гедда из‑за портьеры отвечает спокойным голосом, произносит несколько шутливых слов и вдруг обрывает. Раздается выстрел. Все вскакивают, открывают портьеру и видят труп Гедды, простертый на диване. Она выстрелила себе в висок. Советник Брак, падая в кресло, почти в обмороке, может только прошептать: «Сохрани нас, Боже, и помилуй! Разве такие вещи делаются!»
Гедда Габлер убила себя так же, как она жила, скучая, с холодным и ясным спокойствием, презрением к людям, с отвращением к себе. Гедда говорит, что у нее нет «мужества», и потому она гибнет; она даже называет себя «трусливой». Но это слово к ней не подходит. У нее есть воля и сила. Но у этой воли нет точки опоры — вот почему она никогда не переходит в действие, не может преодолеть ничтожного препятствия. Не находя исхода, эта сила сама на себя обращается, сама себя разрушает. Сердце Гедды — одно из тех, которые не могут жить, не веря, а веры нет. Если бы Гедда нашла такого Бога, во имя которого стоило бы жить и умереть, она сделалась бы героиней или мученицей. Она не может отречься от поисков веры, от мук безверия, не может примириться с уровнем современного буржуазного миросозерцания. По–видимому, женщины и в вере, и в безверии дерзновеннее мужчин. Если в подобных характерах внутренняя сила не приводит к подвигам, она должна привести к преступлению. Гедда доходит до таких пределов нигилизма, о которых никогда и не помышляли теоретики отрицания — до ненависти ко всему человеческому, ко всякой жизни, до спокойного и сознательного самоуничтожения.
Когда Гедда лежит перед нами мертвая, в своей безнадежной красоте, такая же бесстрастная, такая же холодная в смерти, какой была в жизни, — у нас не хватает духу произнести над ней приговор за ее жестокость, за ее нравственный нигилизм: мы чувствуем только, что нельзя долго жить так, как живем мы. Мы понимаем трагическую судьбу поколений, обреченных рождаться и умирать в эти смутные, страшные сумерки, когда последний луч зари потух и ни одна звезда еще не зажглась, когда старые боги умерли и новые не родились.
I
Тургенев, Лев Толстой, Достоевский — три корифея русского романа. Гончаров стоит не ниже их, но в стороне, и говорить о нем следует особо.
Тургенев — художник по преимуществу; в этом сила его и вместе с тем некоторая односторонность. Наслаждение красотой слишком легко примиряет его с жизнью. Тургенев заглядывал в душу природы более глубоким и проницательным взором, чем в душу людей. Он менее психолог, чем Лев Толстой и Достоевский. Но зато какое понимание жизни всего мира, в котором люди только маленькая часть, какая чистота линий, какая музыка речь его! Когда долго любуешься этой примиряющею поэзией, кажется, что сама жизнь существует только для того, чтобы можно было наслаждаться ее красотой.
Лев Толстой — громадная стихийная сила. Гармония нарушена; нет созерцательного, безмятежного наслаждения — это жизнь во всем ее величии, в первобытной полноте, в несколько дикой, но могучей свежести. Он удалился из нашего общества:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий…[340]
Но простым смертным, не пророкам, так же холодно от этого неумолимого отрицания культуры, созданной веками, как и от тургеневского бесстрастного созерцания красоты… Оба писателя глядят на жизнь со стороны: один из тихой артистической мастерской, другой — с высоты отвлеченной морали.
Достоевский роднее, ближе нам. Он жил среди нас, в нашем печальном, холодном городе; он не испугался сложности современной жизни и ее неразрешимых задач, не бежал от наших мучений, от заразы века. Он любит нас просто, как друг, как равный, — не в поэтической дали, как Тургенев, и с высокомерием проповедника, как Лев Толстой. Он — наш, всеми своими думами, всеми страданиями. «Он с нами пил из общей наши, как мы, отравлен и велик»[341]. Толстой слишком презирает «гнилое» интеллигентное общество, чувствует слишком глубокое отвращение к слабостям грешных людей. Он отталкивает, пугает своим презрением, своею грубостью в суждении о том, что все‑таки останется людям дорого и свято, несмотря ни на какие нападки. Достоевский в некоторые минуты ближе нам, чем те, с кем мы живем и кого любим, — ближе, чем родные и друзья. Он — товарищ в болезни, сообщник не только в добре, но и во зле, а ничто так не сближает людей, как общие недостатки. Он знает самые сокровенные наши мысли, самые преступные желания нашего сердца. Нередко, когда читаешь его, чувствуешь страх от его всезнания, от этого глубокого проникновения в чужую совесть. У него встречаешь тайные мысли, которых не решился бы высказать не только другу, но и самому себе. И когда такой человек, исповедавший наше сердце, все‑таки прощает нас, когда он говорит: «верьте в добро, в Бога, в себя», — это больше чем эстетический восторг перед красотой; больше чем высокомерная проповедь чуждого пророка.
Достоевский не обладает гармонией, античной соразмерностью частей — этим наследием пушкинской красоты, — всем, чем так богат автор Отцов и детей. Нет у него и стихийной силы, непосредственной связи с природой, как у Льва Толстого. Это — человек, только что вышедший из жизни, только что страдавший и плакавший. Слезы еще не высохли у него на глазах, они чувствуются в голосе; рука еще дрожит от волнения. Книги Достоевского нельзя читать: их надо пережить, выстрадать, чтобы понять. и потом они уже не забываются.
Достоевский употребляет своеобразный художественный прием, чтобы ввести читателя в драму. Он изображает подробно тонкие, почти неуловимые психологические переходы в настроении героев. Вот пример. Раскольников немного спустя после преступления, еще никем не подозреваемый, стоит в полицейском участке перед квартальными. Автор отмечает последовательно ряд состояний, через которые прошло сознание героя. Когда Раскольников входит в участок, он чувствует ужас, что его подозревают, что, может быть, преступление открыто; потом, когда узнает, что подозрений нет, нервное напряжение разрешается в радость, является чувство облегчения, отсюда — его откровенность, болтливость, желание поделиться восторгом с кем бы то ни было, даже с квартальными. Но возбуждение длится недолго. Раскольников возвращается к своему обыкновенному в то время состоянию — к мрачной тоске, озлоблению и недоверчивости. Он вспоминает недавнюю экспансивность, она ему кажется нелепою и унизительною[342]. «Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце». Он почувствовал, что уже никогда не может быть ни с кем откровенным, потому что он — преступник. И вот в эту‑то минуту «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его»[343].
Если читателю, кто бы он ни был, случилось в действительности пережить только один из этих бесчисленных оттенков настроения, он непременно вспомнит момент своей личной жизни, снова его переживет, — а этого только и нужно автору: следующий момент будет опять не изображением поэта, а собственным ощущением читателя, потому что он только неизбежное психологическое следствие первого и т. д. Достоевский захватил сердце и уже не отпустит его, пока не вовлечет в самую глубину настроения героя, не втянет душу в его жизнь, как водоворот втягивает слабую былинку в омут. Мало–помалу личность читателя перевоплощается в личность героя, сознание сливается с его сознанием, страсти делаются его страстями.
Пока читаешь книгу Достоевского, нельзя жить отдельною жизнью от главных действующих лиц рассказа: как будто исчезает граница между вымыслом и действительностью. Это больше чем сочувствие герою, это — слияние с ним. Когда Порфирий не решается подать руки преступнику, чувствуешь негодование на судебного следователя, как будто личную ненависть за его подозрения[344]. Когда Раскольников с окровавленным топором бежит по лестнице и прячется в пустой квартире, где работают маляры, переживаешь весь его ужас, и мучительно хочется, чтобы он спасся, поскорее убежал от справедливой кары закона, чтобы Кох с товарищем как‑нибудь не заметили его, чтобы преступление не могло быть открыто[345]. Читатель вместе с героем делает преступный психологический опыт, и потом, когда оставляешь книгу, долго еще нет сил освободиться от ее страшного очарования. Гармония, красота, наслаждение поэзией — все это может пройти, исчезнуть из памяти, забыться со временем, но преступный опыт души никогда не забывается. Достоевский оставляет в сердце такие же неизгладимые следы, как страдание.
Введение в жизнь героя посредством изображения тончайших, неуловимых переходов в его настроении — вот один из художественных приемов Достоевского; другой заключается в сопоставлениях, в резких контрастах трогательного и ужасного, мистического и реального.
Мармеладов перед смертью, уже в полусознательном состоянии, смотрит на своих нищих детей. Взгляд его остановился на маленькой Лидочке (его любимице), глядевшей на него «своими удивленными, детски пристальными глазами». — А…а… — указывал он на нее с беспокойством. Ему что‑то хотелось сказать. — Чего еще? — крикнула Катерина Ивановна. — Босенькая! Босенькая! — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки. «Вошел священник с запасными дарами, седой старичок. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго». Катерина Ивановна стала на колени с детьми. Они молились. В эту минуту «из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаянья. Она была тоже в лохмотьях: наряд ее был грошовый, но разукрашенный по–уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире с ярко и позорно выдающеюся целью»… Соня, дочь Мармеладова, была «в шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, в светлых ботинках, в смешной соломенной круглой шляпе с ярким огненного цвета пером»[346]. После этого описания автор сразу переходит к умирающему, говорит об исповеди и причастии.
Также обыкновенны в романах Достоевского сопоставления реального и мистического. Тесные переулки близ Сенной; летний Петербург, вонючий и пыльный; полицейский участок с квартальными; бедность, разврат, та самая серая и пошлая обстановка большого города, которую мы привыкли видеть каждый день, — все это делается вдруг призрачным, похожим на сон. Автор проникнут чувством темного, таинственного и рокового, что скрывается в глубине жизни. Он нарочно вводит в рассказ трагический элемент Рока посредством постоянных совпадений мелких случайностей.
Перед тем как решиться на преступление, Раскольников слышит в трактире за биллиардом разговор двух неизвестных лиц о старухе–процентщице, его будущей жертве: весь план убийства, все нравственные мотивы до последней подробности подсказаны ему как будто судьбой[347]. Незначительный факт, но он имеет огромное влияние на решимость Раскольникова; это — роковая случайность. Приблизительно в то же время, усталый и измученный, желая поскорей вернуться домой, но, неизвестно почему, делая большой ненужный крюк, он неожиданно попадает на Сенную и слышит разговор мещанина с Лизаветой, сожительницей старухи: мещанин назначает свидание по делу: «в семом часу, завтра». Стало быть, старуха останется одна. Всем существом своим он почувствовал, «что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли», что убийство решено окончательно[348]. Опять роковая случайность. В своей квартире он делает последние приготовления, вешает топор в петлю, пришитую внутри пальто. Как раз в этот момент «где‑то на дворе раздался чей‑то крик: семой час давно!» — «Давно, Боже мой!» — и он бросается на улицу. Автор прямо замечает: «Раскольников в последнее время стал суеверен… И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких‑то особых влияний и совпадений». Роковые случайности вовлекают его преступление, «точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать»[349].
Великий реалист и вместе с тем великий мистик, Достоевский чувствует призрачность реального: для него жизнь — только явление, только покров, за которым таится непостижимое и навеки скрытое от человеческого ума. Как будто нарочно он уничтожает границу между сном и действительностью. Некоторые фигуры, впоследствии яркие и живые, выступают сначала как будто из тумана, из сновидения: например, незнакомый мещанин, который на улице говорит Раскольникову «убивец»[350]. На следующий день этот мещанин кажется ему призраком, галлюцинацией, а потом опять превращается в живое лицо. То же самое происходит при первом появлении Свидригайлова[351]. Эта полуфантастическая фигура, оказывающаяся впоследствии самым реальным типом, возникает из сновидения, из смутных болезненных грез Раскольникова, который верит в его действительность так же мало, как в действительность таинственного мещанина. Он спрашивает своего товарища, студента Разумихина, о Свидригайлове: «Ты его точно видел? Ясно видел? — Ну, да, ясно помню; из тысячи узнаю, я памятлив на лица… — Гм… то‑то… — пробормотал Раскольников. — А то знаешь… мне подумалось… мне все кажется… что это, может быть, и фантазия… Может быть, я в самом деле помешанный и только — призрак видел»[352].
Эти особенности творчества придают картинам Достоевского, несмотря на будничную их обстановку, мрачный, тяжелый и вместе с тем обаятельный колорит — как будто грозовое освещение. В обыкновенных мелочах жизни открываются такие глубины, такие тайны, которых мы никогда не подозревали.
Не только присутствие рока в событиях придает рассказу Достоевского трагический пафос в античном смысле слова — этому впечатлению способствует еще и единство времени (тоже в античном смысле). В промежуток одного дня, иногда нескольких часов, события и катастрофы нагромождаются целыми массами. Роман Достоевского — не спокойный, плавно–развивающийся эпос, а собрание пятых актов многих трагедий. Нет медленного развития: все делается почти мгновенно, стремится неудержимо и страстно к одной цели — к концу.
В быстроте действия, в перевесе драматического элемента заключается причина того, что у Достоевского гораздо меньше культурных и бытовых подробностей, чем у более спокойных, эпических поэтов, каковы например Сервантес и Гончаров. Внешнюю культуру, бытовую сторону жизни, обыденные настроения людей — в Испании по Дон–Кихоту, в дореформенной России — по Обломову можно воспроизвести с гораздо большею точностью и полнотой, чем наши шестидесятые годы на основании Преступления и наказания.
Нельзя не упомянуть еще о городских пейзажах Достоевского. Он рисует их очень поверхностно, легкими штрихами, дает не самую картину, а только настроение картины. Иногда ему довольно двух–трех слов, намека на духоту, известку, леса, кирпич, пыль, на тот особенный летний запах, известный каждому петербуржцу, чтобы впечатление большого города возникло в нас с поразительною ясностью. Без всяких описаний Петербург чувствуется за каждою сценой романа.
Только изредка автор набрасывает несколько черт, когда надо определить и выдвинуть фон: «небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора… так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение… Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы: духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина»[353]. Вот другой мотив: «я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно–зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает совсем прямо без ветру… а сквозь него фонари с газом блистают»[354]. Иногда в ясный летний вечер у этого прозаического, печального города бывают как бы минуты умиления, тихой и кроткой задумчивости; в такой именно вечер Раскольников смотрел «на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где‑то в мансарде, по левой набережной, блиставшее, точно в пламени, от последнего солнечного луча, ударившего, в него на мгновение, на темневшую воду канавы»[355]. Нередко попадаются в описаниях Достоевского подробности изумительно художественные. Так, например, Раскольников входит в квартиру, где им совершено убийство: «Огромный, круглый, медно–красный месяц глядел прямо в окна. „Это от месяца такая тишина", — подумал он»[356].
Достоевский понимает поэзию города. В шуме столицы он находит такую же прелесть и тайну, как другие поэты в ропоте океана; они убегают от людей в «широкошумные дубровы»[357] — он бродит, одинокий, по улицам большого города; они глядят с вопросом на звездное небо — он смотрит в раздумье на осенние туманы Петербурга, озаренные бесчисленными огнями. В лесах, на берегу океана, под открытым небом все видели тайну, все чувствовали бездны природы, но в наших унылых прозаических городах никто, кроме Достоевского, не чувствовал так глубоко тайны человеческой жизни. Он первый показал, что поэзия городов не менее велика и таинственна, чем поэзия леса, океана и звездного неба.
II
«Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь — не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть — и сто жизней взамен: да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает»[358]. Вот слова, которыми сама судьба в лице незнакомого студента искушала Раскольникова в роковую для него минуту колебания. «Старушонка — вздор, — думает он впоследствии, — старуха, пожалуй, что и ошибка… только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил!»[359].
Преступление его идейное, т. е. вытекает не из личных целей, не из эгоизма, как более распространенный тип нарушения закона, а из некоторой теоретической и бескорыстной идеи, каковы бы ни были ее качества.
Умный Порфирий, судебный следователь, отлично это понимает: «тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай–с, когда помутилось сердце человеческое… Тут — книжные мечты–с, тут теоретически раздраженное сердце; убили по теории»[360].
В этой‑то теоретичности преступления и заключается весь ужас, весь трагизм положения Раскольникова. Для него закрыт последний исход согрешивших — раскаяние; для него — нет раскаяния, потому что и после убийства, когда угрызения жгут его, он продолжает верить в то, что оправдывает его убийство. — «Вот в чем одном признавал он свое преступление, только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною»[361]. Он убил принцип, и его преступление настолько глубже, сложнее и непоправимее обыкновенного эгоистического нарушения закона, например грабежа, что о последнем он мечтает, как о счастье. «Знаешь, что я тебе скажу, — признается он Соне, — если бы только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь… счастлив был! Знай ты это!»[362].
Самая отвлеченная, неутолимая и разрушительная из страстей — фанатизм, страсть идеи. Она создает великих аскетов, неуязвимых ни для каких искушений, она закаляет душу, дает ей почти сверхъестественные силы. Мгновенный огонь других страстей перед медленным, но непобедимым жаром фанатизма — все равно что горящая солома перед раскаленным металлом. Действительность не в состоянии дать фанатику ни одной минуты не только пресыщения, но даже временного утоления, потому что он преследует недостижимую цель — воплотить в жизни теоретический идеал. Чем более сознает он невозможность цели, неутолимость страсти, тем более ужесточается страсть. Есть что‑то поистине ужасающее и почти нечеловеческое в таких фанатиках идеи, как Робеспьер и Кальвин. Посылая на костер за Бога или под гильотину за свободу тысячи невинных, проливая кровь рекой, они искренно считают себя благодетелями человеческого рода и великими праведниками. Жизнь, страдания людей — для них ничто; теория, логическая формула — все. Они пролагают свой кровавый путь в человечестве так же неумолимо и бесстрастно, как лезвие ясной стали врезывается в живое тело.
К такому типу фанатиков идеи, к Робеспьерам, Кальвинам, Торквемадам, принадлежит и Раскольников, но не всецело, а только одною из сторон своего существа.
Он хотел бы быть одним из великих фанатиков — это его идеал.
У него есть, несомненно, общие с ними черты: то же высокомерие и презрение к людям, та же неумолимая жестокость логических выводов и готовность проводить их в жизнь какою бы то ни было ценой, тот же аскетический жар и мрачный восторг фанатизма, та же сила воли и веры. Уже после преступления, измученный, почти побежденный, он все еще верит в свою идею, он опьянен ее величием и красотой: «у меня тогда одна мысль выдумалась в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто–напросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я… Я захотел осмелиться, и убил… я только осмелиться захотел… вот вся причина!..»[363]. «И не деньги, главное, нужны мне были. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу ли преступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?..»[364]. Достоевский прямо отмечает в Раскольникове эту беспощадность и бездушие теории, свойственные фанатикам: «казуистика его, — говорит автор, — выточилась, как бритва»[365]. Даже мать, несмотря на любовь к сыну, чувствует в Раскольникове эту всеразрушающую силу страсти, которую в нем может зажечь только отвлеченная идея: «его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только пятнадцать лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что‑нибудь может сделать с собою такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать». «Вы думаете, его бы остановили мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски, наша нищета? Преспокойно бы перешагнул через все препятствия. А неужели он, неужели же он нас не любит?»[366].
Но фанатизм идеи только одна сторона его характера. В нем есть и нежность, и любовь, и жалость к людям, и слезы умиления.
Вот в чем его слабость, вот что его губит.
Разумихин говорит правду: в Раскольникове «точно два противоположные характера поочередно сменяются»[367]. В нем живут и борются две души. Он убивает и плачет, умиляется над своими жертвами; если не над старухой, то над Лизаветой с «кроткими и тихими» глазами[368]. А настоящие герои, великие преступники закона не плачут и не умиляются. Кальвин, Робеспьер, Торквемада не чувствовали чужих страданий — в этом их сила, их цельность; они как будто высечены из одной глыбы гранита, а в герое Достоевского есть уже вечный источник слабости — раздвоенность, расколотость воли. Эту слабость, погубившую его, он и сам сознает: «нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, добывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же, по смерти, ставят кумиры, а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»[369].
После преступления Раскольников содрогнулся не потому, что у него руки в крови, что он преступник, а потому, что он допустил сомнение: «не преступник ли он?». Это сомнение — признак слабости, и на него неспособны те, кто имеет право преступать закон. «Потому я… вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому, что сам‑то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!.. Да разве с этаким ужасом что‑нибудь может сравниться? О, пошлость! О, подлость! О, как я понимаю „пророка”: с саблей, на коне, велит Аллах, и повинуйся, „дрожащая тварь”! Прав, прав „пророк”, когда ставит где‑нибудь поперек улицы хор–р–р–ошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому, не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонке!»[370].
Горе великим преступникам закона, если в их душе, сожженной страстью идеи, сохранилось хоть что‑нибудь человеческое! Горе людям из бронзы, если хоть один уголок их сердца остался живым! Довольно слабого крика совести, чтобы они проснулись, поняли и погибли.
Байрон создал нового человека, новую героическую душу — в Корсаре, Чайльд–Гарольде, Каине, Манфреде. В то время в воздухе носились семена, зародыши тех настроений, которые сумел выразить поэт.
Жюльен Сорель, — герой великого, но, к сожалению, мало известного в России романа Стендаля Le Rouge et le Noir[371] [372] — по духу родной брат байроновских героев, хотя он создан совершенно самостоятельно, помимо влияния Байрона.
Манфред и Жюльен Сорель — родоначальники героев, наполнивших литературу XIX века, — отдаленные отпрыски их сложного генеалогического дерева простираются до нашего времени.
Вот характерные черты этих героев: все они — изгнанники из общества, живут с ним в непримиримом разладе, презирают людей, потому что люди рабы. Толпа ненавидит этих изгнанников, но они гордятся проклятьем толпы. В них есть что‑то хищное, нелюдимое и вместе с тем царственное. Как орлы вьют себе гнезда на недоступных скалах, так они живут далеко от людей, на одинокой высоте.
Начиная от самоотверженного участия к угнетенным, они нередко кончают пролитием невинной крови. Жюльен Сорель убивает женщину, которую любит. Человеческая кровь, преступление тяготеют на совести Корсара, Манфреда, Каина. Все это — преступники, непризнанные герои, «позволившие себе кровь по совести».
Я не вижу никакой связи между созданиями Байрона и романом Достоевского. Здесь не может быть речи о самом отдаленном влиянии. Но подобно тому как Гамлет — великий первообраз типов, которые встречаются и в наше время, в нашем обществе, — так и в Манфреде, и в Раскольникове есть нечто мировое, вечное, связанное с основами человеческой природы и вследствие этого повторяющееся в самых различных обстановках.
В герое Достоевского та же ненависть к толпе, тот же страстный протест против общества, как и в байроновских типах. Он тоже презирает людей, видит в них насекомых, которых «властелин» имеет право раздавить. Пролив кровь, он тоже считает себя не виноватым, а только непонятым. Когда Соня убеждает его покаяться, «принять страдание» и признаться во всем, он отвечает ей надменно: «Не будь ребенком, Соня… В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один лишь призрак… Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. Да и что я скажу? — что убил, а денег взять не посмел? Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду?., не пойду»[373]. Что для героев условная нравственность, когда вся жизнь людей сплошная жестокость и неправда?
«Преступление?.. Какое преступление?.. То, что я убил гадкую зловредную вошь, старушонку–процентщицу, которую убить сорок грехов простить, которая из бедных сок высасывала, — и это‑то преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю…» — «Брат, брат, что ты это говоришь? Но ведь ты кровь пролил!..» — в отчаянии вскричала Дуня (сестра Раскольникова). — «Которую все проливают! — подхватил он чуть не в исступлении, — которая льется и всегда лилась на свете, как водопад; которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии и называют благодетелем человечества… Я решительно не понимаю, почему лупить в людей бомбами, правильною осадой более почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признак бессилия». Его убийство не так красиво, но и зато не так преступно, как те законные убийства, которые позволяет себе общество. И эта грязная толпа, эта подлая чернь осмеливается судить героя, который мог бы их всех раздавить, если б удача была на его стороне. — «Неужели, — восклицает он в бешенстве, — в эти будущие пятнадцать–двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого‑то они и ссылают меня теперь, этого‑то им и надобно… Вот они снуют все по улице взад и вперед, ведь всякий‑то из них подлец и разбойник уже по натуре своей, хуже того — идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их ненавижу!»[374].
Хищное и гордое начало его природы возмущается. В сосредоточенной ненависти к людям он превзошел даже байроновских героев.
И однако, как они, Раскольников тоже иногда воображает, что любит людей, что нежность его отвергнута и непонята. Любовь его книжная, отвлеченная, холодная, — та же самая любовь, как у Манфреда и Жюльена Сореля. Он «для себя лишь хочет воли»[375]. Как байроновские герои, он аристократ до мозга костей, несмотря на свою бедность и унижение. В его поразительной красоте тоже есть признак «власти».
Этот тонкий и стройный молодой человек, с огненными черными глазами и бледным лицом, внушает им почтение или даже суеверный страх. Простые люди видят в нем что‑то «демоническое». Соня прямо говорит, что «Бог его предал дьяволу»[376]. Человек из толпы, Разумихин, сознавая его неправоту, преклоняется и почти трепещет перед ним. Как байроновские герои, он обладает громадной силой, но тратит ее без пользы, потому что он тоже слишком мечтатель, в нем тоже нет ничего практического, он презирает действительность.
Он любит одиночество: «я тогда, как паук, к себе в угол забился… О, как ненавидел я эту конуру! А все‑таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел!»[377].
Он и после поражения не считает себя побежденным. Когда все против него, когда спасения нет и он готов идти в полицию сделать явку с повинною, в нем пробуждается прежняя гордая вера, и он восклицает со страшною силой убеждения: «Более чем когда‑нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!» На утешения сестры, на слезы ее он отвечает надменно: «Не плачь обо мне — я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда‑нибудь мое имя. Я не осрамлю вас… увидишь; я еще докажу…»[378].
Но в Раскольникове нет уже ничего романтического: душа его освещена до глубины неумолимым психологическим анализом. Об идеализации тут не может быть и речи. Вместо крылатого духа, корсара или по крайней мере лорда — пред нами бедный студент, оставивший университет по недостатку средств, почти нищий.
Автор не думает скрывать или прикрашивать его слабости. Он показывает, что гордость, одиночество, преступление Раскольникова происходят не от силы и превосходства его над людьми, а, скорее, от недостатка любви и знания жизни. Прежний грандиозный и мрачный герой сведен с пьедестала и развенчан. Корсар, Жюльен постоянно рисуются, как будто играют роль, наивно верят в свою правоту и силу. А герой Достоевского уже сомневается, прав ли он. Те умирают непримиримыми, а для него это состояние гордого одиночества и разрыва с людьми только временный кризис, переход к другому миросозерцанию.
Он смеется над религиозным чувством и, однако, со слезами умиления просит Поличку помолиться за него, помянуть и «раба Родиона»[379]. С какою нежностью вспоминает он свою бывшую невесту, которую полюбил, как способны любить только люди очень самоотверженные — из сострадания. «Дурнушка такая… собой. Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется, за то, что всегда больная… Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил… Так… какой‑то бред весенний был…»[380]. Во сне Раскольникова, в котором отражаются воспоминания детства, — то же сострадание к несчастному и угнетенному существу: пьяные мужики секут бедную клячу, запряженную в огромную, тяжелую телегу. Мальчик «бежит подле лошаденки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет; сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику, который качает головой и осуждает все это». Наконец, лошаденку засекли до смерти. Она падает. «Бедный мальчик уже не помнит себя. С криками пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы»…[381].
Озлобленный и гордый, Раскольников способен иногда к величайшему смирению. Он идет в полицию сделать явку с повинною. В душе у него нет раскаяния; в ней только ужас и чувство одиночества. Он вдруг вспоминает слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „я убийца!” Он весь задрожал, припомнив все это… Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием»[382].
В Раскольникове крайнее развитие личности, одинокой, мятежной и восставшей против общества, достигло последней границы — той черты, за которою или гибель, или переход к другому миросозерцанию. Он дошел путем ожесточенного протеста до отрицания нравственных законов, до того, что наконец сверг с себя как ненужное бремя, как предрассудок все обязательства долга. Он «по совести позволил себе кровь». На людей смотрит он даже не как на рабов, а как на гадких насекомых, которых следует раздавить, если они мешают герою. На этой ледяной теоретической высоте, в этом одиночестве кончается всякая жизнь. И Раскольников неминуемо должен бы погибнуть, если бы в душе его не было скрыто другое начало. Достоевский довел его до момента, когда в нем пробуждается подавленное, но не убитое религиозное чувство.
Автор покидает героя в ту минуту, когда он на каторге в Сибири задумался над Евангелием, еще не смея открыть его.
III
Достоевский приводит в связь преступление Раскольникова с современным ему настроением общества и с господствовавшими в ту эпоху идеями. По поводу спора о том, следует ли с нравственной точки зрения оправдать убийство старухи–процентщицы ввиду пользы, которую можно принести посредством ее денег, автор замечает: «все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им, в других только формах и на другие темы, молодые разговоры и мысли»[383]. Раскольников участвует в литературном движении эпохи, в которую происходит действие романа, т. е. шестидесятых годов. Свои заветные мысли он высказывает в статье О преступлении, напечатанной в Периодической речи.
«По–моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких‑нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших этому открытию или ставших на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан… устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству»[384]. Вот убеждения Раскольникова во всей их резкой, теоретической наготе.
Вопрос этот сводится к другому, более глубокому и важному: что именно является критериумом добра и зла — наука ли, которая путем открытия неизменных законов определяет общую пользу и посредством ее дает оценку наших поступков, или же внутренний голос совести, чувство долга, вложенное в нас самих Творцом, божественный инстинкт, непогрешимый, не нуждающийся в помощи разума? Наука или религия?
Что выше — счастье людей или выполнение законов, предписываемых нашею совестью? Можно ли в частных случаях нарушить нравственные правила для достижения общего блага? Как бороться со злом и насилием — только идеями, или идеями и тоже насилием? — в этих вопросах боль и тоска нашего времени, и они составляют главную ось романа Достоевского. Таким образом, это произведение делается воплощением одной из великих болезней современной жизни: это гордиев узел, который разрубить суждено только героям будущих времен.
Соня возмущена, когда Раскольников предлагает ей отвлеченно–логический вопрос о сравнительной ценности двух жизней, негодяя Лужина и бедной, честной женщины Катерины Ивановны Мармеладовой.
«— Зачем спрашивать, чему быть невозможно? — с отвращением сказала Соня.
— Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости? Вы и этого решить не осмелились?
— Да ведь я Божья Промысла знать не могу… И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?»[385].
Соня чувствует бесконечную трудность и сложность жизни; она знает, что решать подобные вопросы нельзя исключительно на теоретической почве, заглушив в себе голос совести, потому что один уголок действительности может представить миллионы самых неожиданных конкретных случаев, которые спутают, собьют абстрактное решение, превратят его в нелепость: «с одною логикой, — восклицает Разумихин, — нельзя через натуры перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!»[386].
Но особенно ясно неверность и нелепость нравственной «арифметики» Раскольникова обнаруживается в непредвиденных последствиях преступления для окружающих людей. Разве Раскольников мог думать, что вместе со старухой ему придется убить не повинную ни в чем Лизавету, которая была, по выражению Сони, «справедливая и Бога узрит»[387]. Он «бросился на нее с топором»… Бедная Лизавета гибнет потому, что герой сделал маленькую ошибку в своем арифметическом расчете.
Нравственно ему совершенно так же придется губить и Соню в минуту, когда он признается ей во всем. Такое же неожиданное следствие преступления — попытка самоубийства мужика, случайно заподозренного в убийстве. Дуня, которую он надеялся спасти от Свидригайлова на деньги старухи, оказывается именно благодаря преступлению в руках Свидригайлова: этот последний узнал, что Раскольников — убийца, и открытие тайны дало ему страшную власть над Дуней. Разве, наконец, мог он предвидеть, что мать его умрет от невыносимого сознания, что сын ее — убийца.
В теории существование старухи бесполезно и даже вредно — можно было, по–видимому, так же легко и спокойно зачеркнуть его, как зачеркивают лишние слова в написанной фразе. Но в действительности жизнь никому не нужного существа тысячами невидимых и недоступных анализу нитей оказалась связанною с жизнью людей, совершенно ей чуждых, начиная от маляра Николки и кончая матерью Раскольникова. Значит, не совсем был не прав голос совести, говоривший ему: «не убий!» — голос сердца, который он презрел с высоты своих отвлеченных теорий; значит, нельзя всецело предаться разуму и логике, решая нравственный вопрос. Оправдание божественного инстинкта сердца, который отрицается гордым и помраченным рассудком, а не истинным знанием, — вот одна из великих идей романа.
В жизни ужаснее всего не зло, даже не победа зла над добром, потому что можно надеяться, что эта победа временная, а тот роковой закон, по которому зло и добро иногда в одном и том же поступке, в одной и той же душе так смешаны, слиты, спутаны и переплетены, что почти невозможно отличить их друг от друга. Зло и порок обладают не только громадною силою искушения в нашей чувственной природе, но и громадною силою софизма в нашем уме. Первобытные духи зла, несмотря на свои чудовищные атрибуты, не так ужасны, как Мефистофель, который берет у человечества самое опасное и тонкое оружие — смех, как Люфицер, который берет у неба самый чистый и светлый луч — красоту.
Вечный спор Ангела и Демона происходит в нашей собственной совести, и ужаснее всего то, что мы иногда не знаем, кого из них больше любим, кому больше желаем победы. Не только наслаждениями привлекает Демон, а еще и соблазном своей правоты: мы сомневаемся, не есть ли он непонятая часть, непризнанная сторона истины. Слабое, гордое сердце не может не откликнуться на возмущение, непокорность и свободу Люцифера.
Все три основные, параллельно развивающиеся завязки романа — драма Раскольникова, Сони и Дуни, стремятся в сущности к одной цели — показать загадочное, роковое смешение в жизни добра и зла.
Раскольников стремится к добру посредством зла, преступает нравственный закон во имя общего блага. Но разве не то же самое делает сестра его Дуня? Она продает себя Лужину, чтобы спасти брата. Подобно тому как Раскольников приносит в жертву чужую жизнь во имя любви к людям, так она во имя любви к нему жертвует своею совестью. «Дело ясное, — восклицает Раскольников в негодовании, — для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти не продаст, а для другого вот и продаст! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чем вся наша шутка‑то и состоит: за брата, за мать продаст! Все продаст! О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим: свободу, спокойствие, даже совесть — все, все на Толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь!.. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно, надо для доброй цели»[388]. Раскольников видит ясно ошибку Дуни, но он не замечает, что это и его собственная ошибка, что он тоже для доброй цели решился на недобрый поступок. «Этот брак — подлость, — говорит он Дуне. — Пусть я подлец, а ты не должна… один кто‑нибудь… а я хоть и подлец, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я, или Лужин!..»[389].
Он называет себя подлецом, а Порфирий видит в нем мученика, еще не нашедшего Бога, за которого бы умереть. Дуню Раскольников упрекает тоже в подлости. Может быть, он прав, но к этой подлости примешивается высокий героизм: она, как брат, наполовину преступница, наполовину святая. «Знаете, — говорит Свидригайлов, который вовсе не склонен к идеализму, — мне всегда было жаль с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где‑нибудь дочерью владетельного князька или там какого‑нибудь правителя или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество и уж, конечно бы, улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в четвертом и пятом веках ушла бы в Египетскую пустыню и жила бы там тридцать лет, питаясь кореньями, восторгами и видениями. Сама она только того и жаждет, и требует, чтобы за кого‑нибудь муку поскорее принять, а не дай ей этой муки, так она, пожалуй, и в окно выскочит»[390].
Соня Мармеладова — тоже мученица. Она продает себя, чтобы спасти семью. Как Раскольников и Дуня, она «преступила закон», согрешила во имя любви, тоже хочет злом достигнуть добра. «Ты великая грешница, — говорит ей Раскольников, — пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне, наконец, — проговорил он почти в исступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?»[391].
И опять‑таки в этом приговоре над Соней он произносит приговор и самому себе — и он тоже понапрасну умертвил свою совесть, и он живет в грязи и подлости преступления, и в нем «позор» совмещается со «святыми чувствами».
Раскольников сознает, что у него с Соней в сущности общая вина: «пойдем вместе, — говорит он ей восторженно, — мы вместе прокляты, вместе и пойдем!»… — «Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад». — «Почему же я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель!» — т. е. искупить преступление. «Разве ты не то же сделала, — продолжал он, — ты тоже преступила… смогла преступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… свою (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной… Но ты выдержать не можешь и, если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уже теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти по одной дороге! Пойдем!»[392].
Соня — преступница, но в ней есть и святая, как в Дуне есть мученица, в Раскольникове — подвижник. Недаром каторжники в Сибири смотрели на Соню как на мать, как на спасительницу; она является им в ореоле почти сверхъестественной красоты, бледная, слабая, кроткая, с голубыми тихими глазами.
Есть в романе еще одно лицо, примыкающее к основной идее, лицо самое художественное и глубокое изо всех, не исключая и Раскольникова, это — Свидригайлов. Его характер создан из поразительных контрастов, из самых резких противоречий, и, несмотря на это, а может быть, благодаря этому, он до такой степени живой, что нельзя отделаться от странного впечатления, что Свидригайлов больше, чем лицо романа, что когда‑то знал его, видел, слышал звук его голоса.
Он циник до мозга костей.
Когда Раскольников кричит, не помня себя от негодования, чувствуя, что Свидригайлов сейчас оскорбит его сестру: «оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек!», — Свидригайлов восклицает радостно: «Шиллер‑то, Шиллер‑то наш, Шиллер‑то! La vertu, ой va‑t‑elle se nicher?[393] А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивания. Наслаждение». Он признается Раскольникову, что в деревне его «до смерти замучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках, в которых, кто знает, тот много может найти, черт возьми!» В прошлом Свидригайлова оказывается «уголовное дело с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь»[394].
И тот же Свидригайлов способен на рыцарское великодушие. С гнусною целью он заманил себе в комнату Дуню, которую любил странною, безграничною любовью, где столько грубого и чувственного и, может быть, еще больше высокого и самоотверженного. Двери заперты; ключ в кармане Свидригайлова. Она в его полной власти. Тогда Дуня вынимает револьвер. «Он ступил шаг, и выстрел раздался. Но пуля только оцарапала его».
«— Ну, что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как‑то мрачно, — этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!..
— Оставьте меня! — проговорила она в отчаянии, — клянусь, я опять выстрелю… Я убью…
— Ну, что ж… в трех шагах нельзя не убить. Ну, а не убьете… тогда…
Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага. Дунечка выстрелила — осечка!
— Зарядили неаккуратно! Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду. Но она вдруг бросила револьвер.
— Отпусти меня! — умоляя, сказала Дуня. Свидригайлов вздрогнул…
— Так не любишь? — тихо спросил он. Дуня отрицательно покачала головой. — И… не можешь?.. Никогда?.. — с отчаянием прошептал он.
— Никогда!..
Прошло мгновение ужасной немой борьбы в душе Свидригайлова… Вдруг он быстро отошел к окну и стал перед ним. Прошло еще мгновение.
— Вот ключ!.. Берите; уходите скорей! — Он упорно смотрел в окно. Дуня подошла к столу и взяла ключ. — Скорей! Скорей! — повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь.
Но в этом „скорей”, видно, прозвучала какая‑то страшная нотка. Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты… Когда она ушла, странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния»[395].
На следующий день, на рассвете, он убил себя.
Раскольников сознательно преступил закон во имя идеи. Свидригайлов тоже сознательно преступает закон, но не для идеи, а для наслаждений. Раскольников увлечен софизмами зла, Свидригайлов — его искушениями. «В этом разврате, — говорит он, — есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще и с летами, может быть, не так скоро зальешь»[396].
«Мне все кажется, — уверяет он Раскольникова, — что в вас есть что‑то к моему подходящее»[397]. Свидригайлов даже прямо сочувствует его теории, что можно преступить закон во имя общего блага. После долгого разговора с Раскольниковым он радостно восклицает: «ну, не правду я сказал, что мы одного поля ягоды/»[398]. Оба они — преступники, у обоих громадная сила воли, мужество и сознание, что они рождены для чего‑то лучшего, а не для преступления; оба одиноки в толпе, оба мечтатели, оба выброшены из обычных условий жизни — один безумною страстью, другой — безумною идеей.
В чистой и святой девушке — в Дуне, открывается возможность зла и преступления: она готова продать себя, как Соня. В развратном, погибшем человеке — в Свидригайлове, открывается возможность добра и подвига. Здесь тот же основной мотив романа: вечная загадка жизни, смешение добра и зла.
Отставной чиновник Мармеладов — горький пьяница. Дочь его Соня идет на улицу и отдается первому встречному, чтобы получить несколько десятков рублей на пропитание семьи, которой иначе грозила бы голодная смерть. «Да–с… а я… лежал пьянень–кой–с»… — рассказывает Мармеладов. Он пропивает последние гроши, которые дочь его зарабатывала развратом, и с каким‑то страшным вдохновением цинизма рассказывает в кабаке среди пьяных, издевающихся над ним гуляк почти незнакомому человеку о «желтом билете» Сонички. «Пожалеет нас Тот, — говорит Мармеладов, — Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он Единый, Он и Судия. Приидет в тот день и спросит: „А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?” И скажет: „Прииде…” и простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит… И всех рассудит и простит: и добрых, и злых, и премудрых, и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: „Выходите, — скажет, — и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники!” И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: „Свиньи вы. Образа звериного и печати его, но приидите и вы!” И возгласитят премудрые, возглаголят разумные: „Господи! Почто их приемлиши?” И скажет: „Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего”. И прострет к нам руци Свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем! Тогда все поймем… и все поймут… Господи, да приидет царствие Твое/»[399].
Если столько веры и любви таится в человеке, так низко павшем, кто осмелится сказать про своего ближнего: «он — преступник».
Дуня, Раскольников, Соня, Мармеладов, Свидригайлов — как решить, кто они: добрые или злые? Что следует из этого рокового закона жизни, из необходимого смешения добра и зла? Когда так знаешь людей, как автор «Преступления и наказания», разве можно судить их, разве можно сказать: «Вот этот грешен, а этот праведен»? Разве преступление и святость не слиты в живой душе человека в одну живую неразрешимую тайну? Нельзя любить людей за то, что они праведны, потому что никто не праведен, кроме Бога: и в чистой душе, как у Дуни, и в великом самопожертвовании, как у Сони, таится зерно преступности. Нельзя ненавидеть людей за то, что они порочны, потому что нет такого падения, в котором душа человеческая не сохранила бы отблеска божественной красоты. Не «мера за меру», не справедливость — основа нашей жизни, а любовь к Богу и милосердие.
Достоевский, — этот величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока, вместе с тем величайший поэт евангельской любви. Любовью дышит вся его книга, любовь — ее огонь, ее душа и поэзия.
Он понял, что наше оправдание пред Высшим Существом — не в делах, не в подвигах, а в вере и в любви. Много ли таких, чья жизнь не была бы преступлением, достойным наказания? Праведен не тот, кто гордится своей силой, умом, знаниями, подвигами, чистотой, потому что все это может соединяться с презрением и ненавистью к людям, а праведен тот, кто больше всех сознает свою человеческую слабость и порочность, и потому больше всех жалеет и любит людей. У каждого из нас — равно у доброго и злого, у глупого маляра Миколки, ищущего, за что бы «пострадать», и у развратного Свидригайлова, у нигилиста Раскольникова и у блудницы Сони, — у всех где‑то там, иногда далеко от жизни, в самой глубине души, таится один порыв, одна молитва, которая оправдает человечество перед Богом.
Это — молитва пьяницы Мармеладова: «да приидет царствие Твое!»
I
Однажды на Индейском океане, близ мыса Доброй Надежды, Гончарову пришлось испытать сильный шторм. «Шторм был классический, по всей форме, — рассказывает он, — в течение вечера приходили раза два за мной сверху звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из‑за туч луна озаряет море и корабль, а с другой нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уже было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи»… Но не удалось. Вода случайно проникла через открытые люки в каюту. Делать нечего, он неохотно поднялся и пошел на палубу. «Я смотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.
— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.
— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя, весь мокрый, в каюту переменить обувь и белье»[400].
Эта маленькая сцена чрезвычайно характерна для творца Обломова. Люди привыкли восхищаться необычайным, поражающим, редким в природе и в жизни. Гончаров, проходя равнодушно мимо ярких эффектов, относится гораздо внимательнее и любовнее к простому и будничному. «Зачем оно, это дикое и грандиозное? — спрашивает он себя при созерцании мирной обломовской природы, — море, например? Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод»…[401]. Поэт, влюбленный в действительность, в земной мир, чувствует себя подавленным величием моря. Оно ему чуждо со своей неразгаданной песнью о чем‑то таинственном и темном, лежащем за гранью жизни. Горы и пропасти тоже привлекают его мало. «Они созданы, — говорит он, — не для увеселения человека. Они грозны, страшны». И он обращается с любовью к тихому уголку будничной обломовской природы.
Небо там, — в благословенной Обломовке, «ближе жмется к земле, но не с тем чтобы метать сильные стрелы, а разве только чтобы обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод… Сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастием. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до седины волос и незаметную, сну подобную, смерть»[402].
Вот природа, как ни один из новых поэтов не понимает ее — природа, лишенная тайны, ограниченная и прекрасная, какой представляли ее древние: декорация для идиллии Феокритовских пастухов[403] или, еще лучше, для счастья патриархальных помещиков.
Когда Гончаров видит дикое, не тронутое рукой человека место, ему не по себе, неуютно, он хочет населить нелюдимую природу, украсить ее следами человеческой цивилизации.
Близ Нагасаки смотрит он на пустынные берега Японии: «Вон тот холм, как он ни зелен, ни приютен, но ему чего‑то недостает; он должен бы быть увенчан белой колоннадой с портиком или виллой, с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю, да пристань, у которой шипели бы пароходы и громоздились люди… Здесь бы хорошо быть складочным магазинам, перед которыми теснились бы суда с лесом мачт»…[404].
Вспомните великих романтиков, изгнанников из общества, вроде Байрона или Лермонтова. Природа им казалась прекрасной только тогда, когда она не тронута, не оскорблена рукою человека. Конечно, не пожелали бы они складочных магазинов и дыма пароходов в диком, первобытном пейзаже. Они радуются, что в пустыне, внемлющей Богу[405], не раздается «в торжественный хваленья час лишь человека гордый глас»[406]. Для Лермонтова «звуков небес заменить не могли скучные песни земли»[407]; для Гончарова на земле — все, вся его любовь, вся его жизнь. Он не рвется от земли, он крепко привязан к ней и, подобно античным поэтам, видит в ней свою родину; прекрасный, уютный человеческий мир он не согласится отдать за звездные пространства неба, за чуждые тайны природы.
Цельность и крепость души его не надломлены современным недугом. Гончаров рассудком понимает пессимизм. Но в сердце, в плоть и в кровь его не проникла ни одна капля яда. Романтическая грусть Ольги в третьей части Обломова так же далека от скорби, разрушающей все радости жизни, как тень летнего облачка далека от байроновской Тьмы, поглотившей мир[408].
Степень оптимизма писателя лучше всего определяется его отношением к смерти. Гончаров почти не думает о ней. В Обыкновенной истории ему пришлось говорить, как умерла мать Александра Адуева. Эта женщина — живой, яркий характер и занимает важное место в романе. Сын присутствует при смерти. А между тем о кончине ее два слова: «она умерла». Ни одной подробности, ни одного ощущения, никакой обстановки! И так Гончаров пишет в эпоху, когда ужас смерти составляет один из преобладающих мотивов литературы.
В счастливой Обломовке смерть — такой же прекрасный обряд, такая же идиллия, как и жизнь. Это, кажется, — та самая «безболезненная, мирная кончина живота»[409], о которой молятся верующие. Адуев во втором своем периоде — примирения с жизнью, рассуждает так: «не страшна и смерть — она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие»…[410].
Обломов умер мгновенно, от апоплексического удара; никто и не видел, как он незаметно перешел в другой мир. Хозяйка «застала его, так же кротко покоящегося на одре смерти, как на ложе сна»… «Что же стало с Обломовым? — спрашивает автор. — Где он? где? На ближайшем кладбище, под скромной урной, покоится его тело между кустов, в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его»[411]. Вот спокойный взгляд на смерть, каким он был в древности, у простых и здоровых людей. Смерть — только вечер жизни, когда легкие тени Элизиума[412] слетают на очи и смежают их для вечного сна.
Александр Адуев, человек еще молодой, но пресыщенный жизнью, входит в старую деревенскую церковь. Тихое вечернее солнце озаряло иконы… Свежий ветерок врывался в окно… Вверху, в куполе, звучно кричали галки и чирикали воробьи… «В душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью слова молитвы, как она твердила ему об ангеле–хранителе… как она, указывая ему на звезды, говорила, что это — очи Божьих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это — Сион»…[413].
Вот религия, как она представляется Гончарову, — религия, которая не мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства.
По изумительной трезвости взгляда на мир Гончаров приближается к Пушкину. Тургенев опьянен красотой, Достоевский — страданиями людей, Лев Толстой — жаждой истины, и все они созерцают жизнь с собственной точки зрения. Действительность немного искажается, как очертания предметов на взволнованной поверхности воды.
У Гончарова нет опьянения. В его душе жизнь рисуется невозмутимо–ясно, как мельчайшие былинки и далекие звезды отражаются в лесном глубоком роднике, защищенном от ветра. Трезвость, простота и здоровье могучего таланта имеют в себе что‑то освежающее. Как бы ни были прекрасны создания других современных писателей, в них почти всегда есть какой‑нибудь темный угол, откуда веет на читателя холодом и ужасом. Таких страшных углов нет у Гончарова. Все огромное здание его эпопеи озарено ровным светом разумной любви к человеческой жизни.
А между тем он понимает не меньше других ее темную сторону. Наивный романтик, Александр Адуев, влюбленный в стихи, луну и Шиллера, свято верующий в любовь, дружбу и бескорыстие людей, приезжает из провинциальной глуши в Петербург. Он влюбляется. Любовь изменяет раз, два… потом изменяет дружба. Бедный романтик не выдерживает, приходит в отчаяние. В эпилоге у бывшего поклонника Шиллера — плешь, почтенное брюшко, начало геморроя, прекрасное жалование и богатая невеста. «Ты, кажется, идешь по моим следам?» — спрашивает его дядя, чиновник–карьерист. — «Приятно бы, дядюшка! — Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника. — И карьера, и фортуна! — говорил он почти про себя, любуясь им… Александр, — гордо, торжественно прибавил он, — ты моя кровь, ты Адуев! Так и быть, обними меня!».
Тот же трагизм пошлости, спокойный, будничный трагизм — основная тема Обломова. Илья Ильич возвращается домой, навеки расставшись с Ольгой. Он убит горем — таким, от которого люди умирают. Любовь, т. е. последняя надежда выкарабкаться из пошлости, исчезла. Он знает, что теперь ему нет спасения от апатии, от лени, от нравственного падения. Он должен погибнуть. Обломов «почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него халат.
— Что это? — спросил он только, поглядев на халат.
— Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халат, сказал Захар… Обломов, как сел, так и остался в кресле»[414].
Но вот чистый образ Веры. Он стоит также высоко над будничной жизнью, что, конечно, пошлость не посмеет запятнать его.
Но мутная волна захлестнула и Веру, эту гордую весталку, «мерцающую, таинственную ночь», как называет ее Гончаров[415]. Падение, грех сводят Веру с пьедестала. Богиня развенчана.
Пошлость, торжествующая над чистотой сердца, любовью, идеалами, — вот для Гончарова основной трагизм жизни. Другие поэты действуют на читателя смертью, муками, великими страстями героев, он потрясает нас — самодовольной улыбкой начинающего карьериста, халатом Обломова, промокшими ботинками Веры в ту страшную ночь, когда она вернулась от обрыва, от Волохова…
Юмор Грибоедова и Гоголя почти совсем иссяк в русской литературе.
Вместо прежнего смеха у Тургенева, Толстого, Достоевского кое–где слабая улыбка, болезненная, как луч солнца в северную осень; у Щедрина резкий, желчный хохот.
Гончаров в этом случае представляет отрадное исключение. Он первый великий юморист после Гоголя и Грибоедова. Захар, слуга Обломова, навеки останется воплощением крепостного права, всего смешного и жалкого, чем рабство сказывается в людях. Бесконечная вереница слуг — Василиса, Евсей, Анисья, Марина, Егорка, Улита, наконец, сам Обломов — все эти фигуры, не уступающие созданиям Гоголя, озарены высоким комизмом, который дает не меньшее наслаждение, чем идеальная красота.
Гомер в своих описаниях подолгу останавливался с особенною любовью на прозаических подробностях жизни. Он до мельчайших деталей изображает, как спят, одеваются. Для Гомера нет некрасивого в жизни. Так же наивно и просто, как он говорит о смерти великих мужей, о совете богов, о разрушении Трои, он рассказывает о грязном платье, которое отправилась мыть на речку царская дочь Навзикая с рабынями; он с детским простодушием описывает, как
Начали платья они полоскать, и потом, дочиста их
Вымыв, по взморью на млекоблестящем хряще, наносимом
На берег плоский морскою волною, их все разостлали[416].
Такая же античная любовь к будничной стороне жизни, такая же способность одним прикосновением преображать прозу действительности в поэзию и красоту составляют характерную черту Пушкина и Гончарова.
Перечтите Сон Обломова[417]. Еда, чаепитие, заказывание кушаний, болтовня, забавы старосветских помещиков принимают здесь гомеровские идеальные очертания.
Вот как изображается смех этих счастливых людей: «Хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичей, объял весь дом, все вспоминают забавный случай, все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто‑нибудь подхватит опять — и пошло писать»[418]. И дальше почти на целой странице описывается этот гомерический хохот. Патриархальные нравы обломовских помещиков до такой степени фантастичны, несовременны и своими эпическими размерами напоминают сказку, что читатель нисколько не удивляется, когда Гончаров прямо из Обломовки переносит его в героическую среду древнерусских сказаний и былин.
Как все это непохоже на легкую, поверхностную манеру, на полунебрежный стиль современных романистов! Кажется, что творец Обломова покидает здесь перо и берется за древнюю лиру; он уже не описывает — он воспевает нравы обломовцев, которых недаром приравнивает к «олимпийским богам».
Гончаров описывает комнату Обломова. Мы едва взглянули на героя, не слышали из уст его ни одного слова, но уже знакомы с ним по мельчайшим подробностям обстановки: по этой паутине, фестонами лепящейся около картин, по запыленным зеркалам, по пятнам на коврах, по забытому на диване полотенцу, по тарелке на столе, не убранной от вчерашнего ужина, с солонкой и с обглоданной косточкой, по пыльным и пожелтевшим страницам давно развернутой и давно не читанной книги, по номеру прошлогодней газеты, по чернильнице, из которой, «если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха»[419]. Окраска характера так сильна, что она кидает свой отблеск на все приближающиеся предметы.
Вот спальня молодой аристократки. «Если книга в богатом переплете оказывалась лежащею на диване, на стуле, — Надежда Васильевна (старая тетка) ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, — Анна Васильевна (другая тетка) находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет»[420].
Софья Николаевна Беловодова, «Венера Невы, окруженная крещенским холодом»[421], могла бы не появляться — мы уже чувствуем ее аристократическую чопорность, строгую обрядность жизни по этой тяжелой завесе, падающей на луч солнца, так же, как чуется нам лень, апатия, беспорядочность русского барина во вчерашней тарелке Обломова с обглоданной косточкой. Что может быть по–видимому значительного и характерного в том, как человек одевает туфли, а между тем Гончаров влагает в эту мелочь столько же содержания, сколько другие поэты в целые события, монологи, катастрофы.
«Когда на душе Обломова было спокойно и тихо, когда жизнь его не трогала, и Штольц не звал к деятельности, вставая с постели, он, не глядя, привычным движением попадал ногами прямо в туфли». Но в нем пробудились сомнения, заговорило раскаяние. «Теперь или никогда!» «Быть или не быть!» — рассуждает он. И вот Илья Ильич «приподнялся было с кресла, но не попал сразу в туфлю и сел опять»[422].
Каждый из характеров, созданных Гончаровым, — идеальное обобщение человеческой природы. Скрытая идея поднимает на недостижимую высоту мелкие подробности быта, делает их прекрасными и ценными.
Гончаров показывает нам не только влияние характера на среду, на все мелочи бытовой обстановки, но и, обратно, — влияние среды на характер.
Он следит, как мягкие степные очертания холмов, как жаркое «румяное» солнце Обломовки отразились на мечтательном, ленивом и кротком характере Ильи Ильича; как сырость, холод и мрак глубоких ледников и рабская должность сказались на нелюдимом, сосредоточенном нраве старой ключницы Улиты, этого полуфантастического крепостного гнома. Он выяснил до неуловимых мелочей влияние такого явления, как крепостное право, на привычки, страсти, идеалы нескольких поколений.
Гончаров разлагает ткань жизни до ее первоначальной клетки, но вместе с тем он обладает могучей способностью творческого синтеза: воображение его создает отдельные миры эпопей и потом соединяет их в стройные системы. Он показывает, что одним и тем же законам добра и зла, любви и ненависти, которые производят в истории перевороты, подчинены и мельчайшие атомы жизни.
Обыкновенная история — первое произведение Гончарова — громадный росток, только что пробившийся из земли, еще не окрепший, зеленый, но переполненный свежими соками. Потом на могучем отростке, один за другим, распускаются два великолепных цветка — Обломов и Обрыв. Все три произведения — один эпос, одна жизнь, одно растение. Когда приближаешься к нему, видишь, что по его колоссальным лепесткам рассыпана целая роса едва заметных капель, драгоценных художественных мелочей. И не знаешь, чем больше любоваться — красотой ли всего гигантского растения, или же этими мелкими каплями, в которых отражаются солнце, земля и небо.
II
Помещица Адуева в Обыкновенной истории, отправляя любимого сына в Петербург, поручает его заботам дяди. Среди прочих наивных просьб о милом Сашеньке она дает наставление петербургскому чиновнику — «Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется: вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдет; а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро»[423]. Эта черта любви, соединенной с умственной ограниченностью, сразу определяет характер воспитания Александра. В том же письме, через несколько строк, говорится о крепостном человеке, лакее молодого барина: «присмотрите за Евсеем: он смирный и непьющий, да, пожалуй, там, в столице, избалуется — тогда можно и посечь»[424]. Растлевающее влияние крепостного права, впитавшееся в плоть и в кровь целых поколений, и теплая, расслабляющая атмосфера семейной любви — таковы условия, в которых проходят детские и отроческие годы Александра Адуева, Райского, Обломова.
Праздность, сделавшаяся не только привычкой, но возведенная в принцип, в исключительную привилегию людей умных и талантливых — вот результат этого воспитания.
Александр приехал в Петербург, по собственному признанию, чтобы жить и «пользоваться жизнью», причем «трудиться казалось ему странным»[425]. Когда из редакции вернули молодому автору рукопись, он сказал себе: «нет! если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так не хочу я и труженичества: в этом судьба меня не переломит!»[426]. В работе видит он несомненный признак отсутствия таланта, искры божией и вдохновения. От подобных взглядов один шаг до обломовского халата. Шаг этот сделан Александром после двух–трех неудач в любви и литературе. «Узкий щегольский фрак, — говорит автор, — он заменил широким халатом домашней работы»[427]. «Я стремиться выше не хочу, — рассуждает он с дядей, — я хочу так остаться, как есть… Нашел простых людей, нужды нет, что ограниченных умом, играю с ними в шашки и ужу рыбу — и прекрасно!.. Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным»[428]. Вот целиком обломовская программа жизни. Александр Адуев — это Илья Ильич в молодости, и притом в более ранний период русской жизни. Интересно наблюдать на первообразе Обломова отблеск модных в те времена байроновских идей — связь Обломова с героями Лермонтова и Пушкина. «Без малого в осьмнадцать лет»[429], Адуев уже «разочарован» и говорит о жизни с пренебрежением, подражая Печорину и Онегину.
Обломов проще: у него нет напускного байронизма и фразерства. В хорошие минуты он глубоко сознает свое нравственное падение. Александр Адуев в эпилоге радуется «фортуне, карьере и богатой невесте»: самодовольная пошлость противнее в нем обломовского сна и апатии.
«Илье Ильичу, — говорит автор, — доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в иную пору плакал над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безымянные страдания и тоску, стремление куда‑то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его»…[430]. Но вместе с тем у него со слугою происходят такие сцены: как‑то Захар имел несчастие в разговоре о переезде с квартиры заикнуться, что «другие, мол, не хуже нас, а переезжают», — следовательно, и нам нечего беспокоиться. Илья Ильич страшно рассердился. «Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому…».
«Я — другой! Да разве я мечусь, разве работаю? мало ем, что ли? худощав или жалок на вид?.. Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу!.. Я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался»…
Как все это примирить с благородными слезами Ильи Ильича, плачущего над бедствиями человечества? Не правдивее ли «безымянных страданий» другие, более конкретные мечты ленивого барина: «…ему видятся все ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень»[431].
Если у него нет ничего искреннего, кроме мечтаний о подобном счастье, к чему лицемерие — «высокие помыслы»? Читатель готов произнести Обломову жестокий и бесповоротный приговор.
Но он переходит к сцене, где Илья Ильич навеки прощается с Ольгой; она говорит ему: «я любила будущего Обломова! Ты кроток, чист, Илья; ты нежен… как голубь; ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего‑то еще, а чего — не знаю! Можешь ли научить меня, сказать, что это такое, чего мне недостает, дать это все, чтоб я… А нежность… где ее нет!» У Обломова подкосились ноги… Слово было жестоко; оно глубоко уязвило Обломова… Он в ответ улыбнулся как‑то жалко, болезненно–стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнений и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: «да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!..»[432].
Произнесет ли читатель и теперь над несчастным человеком едва не сорвавшийся с уст приговор? Разве какой‑нибудь Штольц, гордый своими совершенствами, возбуждает столько любви и человеческой симпатии, как бедный Илья Ильич?
Райский — воплощение и развитие созерцательной, артистической стороны обломовского типа. Такие мягкие, впечатлительные и ленивые натуры — благодатная почва для художественного педантизма. Райский — эстетик, воспитанный в духе сороковых годов. «Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты», он «покорялся ей до рабства, был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток ко всякому безобразию»[433].
Но, несмотря на странное поклонение красоте, из Райского настоящего художника никогда не выйдет вследствие той же обломовской лени и привычки жить «на всем готовом». С обычной, несколько циничной манерой Марк Волохов предсказывает Райскому: «нет, из вас ничего не выйдет, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть: все пропали или спились с кругу… Это все неудачники»[434]. Бабушка замечает про него: «ни Богу свечка, ни черту кочерга». Да и сам Райский сознает свою обломовщину: «я урод… я больной, ненормальный человек, и притом я отжил, испортил, исказил… или нет, не понял своей жизни»[435].
У Райского, как и у Обломова, есть «высокие помыслы» и «слезы о бедствиях человечества», которые тоже находятся в непримиримом противоречии с характером и жизнью дилетанта.
Характер Райского задуман широко и сложно. Настроения его до такой степени изменчивы и прихотливы, что в нем нельзя ни на чем остановиться, ничего предсказать. Он создан весь из тонких переплетенных и запутанных противоречий. Поэту, изобразившему подобный характер, пришлось бороться с такими же трудностями, как живописцу, который задумал бы нанести на полотно радугу: неуловимая нежность тонов, мимолетность, бесчисленность оттенков и отблесков.
При смене двух исторических эпох являются характеры, принадлежащие той и другой, нецельные, раздвоенные. Их убеждения, верования принадлежат новому времени; привычки, темперамент — прошлому. Побеждает в большинстве случаев не разум, а инстинкт; не убеждения, а темперамент; отжившее торжествует над живым, и человек гибнет жертвой этой борьбы. Так гибнет в пошлости Александр Адуев, в апатии — Обломов, в дилетантизме — Райский.
Один из основных мотивов Гончарова — сопоставление с этими праздными, нерешительными характерами личностей деятельных, резких, с твердой до жестокости волей. Волохов сопоставлен с Райским в Обрыве. Штольц — с Обломовым, дядя — с Александром в Обыкновенной истории. Как ни отличен чиновник Адуев от нигилиста Волохова и этот последний от аккуратного, добродетельного немца Штольца, у всех троих есть общая черта: рассудок у них преобладает над чувством, расчет над голосом сердца, практичность над воображением, способность к действию над способностью к созерцанию.
Слова, которыми Александр характеризует своего дядю, можно вполне применить и к Штольцу, и даже отчасти к Волохову: «Дядя любит заниматься делом, что советует и мне». «Мы принадлежим к обществу, — говорит он, — которое нуждается в нас». «Занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги — комфорт, который он очень любит»[436].
Штольц также весьма дорожит комфортом. В сущности его буржуазное счастие с Ольгой ничем не лучше «фортуны» чиновника Адуева.
Но ведь и Марк Волохов, несмотря на ожесточенный протест, скорее циник, чем аскет, и он не прочь от удовольствий комфорта — курит с наслаждением дорогие сигары Райского. Волохов прямо объявляет Вере, что материальную сторону любви ставит выше нравственной; в конечном идеале общечеловеческого счастья, за который борется он с такой убежденностью, на первом плане стоят материальные блага, тот же комфорт, те же вкусные сигары барина Райского, только доступные большому числу людей.
Все замечали, да и сам автор сознается, что немец Штольц — неудачная, выдуманная фигура. Чувствуешь утомление от длинных и холодных разговоров его с Ольгой. Он тем более теряет в наших глазах, что стоит рядом с Обломовым, как автомат рядом с живым человеком. Дядя в Обыкновенной истории нарисован тоже несколько прямолинейно и сухо, более искусно, чем художественно. Ярче и живее Марк Волохов. Несмотря на внешнюю грубость и напускной цинизм, в нем есть несомненно привлекательные черты. Он спрашивает Веру с гордостью, на которую имеет отчасти право: «разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем Райском с его поэзиею? Только я не умею говорить о ней поэтично, да и не надо»…[437].
Волохов с простодушным высокомерием при первом знакомстве с Верой спешит отрекомендовать себя как «новую грядущую силу»[438]. Может быть, в современной демократии люди с твердой волей, с рабочей энергией, с практическим умом одержат победу и оттеснят на второй план людей с тонкой художественной организацией, мечтательных и гордых своим бескорыстным взглядом на жизнь. Но как бы ни были велики шансы на победу деятельного типа, есть у него один важный недостаток.
В Обыкновенной истории дядя старается утешить племянника, испытывающего неподдельное горе вследствие первых разочарований любви:
«— Что мне делать с Александром? — говорит Адуев жене, — он там у меня разревелся… Я уж немало убеждал его.
— Только убеждал?
— И убедил: он согласился со мной… Тут, кажется, все, что нужно.
— Кажется, все, а он плачет…
— Я не виноват, я сделал все, чтобы утешить его.
— Что же ты сделал?
— Мало ли?., и говорил битый час… даже в горле пересохло… всю теорию любви, точно на ладони, так и выложил, и денег предлагал, и ужином, и вином старался…
— А он все плачет?
— Так и ревет! Под конец еще пуще.
— Удивительно! Пусти меня — я попробую».
Она пошла к Александру, «села подле него, посмотрела на него пристально, как только умеют глядеть иногда женщины, потом тихо отерла ему платком глаза и поцеловала в лоб, а он прильнул губами к ее руке… Через час он вышел задумчив, но с улыбкой, и уснул первый раз покойно после многих бессонных ночей»[439].
Конечно, и практический Штольц, и Марк Волохов оказались бы в этом случае, подобно умному дяде, в глупом, беспомощном положении и не сумели бы утешить несчастного так, как его утешила простая, любящая женщина.
Вот непоправимая слабость этих гордых людей, именующих себя «грядущей новой силой». У них нет любви.
Дайте человечеству роскошь знаний, утонченность культуры — все, чем так дорожит Штольц; дайте ему полное равенство материальных благ, справедливое удовлетворение потребностей — все, чего требует Марк Волохов; но если при этом вы откажете в божественной любви, в том братском поцелуе, который один только утешает несчастных, то все дары будут тщетными и люди останутся нищими и одинокими.
Штольц, Марк Волохов, дядя Александра — только разумом понимают преимущество нравственного идеала, но сердцем они мало любят людей и не верят в божественную тайну мира — вот почему в их добродетели есть что‑то сухое, жестокое и самолюбивое.
Они не поняли великой заповеди: «будьте просты, как дети»[440]; не поняли этих слов, может быть, самых прекрасных, когда‑либо на земле произнесенных: «если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том пользы»[441].
III
Однажды бабушка, делая с Райским городские визиты, завезла его по дороге к старичкам Молочковым:
«Вот пример всякому, — заметила она, — прожили век — как будто проспали. Ни детей у них нет, ни родных. Дремлют да живут». Далее автор с нежностью говорит уже от себя: «какие добрые, тихие, задумчивые, хорошенькие старички! Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга, и так им хорошо в темных прохладных комнатах с опущенными шторами. И в жизни, должно быть, хорошо!»[442].
Вся эта картинка озарена лучом тихой поэзии. Забываешь судить старичков за пустую, ленивую жизнь и только наслаждаешься угасающим отблеском далекого прошлого.
Есть два типа писателей: одни, как Лермонтов, Байрон, Достоевский, с жадностью и тревогой смотрят вперед, не могут ни на чем остановиться, идут к неизведанному, не любят и не знают прошлого, стремятся уловить еще не сознанные чувства, горят, волнуются, негодуют и умирают, непримиренные.
Другие, как Вальтер–Скотт и Гончаров, смотрят с благодарностью назад, подолгу и с любовью останавливаются на стройных и завершенных формах действительности, предпочитают прошлое — будущему, известное — неизведанному, тихие глубины жизни — взволнованной поверхности, любуются, как на высотах меркнут последние лучи заката, и жалеют угасшего дня.
Они понимают поэзию прошлого.
В прошлом находится для Гончарова источник света, озаряющего созданные им характеры. Чем ближе к свету, тем они ярче. Бессмертные образы — бабушка, Марфинька, крепостная дворня, хозяйка Обломова, мать Адуева — все это люди прошлого, совсем или почти совсем нетронутые современностью. В переходных типах, как в Райском, в Александре Адуеве, все‑таки ярче сторона, обращенная к свету, т. е. к прошлому, к воспитанию, воспоминаниям детства, к родной деревне.
Современность представляется Гончарову серым и дождливым петербургским утром; от нее веет холодом; в ее тусклом свете потухают все краски поэзии и являются мертвые, нехудожественные фигуры — Штольц в Обломове, дядя в Обыкновенной истории, Тушин в Обрыве.
Люди будущего кажутся призраками в сравнении с живыми людьми прошлого.
В истории бывают периоды, когда жизнь на время устает творить, отдыхает и наслаждается законченными формами. Люди не ищут, не критикуют, свято верят в авторитет и по–своему счастливы. Даже человеку, отрицавшему все авторитеты и верования прошлого, — Райскому, «нравилась эта простота форм жизни, эта определенная рама, в которой приютился человек». Норма существования была «готова и преподана родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушка от прадедушки с заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь Весты»[443].
Бабушка — представительница патриархального быта — «говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости… и весь наружный обряд жизни исполняется у нее по затверженным правилам». Горизонт ее весьма ограничен: он «кончается с одной стороны полями, с другой — Волгой и ее горами, с третьей — городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет». Зато, несмотря на старость, какое здоровье, какая крепость духа! «Всякий день был для нее как будто новым, свежим цветком, от которого назавтра она ожидала плодов»[444].
Огражденная преданиями, покорная традициям, жизнь прошлого текла светло и мирно в глубоком, вековом русле. Она была ближе к природе, и потому здоровее и проще, чем наша жизнь. К такому выводу приходит Райский, наблюдая нравы и быт в имении бабушки. «Здесь не было ни в ком претензии казаться чем‑нибудь другим, лучше, выше, умнее, нравственнее, а между тем на самом деле оно было выше, нравственнее, нежели казалось, и едва ли не умнее. Там, в куче людей с развитыми понятиями, бьются из того, чтобы быть проще, и не умеют; здесь, не думая о том, все
просты, никто не лез из кожи подделаться под простоту».[445]
Но вот для полноты картины маленький уголок оборотной стороны: «Захар, как, бывало, нянька натягивает ему (т. е. барину Обломову) чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддает Захарке ногой в нос»[446].
И все‑таки — признается Гончаров — «мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах и никакие океаны не смоют ее!»[447].
Великий художник лучше и глубже сатирика чувствует своею совестью ложь и безобразие прошлого, но ненависть не ослепляет его: он видит и красоту, и поэзию прошлого.
Грациозный образ Марфиньки — самое идеальное и нежное воплощение всего, что было хорошего в старой помещичьей жизни. Марфинька живет в родной обстановке так же привольно и радостно, как птица в воздухе, рыба в воде: ей больше ничего не надо. Это — полная счастливая гармония с окружающей природой, не нарушенная ни одним ложным звуком. «Чего не знаешь, — с наивностью признается Марфинька, — так и не хочется. Вот Верочка, той все скучно, она часто грустит, сидит, как каменная, все ей будто чужое здесь! Ей бы надо куда‑нибудь уехать, она не здешняя. А я — ах, как мне здесь хорошо: в поле, с цветами, с птицами, как дышится легко! Как весело, когда съедутся знакомые!.. Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! не хочу никуда»[448]. Жизнь так прекрасна, что люди, несмотря на все усилия, даже рабством не могли ее испортить, и сквозь «обломовщину», сквозь крепостное право пробивается она, чистая и вольная. Пусть Марфинька кажется нам неразвитой, глупенькой девочкой; пусть читает только такие романы, которые кончаются свадьбой, запирает лакомства в особенный шкафик, — зато какой поэзией, счастием и добротой веет на нас от этого сердца. Все новейшие идеи Райского отскакивают от нее. Но разве она не исполняет того, что умнее всех этих идей — великую заповедь любви? «Она девкам дает старые платья… К слепому старику носит чего‑нибудь лакомого поесть или дает немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки». Она любит детей, любит жизнь вокруг себя. Ее нежная женственная симпатия простирается еще дальше, за пределы человеческого мира, на всю природу, на цветы, деревья, животных.
Люди больших городов, суетной жизни, оторванные от природы, никогда не знавшие патриархального очага, едва ли могут даже представить себе всю силу этой первобытной, физической и вместе с тем сердечной любви к родной земле. Они похожи на цветы, лишенные корней, перенесенные из леса в комнату. Марфинька — это цветок, растущий на воле, пустивший корни глубоко в родную землю.
Характер бабушки — одно из лучших созданий Гончарова.
Несмотря на старость, в ней столько же здоровья, счастья и бодрости, сколько и в Марфиньке. «Видно, что ей живется крепко, хорошо; что она если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо… Голос у нее не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет не только лицо, всю ее фигуру!»[449]. Автор не думает идеализировать бабушку: он не скрывает, что иногда она может быть деспотом. Малейшее сомнение в законности крепостного права в ее глазах — нелепость. «Просить своих подчиненных бабушка не могла: это было не в ее феодальной натуре. „Человек”, лакей, слуга, девка — все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее „человеком”, лакеем, слугой и девкой». «Различия между „людьми” и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива, но все в размерах барских понятий»[450]. А круг феодальных понятий всегда ограничен. «Борюшка, ты не огорчай бабушку, — упрашивает она племянника, — дай дожить ей до такой радости, чтоб увидеть тебя в гвардейском мундире: молодцом приезжай сюда… да женись на богатой»[451]. Но предрассудки и ограниченность поверхностны: это кора могучего дерева, под которой свежие соки; вот почему такие зеленые листья на столетнем дереве.
Когда того требует долг, бабушка стряхивает с себя все предрассудки, и героическая сила ее простой души напоминает нам, в самом деле, тех древних женщин, с которыми сравнивает ее Гончаров. Впрочем, трудно сказать, чего больше в ее сердце — силы или нежности. После падения Веры бабушка решила признаться ей в собственном молодом грехе, чтоб облегчить неопытную совесть. «Надо! Он велит смириться, — говорила старуха, указывая на небо, — просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты: тогда и я могу простить тебя… Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней… Я погубила тебя своим грехом»… И бабушка признается, что в молодости тоже любила не безгрешной любовью, что на совести у нее падение, как у Веры. Сострадание одно только могло сломить непобедимую гордость бабушки, и нам почти страшно, когда мы видим эту величавую старуху униженной, смешной и робко молящей у ног любимой внучки. Вера спасена признанием, она в первый раз после болезни тихо уснула. «Милосердуй над ней, — молилась бабушка, — и если не исполнилась еще мера гнева твоего, отведи его от нее и ударь опять в мою седую голову»[452].
Вот какую параллель проводит Райский между собой и бабушкой, т. е. между переходным, раздвоенным типом современности и законченным характером прошлого: «я боюсь, — размышляет он, — чтобы быть добрым: бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра. Я недоверчив, холоден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии, бабушка горяча к ближнему и верит во все. Я вижу, где обман; знаю, что все — иллюзия, и не могу ни к чему привязаться, не нахожу ни в чем примирения, — бабушка не подозревает обмана ни в чем и ни в ком, кроме купцов, и любовь ее, снисхождение, доброта покоятся на теплом доверии к добру и к людям. Если я бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа, у бабушки весь принцип в чувстве, в симпатии, в ее натуре. Я ничего не делаю, она весь век трудится»[453].
Поэзия прошлого началась еще там — в голубином, кротком сердце Обломова; она сделалась благоуханной и девственно–нежной в Марфиньке; высокой и величавой — в бабушке, и, наконец, поэзия прошлого слилась с поэзией вечного в образе Веры.
«Что за нежное, неуловимое создание! — думает Райский про Веру, — какая противоположность с сестрой: та — луч, тепло и свет; эта вся — мерцание и тайна, какая ночь, полная мглы и искр, прелести и чудес»[454]. Красоту ее он называет «язвительной». Ему «блестит в глаза эта сияющая, таинственная ночь опасной, безотрадной красотой»[455].
Марфинька ровно и беззаботно подчиняется традициям прошлого; Вера судит, выбирает из прошлого то, что кажется ей вечным, и тогда только принимает его в свою душу, но все‑таки остается свободной и гордой.
Она любит Марка Волохова как человека, но чувствует себя умственно равной ему, если не выше, и смотрит на его теории о новом устройстве общества так же независимо и смело, как на верования бабушки. Она сознает, что в учении Волохова есть какая‑то сила и правда, но вместе с тем понимает его односторонность и жестокость.
Вот как относится она к этому учению: «дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит и на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением, но Вера сама многого не признает на старом свете. Она и без него видит и знает болезни: ей нужно знать, где Америка?» А он «показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор… Он во имя истины развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному»[456].
Вот с чем Вера никогда не примирится: она берет из прошлого, из Евангелия, из собственного сердца вечный идеал любви, противопоставляя его беспощадному и бесплодному отрицанию Марка. А для Марка остается непонятным, откуда у этой неопытной девушки такая сила, перед которой, даже отрицая ее, он не может не склонить головы.
Она пожертвует счастием, любовью, жизнью, но не отступит ни на йоту от заветной веры, потому что эта вера — вся ее душа.
Она верит в божественное начало человеческой совести — Марк не верит в него или старается не верить.
И они должны разойтись, не вследствие случайного падения Веры, а потому, что в самой основе их жизни нет ничего общего. «Живите вашей жизнью, Марк, — говорит она Волохову, — я не могу… у нее нет корня… — Ваши корни подгнили давно, Вера!..» — «Что делать, Боже мой! — восклицает она в отчаянии. — Он не верит, не идет! Как вразумить вас?»[457].
Трагизм ее положения заключается в том, что она не принадлежит всецело ни прошлому, ни настоящему. Она стоит между ними, и не хочет примирить их, и жаждет несозданного будущего. Перед бабушкой она искренно готова защищать Волохова, перед Волоховым — бабушку. Если бы она могла соединить новую правду Марка с тем вечным, чем она дорожит в прошлом человечества!
Но ни бабушка, ни Волохов не понимают ее, и она знает, что никогда не поймут. Вот почему она такая скрытная и нелюдимая, несмотря на всю бездну любви, заключенную в ее сердце.
В Обрыве есть одна сцена: Вера, только что простившись с Марком после долгого, мучительного и бесплодного спора, уходит от него, чувствуя себя, как всегда, одинокой и непонятой. «„Правда и свет”, сказал он, — думала она, идучи, — где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечет меня… сердце? И сердце ли это? Или правда здесь?.. — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне». В этой часовне была икона Спасителя древней византийской работы с непонятными, добрыми и вместе с тем строгими очами. Ни разу, возвращаясь со свиданья с Марком, не могла Вера пройти мимо нее без молитвы или тайного смущения. И теперь «молча, глубоко глядела она в смотрящий на нее задумчивый взор образа.
— Ужели он не поймет этого никогда и не воротится — ни сюда… к этой вечной правде… ни ко мне: к правде моей любви? — шептали ее губы. — Никогда! какое ужасное слово!»[458].
Эта сцена поднимает читателя на такую высоту, с которой невольно начинаешь смотреть на Веру как на воплощение души человека.
Ведь и она, как Вера, стоит в нерешимости и скорби между двумя безднами. Куда идти? Марк велит разрушить наукой и разумом божественные верования сердца и за них обещает великое счастие на земле. А добрый, таинственный взор Спасителя зовет к себе, к вечному, неземному, к небесной любви…
I
Древняя семья Майковых дала России много замечательных людей, послуживших родине на самых разных поприщах. Еще в XV столетии известен один из предков поэта — подвижник Нил Сорский — тоже своего рода поэт, возлюбивший тишину «пустынного жития» среди белозерских лесов. Другой, позднейший, предок в 1775 году способствовал постройке первого русского театра[459]. Василий Иванович Майков в екатерининское время был известным писателем; отец поэта — даровитым живописцем. Брат Валериан, рано умерший, успел произвести впечатление в литературных кружках 40–х годов своими критическими статьями[460]. Другие братья — тоже более или менее замечательные деятели в литературе или науке. В России немного найдется таких семей.
Отец поэта был истинным художником не только по таланту, но и по жизни. Вот как описывает И. А. Гончаров, близкий друг дома, преподававший Аполлону Николаевичу литературу, эту оригинальную семью: «он (т. е. отец поэта) жил, как живут, или если теперь не живут так, то как живали, артисты, думая больше всего об искусстве, любя его, занимаясь им и почти ничем другим. Дом его кипел жизнью, людьми, приносившими сюда свое неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многие литераторы из круга 30–х и 40–х годов — все толпились в необширных, неблестящих, но приютных залах его квартиры, и все, вместе с хозяевами, составляли какую‑то братскую семью или школу, где все учились друг у друга… Старик Майков радовался до слез всякому успеху и всех, не говоря уже о друзьях, в сфере интеллектуального или артистического труда, всякому движению вперед во всем, что доступно было его уму и образованию. Трудно полнее и безупречнее, чище прожить жизнь»… (А. Н. Майков, биогр.(афический) очерк Златковского, 1888).
Все детство (род. в Москве 23 мая 1821 г.) Майков провел в имении отца, в сельце Никольском, близ Троицко–Сергиевской лавры, а также в имении бабушки, среди деревенской природы и семейно–патриархального быта старинных помещиков[461]. Кончив университет и уж издав первую книжку стихотворений (1842), восторженно встреченную Белинским, Майков отправился в Италию; он прожил там два года. Впечатления классической страны, вместе с врожденным темпераментом и влиянием окружающей среды, навеки решили судьбу молодой музы. Она влюбилась в свою старшую сестру — строгую музу Греции и Рима; не подражала ей, но прониклась ее духом, познала себя в ней и сплела венок из собственных цветов, только собранных на той же прекрасной земле, которая возрастила лучшие цветы древней музы.
Жизнь Майкова — светлая и тихая жизнь артиста как будто не наших времен[462]. Большинство поэтов в юности должно преодолевать сопротивление семьи, родных и близких, считающих поэзию пустым, непрактичным занятием, аристократическою забавой. Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни бури, ни врагов, ни гонений. Путешествия, книги, памятники древности, рыбная ловля, стихи, мирные семейные радости, и над всей этой жизнью, как ясный закат, мерцание не бурной, но долговечной славы — такая счастливая доля достается немногим баловням судьбы, особенно в наше время и в нашем отечестве.
Но люди устроены так, что не могут переносить безнаказанно ни слишком большого счастия, ни слишком большого страдания. Счастие сделало Майкова односторонним. Он уединился в нем — в своем вечно–светлом художественном Элизиуме, и был навеки отторгнут от современной жизни. Впрочем, это — недостаток, а в известном отношении и достоинство, всех его сверстников — жрецов чистого искусства, идеалистов 40–х годов, пронесших знамя своего художественного исповедания сквозь гонения 60–х годов, и теперь, на склоне дней, увенчанных лаврами. Таковы они все трое — Майков, Фет, Полонский. Это совершенно особое поэтическое поколение, связанное единством творческого принципа, общею силою и общею ограниченностью.
Как лирики, как певцы природы, идеальной любви, тихих радостей, наслаждения искусством и красотою — они неподражаемы. Они довели форму до последней степени высшего совершенства, хотя при этом отчасти нарушили пушкинскую простоту и реализм, и в менее удачных произведениях впали в виртуозность, изысканность, преобладание красоты формы над значительностью содержания. Майков сам чудесно обрисовал все это поэтическое поколение в следующем отрывке:
Тому уж больше чем полвека,
На разных русских широтах,
Три мальчика, в своих мечтах
За высший жребий человека
Считая чудный дар стихов,
Им предались невозвратимо…
Им рано старых мастеров,
Поэтов Греции и Рима,
Далось почуять красоты;
Бывало, нежный луч Авроры
Раскрытых книг осветит горы,
Румяня ветхие листы, —
Они сидят, ловя намеки,
И их восторг растет, растет,
По мере той, как труд идет,
И сквозь разобранные строки
Чудесный образ восстает…
И старики с своих высот
На них, казалося, взирали,
И улыбались меж собой,
И их улыбкой ободряли…
Те трое были… милый мой,
Ты понял? — Фет и мы с тобой[463].
II
В молодости Майков занимался живописью и бросил ее только вследствие природного недостатка — крайней близорукости. И в поэзии он остался живописцем, неподражаемым пластиком. У него нет образа, который не мог бы быть изображен на полотне или даже высечен в мраморе. Не по духу и объему творчества, а по своеобразным приемам он отличается от своих ближайших сверстников — Фета и Полонского. Для тех мир является призраком, таинственным, мерцающим, символом бесконечного. Майкову природа представляется, как древним, как его собрату в области прозы — Гончарову, прекрасным, но ограниченным и вполне определенным предметом искусства. Фет и Полонский — поэты–мистики; Майков — только поэт–пластик. Для него природа — не тайна, а наставница художника; «прислушиваясь душой к шептанью тростников, говору дубравы», он учится проникать в божественные тайны не самой природы, а только «гармонии стиха». В музыке лесов ему слышатся не голоса непостижимых стихийных сил, а — «размерные октавы»[464].
Этим отличием взгляда на природу определяется и отличие Майкова от Фета и Полонского в самой форме.
У последних двух в стихе есть что‑то близкое к музыке, неуловимое и неопределенное[465]. Стих Майкова — точный снимок с впечатления; он дает ни больше ни меньше, а ровно столько же, как природа. Когда Майков передает звук, Фет и Полонский передают трепетное эхо звука; когда Майков изображает ясный свет, Фет и Полонский изображают отражение света на поверхности волны. Если Майков дает нам один из своих глубоких эпитетов, как например «золотые берега Неаполя», «орел широкобежный», «редкий тростник», — он не возбуждает никаких дум, сразу исчерпывает все впечатление, и мы радуемся тому, что больше уже некуда идти, что мысль наша скована и ограничена красотою эпитета, что больше нечего сказать о предмете. Эпитеты Фета и Полонского заставляют нас думать, искать, тревожат, долго–долго вибрируют в нашем слухе, как задетые напряженные струны, пробуждают в душе ряд отголосков, настроений, музыкальных веяний, переливаются тысячами оттенков, пока совсем не замрут, — и вспомнить их уже невозможно.
Для Фета и Полонского светит влажное туманное солнце, и под его лучами все резкие очертания предметов расплываются; звуки становятся глухими и таинственными, краски — тусклыми и нежными.
Солнце Майкова — это вечное солнце Эллады и Рима; оно сияет в сухом и прозрачном воздухе каменистой южной страны: резкие тени и ослепительные пятна света, контуры всех предметов определенны и точны до последних мелочей, краски без оттенков и полутонов достигают крайнего напряжения, звуки раздаются звонко и отрывисто, ни гипербол, ни музыкальной неопределенности, ни эха, ни колебаний света, ни сумерек. Стих Майкова изумительной точностью, чувством меры и неподражаемой пластикой напоминает античных поэтов.
Впрочем, Майков — истинный классик, не только по форме, но и по содержанию.
Если понимать классицизм как известную историческую эпоху, то, конечно, его поэтические образы и формы для нас — невозвратное прошлое, и нет ни малейшего основания стремиться к ним. Зачем употреблять образы мифологических богов, в которых никто не верит? В этом смысле подражания древним всегда должны казаться фальшивыми и холодными. Подражание, например китайскому или японскому стилю, может быть предметом изящного ремесла, но отнюдь не высшего художественного творчества. В подделке под что‑нибудь, что было когда‑то живым, а теперь превратилось в прах, всегда заключается ложь[466].
Но почему же каждый чувствует, что подражания древним — такие, какие встречаются у Гёте, Шиллера, Пушкина, Мея, Майкова, не похожи на искусственные подделки, что они столь же искренни и правдивы, как произведения на темы из живой действительности?
Это объясняется тем, что классицизм умер как известный исторический момент, но как момент психологический — он до сих пор имеет большое значение.
Античный мир в самых совершенных художественных образах воплотил ту нравственную систему, в которой земное счастие является крайним пределом желаний. Христианство протестовало против античной нравственности: оно противопоставило земному счастию — счастие неземное и бесконечное, устремило волю человека за пределы видимого мира, за границу явлений. Спор христианской и античной нравственности до сих пор еще нельзя считать законченным. Классический взгляд на земное счастие как на крайний предел человеческих стремлений возобновляется в позитивизме, в утилитарной нравственности. Тот же самый протест, с которым первые христиане выступили против античного мира, повторяется в требованиях противников позитивной нравственности, в их желании найти основу для долга не в одном стремлении к временному счастию.
Пока в душе людей будут бороться эти два нравственных идеала, пока люди будут с тоской и недоумением спрашивать себя, на чем же им наконец успокоиться — на земном счастии или же на том, чего не может дать земля, — до тех пор красота классической древности, как совершенное воплощение одной из этих точек зрения, будет сохранять свое обаяние. Древние люди тоже своего рода позитивисты, только озаренные отблеском поэзии, которые гораздо лучше современных позитивистов умели жить исключительно для земного счастия и умирать так, как будто, кроме земной жизни, ничего нет и быть не может:
И на коленях девы милой
Я с напряженной жизни силой
В последний раз упьюсь душой,
Дыханьем трав, и морем спящим,
И солнцем, в волны заходящим,
И Пирры ясной красотой!..
Когда ж пресыщусь до избытка,
Она смертельного напитка,
Умильно улыбаясь, мне,
Сама не зная, даст в вине,
И я умру шутя, чуть слышно,
Как истый мудрый сибарит,
Который, трапезою пышной
Насытив тонкий аппетит,
Средь ароматов мирно спит[467].
Так говорит эпикуреец Люций в Трех смертях Майкова. Ни один из современных поэтов не выражал изящного материализма древних так смело и вдохновенно. Майков проникает в глубину не только античной любви и жизни, но и того, что для современных людей еще менее доступно — в глубину античного отношения к смерти:
С зеленеющих полей В область бледную теней Залетела раз Психея,
На отживших вдруг повея
Жизнью, счастьем и теплом.
Тени вкруг нее толпятся —
Одного оне боятся,
Чтобы солнце к ним лучом
В вечный сумрак не запало,
Чтоб она не увидала
И от них бы в тот же час
В светлый луч не унеслась.
(Два мира)[468]
Что может быть грациознее светлого образа Психеи на фоне древнего Аида? Вся эта трогательная песенка проникнута несовременной, но близкой нам грустью. С таким унынием и тихой покорностью должен относиться к смерти человек, видевший в ней только уничтожение, но не восстающий против этого уничтожения и лишь опечаленный краткостью земного счастия. Тени Аида и после смерти не видели ничего отраднее нашего солнца и тоскуют о прекрасной земле.
Что бы Майков ни говорил о христианстве, как бы ни старался признать рассудком его истины, здесь и только здесь мы имеем искренний взгляд нашего поэта на загробный мир. Это тонкий поэтический материализм художника, влюбленного в красоту плоти и равнодушного ко всему остальному. Замечательно, что поэт, пользуясь образами христианской мифологии, сохраняет все то же античное настроение:
Больное, тихое дитя
Сидит на береге, следя
Большими умными глазами
За золотыми облаками…
Вкруг берег пуст — скала, песок…
Тростник, накиданный волною,
В поморье тянется каймою…
И так покой кругом глубок,
Так тих ребенок, что садится
Вблизи его на тростнике,
Играя, птичка; на песке
По мели рыбка серебрится..
К ним взор порою обратя,
Так улыбается дитя,
Глядит на них с таким участьем
И так сияет кротким счастьем,
Что, если бледный промелькнет
Он на земле, как гость залетный,
И скоро в небе в сонм бесплотный
Господних ангелов войдет, —
То там, меж них, воспоминая
Свой берег дикий и пустой, —
«Прекрасна — скажет — жизнь земная!
Богат и весел край земной!»[469].
Нестрадавшей и неплакавшей музе поэта, как этому наивному ребенку, жизнь тоже представляется прекрасной, край земной — богатым и веселым. Он был счастлив на земле, он привязался к ней, и среди ангелов он, может быть, пожалеет о прошлом, совсем как жалеют о сладостном свете земного дня языческие тени Аида. Разные мифологии, но настроение поэта одно и то же. Он в христианстве остается бессознательным язычником.
В одном антологическом стихотворении[470] Майков рассказывает, как печальный Мениск, престарелый рыбак, схоронил своего утонувшего сына «на мысе диком, увенчанном бедной осокой». «Оплакавши сына, отец под развесистой ивой могилу ему ископал и, накрыв ее камнем, плетеную вершу из ивы над нею повесил — угрюмой их бедности памятник скудный!». Удивляешься, когда поэт–волшебник оживляет прекрасную, блестящую сторону античной жизни, но еще гораздо более удивительно, когда проникает он в сумрак народной души. Вся эта пьеса похожа на трогательную песню какого‑нибудь крестьянина. Античный мир раскрывается с новой, никому не известной стороны. В приведенном стихотворении нет и следа того, что мы привыкли видеть в классической поэзии. Маленький рассказ о рыбаке Мениске дышит строгой простотой и реализмом; краски бедные, серые, которые напоминают, что и на юге, и в Древней Греции бывали свои унылые, будничные дни. Есть тайна в этих десяти строках: их нельзя прочесть, не почувствовав себя растроганным до глубины души. Это любовь бедного темного человека, его безропотное горе переданы Майковым с великим, спокойным чувством, до которого возвышались только редкие народные поэты.
Некрасов и Майков — можно ли найти два более противоположных темперамента? Но на одно мгновение всех объединяющая поэзия сблизила их в участии к простому горю людей. С известной высоты не все ли равно — описывать горе русского мужика, которого вчера еще я видел, или не менее трогательное горе бедного престарелого рыбака Мениска, умершего за несколько тысячелетий? Как долго и ожесточенно спорили критики о чистом и тенденциозном искусстве — каким ничтожным кажется схоластический спор при первом веянии живой любви, живой прелести! Критики — всегда враги, поэты — всегда друзья и стремятся разными путями к одной цели.
В день сбиранья винограда
В дверь отворенного сада
Мы на праздник Вакха шли
И — любимца Купидона —
Старика Анакреона
На руках с собой несли,
Много юношей нас было,
Бодрых и смелых, каждый с милой,
Каждый бойкий на язык;
Но — вино сверкнуло в чашах —
Мы глядим — красавиц наших
Всех привлек к себе старик!
Дряхлый, пьяный, весь разбитый,
Череп розами покрытый —
Чем им головы вскружил?
А они нам хором пели,
Что любить мы не умели,
Как когда‑то он любил!
(Анакреон)[471]
В стихотворениях «Юношам», «Алкивиад», «Претор» — тот же удивительный дар прозрения, который, открыв Майкову простое горе в классической древности, дает ему возможность проникнуть в еще более недоступную, интимную сторону отжившей цивилизации — в ее смех и юмор. Нет ничего мимолетнее, неуловимее смеха. Когда от мраморных мавзолеев, от великих подвигов остались одни обломки и полустертые надписи, что же могло остаться от звуков смеха, умолкших двадцать веков тому назад? Но такова чудотворная сила поэта. По одному его слову древность восстает из гроба, из могильной пыли, и художник заставляет ее плакать и смеяться.
Как ты мил в венке лавровом,
Толстопузый претор мой,
С этой лысой головой
И с лицом своим багровым…
С своего ты смотришь ложа,
Как под гусли пляшет скиф,
Выбивая дробь ногами,
Вниз потупя мутный взгляд
И подергивая в лад
И руками, и плечами.
Вижу я: ты выбивать
Сам готов бы дробь под стать,
Так и рвется дух твой пылкий!
Покрывало теребя,
Ходят ноги у тебя,
И качаются носилки
На плечах рабов твоих,
Как корабль средь волн морских.
(Претор)[472]
Это — шутка, но такая шутка, которою поэт сразу уничтожил тысячелетия между вами и солнечной пыльной улицей Древнего Рима; это — безделка, но она высечена из мрамора, и каждая крупинка белоснежного паросского камня насквозь пропитана солнцем Рима, искрится, живет и дышит.
Рим все собой объединил,
Как в человеке разум: миру
Законы дал и все скрепил.
Находят временные тучи,
Но разум бодрствует могучий,
Не никнет дух…
Единство в мире водворилось!
Центр — кесарь.
От него прошли
Лучи во все концы земли,
И где прошли — там появились
Торговля, тога, цирк и суд,
И вековечные бегут
В пустынях — римские дороги!
(Два мира)[473]
Майков понимает не только повседневную сторону жизни древних, не только их будничное горе и будничный смех, но и величавую поэзию римской гражданственности. Он проник (как это видно из великолепных монологов римлянина Деция в Двух мирах) в самую сущность объединяющей идеи, послужившей цементом для колоссального государства. Стих Майкова, в других местах такой нежный, гибкий и женственный, приобретает в речах старых римлян (например Сенеки в Трех смертях, Деция) грандиозный пафос и металлическую звонкость латинских поэтов. Если бы некоторые хвалы Майкова величию Rei Publicae[474] были прочтены две тысячи лет тому назад на латинском языке перед народом или сенатом, римляне поняли бы нашего поэта, и квириты в восхищении присудили бы ему лавровый венок.
Несомненно лучшее произведение Майкова — лирическая драма «Три смерти». Она стоит особняком не только среди его произведений, но и вообще в русской поэзии. Ни раньше, ни после поэт не достигал такой высоты творчества. Эта драма — самая классическая из его вещей и вместе с тем самая современная. Поэт извлек из античного мира все, что в нем есть общечеловеческого, понятного всем народам и всем векам. После Пушкина никто еще не писал на русском языке такими неподражаемо–прекрасными стихами. Поэт подымает нас на неизмеримую высоту философского созерцания, а между тем в его драме нет и следа того рассудочного элемента, который часто портит слишком умные произведения. Драма проникнута огнем лиризма. С нами говорят не философские манекены, а живые люди.
Великая тема произведения — борьба человеческого духа с ужасом смерти, и борьба самая страшная и героическая — вне всех твердынь религиозных догматов и преданий. Как воины, которые вышли из стен крепости и вступили в рукопашный бой, эти три человека — эпикуреец Люций, философ Сенека и поэт Лукан — борются лицом к лицу со смертью, опираясь только на силу собственного духа, не прибегая к защите религиозных верований. После мучительной агонии все трое выходят победителями: эпикуреец побеждает смерть насмешкой, философ — мудростью, поэт — вдохновением.
Вот жизнь моя! и что ж? ужель
Вдруг умереть? и это — цель
Трудов, великих начинаний!..
Победный лавр венец желаний!..
О боги! нет! не может быть!
Нет! жить, я чувствую, я буду!
Хоть чудом — о, я верю чуду!
Но должен я и — буду жить[475]!
И вдруг от безумного страха и безумной жажды жизни Лукан сразу переходит к величайшему презрению, когда он слышит о подвиге рабыни Эпихариды презревшей жизнь:
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог!
О, умираю я, как бог,
Средь начатого мирозданья!..[476]
Вот великое трагическое движение, на которое способны только очень сильные поэты! Как ни различны по своим миросозерцаниям эпикуреец, философ и поэт, как ни противоположны их отношения к смерти, — одна характерная черта, одно чувство соединяет их. Все трое умирают, утешенные торжеством своего «я», своей личности. Они так и не поняли и не должны были понятъ смерти в христианском смысле, как слияния с Богом, как самоотречения, как последнего подвига любви. Майков разделяет вполне силу и ограниченность этих трех великих язычников. Такие люди понимают смерть как апофеоз своего «я»; они до последнего мгновения противопоставляют смерти силу и неразрушимость своей личности, чуждой любви и полной гордости, — умирают, отрицая смерть, в упоении величия собственного духа.
Теперь мы достигли геркулесовых столпов творчества нашего поэта, коснулись пограничной черты его поэзии. Муза напрягала все силы, чтобы переступить за черту, но ей не удалось — у нее не было тех орлиных крыльев, которые необходимы, чтобы перелететь бездну, отделяющую античный мир от христианского. Майков до конца своих дней в глубине души остался язычником, несмотря на все усилия перейти в веру великого Назареянина[477].
III
Он понял умом, но не сердцем противоположность двух миров — христианского и античного. Угадывая в теории как историк, он не сумел показать эту противоположность на деле как художник, несмотря на то что всю жизнь стремился к трудной, для размеров его таланта слишком великой задаче.
В драме «Два мира» нет в сущности ровно никакой драмы, а есть лирические монологи римлянина Деция. Перед нами оживает один только мир — языческий; христианского не видно: он кажется холодным, бескровным и, что хуже всего, тенденциозным призраком. Замечательно, что авторы вообще любят делать свои мертвые, неудачные фигуры — идеальными, как будто недостаток жизни надеются восполнить избытком добродетели. Вместо того чтобы просто и глубоко чувствовать, первые христиане Майкова холодно и пространно рассуждают. Это весьма начитанные и богословски–образованные резонеры. То и дело сыплют они цитатами из Священного писания, на Христа и на Бога смотрят не с наивной смелостью людей, творящих новую религию, а сквозь запыленную византийскую призму государственного исповедания.
Молитесь!.. Будь благословенье Тебе, Господь наш, в небесах,
Что вспомнил о своих рабах И всех зовешь нас к жизни вечной Из жизни временной, конечной!
Дай чаши там Твоей испить И понести Твой крест с Тобою!
Дай пострадать нам смертью злою,
Чтоб славу в нас Твою явить[478]!
Как только начинают говорить майковские христиане, самый стих становится напряженным и бессильным, вычурным и вялым. От этих строк веет не ароматом свежего древнего миросозерцания, а чем‑то слишком современным — запахом церковной пыли, дешевого ладана и деревянного масла… В одной молитве Лермонтова («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»[479]) больше христианского чувства, чем во всех клерикальных и напыщенных проповедях первых христиан Майкова. Они говорят о Боге и любви так же холодно и ортодоксально, как современные ханжи, у которых Бог и любовь на языке, а не в сердце. Нет, так не могли говорить первые христиане. Майков клевещет на них. Перечтите у Ренана его чудесный том «Les apotres» или «Saint Paul»[480]: вы увидите живые образы бледнолицых и исторических женщин и девушек, странных, мечтательных, преисполненных жгучей, почти болезненной любовью, безграничной фантазией, мистическим восторгом, в котором плоть их сгорала, как сухое дерево сгорает в огне; вы увидите темные одежды дьяконис, загадочные собрания, проявления среди крайнего аскетизма пылкой и целомудренной чувственности, лица простые, добрые, с отпечатком народной грубости и презрения к внешней красоте.
Майкову ни на одно мгновение не удалось проникнуть в сущность христианской идеи. Идея эта заключается в призрачности всего материального мира, в непосредственном сношении человеческой души с Богом, в отречении от нашего «я» для полного слияния с началом мировой любви, т. е. со Христом. Майков, как языческий художник, влюбленный в красоту материального мира, не мог чувствовать его призрачности; Майков с его стремлениями к ясным скульптурным образам не мог понять несказанного и необъятного волнения мистиков; Майков, видящий, как Сенека и Лукан, в смерти только апофеоз личного начала, не мог почувствовать искреннего желания отречься от себя и умереть, слившись с мировой любовью. Он побоялся взять древний паросский мрамор, чтобы изваять своих христиан, ангелов, св. Павла, Небесного Отца; думая, что одухотворенные фигуры выйдут слишком тяжелыми и чувственными из античного материала, он заменил его чем‑то вовсе не благородным, чем‑то похожим на гипс дешевых современных статуэток. Воздушные образы христианских преданий надо создавать из пламени и света, чтобы они сами собою стремились к небу и парили над землей, а у Майкова в его скульптурных группах христианские фигуры прикреплены — как это делают посредственные ваятели — на железных прутьях, для того чтобы они могли парить на своих тяжелых гипсовых крыльях, и, кажется, вот–вот они упадут и разобьются вдребезги.
Впрочем, не проникая в мистический дух христианства, Майков владеет иногда внешней, материальной, формой христианской мифологии. Так, например, он превосходно передал раскольничьи легенды в драматических сценах «Странника»[481], написанных удивительно красивым архаическим стихом. Очень поэтично предание о происхождении испанской инквизиции, о королеве Изабелле[482]. Где не приходится касаться сущности христианской идеи, где он изображает только прекрасные формы религиозного материализма, Майков остается истинным художником. Вообще он очень легко и грациозно владеет внешней формой всех народностей и всех веков — формой, но не внутренним духовным содержанием. Как поэт–историк, он с научной точностью и большим вкусом передает древнегерманские сказания о Бальдуре, «Слово о полку Игореве», сербские и новогреческие песни, средневековые легенды, но все‑таки чувствуется, что это — искусное, иногда художественное переодевание его классической музы, а не перевоплощение, как например у Пушкина. У последнего в подражаниях Магомету не только — весь аромат восточной поэзии, с ее дикою и странною прелестью, но и вся глубина восточного мистицизма. У Майкова слишком много спокойной точности и простоты, слишком много чувства классической меры и гармонии, чтобы он мог проникнуть в необузданную меланхолическую фантазию кровожадных скандинавских пиратов и викингов, грубых, мрачных, вечно пьяных от крови или от пива, пирующих и распевающих песни под открытым небом за кострами. Чудовищные образы северных скальдов приобретают у Майкова изящество, блеск и простоту гомеровского эпоса. Сербские и новогреческие песни ближе к античному миросозерцанию, и они удаются поэту гораздо лучше. Но глубокий мистицизм первых христиан так же, как новых северных народов, остался ему чуждым.
Еще более недоступна Майкову современная жизнь. В эпоху, когда поэт уже создал свои чудные антологические стихотворения, он является робким учеником, почти без искры самостоятельного дарования, в пьесах, посвященных русской действительности, как например в «Житейских думах», в «Грезах», «Барышне», «Утописте», «После бала» и др. Все это крайне слабо, подражательно и недостойно автора «Трех смертей». Немногим лучше неаполитанский альбом «Мисс Мери»[483]. Здесь по крайней мере есть несколько изящных итальянских акварелей. Впрочем, оригинального в «Мисс Мери» мало: это подражание Гейне. Но классической величавой музе совсем не пристал современный костюм европейской дамы или барышни. Строгая богиня, привыкшая к простым широким складкам древнего одеяния, чувствует себя неловко в узком модном платье. Она хороша была на родном Геликоне, но жалко смотреть, как поэт насильно вводит ее в светский круг современных барышень, заставляет участвовать в кадрили, болтать с кавалерами, — и каждая пустенькая молодая красавица может по праву осмеять гордую богиню и заметить, что платье на ней нехорошо сидит, что ее благородные античные формы кажутся почти смешными и неуклюжими в костюме мисс Мери.
Гораздо лучше удается Майкову обратный поэтический прием, а именно облечение нового содержания в античные формы — прием, который так любил Гёте. Современная газета дает Майкову повод написать очень тонкую изящную идиллию во вкусе Феокрита. Таковы вообще лучшие пьесы из «Очерков Рима»[484].
Нередко, описывая современную действительность, поэт по привычке вдруг переходит к древним мифологическим образам и забывает первоначальную тему. Он начинает стихотворение «Утопист» шутливыми строками: «Свои поместья умным немцам на попечение отдав», а кончает его совершенно неожиданно: «…и весь Олимп молчит, гадая, чем озабочен властелин… И лишь для резвого Эрота у жизнедавца и отца миродержавная забота спадает с грозного лица». Он хочет рассказать что‑то о современной барышне, но опять, не удержавшись, сравнивает ее с Гебой: «и, как обманутая Геба, ты от Зевесова стола, скорбя, ему, как сыну неба, Зевесов нектар подала». Описывает ли Майков современный бал — античный профиль какой‑нибудь красавицы тотчас же напоминает ему Сорренто, пестумский храм, пир горацианских времен, золотую галеру — и вот уже он далек от современной жизни, и, с удивлением и грустью просыпаясь в XIX веке, поэт восклицает: «ах, вы всему виною, о розы Пестума, классические розы!..»[485]. Таков склад его воображения: оно по инстинкту, по непреодолимой привычке, как струя воды по наклонной плоскости, стремится к античному миру.
Несомненно, лучшая из современных поэм Майкова — «Рыбная ловля», и это потому, что в ней поэт избрал темой не жизнь людей, а жизнь природы и патриархальное, идиллическое занятие, описанное простодушно в духе неподражаемых «Георгик»[486].
Откинешься на луг и смотришь в небеса,
И слушаешь стрекоз, покуда сон глубокий
Под теплый пар земли глаза мне не сомкнет…
О, чудный сон! душа, Бог знает, где, далеко,
А ты во сне живешь, как все вокруг живет…
Стрекозы синие колеблют поплавки,
И тощие кругом шныряют пауки,
И кружится, сребрясь, снетков веселых стая,
Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая…[487]
Дальше описывается, как рыбак осторожно на удочке выводит из воды «упорного леща», как «чернозолотой красавец повернулся» и опять исчез в воде. Интимные, даже прозаические, подробности домашней жизни поэт возвышает, придавая им печать важной красоты: так он изображает, как на цыпочках, подобно вору, чтобы не потревожить домашних, он крадется из дому и лезет через забор, «взяв хлеба прозапас с кристальной крупной солью». Самая прозаическая поваренная соль, благодаря классическому эпитету, превращается в подробность, достойную Гомера или Феокрита. Мало–помалу тон идиллии повышается, и — как всегда в порыве искреннего вдохновения — Майков забывает современность и переносится в античный мир. Что, кажется, можно найти общего между рыбной ловлей и древнегреческим божеством? Но таков пластический гений поэта. Его фантазия превращает все, к чему ни прикоснется, в мрамор и высекает из него дивные изваяния. Так и рыбная ловля представляется его неисправимо–языческому воображению новою богиней, «чистою музой, витающей между озер». И мало–помалу он начинает так ее любить, что воплощает в этой богине рыболовного искусства свою собственную музу. Он обращается к ней:
Пускай бегут твои балованные сестры…
За лавром, и хвалой, и памятью веков:
Ты ночью звездною на мельничной плотине
В сем царстве свай, колес, и плесени, и мхов,
Таинственностью дух питай в святой пустыне!..
И в мир, когда спадет с природы тьмы завеса,
И солнце вспыхнет вдруг на пурпуре зари,
Со всеми криками и шорохами леса
Сама в моей душе ты с Богом говори!
Да просветлен тобой, дыша, как часть природы,
Исполнюсь мощью я и счастьем той свободы,
В которой праотец народов, дни катя,
К сребристой старости был весел, как дитя[488]!
Такова муза Майкова. Если она и осталась навеки чуждой современности, то нельзя в ней отрицать того великого, понятного всем векам, что дает ее лучшим песням право на бессмертие[489].
Однажды старцы Илиона — рассказывает Майков — сидели в кругу у городских ворот. Осада Трои длится уже десять лет. Вспоминая павших, они проклинали ту, «которая была виною бед их…». «Елена! ты с собой ввела смерть в наши домы! ты нам плена готовишь цепи!..».
В этот миг Подходит медленно Елена,
Потупя очи, к сонму их:
В ней детская сияла благость,
И думы легкой чистота;
Самой была как будто в тягость Ей роковая красота…
Ах, и сквозь облако печали Струится свет ее лучей!..
Невольно, смолкнув, старцы встали И расступились перед ней[490].
Можно судить Майкова, можно жалеть об его односторонности, но, как только предстанет, подобно Елене, величавая античная муза поэта, — самые строгие обвинители, если только чувствуют они власть красоты, должны, невольно смолкнув, встать и расступиться перед ней, как старцы Илиона.
I
«Пушкин есть явление чрезвычайное, — пишет Гоголь в 1832 году, — и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»[491]. В другом месте Гоголь замечает: «в последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь»[492].
Император Николай Павлович в 1826 году, после первого свидания с Пушкиным, которому было тогда 27 лет, сказал гр. Блудову: «Сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России»[493]. Впечатление огромной умственной силы Пушкин, по–видимому, производил на всех, кто с ним встречался и способен был его понять. Французский посол Барант, человек умный и образованный, один из постоянных собеседников кружка А. О. Смирновой, говорил о Пушкине не иначе, как с благоговением, утверждая, что он — «великий мыслитель», что «он мыслит, как опытный государственный муж»[494]. Также относились к нему и лучшие русские люди, современники его: Гоголь, кн. Вяземский, Плетнев, Жуковский. Однажды, встретив у Смирновой Гоголя, который с жадностью слушал разговор Пушкина и от времени до времени заносил слышанное в карманную книжку, Жуковский сказал: «Ты записываешь, что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь. Попроси Александру Осиповну показать тебе ее заметки, потому что каждое слово Пушкина драгоценно. Когда ему было восемнадцать лет, он думал как тридцатилетний человек: ум его созрел гораздо раньше, чем его характер. Это часто поражало нас с Вяземским, когда он был еще в лицее»[495].
Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более того — впечатление истинной мудрости производит и образ Пушкина, нарисованный в Записках Смирновой. Современное русское общество не оценило книги, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху. Это непонимание объясняется и общими причинами: первородным грехом русской критики — ее культурной неотзывчивостью, и частными — тем упадком художественного вкуса, эстетического и философского образования, который начиная с 60–х годов продолжается доныне и вызван проповедью утилитарного и тенденциозного искусства, проповедью таких критиков, как Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Одичание вкуса и мысли, продолжающееся полвека, не могло пройти даром для русской литературы. След мутной волны черни, нахлынувшей с такою силою, чувствуется и поныне. Авторитет Писарева поколеблен, но не пал. Его отношение к Пушкину кажется теперь варварским; но и для тех, которые говорят явно против Писарева, наивный ребяческий задор демагогического критика все еще сохраняет некоторое обаяние. Грубо–утилитарная точка зрения Писарева, в которой чувствуется смелость и раздражение дикаря перед созданьями непонятной ему культуры, теперь анахронизм: эта точка зрения заменилась более умеренной — либерально–народнической, с которой Пушкина, пожалуй, можно оправдать в недостатке политической выдержки и прямоты. Тем не менее Писарев как привычное тяготение и склонность ума все еще таится в бессознательной глубине многих современных критических суждений о Пушкине. Писарев, Добролюбов, Чернышевский вошли в плоть и кровь некультурной русской критики: это — грехи ее молодости, которые нелегко прощаются. Писарев, как представитель русского варварства в литературе, не менее национален, чем Пушкин как представитель высшего цвета русской культуры[496].
Пушкин — великий мыслитель, мудрец, — с этим, кажется, согласились бы немногие даже из самых пламенных и суеверных его поклонников. Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина[497], но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль[498]. Эту сторону вежливо обходили, как бы чувствуя, что благоразумнее не говорить о ней, что так выгоднее для самого Пушкина. Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те — пророки, учителя или хотят быть учителями, а Пушкин только поэт, только художник. В глубине почти всех русских суждений о Пушкине, даже самых благоговейных, лежит заранее составленное и только из уважения к великому поэту не высказываемое убеждение в некотором легкомыслии и легковесности пушкинской поэзии, побеждающей отнюдь не силою мысли, а прелестью формы. В сравнении с музою Льва Толстого, суровою, тяжко–скорбною, вопиющею о смерти, о вечности, — легкая, светлая муза Пушкина, эта резвая «шалунья», «вакханочка», как он сам ее называл, — кажется такою немудрою, такою несерьезною. Кто бы мог сказать, что она мудрее мудрых?
Вот почему не поверили Смирновой. Пушкин, подобно Гёте, рассуждающий о мировой поэзии, о философии, о религии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества, — это было так ново, так странно и чуждо заранее составленному мнению, что книгу Смирновой постарались не понять, стали замалчивать или, по обычаю русской журналистики, которая мало выиграла со времен Булгарина, непристойно вышучивали, выискивали в ней ошибок, придирались к мелким неточностям, чтобы доказать, что собеседница Пушкина не заслуживает доверия, а ее отношение к Николаю I сочли неблаговидным с либеральной точки зрения. Сделать это было тем легче, что русское общество до сих пор не имеет своего мнения о книгах и ходит на помочах у критики. Еще раз, через 60 лет после смерти, великий поэт оказался не по плечу своей родине, еще раз восторжествовал дух Булгарина, дух Писарева, ибо оба этих духа родственнее друг другу, чем обыкновенно думают.
Но книга Смирновой имеет свое будущее: в беседах с лучшими людьми века Пушкин недаром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академический и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится наконец критика, то есть культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, — Записки Смирновой будут оценены и поняты, как живые заветы величайшего из русских людей будущему русскому просвещению.
Историческое значение этой книги заключается в том, что воспроизводимый ею образ Пушкина–мыслителя как нельзя более соответствует образу, который таится в необъясненной глубине законченных созданий поэта и отрывков, намеков, заметок, писем, дневников. Для внимательного исследователя неразрывная связь и даже совпадение этих двух образов есть неопровержимое доказательство истинности пушкинского духа в Записках Смирновой, каковы бы ни были их внешние промахи и неточности. Пушкин и здесь, и там — ив своих произведениях, и у Смирновой, — один человек, не только в главных чертах, но и в мелких подробностях, в неуловимых оттенках личности. Нередко Пушкин у Смирновой объясняет мысль, на которую намекал в недоконченной заметке своих дневников, и наоборот — мысль, которая брошена мимоходом в беседе со Смирновой, становится ясной только в связи с некоторыми рукописными набросками и заметками. Смирнова открывает нам глаза на Пушкина, разоблачает в нем то, что мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали. Перед нами возникает не только живой Пушкин, каким мы его знаем, но и Пушкин будущего, Пушкин недовершенных замыслов, — такой, каким мы его предчувствуем по гениальным откровениям и намекам. Делается понятным, откуда и куда он шел, открывается высшая ступень просветления, которой он не достиг, но уже достигал. Еще шаг, еще усилие — и Пушкин поднял и вынес бы русскую поэзию, русскую культуру на мировую высоту. В это мгновение завеса падает, голос поэта умолкает навеки, и в сущности вся последующая история русской литературы есть история довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшею волною демократического варварства, история могущественного, но одностороннего воплощения его идеалов, медленного угасания, падения, смерти Пушкина в русской литературе.
Трудность обнаружить миросозерцание Пушкина заключается в том, что нет одного, главного, произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений, сказал миру все, что имел сказать, как Данте — в Божественной комедии, как Гёте — в Фаусте[499]. Наиболее совершенные создания Пушкина не дают полной меры его сил: внимательный исследователь отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий. Подобно Петру Великому, с которым он чувствовал глубокую связь, Пушкин был не столько совершителем, сколько начинателем русского просвещения. В самых разнообразных областях закладывает он фундаменты будущих зданий, пролагает дороги, рубит просеки. Роман, повесть, лирика, поэма, драма — всюду он из первых или первый, одинокий или единственный. Ему так много надо совершить, что он торопится, переходит от замысла к замыслу, покидает недоконченными величайшие создания. Медный всадник, Русалка, Галуб[500], Драматические сцены — только гениальные наброски. Евгений Онегин обрывается — и заключительные стихи недаром полны предчувствием безвременного конца.
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим[501].
Перед смертью Пушкин хотел вернуться к Онегину — не потому, чтобы этого требовал сюжет поэмы, но он чувствовал, что слишком многое оставалось невысказанным. Иногда, несколькими строками чернового наброска, намекает он на целую неведомую сторону души своей, на целый мир, ушедший с ним навеки. Пушкин — не Байрон, которому достаточно 25 лет, чтобы прожить человеческую жизнь и дойти до пределов бытия. Пушкин — Гёте, спокойно и величественно развивающийся, медленно зреющий; Гёте, который умер бы в 37 лет, оставив миру Вертера и несвязные отрывки первой части Фауста. Вся поэзия Пушкина — такие отрывки, membra disjecta[502], разбросанные гармонические члены, обломки мира, создатель которого умер.
Теперь стою я, как ваятель В своей великой мастерской.
Передо мной — как исполины,
Недовершенные мечты!
Как мрамор, ждут они единой Для жизни творческой черты…
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог!..
О, умирай я, как бог Средь начатого мирозданья[503]!
Смерть Пушкина — не простая случайность. Драма с женою, очаровательною Nathalie, и ее милыми родственниками — не что иное, как в усиленном виде драма всей его жизни: борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только довершила то, к чему постепенно и неминуемо вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению, возвращаясь к сердцу народа, все более отрывался он от так называемого «интеллигентного» общества, становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен, казался «кромешником», как он сам себя называл с горькою иронией. Кто знает? — если бы не защита государя, может быть, судьба его была бы еще более печальной? Во всяком случае, преждевременная гибель — только последнее звено роковой цепи, начало которой надо искать гораздо глубже, в первой молодости поэта.
Когда читаешь жизнеописание Гёте[504], убеждаешься, что подобное творчество есть взаимодействие народа и гения. Здесь сказалась возвышенная черта германского народа: умение чтить великого, лелеять и беречь его, уравнивать ему все пути[505]. Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гёте, Шекспиром, Данте, Гомером — места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горестной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина.
Политические увлечения его были поверхностны. Впоследствии он искренне каялся в них как в заблуждениях молодости. В самом деле, Пушкин менее всего был рожден политическим бойцом и проповедником. Он дорожил свободою как внутреннею стихией, необходимою для развития гения. Тем не менее в страшных, испытанных им гонениях поэт имел случай познать меру того варварства, с которым ему суждено было бороться всю жизнь. Летом 1824 года Пушкин пишет из Одессы в порыве отчаяния: «Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника; мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мною менее уважительно, нежели с любым английским балбесом, приезжающим предъявлять нам свою пошлость, неразборчивость и свое бормотание»[506]. В черновом наброске письма из ссылки к императору Александру Благословенному, — письма, написанного в середине 1825 года и не отосланного, Пушкин объясняет государю: «В 1820 году разнесся слух, будто я был отвезен в канцелярию и высечен. Слух был общим и до меня дошел до последнего. Я увидал себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние; я метался в стороны, мне было 20 лет. Я соображал, не следует ли мне прибегнуть к самоубийству… Я решился высказать столько негодования и наглости в своих речах и своих писаниях, чтобы, наконец, власть вынуждена была обращаться со мною как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости как восстановления чести»[507].
«На меня и суда нет. Я hors de loi[508], — пишет он Жуковскому осенью 24 года из Михайловского. — Шутка эта (столкновение поэта с отцом) пахнет каторгой… Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем»[509].
Сохранилась официальная бумага Пушкина к псковскому губернатору, генералу фон Адеркас: «Решаюсь для спокойствия моего отца и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства»[510].
В самом деле Пушкин находился на краю гибели.
Было бы совершенно несправедливо на основании этих данных делать из него политического страдальца, тайного революционера. Многое в тогдашних увлечениях его и крайностях следует приписать юношеской силе воображения, необузданной страстности темперамента. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы русская действительность встретила величайшего из русских людей приветливо. Вот, кстати, из биографии поэта одна подробность, которая может казаться мелочной, но ведь из таких ничтожных культурных подробностей слагается та окружающая среда, в которой гений растет или погибает. У Пушкина была болезнь сердца; следовало сделать операцию. Он молил, как милости, позволения уехать за границу. Ему отказали, предоставив лечиться у В. Всеволодова — автора «Сокращенной патологии скотоврачебной науки» — «очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по книге о лечении лошадей», — замечает Пушкин[511]. Представьте себе Гёте, которому пришлось бы лечиться от аневризма у ветеринара.
Из первой борьбы с русским варварством поэт вышел победителем. В романтических скитаниях по степям Бессарабии, по Кавказу и Тавриде находит он новые неведомые звуки на своей лире. Теперь он чувствует жажду беспредельной внутренней свободы, которую противополагает пустоте и ничтожеству всех внешних политических форм:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними!.. Никому Отчета не давать; себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там.
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права[512]!
Потребность этой «высшей свободы» привела Пушкина ко второму столкновению с русским варварством, менее страстному и бурному, чем его политические увлечения, но более глубокому и безысходному, — столкновению, которое было главною внутреннею причиной его преждевременной гибели. Многозначительны в устах Пушкина следующие слова, даже если они вырвались в минуту необдуманного раздражения: «Я конечно презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» (Письмо к Вяземскому из Пскова, 1826)[513].
А вот другое, более хладнокровное, но не менее безотрадное суждение об условиях русской культуры. Эти строки, прямо идущие от сердца, пишет он о своем друге Баратынском, хотя невольно чувствуется, что Пушкин говорит здесь и о себе самом: «Поэт отделяется от них (от читателей) и мало–помалу уединяется совершенно. Он творит для себя, и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных в свете». Пушкин отмечает отсутствие критики и общего мнения у русской публики: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писателей ограничен и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке', без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам… Правда, что довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, — тем не менее их приговоры имеют решительное влияние»[514].
Лучшим показателем той культурной атмосферы, в которой приходилось действовать Пушкину, может служить его отношение к типическому представителю русской пошлости в журналистике, Булгарину. Поэт пишет Плетневу о Повестях Белкина, которые считает более благоразумным печатать анонимно: «под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Итак русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!»[515]. По поводу неуспеха романа Булгарина Выжигин поэт восклицает с недоумением: «Выжигин приплыл и в Москву, где, кажется, приняли его довольно сухо. Что за дьявольщина? Неужели мы вразумили публику? Или сама догадалась, голубушка? А кажется, Булгарин так для нее создан, а она для него, что им вместе жить, вместе и умирать»[516].
Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собственный дом в лице родственников жены. У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы услаждать долю петербургского чиновника тридцатых годов. Пушкин чувствовал, что приближается к развязке, к последнему действию трагедии.
«Nathalie неохотно читает все, что он пишет, — замечает А. О. Смирнова, — семья ее так мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как государь сделал его историографом Империи и в особенности камер–юнкером. Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру (Пушкина) скрежетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены: нако
нец‑то вы, как все\ У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как государь к вам благоволит»[517].
Незадолго перед смертью он говорил Смирновой, собиравшейся за границу: «увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как вчера он советовал мне поговорить с Государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но все семейство поднимет гвалт. Я смотрю на Неву и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход… Если бы я это сделал, что бы сказали? Сказали бы: он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется уехать очень, очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной вместо всякого общества. Впрочем, у меня есть предчувствия, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней»[518].
19 октября 1836 года, придя на свой последний лицейский праздник, Пушкин извинился, что не докончил обычного годового стихотворения, и сам начал читать его:
Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды И юности, и всех ее затей.
Теперь не то…[519]
Он не кончил — слезы полились из глаз его, и стихи были дочитаны одним из, товарищей. Те, кто могут себе представить его необычайную бодрость ясность духа, никогда не изменявшую ему жизнерадостность, должны понять, что значат эти предсмертные слезы Пушкина.
Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры — причина недовершенности пушкинской поэзии — в то же время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность — простота.
Высокая степень культуры может быть опасной для источников поэтического чувства, удаляя нас от того ночного, бессознательного и непроизвольного, во что погружены, чем питаются корни всякого творчества.
Музы любят утренние сумерки, подстерегают первое пробуждение народов к сознательной жизни. Для возникновения великого искусства необходима некоторая свежесть и первобытность впечатлений, молодость, даже детскость народного гения.
Пушкин — поэт такого народа, только что проснувшегося от варварства, но уже чуткого, жадного ко всем формам культуры, несомненно предназначенного к участию в мировой жизни духа.
Гёте чувствовал потребность освободиться от всех искажающих призм, от тысячелетней пыли человеческой культуры, вернуться к первобытной ясности созерцания. Вот почему старался он приблизиться к простоте древних греков; конечно, это — чистейшая призма, но все‑таки — призма.
Пушкин — единственный из новых мировых поэтов — ясен, как древние эллины, оставаясь сыном своего века. В этом отношении он едва ли не выше Гёте, хотя не должно забывать, что Пушкину приходилось сбрасывать с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем германскому поэту.
«Сочинения Пушкина, — говорит Гоголь, — где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух; потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина»[520].
Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный Храпит — и путник осторожный Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок Их не зовет его рожок;
В избушке, распевая, дева Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней[521].
С такою именно простотою описывает Гомер картины эллинской жизни, также не заботясь о прекрасном, — рассказывая, как его герои едят, спят, умываются, как царская дочь Навзикая полощет белье на речке, — и все выходит прекрасным, как из рук Творца. Не все ли равно, унылые и уютные зимние пейзажи русской деревни или цветущие острова Ионического моря? — оба художника смотрят на мир детскими, полными любопытства глазами. Для них нет нашего разделения на прозу и поэзию, на будни и праздники, на красивое и некрасивое. Все прекрасно, все необычайно: земля и небо как будто только что созданы. И легкие узоры мороза на стеклах, и веселые сороки на дворе, и горы, устланные блистательным ковром зимы, и крестьянская лошадка, плетущаяся рысью, и ямщик в тулупе, и мальчик, посадивший жучку в салазки, — все это дает ощущение такой свежести, такой радости, какие бывают только в первоначальном детстве. В поэзии Пушкина и Гомера чувствуется спокойствие природы. Здесь и вдохновение — не восторг, а последнее безмолвие страсти, последняя тишина сердца. Пушкин как мыслитель хорошо сознавал эту необходимость спокойствия во всяком творчестве, и эти слова, в которых он противополагает вдохновение восторгу, может быть, дают ключ к самому сердцу его музы: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силу ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвесть истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого»[522].
В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отречения от жизни[523], Пушкин в своей простоте — явление единственное, почти невероятное. В наступающих сумерках, когда лучшими людьми века овладевает ужас перед будущим и смертельная скорбь, Пушкин один преодолевает дисгармонию Байрона, достигает самообладания, вдохновения без восторга и веселия в мудрости — этого последнего дара богов[524].
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!..
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма[525]!
Вот мудрость Пушкина. Это — не аскетическое самоистязание, жажда мученичества во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это — заздравная песня Вакху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей — красота. Русская литература, которая и в действительности вытекает из Пушкина и сознательно считает его своим родоначальником, изменила главному его завету: «да здравствует солнце, да скроется тьма!». Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти. Шестидесяти лет не прошло со дня кончины Пушкина — и все изменилось. Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя; самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодезь; бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту, бегство Льва Толстого от ужаса смерти в жалость — только ряд ступеней, по которым мы сходили все ниже и ниже, в «страну тени смертной»[526].
Таким он был и в жизни: простой, веселый, менее всего походивший на сурового проповедника или философа, — этот беспечный арзамасский «Сверчок», «Искра», — маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуту вдохновенья. Таким описывает его Смирнова. Тихие беседы Пушкин любит обрывать смехом, неожиданною шуткою, эпиграммою. Между двумя разговорами об истории, религии, философии все члены маленького избранного общества веселятся, устраивают импровизированный маскарад, бегают, шалят, смеются, как дети. И самый резвый из них, зачинщик самых веселых школьнических шалостей — Пушкин. Он всех заражает смехом. «В тот вечер, — записывает однажды Смирнова, — Сверчок (т. е. Пушкин) так смеялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что когда будет умирать — для храбрости пошлет за ним»[527].
В нем нет и следа литературного педантизма и тщеславия, которым страдают иногда и очень сильные таланты. Пушкин всегда недоволен своими произведениями: он признается Смирновой, что всего прекраснее ему кажутся те стихи, которые случается видеть во сне и которых невозможно запомнить. Он работает над формой, гранит ее, как драгоценный камень. Но, когда стихотворение кончено, не придает ему особенной важности, мало заботится о том, что скажут оценщики. Искусство для него — вечная игра. Он лелеет неуловимые звуки — неписанные строки. Поверхностным людям, привыкшим воображать себе гения в торжественном ореоле, такое отношение к искусству кажется легкомысленным. Но людей, знающих ум и сердце Пушкина, эта детская простота очаровывает. «Пушкин прочитал нам стихи, — говорит Смирнова, — которые я и передам Государю, когда они будут переписаны, а пока он кругом нарисовал чертиков и карикатурные портреты. Я никого не встречала, кто бы придавал себе меньшее значение. Он напишет образцовое произведение, а на полях нарисует чертенка и собственную карикатуру в виде негра в память предка Ганнибала»[528].
Этою веселостью проникнуты и сказки, подслушанные поэтом у старой няни Арины, и письма к жене, и эпиграммы, и послания к друзьям, и Евгений Онегин. Некоторые критики считали величайший из русских романов подражанием байронову Дон–Жуану. Несмотря на внешнее сходство формы, я не знаю произведений более отличных друг от друга по духу. Веселая мудрость Пушкина[529] не имеет ничего общего с едкою иронией Байрона. Веселость Пушкина — лучезарная, играющая, как пена волн, из которых вышла Афродита. В сравнении с ним все другие поэты кажутся тяжкими и мрачными — он один, светлый и легкий, почти не касаясь земли, скользит по ней, как эллинский бог…
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи Струя и брызги золотые[530].
Пушкин не закрывает глаз на уродство и пошлость обыкновенной жизни. Описав смерть Ленского, поэт задумывается над участью безвременно погибшего романтика, которого,
Быть может, на ступенях света Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою Святую тайну, и для нас Погиб животворящий глас.
И за могильною чертою К ней не домчится гимн времен,
Благословения племен[531].
Но Пушкин никогда не кончает лиризмом; тотчас же показывает он другую сторону жизни:
А может быть и то: поэта Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат.
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постели Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей[532].
Этот ужас обыкновенной жизни русский поэт преодолевает не брезгливым, холодным презрением, подобно Гёте, не желчной иронией, подобно Байрону, — а все тою же светлою мудростью, вдохновением без восторга, непобедимым веселием:
Так, полдень мой настал, и нужно Мне в том сознаться, вижу я.
Но, так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары Благодарю тебя. Тобою Среди тревог и в тишине Я насладился… и вполне, —
Довольно! С ясною душою Пускаюсь ныне в новый путь От жизни прошлой отдохнуть[533].
Вот как выражается то же настроение в переводе на будничную прозу: «Опять хандришь, — пишет он Плетневу из Царского Села в 1831 году. — Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и
Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчики будут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам‑то и любо. Вздор, душа моя… Были бы мы живы, будем когда‑нибудь и веселы»[534].
Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти.
Вот. другой великий писатель. Всю жизнь отдал он одной цели. Делал неимоверные усилия над собой; над всеми соблазнами мира писал страшные слова: «Мне отмщение и Аз воздам»[535]; разрушал все милые, легкие преграды жизни, чтобы заглянуть в лицо смерти; подобно древним аскетам, отрекался не только от мяса, вина, женщин, славы, денег, но и от искусства, науки, отечества, от всякого движения воли; заставил участвовать мир в своей агонии[536]. Сколько поколений заразил он своим ужасом, измучил своими терзаниями! И что же? Купил ли он евангельскую жемчужину[537]? Победил ли он смерть? Мы не знаем. Но каждый раз, как он говорит людям: «Вот мудрость, другой нет, — не ищите; я успокоился, я не боюсь больше смерти, и вы не бойтесь», — каждый раз сквозь утешительные слова все яснее ощущается холод ужаса. Все безобразнее нечеловеческий крик предсмертной агонии Ивана Ильича[538]. И несмотря на все успокоения, евангельские притчи, буддийские кармы, — смерть, которую возвещает он людям, становится все проще, все страшнее.
Пушкин говорит о смерти спокойно, как люди, близкие к природе, как древние эллины и те русские мужики, бесстрашию которых Толстой завидует. «Прав судьбы закон. Все благо: бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход»[539].
«Я много думаю о смерти», — признается он Смирновой[540]. Об этом же говорится в одном из лучших его стихотворений:
День каждый, каждую годинуПривык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину Меж них стараясь угадать[541].
Но постоянная дума о смерти не оставляет в сердце его горечи, не нарушает ясности его души:
Пируйте же, пока еще мы тут,
Увы, наш круг час от часу редеет,
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет,
Судьба глядит; мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему… [542]
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья[543]!..
Он не жертвует для смерти ничем живым. Он любит красоту, и сама смерть пленяет его «красою тихою, блистающей смиренно», как осени «унылая пора, очей очарованье». Он любит молодость, и молодость для него торжествует над смертью:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое… Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев И старую главу их заслонишь…[544]
Он любит славу, и слава не кажется ему суетной даже перед безмолвием вечности:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал,
Но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук[545].
Он любит родную землю:
И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать[546].
Он любит страдания, и в этом его любовь к жизни достигает последнего предела:
Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать[547].
Среди скорбящих, бьющих себя в грудь, проклинающих, дрожащих перед смертью, как будто из другого мира, из другого века, доносится к нам божественное дыхание пушкинского героизма и веселия:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа Красою вечною сиять[548].
Если предвестники будущего Возрождения не обманывают нас, то человеческий дух от старой, плачущей, перейдет к этой новой мудрости, ясности и простоте, завещанным искусству Гёте и Пушкиным.
II
Достоевский отметил удивительную способность Пушкина приобщаться ко всяким, даже самым отдаленным культурным формам, чувствовать себя как дома у всякого народа и времени[549]. Автор Преступления и наказания видел в этой способности характерную особенность русского племени, предназначенного для объединения враждующих человеческих племен в единой мировой жизни духа, основанной на христианской любви. Достоевский взял мысль Гоголя, только расширив и углубив ее. «Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем (Пушкине) отклик, — говорит Гоголь, — и как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариною времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног; все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем»[550].
Способность Пушкина перевоплощаться, переноситься во все века и народы свидетельствует о могуществе его культурного гения. Всякая историческая форма жизни для него понятна и родственна, потому что он овладел, подобно Гёте, первоисточниками всякой культуры. Гоголь и Достоевский полагали эту объединяющую культурную идею в христианстве. Но мы увидим, что миросозерцание Пушкина[551] шире нового мистицизма, шире язычества. Если Пушкин не примиряет этих двух начал, то он по крайней мере подготовляет возможность грядущего примирения.
Ни Гоголь, ни Достоевский не отметили в творчестве Пушкина одной характерной особенности, которая, однако, отразилась на всей последующей русской литературе: Пушкин первый из мировых поэтов с такою силою и страстностью выразил вечную противоположность культурного и первобытного человека. Эта тема должна была сделаться одним из главных мотивов русской литературы.
Уже Баратынский, сверстник Пушкина, высказывал сомнения в благах культуры и знания[552]. Противоположение спокойствия и красоты природы суете и уродству людей — вот главный источник поэзии Лермонтова. Тютчев еще более углубил этот мотив, отыскав в самом сердце человека древний хаос — то дикое, страшное, ночное, что отвечает из глубины нашей природы на голоса стихий, на завывание урагана, который «понятным сердцу языком твердит о непонятной муке, и ноет, и взрывает в нем порой неистовые звуки»[553].
Поэзию первобытного мира, которую русские лирики выражали малодоступным, таинственным языком, — русские прозаики превратили в боевое знамя, в поучение для толпы, в благовестие. Достоевский противополагает культуре «гнилого Запада» вселенское призвание русского народа, великого в своей простоте. Вся проповедь Достоевского не что иное, как развитие мистических настроений Гоголя, как призыв прочь от культуры, основанной на выводах безбожной науки, — призыв к отречению от гордости разума, к смирению, к «безумию во Христе». Наконец, сомнения в благах западной культуры — неясный шепот Сибиллы у Баратынского — Лев Толстой превратил в громовый воинственный клич; любовь к природе Лермонтова, его песни о безучастной красоте моря и неба — «в четыре упряжки»[554], в полевую работу; христианство Достоевского и Гоголя, далекое от действительной жизни, священный огонь, пожиравший их сердца — в страшный циклопический молот, направленный против главных устоев современного общества. Но всего замечательнее, что это русское возвращение к природе — русский бунт против культуры — первый выразил Пушкин, величайший гений культуры среди наших писателей:
Когда б оставили меня На воле, как бы резво я Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных грез.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса[555].
Это — жажда стихийной свободы, не удовлетворяемая никакими формами человеческого общежития, тоска по родине, тяготение к хаосу, из которого вышел дух человека и в который он должен вернуться. Не все ли равно, правильно или беззаконно построены стены темницы? Всякая внешняя культурная форма есть насилие над свободою первобытного человека. Зверь в клетке, вечный узник, смотрит он сквозь тюремную решетку на дикого товарища, вскормленного на воле молодого орла, который
Зовет его взглядом и криком своим,
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..»[556].
Вот идеал свободы, от века заключенный в сердце человеческом, выраженный с такой простотою и ясностью, какие свойственны только поэзии Пушкина. В конце своей жизни он задумывал поэму из народного быта — Стенька Разин, героический образ которого давно уже преследовал и пленял его[557]. В самом деле, нет жизни, в которой проявлялось бы большее невнимание и неспособность ко всяким твердым, законченным построениям, чем русская жизнь. Нет пейзажа, в котором бы чувствовалось больше простора и воли, чем наши степи и леса. Нет песни более унылой, покорной и вместе с тем более поражающей взрывами разгула и возмущения, чем русская песня. Какова песня народа — такова и литература: явно проповедующая смирение, жалость, непротивление злу, втайне мятежная, полная постоянно возвращающимся бунтом против культуры. Самый светлый и жизнерадостный из русских писателей — Пушкин включает в свою гармонию звуки из песен молодого народа, полуварварского, застигнутого, но не укрощенного ни византийской, ни западной культурою, все еще близкого к своей природе.
Впервые коснулся Пушкин этого мотива[558] в лучшей из юношеских поэм своих — в Кавказском пленнике. Пленник — первообраз Алеко, Евгения Онегина, Печорина — русских представителей мировой скорби:
Людей и свет изведал он.
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашел измену,
В мечтах любви — безумный сон,
Наскучив жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Свобода, он одной тебя
Еще искал в подлунном мире [559] .
Пленник сам о себе говорит любящей его девушке:
Любил один, страдал один,
И гасну я как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин[560].
Это бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты, — истощение самых родников жизни, окаменение сердца, есть не что иное, как знакомая нам болезнь культуры, проклятие людей, слишком далеко отошедших от природы. Пленник, может быть, и хотел бы, но уже не умеет разделить с дикой черкешенкой ее простую любовь, так же как Евгений Онегин не умеет ответить на девственную любовь Татьяны, как Алеко не понимает первобытной мудрости старого цыгана:
Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою…
Как тяжко мертвыми устами Живым лобзаньям отвечать,
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать[561]!
Недуг, порождаемый условностями человеческого общежития, еще более выясняется по контрасту с простотою жизни дикарей. Поэт не идеализирует кавказских горцев, как Жан–Жак Руссо своих американских дикарей, как итальянские авторы пасторалей XVI века своих аркадских пастухов. Дикари Пушкина — кровожадны, горды, хищны, коварны, гостеприимны, великодушны: они таковы, как окружающая их страшная и щедрая природа. Пушкин первый осмелился сопоставить
культурного человека с неподдельными, неприкрашенными людьми природы.
В Кавказском пленнике, произведении юношеском, в котором еще много неопределенного и недосказанного, мы находим только намеки на то, что в Цыганах выражено с полной ясностью. Здесь гений Пушкина сразу достигает зрелости[562]. Философский и драматический мотив в Цыганах тот же, как и в Кавказском пленнике. За тем же «веселым призраком свободы» бежит Алеко в дикий табор Цыган из тюрьмы современной культуры:
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен, как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни…[563]
Картины жизни в мирных степях Бессарабии не похожи на воинственный быт горцев, но прелесть дикой воли та же:
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай, и завыванье,
Волынки говор, скрып телег —
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все так живо–неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной[564].
Вот как убаюкивает Алеко своего сына:
Останься посреди степей:
Безмолвны здесь предрассужденья И нет их раннего гоненья Над дикой люлькою твоей…
Под сенью мирного забвенья Пускай цыгана бедный внук Не знает нег и пресыщенья И пышной суеты наук[565].
Культурный человек воображает, что может вернуться к первобытной простоте, к беззаботной жизни Божьей птички, которая «хлопотливо не свивает долговечного гнезда». Он обманывает себя, не видит или не хочет
видеть непереступной бездны, отделяющей его от природы. Мечтатель только тешит себя, только играет в свободу с дикарями:
Подобно птичке беззаботной,
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал И ни к чему не привыкал…[566]
Ошибка Алеко заключается в том, что он отрекся лишь от внешних, поверхностных форм культуры, а не от внутренних ее основ. Он надеется, что страсти культурного человека в нем умерли, но они только дремлют:
Они проснутся: погоди!
Вот как судит Алеко ту жизнь, от которой бежал:
О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала Неволю душных городов!
Там люди в кучах, за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов.
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей[567].
Вся проповедь Льва Толстого против городской жизни, внешней власти, денег есть только развитие, повторение того, чему Пушкин в этих немногих словах дал неистребимую форму совершенства.
В негодовании Алеко слишком много страстного порыва, слишком мало спокойной мудрости — единственного, что возвращает людей к их божественной природе. Отец Земфиры — старый цыган — обладает этой мудростью. Рассказ о жизни изгнанника Овидия на берегах Дуная есть дивное откровение поэзии младенческих народов[568]. Дикари полюбили неведомого пришельца Овидия, чувствуя в нем родную стихию — свою волю, свою простоту. В житейских делах поэт беспомощнее, чем они сами:
Не разумел он ничего,
И слаб, и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика[569].
Вот в первобытной жизни — зародыши высшей, еще ни разу в истории не осуществленной культуры: дикари преклоняются перед гением. Это единственная власть, которую они признают. Они чтут как святого этого слабого, бледного, иссохшего, ничего не разумеющего старика, у которого — «песен дивный дар и голос, шуму вод подобный».
Но Алеко ужаснулся бы бездны, отделяющей его от природы, если бы мог понять старого цыгана, для которого нет добра и зла, нет позволенного и запрещенного. Любовь женщины кажется этому естественному философу высшим проявлением свободы. Алеко смотрит на любовь как на закон, как на право одного человека обладать нераздельно телом и душою другого. Любовь для него — брак. Для старого цыгана и Земфиры любовь — такая же прихоть сердца, не подчиненная никаким законам, как вдохновение дикой песни, голос которой «подобен шуму вод». Первобытная поэзия воли слышится в песне цыганки, издевающейся над правом собственности в любви, над ревностью мужа:
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя.
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю, любя[570].
Алеко не выносит свободы — обнаженной правды в любви. Цыган жалеет Алеко, но не может скрыть от него, что одобряет Земфиру, которая изменила мужу и выбрала себе любовника по прихоти сердца, по единственному верховному закону любви. Любовь — игра, случай, стихийный произвол. Какая может быть в ней верность и ревность, какое добро и зло, когда все упоение любви заключается в том, что она вне добра и зла?
Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом Равно сиянье льет она;
Кто место в небе ей укажет,
Промолви: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись[571]!
Эта последняя свобода приводит к последнему всепрощению — к божественному милосердию Франциска Ассизского. И его религия была возвратом к детской простоте и невинности.[572]
Птичка Божия не знает Ни заботы, ни труда…
Этот гимн первобытной беспечности напоминает лучшие молитвы, сложенные на цветущих холмах Назарета или в долинах Умбрии. Это — звуки, как будто прилетевшие из незапамятной древности, когда человек и природа были еще одно. Алеко — культура и язычество; старый цыган — природа и милосердие.
К чему? Вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.
«Я не таков, — отвечает Алеко дикарю, — нет, я, не споря, от прав моих не откажусь»[573].
Во имя этого права и закона в любви, которые он называет честью и верностью, Алеко совершает злодеяние. Быть может, во всей русской литературе не сказано ничего более глубокого об отношении первобытного и современного человека, об отношении культуры и природы, чем немногие слова, которые старый цыган произносит, прощаясь с Алеко:
Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли.
Ты для себя лишь хочешь воли:
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас;
Прости! да будет мир с тобою[574].
И табор опять подымается шумною толпою, и «скоро все в дали степной сокрылось». Вечные дети первобытной природы продолжают свой путь без конца и начала, без надежды и цели. Журавли улетают, только один уже не имеет силы подняться, «пронзенный гибельным свинцом, один печально остается, повиснув раненым крылом». Это — бедный Алеко, современный человек, возненавидевший темницу общежития и не имеющий силы вернуться к природе.
Пушкин верен себе: он не преувеличивает, подобно Льву Толстому, счастья и добродетелей первобытных людей. Он знает, что смысл всякой жизни — трагический, что величайшая свобода, доступная человеку, есть только величайшая покорность воле природы:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами Живут мучительные сны;
И ваши сени кочевые В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет[575].
В Галубе Пушкин возвратился к теме Цыган и Кавказского пленника. Теперь в первобытной жизни, которая некогда противополагалась европейской культуре как нечто единое, поэт изображает глубокий разлад, присутствие непримиримо борющихся нравственных течений. Жестокость магометанина Галуба вытекает из того же понятия о праве, как и жестокость Алеко. Оба они говорят теми же словами о кровавом долге, о мщении:
Ты долга крови не забыл…
Врага ты навзничь опрокинул…
Не правда ли? Ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул И трижды тихо повернул?..[576]
Галуб считает себя выше дикого, праздного и презренного Тазита, так же как Алеко считает себя выше старого цыгана, не признающего ни закона, ни чести, ни брака, ни верности: преимущества обоих основаны на исполнении кровавого долга, на воздаянии врагу, на понятии антихристианской беспощадной справедливости — fiat jus[577].
И старый цыган, и Тазит чужды этим культурным понятиям о справедливости. Оба они — вечные бродяги, питомцы дикой праздности и воли, смешные или страшные людям мечтатели[578].
Среди культурных людей, правоверных сынов пророка, Тазит кажется неприрученным зверем:
Но Тазит
Все дикость прежнюю хранит.
Среди родимого аула
Он все чужой; он целый день
В горах один молчит и бродит.
В мирном созерцании природы Тазит так же, как старый цыган, почерпает свою бесстрастную, всепрощающую мудрость:
Он любит по крутым скалам
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая буре голосистой И в бездне воющим волнам.
Он иногда до поздней ночи Сидит, печален, над горой,
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дольнего куда Младые сны его уводят?..[579]
В самом обширном из своих произведений — Евгении Онегине — Пушкин еще раз вернулся к преследовавшей его всю жизнь драматической и философской теме Кавказского пленника, Цыган, Галуба. Та глубокая противоположность Евгения Онегина и Татьяны, на которой основано драматическое действие поэмы, есть не что иное, как противоположность Пленника и Черкешенки, Алеко и Цыгана, Галуба и Тазита.
Герой поэмы, очерченный слишком поверхностно, по замыслу Пушкина, должен быть представителем западного просвещения. Это «современный человек» —
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом[580].
Недостаток поэмы заключается в том, что автор не вполне отделил героя от себя и потому относится к нему не вполне объективно. Кажется иногда, что поэт в Онегине хочет казнить увлечения своей молодости, байронические грехи:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес.
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак иль еще
Москвич в гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он[581]?
Существует глубокая связь Онегина с героями Байрона, так же как с Печориным и Раскольниковым, с Алеко и Кавказским пленником. Но это не подражание — это русская, в других литературах небывалая попытка развенчать демонического героя. Евгений Онегин отвечает уездной барышне с таким же высокомерным самоуничижением, сознанием своих культурных преимуществ перед наивностью первобытного человека, как Пленник — Черкешенке:
…Но я не создан для блаженства:
Ему чужда душа моя:
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я…
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать — ваши слезы Не тронут сердца моего…[582]
Он утешает ее, опять повторяя слова Пленника:
Сменит не раз младая дева Мечтами легкие мечты…
Полюбите вы снова…[583]
Во имя того, что он называет долгом и законом чести, Онегин, так же как Алеко, совершает убийство.
Враги! Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине Готовят гибель хладнокровно…
Не засмеяться ль им, пока Не обагрилась их рука.
Не разойтись ли полюбовно?..
Но дико светская вражда Боится ложного стыда [584].
Вся жизнь его основана на этом ложном стыде. Вот куда зовет он Татьяну из рая ее невинности, вот с какой высоты читает ей свои нравоучения. Этот гордый демон отрицания оказывается рабом того, что скажет негодяй Зарецкий.
Конечно, быть должно презренье Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов —
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир[585]!
Онегин не способен ни к любви, ни к дружбе, ни к созерцанию, ни к подвигу. Как Алеко — по выражению старого цыгана — он «зол и смел». Как Печорин и Раскольников, он — убийца, и преступление его так же лишено силы и величия, как и его добродетели. Он вышел целиком из ложной, посредственной и буржуазной культуры.
Он — чужой, нерусский, туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни. Татьяна вся — родная, вся из русской земли, из русской природы, загадочная, темная и глубокая, как русская сказка:
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы:
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что‑нибудь.
Предчувствия теснили грудь…
Что ж? Тайну прелесть находила И в самом ужасе она…[586]
Душа ее — проста, как душа русского народа. Татьяна — из того сумеречного, древнего мира, где родились Жар–Птица, Иван–Царевич, Баба–Яга, — «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», «там русский дух, там Русью пахнет». Единственный друг Татьяны — старая няня, которая нашептала ей сказки волшебной старины. Подобно Цыгану, она почерпает великую покорность и простоту сердца в тихом созерцании тихой природы. Подобно Тазиту, дикая и чужая в родной семье, она, как пойманный олень, «все в лес глядит, все в глушь уходит».
Татьяна бесконечно далека от того блестящего лживого мира, в котором живет Онегин. Как она могла полюбить его? Но сердце ее «горит и любит оттого, что не любить оно не может»[587]. Любовь — тайна и чудо. Татьяна отдается любви, как смерти и року. Начало любви в Боге:
То в высшем суждено совете…
То воля неба — я твоя;
Вся жизнь моя была залогом Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…
Не правда ль? Я тебя слыхала Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души[588].
И мимо этого святого чуда любви Онегин проходит с мертвым сердцем. Он исполняет долг чести, выказывает себя порядочным человеком и отделывается от незаслуженного дара, посланного ему Богом, несколькими незначительными словами о скуке брачной жизни. В этом бессилии любить, больше, чем в убийстве Ленского, обнаруживается весь ужас того, чем Онегин, Алеко, Печорин гордятся как высшим цветом западной культуры. На слова любви, которыми природа, невинность, красота зовут его к себе, он умеет ответить только практическим советом:
Учитесь властвовать собою.
Не всякий вас, как я, поймет,
К беде неопытность ведет[589].
Татьяна послушалась Онегина, вошла в тот мир, куда он звал ее. Она является теперь своему строгому учителю —
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной царственной Невы[590].
Она научилась «властвовать собою». При первой встрече с Онегиным на балу —
Княгиня смотрит на него…
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон[591].
Это самообладание есть цвет культуры — аристократизм, — то, что более всего в мире противоположно первобытной, вольной природе.
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой, сей небрежной Законодательнице зал?..[592]
Только теперь сознает Онегин ничтожество той гордыни, которая заставила его презреть божественный дар — простую любовь, и с такою же холодною жестокостью оттолкнуть сердце Татьяны, с какою он обагрил руки в крови Ленского[593].
Благородство Онегина проявляется в яркости вспыхнувшего в нем сознания, в силе ненависти к своей лжи:
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой —
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан[594]!
Весь ужас казни наступает в то мгновение, когда он узнает, что Татьяна по–прежнему любит его, но что эта любовь так же бесплодна и мертва, как его собственная. Онегин застает ее за чтением его письма:
О, кто б немых ее страданий В сей быстрый миг не прочитал?
Кто прежней Тани, бедной Тани Теперь в княгине б не узнал!..
Простая дева,
С мечтами, с сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней[595]!
Суд «простой девы» над героем современной культуры такой же глубокий и всепрощающий, как суд дикого цыгана над исполнителем кровавого закона чести, Алеко:
Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была.
И я любила вас, и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ?..
…Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась?..
Что ж ныне Меня преследуете вы?..[596]
В сердце Татьяны есть еще неистребимый уголок первобытной природы, дикой воли, которых не победят никакие условности большого света, никакие «приемы утеснительного сана». Свежестью русской природы веет от этого безнадежного возврата к потерянной простоте, который должен был ослепить Онегина новой, неведомой ему прелестью в Татьяне:
А мне, Онегин, пышность эта —
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище.
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей…
А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя Уж решена…
…Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана —
Я буду век ему верна[597].
Последние слова княгиня произносит мертвыми устами, и опять окружает ее ореол «крещенского холода», и опять между Онегиным и ею открывается непереступная, как смерть, ледяная бездна долга, закона, чести, брака, общественного мнения, — всего, чему Онегин пожертвовал любовью ребенка. В последний раз она показывает ему, что воспользовалась его уроком — научилась «властвовать собою», заглушать голос природы. Оба должны погибнуть, потому что поработили себя человеческой лжи, отреклись от любви и природы. Оба должны «ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоении света»[598].
То, что нерешительно и слабо пробивается, как первая струя нового течения, в Кавказском пленнике, что достигает зрелости в Цыганах и Галубе, получает здесь, в заключительной сцене первого русского романа, совершенное выражение. Пушкин Евгением Онегиным очертил горизонт русской литературы, и все последующие писатели должны были двигать–ся и развиваться в пределах этого горизонта. Жестокость Печорина и доброта Максима Максимовича, победа сердца Веры над отрицанием Марка Волохова, укрощение нигилиста Базарова ужасом смерти, смирение Наполеона–Раскольникова, читающего Евангелие, наконец, вся жизнь и все творчество Льва Толстого — вот последовательные ступени в развитии и воплощении того, что угадано Пушкиным[599].
«Я думаю, — замечает Смирнова, — что Пушкин — серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: „вот единственная книга в мире — в ней все есть”»[600]. Барант сообщает Смирновой после одного философского разговора с Пушкиным: «я и не подозревал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышлял над Евангелием»[601]. «Религия, — говорит сам Пушкин, — создала искусство и литературу, — все, что было великого с самой глубокой древности: все находится в зависимости от религиозного чувства… Без него не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности»[602].
Незадолго до смерти он увидел в одной из зал Эрмитажа двух часовых, приставленных к Распятию Брюллова. «Не могу вам выразить, — сказал Пушкин Смирновой, — какое впечатление произвел на меня этот часовой; я подумал о римских солдатах, которые охраняли гроб и препятствовали верным ученикам приближаться к нему». Он был взволнован и по своей привычке начал ходить по комнате. Когда он уехал, Жуковский сказал: «Как Пушкин созрел и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верующий, чем я»[603]. По поводу этих часовых, которые не давали ему покоя, поэт написал одно из лучших своих стихотворений:
К чему, скажите мне, хранительная стража,
Или распятие — казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим Владыку, тернием венчанного колючим.
Христа, предавшего послушно плоть свою Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ[604]?
Символ божественной любви, превращенный в казенную поклажу, часовые, приставленные Бенкендорфом к распятию, конечно, это — с точки
зрения эстетического и религиозного чувства — великое уродство. Но не на нем ли основано все многовековое строение культуры? Вот что сознавал Пушкин не менее чем Лев Толстой, хотя возмущение его было сдержанное. Природа — дерево жизни; культура — дерево смерти, Анчар.
Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом…
На этом первобытном насилии воздвигается вся вавилонская башня. «И умер бедный раб у ног непобедимого владыки…».
А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы[605].
Страшную силу, сосредоточенную в этих строках, Лев Толстой рассеял и употребил для приготовления громадного арсенала разрушительных рычагов, но первоисточник ее — в Пушкине.
Из воздуха, отравленного ядом Анчара, из темницы, построенной на кровавом долге, вечный голос призывает вечного узника — человека к первобытной свободе:
Мы — вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер да я[606]!
Это чувство имеет определенную историческую форму. Пушкин в первобытном галилейском смысле более христианин, чем Гёте и Байрон. Здесь обнаруживается самобытная народная личность русского поэта.
Гёте в созерцании природы всегда остается язычником. Если же он хочет выразить христианскую сторону своей души, то удаляется от первобытной простоты, подчиняет свое вдохновение законченным, культурным формам католической церкви: Pater Extaticus, Pater Profundus, Doctor Marianus, Maria Aegyptiaca из Acta Sanctorum[607] — весь мир средневековой теологии и схоластики выступает в последней сцене Фауста. Тысячелетние преграды отделяют его от наивного религиозного творчества первых веков.
Не таково христианство Пушкина: оно чуждо всякой теологии, всяких внешних форм; оно естественно и бессознательно. Пушкин находит галилейскую, всепрощающую мудрость в душе дикарей, не знающих имени Христа[608]. Природа Пушкина — русская, кроткая, «беспорывная», по выражению Гоголя: она учит людей великому спокойствию, смирению и простоте. Дикий Тазит и старый Цыган ближе к первоисточникам христианского духа, чем теологический Doctor Marianus. Вот чего нет ни у Гёте, ни у Байрона, ни у Шекспира, ни у Данте. Для того чтобы найти столь чистую форму галилейской поэзии, надо вернуться к серафическим гимнам Франциска или божественным легендам первых веков.
III
Религию жалости и целомудрия как философское начало, которое проявляется в разнообразных исторических формах — в гимнах Франциска Ассизского и в греческой диалектике Платона, в индийском нигилизме Сакья–Муни и в китайской метафизике Лао–Дзи, — можно определить как вечное стремление духа человеческого к самоотречению, к слиянию с Богом и освобождению в Боге от границ нашего сознания, к нирване, к исчезновению Сына в лоне Отца.
Язычество как философское начало, которое проявляется в столь же разнообразных исторических формах — в эллинском многобожии, в гимнах Вед, в книге Ману и в законодательстве Моисея[609], — можно определить как вечное стремление человеческой личности к беспредельному развитию, совершенствованию, обожествлению своего «я», как постоянное возвращение его от невидимого к видимому, от небесного к земному, как восстание и борьбу трагической воли героев и богов с роком, борьбу Иакова с Иеговой, Прометея с олимпийцами, Аримана с Ормуздом.
Эти два непримиримых или непримиренных начала, два мировых потока — один к Богу, другой от Бога, вечно борются и не могут победить друг друга. Только на последних вершинах творчества и мудрости — у Платона и Софокла, у Гёте и Леонардо да Винчи — титаны и олимпийцы заключают перемирие, и тогда предчувствуется их совершенное слияние в быть может недостижимой на земле гармонии. Каждый раз достигнутое человеческое примирение оказывается неполным — два потока опять и еще шире разъединяют свои русла, два начала опять распадаются. Одно, временно побеждая, достигает односторонней крайности и тем самым приводит личность к самоотрицанию, к нигилизму и упадку, к безумию аскетов или безумию Нерона, к Толстому или Ничше, — и с новыми порывами и бореньями дух устремляется к новой гармонии, к высшему примирению.
Поэзия Пушкина представляет собою редкое во всемирной литературе, а в русской единственное явление гармонического сочетания, равновесия двух начал — сочетания, правда, бессознательного по сравнению, напр., с Гёте.
Мы видели одну сферу миросозерцания Пушкина; теперь обратимся к противоположной.
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого — творца или разрушителя, пророка или героя. Полубог и укрощенная им стихия — таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Нечего и говорить о поэтах, явно подчиненных духу века, таких естественных демократах, как Виктор Гюго, Шиллер, Гейне; но даже сам Байрон — лорд до мозга костей, Байрон, который возвеличивает отверженных и презренных всех веков — Наполеона и Прометея, Каина и Люцифера, слишком часто изменяет себе, потворствуя духу черни, поклоняясь Жан–Жаку Руссо, проповеднику самой кощунственной из религий — большинства голосов, снисходя до роли политического революционера, предводителя восстания, народного трибуна.
Пушкин, — рожденный в той стране, которой суждено было с особенной силой подвергнуться влияниям западноевропейской демократии, — как враг черни, как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее и бесстрашнее Байрона. Подобно Гёте, Пушкин и здесь, как во всем, тверд, ясен и верен природе своей до конца:
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес:
Тебе бы пользы все — на вес Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. Так что же?
Печной горшок тебе дороже!
Ты пищу в нем себе варишь[610].
Величайшее уродство буржуазного века — затаенный дух корысти, прикрытой именем свободы, науки, добродетели, разоблачен здесь с такою смелостью, что последующая русская литература напрасно будет бороться всеми правдами и неправдами, грубым варварством Писарева и утонченными софизмами Достоевского с этою стороною миросозерцания
Пушкина, напрасно будет натягивать на обнаженную пошлость черни светлые ризы галилейского милосердия.
Разве вся деятельность Льва Толстого — не та же демократия буржуазного века, только одухотворенная евангельской поэзией, украшенная крыльями Икара — восковыми крыльями мистического анархизма? Лев Толстой есть не что иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Вот как смиренный галилеянин, автор Царствия Божия[611], мог бы возразить поэту–первосвященнику, который осмелился сказать в лицо черни — «procul este, profani»[612][613]:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны:
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя[614].
Пошлость толпы — «утилитаризм», дух корысти тем и опасны, что из низших проникают в высшие области человеческого созерцания: в нравственность, философию, религию, поэзию, и здесь все отравляют, принижают до своего уровня, превращают в корысть, в умеренную и полезную добродетель, в печной горшок, в благотворительную раздачу хлеба голодным для успокоения буржуазной совести. Не страшно, когда малые довольны малым; но когда великие жертвуют своим величием в угоду малым, — страшно за будущность человеческого духа. Когда великий художник, во имя какой бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного или небесного, во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству, — философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость в святом месте[615], приобщается духу черни.
Вот как истинный поэт–служитель вечного Бога, судит этих сочинителей полезных книжек и притч для народа, этих исправителей человеческого сердца, первосвященников, взявших уличную метлу, предателей поэзии. Вот как Пушкин судит Льва Толстого, который пишет нравоучительные рассказы и открещивается от «Анны Карениной», потому что она слишком прекрасна, слишком бесполезна:
Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас!..
Во градах ваших с улиц шумных Сметают сор — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв[616].
«Во все времена, — говорит Пушкин в беседе со Смирновой, — были избранные, предводители; это восходит до Ноя и Авраама… Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством. В массе воли разъединены, и тот, кто овладел ею, — сольет их воедино. Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово „демократия” в известном смысле представляется мне бессодержательным и лишенным почвы. У греков люди мысли были равны, они были истинными властелинами. В сущности — неравенство есть закон природы. Ввиду разнообразия талантов, даже физических способностей, в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства[617]. Все перемены к добру или худу затевало меньшинство; толпа шла по стопам его, как панургово стадо. Чтоб убить Цезаря, нужны были только Брут и Кассий; чтобы убить Тарквиния, было достаточно одного Брута. Для преобразования России хватило сил одного Петра Великого. Наполеон без всякой помощи обуздал остатки революции. Единицы совершали все великие дела в истории… Воля создавала, разрушала, преобразовывала… Ничто не может быть интереснее истории святых, этих людей с чрезвычайно сильной волей… За этими людьми шли, их поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими. Все это является прямой противоположностью демократической системе, не допускающей единиц — этой естественной аристократии. Не думаю, чтоб мир мог увидеть конец того, что исходит из глубины человеческой природы, что, кроме того, существует и в природе — неравенства»[618].
Таков взгляд Пушкина на идеал современной Европы. Можно не соглашаться с этим мнением, но нельзя, — подобно некоторым русским критикам, желавшим оправдать поэта с либерально–демократической точки зрения, — объяснять такие произведения, как Чернь, случайными настроениями и недостатком сознательного философского отношения к великому вопросу века. Этот мотив его поэзии — аристократизм духа — так же связан с глубочайшими корнями пушкинского мировоззрения, как и другой мотив — возвращение к простоте, к всепрощающей природе. Красота героя — созидателя будущего; красота первобытного человека — хранителя прошлого: вот два мира, два идеала, которые одинаково привлекают Пушкина, одинаково отдаляют его от современной культуры, враждебной и герою, и первобытному человеку, мещанской и посредственной, не имеющей силы быть до конца ни аристократичной, ни народной, ни христианскои, ни языческой.[619]
Стихотворение «Чернь» написано в 1828 году. Только два года отделяют его от сонета на ту же тему: Поэт, не дорожи любовию народной!.. Но какая перемена, какое просветление! В «Черни» есть еще романтизм, кипение молодой крови, — та ненависть, которая заставила Пушкина написать года четыре тому назад в письме к Вяземскому несколько бессмертных слов, не менее злых и метких, чем стихи Черни: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!»[620].
В этом порыве злости чувствуется уже вдохновение, которое впоследствии может превратиться в мудрость, но здесь ее еще нет так же, как в Черни. И здесь и там — желчь, яд, острота эпиграммы. Избранник небес удостаивает говорить с толпой, слушать ее и даже спорить. Только в последних словах:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв —
переход к спокойствию. Но жаль, что слова эти слышит чернь. Ее звериные уши не созданы для откровенности гениев. Не должно об этом говорить на площадях; надо уйти в святое место. И поэт ушел:
Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд…[621]
Право царей — судить себя, и цари покупают это право ценой одиночества: «Ты царь — живи один». Избранник уже не спорит с чернью. Она является в последнем трехстишии сонета, жалкая и бессловесная:
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник[622].
Здесь героическая сторона в миросозерцании Пушкина достигает полной зрелости. Нет более ни порыва, ни скорби, ни страсти. Все тихо, ясно: в этих словах есть холод и твердость мрамора.
Пока избранник еще не вышел из толпы, пока душа его «вкушает хладный сон»[623], — себе самому и людям он кажется обыкновенным человеком:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Для того чтоб мог явиться пророк или герой, должно совершиться чудо перерождения — не менее великое и страшное, чем смерть:
Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, —
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
И он — уже более не человек: в нем рождается высшее, непонятное людям существо. Звери, листья, воды, камни ближе сердцу его, чем братья:
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…
Христианская мудрость есть бегство от людей в природу, уединение в Боге. Языческая мудрость есть то же бегство в природу, но уединение в самом себе, в своем переродившемся, обожествленном «я». Это чудо перерождения с еще большею ясностью изображено в Пророке:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую во двинул.
Как труп, в пустыне я лежал…[624]
Все человеческое в человеке истерзано, убито — и только теперь, из этих страшных останков, может возникнуть пророк:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»
Так созидаются избранники божественным насилием над человеческою природою.
Какая разница между героем и поэтом? По существу — никакой; разница — во внешних проявлениях: герой — поэт действия, поэт — герой созерцания. Оба разрушают старую жизнь, созидают новую, оба рождаются из одной стихии. Символ этой стихии в природе для Пушкина — море. Море подобно душе поэта и героя. Оно такое же нелюдимое и бесплодное — только путь к неведомым странам — окованное земными берегами и бесконечно свободное. Голос моря недаром понятен только для гения, «как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час»[625].
Душа поэта, как море, любит смиренных детей природы, ненавидит самодовольных, мечтающих укротить ее дикую стихию. При взгляде на море в душе поэта возникают два образа — Наполеон и Байрон. Герой действия, герой созерцания, братья по судьбе, по силе и страданиям, они — сыновья одной стихии:
Куда бы ныне Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен;
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем не укротим [626].
Герой есть помазанник рока, естественный и неизбежный владыка мира. Но люди современной буржуазной и демократической середины ненавидят обе крайности — и свободу первобытных людей, и власть героев. Современные буржуа и демократы чуть–чуть христиане — не далее благотворительности, чуть–чуть язычники — не далее всеобщего вооружения. Для них нет героев, нет великих, потому что нет меньших и больших, а есть только малые, бесчисленные, похожие друг на друга, как серые капли мелкой изморози, — есть только равные перед законом, основанным на большинстве голосов, на воле черни, на этом худшем из насилий[627]. Нет героев, а есть начальники — такие же бесчисленные, равные перед законом и малые, как их подчиненные; или же для удобства и спокойствия черни — один большой начальник, большой солдат все той же демократической армии — Наполеон III, большой, но не великий. Он силен силою черни — большинством голосов и преподносит ей идеал ее собственной пошлости — буржуазное, умеренное, безопасное «братство», это разогретое вчерашнее блюдо. Он являет толпе ее собственный звериный образ, украшенный знаками высшей власти, воровски похищенными у героев. Наполеон III — сын черни, с нежностью любил чернь — свою мать, свою стихию. Более всего в мире боится и ненавидит он законных властителей мира — пророков и героев. Так мирный предводитель гусиного стада боится и ненавидит хищников небесных, орлов, ибо когда слетает к людям божественный хищник — герой, то равенству и большинству голосов, добродетелям черни и предводителям гусиного стада — смерть. Но, к счастью для толпы, явление пророков и героев самое редкое из всех явлений мира. Между двумя праздниками истории, между двумя гениями царит добродетельная буржуазная скука, демократические будни. Власть человека и власть природы, владыка тел и владыка душ, Кесарь, венчанный Римом, и Кесарь, венчанный Роком, — вот сопоставление, которое послужило темою для одного из самых глубоких стихотворений Пушкина — Недвижный страж дремал на царственном пороге:
…То был сей чудный муж, посланник провиденья, Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонялися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.
Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламень гаснущий нахмуренных очей Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя В морях казненного по манию царей.
Нет, чудный взор его живой, неуловимый,
То в даль затерянный, то вдруг неотразимый,
Как боевой перун, как молния сверкал;
Во цвете здравия и мужества и мощи Владыке Полунощи Владыка Запада грозящий предстоял[628].
Пушкин берет черты героизма всюду, где их находит, — так же, как черты христианского милосердия, потому что и те и другие имеют один и тот же источник, основаны на едином стремлении человека от своей человеческой к иной, высшей, природе. Гению Пушкина равно доступны обе стороны человеческого духа, и потому‑то проникает он с такою легкостью в самое сердце отдаленных веков и народов[629].
Поэзия первобытного племени, объединенного волей законодателя–пророка, дышит в Подражаниях Корану. Сквозь веяние восточной пустыни здесь чувствуется уже аромат благородной мусульманской культуры, которой суждено дать миру сладострастную негу Альгамбры[630] и Тысячи одной ночи. Пока это — народ еще дикий, хищный, жаждущий только славы и крови. Герой пришел, собрал горсть семитов, отвергнутых историей, затерянных в степях Аравии, раскалил религиозным фанатизмом, выковал молотом закона и бросил в мир, как остро отточенный меч, среди дряхлых византийских и одичалых варварских племен Европы:
Недаром вы приснились мне В бою с обритыми главами,
С окровавленными мечами Во рвах, на башне, на стене.
Внемлите радостному кличу,
О, дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!
Вы победили: Слава вам!..[631]
И рядом — какие нежные черты целомудренного и гордого великодушия! Христианское милосердие недаром включено в героическую мудрость пророка. Для него милосердие — щедрость безмерно богатых сердец:
Щедрота полная угодна небесам…
Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань,
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут — Господом отверженная дань[632].
Жестокость и милосердие соединяются в образе Аллаха. Это две стороны единого величия. Вся природа свидетельствует о щедрости Бога:
Он человеку дал плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословил его труды,
И вертоград, и холм, и ниву.
Зажег Он солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.
Он милосерд: Он Магомету Открыл сияющий коран[633].
Магомет — прибежище и радость смиренных сынов пустыни, бич и гроза неверных, суетных и велеречивых, не покорившихся воле Единого. Гибелью окружен разгневанный пророк. Только беспощадность Аллаха равна его милосердию — они сливаются в одном ужасающем и благодатном явлении:
Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?
Не я ль в день жажды напоил Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, — и мой коран Дрожащей твари проповедуй[634]!
Любопытно, что русский нигилист, Раскольников, заимствовал у пушкинского Магомета эти слова о «дрожащей твари». Два идеала, преследующие воображение Раскольникова — Наполеон и Магомет, привлекают и Пушкина.
К числу любимых пушкинских героев Записки Смирновой прибавляют Моисея: «Пушкин сказал, что личность Моисея всегда поражала и привлекала его, — он находит Моисея замечательным героем для поэмы. Ни одно из библейских лиц не достигает его величия: ни патриархи, ни Самуил, ни Давид, ни Соломон; даже пророки менее величественны, чем Моисей, царящий над всей историей народа израильского и возвышающийся над всеми людьми. Брюллов подарил Пушкину эстамп, изображающий Моисея Микель Анжело. Пушкин очень желал бы видеть самую статую. Он всегда представлял себе Моисея с таким сверхчеловеческим лицом. Он прибавил: „Моисей — титан, величественный в совершенно другом роде, чем греческий Прометей и Прометей Шелли. Он не восстает против Вечного, он творит Его волю, он участвует в делах божественного промысла начиная с неопалимой купины до Синая, где он видит Бога лицом к лицу. И умирает он один перед лицом Всевышнего”»[635].
Но если бы Пушкин мог видеть не сомнительный эстамп Брюллова, а мрамор Микель Анжело, он, вероятно, почувствовал бы, что титан Израиля не чужд Прометеева духа. Пушкин заметил бы над «сверхчеловеческим» лицом исполина два коротких странных луча — подобие двух рогов, которые придают созданию Буонарроти такой загадочный вид. И в нахмуренных бровях, и в морщинах упрямого лба изображается дикая ярость: должно быть, вождь Израиля только что увидел вдали народ, пляшущий вокруг Золотого Тельца, и готов разбить скрижали Завета.
Более чем кто‑либо из русских писателей, не исключая и Достоевского, Пушкин понимал эту соблазнительную тайну — ореол демонизма, окружающий всякое явление героев и полубогов на земле.
Однажды, беседуя при Смирновой о философском значении библейского и байроновского образа Духа Тьмы, Искусителя, Пушкин на одно замечание Александра Тургенева возразил живо и серьезно: «суть в нашей душе, в нашей совести и в обаянии зла. Это обаяние было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено прекрасной и приятной внешностью. Я верю Библии во всем, что касается Сатаны; в стихах о Падшем Духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина».[636]
«Обаяние зла», — языческого сладострастия и гордости, поэт выразил в своих терцинах, исполненных тайною раннего флорентийского Возрождения[637]. Здесь Пушкин близок нам, людям конца XIX века: он угадал предчувствия нашего сердца — то, чего мы ждем от грядущего искусства. Добродетель является в образе Наставницы смиренной — одетой убого, но видом величавой жены, «над школою надзор хранящей строго»[638]. Она беседует с младенцами приятным, сладким голосом и на челе ее покрывало целомудрия, и очи у нее светлые, как небеса. Но в сердце поэта–ребенка уже зреют семена гордыни и сладострастия:
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров.
И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздно мыслить было мне отрада[639].
Ребенку, убежавшему от целомудренной наставницы в «великолепный мрак» и негу языческой природы — этого «чужого сада», являются соблазнительные привидения умерших олимпийцев — «белые в тени дерев кумиры».
Все наводило сладкий некий страх Мне на сердце, и слезы вдохновенья При виде их рождались на глазах.
Красота этих божественных призраков ближе сердцу его, чем «полные святыни словеса» строгой женщины в темных одеждах. Более всех других привлекают отрока два чудесные творенья:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) — лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой — женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.
Эти два демона — два идеала языческой мудрости[640]: один — Аполлон, бог знанья, солнца и гордыни, другой — Дионис, бог тайны, неги и сладострастия.
Оба время от времени воскресают. Последним воплощением дельфийского бога солнца и гордыни был «сей чудный муж, посланник провиденья, свершитель роковой безвестного веленья… сей хладный кровопийца, сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари»[641], — Наполеон. В самые темные времена, среди воплей проповедников смирения и смерти, воскресает и другой демон, «женообразный, сладострастный», — со своею песнью на пире во время чумы:
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы —
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы!
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог[642]!
Это упоение ужаса еще яснее выражено в Египетских ночах[643]. Клеопатра, бросающая поклонникам своим вызов: «…свою любовь я продаю: скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою»[644], является воплощением демона Вакха в образе женщины. На вызов отвечают три мужа, три героя — римский воин, греческий мудрец и безымянный отрок, «любезный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый», с первым пухом юности на щеках, с глазами, сияющими детским восторгом, столь невинный и бесстрашный, что сама беспощадная царица остановила на нем взор с умилением:
Свершилось! Куплено три ночи.
И ложе смерти их зовет.
Но рядом со смертью — какая нега, какая беззаботная полнота жизни, освобожденной от добра и зла:
Александрийские чертоги Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады.
Курится легкий фимиам И сладострастные прохлады Земным готовятся богам[645].
Они достойны этого фимиама — избранники Диониса, герои сладострастия, ибо, увлекаемые безмерностью своих желаний, они преступили границы человеческого существа и сделались «как боги». Вот почему на лице Клеопатры — не суетная улыбка, а молитвенная торжественность и благоговение, как на лице неумолимой весталки, когда она произносит свою клятву:
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грозного Аида!
Клянусь, до утренней зари Моих властителей желанья Я сладострастно утолю,
И всеми тайнами лобзанья И дивной негой утомлю!
Но только утренней порфирой Аврора вечная блеснет,
Клянусь, под смертною секирой Глава счастливцев отпадет[646]!
Трудно поверить, что художник, который воплотил в этом видении царицу смерти и нег, создал и чистый образ Татьяны. Всего любопытнее, что эта уездная русская барышня, подобно Клеопатре, любит загадочный мрак, любит ужас. Поэт говорит о Татьяне:
Но тайну прелесть находила
И в самом ужасе она* [647] .
В страстях самых низких Пушкин, которого в этом отношении можно сравнить только с Шекспиром, находит черты героизма и царственного величия. Человек не хочет быть человеком: все равно, в какую бы то ни было пропасть, — только бы прочь от самого себя. Всякая страсть тем и прекрасна, что окрыляет душу для возмущения, для бегства за ненавистные пределы человеческой природы. Скупой рыцарь, дрожащий над сундуком в подвале, озаренный светом сального огарка и страшным отблеском золота, превращается в такого же могучего демона, как царица Клеопатра со своим кровожадным сладострастием:
…Как некий демон
Отселе править миром я могу!..
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги,
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою…
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен…
Я — царствую[648].
Вот веселый любовник Лауры — Дон–Жуан, герой щедрости и сладострастия, легкого, как пена играющих волн. Подобно Скупому рыцарю и Клеопатре, он вдруг достигает величия, когда подает Каменному Гостю бестрепетную руку:
Я звал тебя и рад, что вижу[649].
Вот герои–неудачники — старшие братья Раскольникова, преступившие закон и ужаснувшиеся, не имеющие силы для бесстрастия истинных героев: цареубийца Годунов, убийца гения — Сальери. Вот и призраки неродившихся героев, бескрылые попытки малых создать великое — Стенька Разин, Пугачев, Гришка Отрепьев[650].
Но над этим сонмом пушкинских героев возвышается один — тот, кто был первообразом самого поэта, — герой русского подвига так же, как Пушкин, был героем русского созерцания. В сущности Пушкин есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в мировой культуре, который задан был Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Возвращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, особенно в своих крайних и односторонних проявлениях — в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к «гнилому Западу» у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое было завещано России двумя одинокими и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным.
Прежде всего для Пушкина беспощадная воля Петра — явление отнюдь не менее народное, не менее русское, чем для Толстого смиренная покорность Богу в Платоне Каратаеве или для Достоевского христианская кротость в Алеше Карамазове. Потому‑то видение Медного Всадника, «чудотворца–исполина», так и преследовало воображение Пушкина, что в Петре он нашел наиболее полное историческое воплощение того героизма, дохристианского могущества русских богатырей, которые поэт носил в своем сердце, выражал в своих песнях.
«Я утверждаю, — говорил Пушкин у Смирновой, — что Петр был архирусским человеком, несмотря на то что сбрил свою бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра»[651]. Вопрос ядовитый и опасный не только для таких романтиков старины, как Хомяков! Странно, что даже те, кто глубже всех проникает в дух пушкинской поэзии, то есть Гоголь и Достоевский, ослепленные односторонним христианством, не видят или не хотят видеть эту связь Пушкина с Петром. А между тем без Петра не могло быть воплощения русского созерцания в Пушкине, без Пушкина Петр не мог быть понят как высшее героическое явление русского духа.
Пушкин не закрывает глаз на недостатки и несовершенства своего героя.
«Петр был нетерпелив, — говорит он в заметке о просвещении России, — став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общее презрение ко всему народному включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных народных песнях, в сказках и летописях»[652].
Но, с другой стороны, безграничная сила, которая так легко, как бы играя, переступает пределы возможного, исторического, народного, даже человеческого, не кажется Пушкину одним из несовершенств героя. Искупаются ли радостью великого единого страдания бесчисленных малых? — Пушкин понимает, что это вопрос высшей мудрости. «Я роюсь в архивах, — говорит Пушкин, — там ужасные вещи, действительно много было пролито крови, но уж рок велит варварам проливать ее, и история всего человечества залита кровью, начиная от Каина и до наших дней. Это, может быть, неутешительно, но не для меня, так как я имею в виду будущность… Петр был революционер–гигант, но это гений, каких неш»[653]. В одном наброске политической статьи 1831 года мы находим следующие слова: «Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnee) — Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)»[654]. Вероятно, с этим проникновенным замечанием Пушкина согласились бы и Достоевский, и Лев Тол–стой. Но разница в том, что оба они, подобно русским староверам, с ужасом отшатнулись бы от этого смешения Робеспьера и Наполеона, как от наваждения антихристова, тогда как Пушкин, несмотря на односторонность Петра, которую он понимает не хуже всякого другого, видит в нем не только возвестителя неведомого миру могущества, скрытого в русском народе, но и одного из величайших всемирных гениев.
Уже в третьей песне Полтавы Петр является страшным и благодатным богом брани:
Тогда‑то, свыше вдохновенный,
Раздался звучный глас Петра:
«За дело с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой…[655]
Русский богатырь напоминает здесь того дельфийского демона, который соблазняет отрока, бежавшего от целомудренной Наставницы.
…лик младой Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Это сходство в описании русского героя и эллинского бога, конечно, несознательно, но и не случайно.
А вот в том же образе — милосердие, прощение врагу. Милосердие для героя — не жертва и страдание, а новое веселие, щедрость, избыток силы.
Что пирует царь великий В Петербурге–городке?
Отчего пальба и клики,
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
Нет, он с подданным мирится;
Виноватому вину Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну,
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом [656].
Подобно тому как в Цыганах с наибольшею полнотою отразилась всепрощающая мудрость первобытных людей, так противоположная сфера пушкинской поэзии, — обоготворение силы героя, воплотилось в Медном Всаднике. Это — последнее из великих произведений Пушкина: только по этому обломку недовершенного мира можно судить, куда он шел, что погибло с ним. «Петр не успел довершить многое, начатое им, — говорит поэт, — он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности, еще только в полножны вложив победительный свой меч»[657]. Эти слова могут относиться и к самому Пушкину[658].
Здесь вечная противоположность двух героев, двух начал — Тазита и Галуба, старого Цыгана и Алеко, Татьяны и Онегина, взята уже не с точки зрения первобытной, христианской, а новой, героической мудрости. С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца; с другой — сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и восстание первобытной стихии в природе — наводнение, бушующее у подножия Медного Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом — вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей, — вот смысл поэмы.
На потопленной площади — там, где над крыльцом «стоят два льва сторожевые, на звере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный, Евгений».
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки… Боже, Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь — его Параша,
Его мечта.. Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне[659].
Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?
Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных, «дрожащей твари», вышедшей из праха, — в простой любви его откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что, если червь земли возмутится против своего бога? Неужели жалкие угрозы безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они вечно друг против друга — малый и великий. Кто сильнее, кто победит?
Нигде в русской литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении:
Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь, он мрачен стал Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав:
Ужо тебе!»… И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен. Суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» — это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя, Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать — кто победит? Вызов брошен, и спокойствие «горделивого истукана» нарушено, ибо он в самом деле еще не знает, кто победит. Медный Всадник преследует безумца:
И он по площади пустой Бежит и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье,
Тяжело–звонкое скаканье По потрясенной мостовой. —
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный На звонко–скачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал.
«Дрожащая тварь» еще более смирилась: теперь каждый раз, как ему случится проходить мимо «горделивого истукана», в лице несчастного изображается смятение, он поспешно прижимает руку к сердцу, снимает изношенный картуз и, потупив глаза, идет сторонкой.
Поэма кончается после ужаса привидения не меньшим ужасом обыкновенной жизни:
Остров малый На взморье виден. Иногда Причалит с неводом туда Рыбак, на ловле запоздалый,
И бедный ужин свой варит;
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло Там ни былинки. Наводненье Туда, играя, занесло Домишко ветхий. Над водою Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною Свезли на барке. Был он пуст И весь разрушен. У порога Нашли безумца моего…
И тут же хладный труп его Похоронили ради Бога.
Так погиб верный любовник Параши, одна из невидимых жертв воли героя. Но вещий бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен «подобным грому грохотаньем», тяжелым топотом Медного Всадника. Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно–одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа–пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанью» Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»
IV
Необходимым условием всякого творчества, которому суждено иметь всемирно–историческое значение, является присутствие и в различных степенях гармонии взаимодействие двух начал — нового мистицизма как отречения от своего «Я» в Боге и язычества как обожествления своего «Я» в героизме.
Только что средневековая поэзия достигает всемирного значения, как у самого теологического из новых поэтов — у Данте чувствуется первое веяние воскресшей языческой древности, — правда, лишь римской, не греческой, но латиняне для католиков всегда служили естественным путем в глубину язычества — к эллинам. Влияние латинского мира сказывается у Данте не только в образе воскресшего мантуанского лебедя, нежного певца Энеиды и Георгик, озаренного во мраке ада первым лучом классического солнца; не только на идеи всемирной монархии, представителем которой для флорентийского гибеллина были Цезарь и Александр — два языческих полубога. Еще более это влияние отразилось на образе главного, хотя и невидимого, героя Божественной Комедии — Законодателя и Судьи, Монарха вселенной, распределяющего — в чисто римской беспощадной симметрии подземных кругов и небесных иерархий — казни и награды, муки и блаженства[660].
С другой стороны, в самом сердце трагического героизма, среди кровавых жертвоприношений богу Пану и Дионису, среди страшных гимнов Року и Евменидам мелькают первые проблески еще безымянного, но уже божественно–прекрасного милосердия. Эти проблески, как искры глухо тлеющего под пеплом огня, вспыхивают нежданно то здесь, то там на всем протяжении греко–римского язычества. Рядом с Эдипом, кровосмесителем, отцеубийцей — этим воплощением титанической гордыни и скорби, целомудренный образ Антигоны, озаренный сиянием чистейшей любви и милосердия. Рядом с волшебницей Медеей, матерью, обагряющей руки в крови детей, видение кроткой Алькестис, напоминающее легенды о христианских мученицах, — Алькестис, которая, исполняя еще не сказанную, но уже написанную Богом в сердце человека заповедь любви, отдает жизнь свою за друзей своих. Под сводами древнего Аида светлые тени Алькестис и Антигоны полны такою же ангельскою прелестью, как Маргарита и Беатриче в сонме небесных видений. Быть может, христианское чувство всего прекраснее в те времена, когда только что родившись из бездны трагической безнадежности, оно еще само себя не знает, не умеет назвать по имени.
Здесь и там — в языческой трагедии и в христианской поэме, два начала не только не уравновешивают друг друга, не примиряются, но одно из них до такой степени подчинено другому, подавлено и поглощено другим, что они еще не стремятся к примирению, даже не борются. У Данте ветхая паутина средневековой схоластики, уродливые ужасы теологического ада омрачают первый ранний луч высшей мудрости. У греческих трагиков безнадежные вопли жертв Диониса, беспощадные гимны Року заглушают первый ранний лепет божественной любви и милосердия.
Вот почему дух Возрождения (попытки которого начались в Италии с XIV века и в течение последних пяти веков много раз возобновлялись во всей Европе) выше, чем дух эллинского и средневекового мира. Дух Возрождения освободил язычество из‑под гнета католицизма и в то же время освободил родники христианского чувства из‑под развалин и обломков язычества, схоластики и варварской латыни[661]. Два мировых начала в первый раз встретились в духе Возрождения и вступили в живое взаимодействие, в борьбу как два равноправных, равносильных бойца. Достижимо ли полное примирение? Это — неразрешенный, быть может, даже неразрешимый, вопрос будущего.
Во всяком случае, драгоценнейшими плодами усилий и борений человечества, признаками подъема на вершины творчества являются те редкие мгновения, когда два мира достигают хотя бы бессознательного и несовершенного примирения, хотя бы неустойчивого равновесия.
Пушкин первый доказал, что в глубине русского миросозерцания скрываются великие задатки будущего Возрождения — той духовной гармонии, которая для всех народов является самым редким плодом тысячелетних стремлений[662].
С этой точки зрения становится вполне ясной ошибка тех, которые ставят Пушкина в связь не с Гёте, а с Байроном. Правда, Байрон увеличил силы Пушкина, но не иначе, как побежденный враг увеличивает силы победителя. Пушкин поглотил Евфориона, преодолел его крайности, его разлад, претворил его в своем сердце и устремился дальше[663], выше — в те ясные сферы всеобъемлющей гармонии, куда звал Гёте и куда за Гёте никто не имел силы пойти, кроме Пушкина.
Русский поэт сам сознавал себя гораздо ближе к создателю Фауста, чем к певцу Дон–Жуана. «Гений Байрона бледнел с его молодостью, — пишет двадцатипятилетний Пушкин Вяземскому вскоре после смерти Байрона, — в своих трагедиях, не исключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чайльд–Гарольда. Первые две песни Дон–Жуана выше следующих. Его поэзия, видимо, изменилась. Он весь создан был навыворот. Постепенности в нем не было; он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал, и первые звуки его уже ему не возвратились »[664].
В разговоре со Смирновой Пушкин упоминает о подражаниях Мицкевича Байрону как об одном из его главных недостатков. «Это — великий лирик, — замечает Пушкин, — пожалуй, еще слишком в духе Байрона, он всегда более меня поддавался его влиянию, он остался тем, чем был в 1826 году»[665].
Вот как русский поэт понимает значение Фауста: «Фауст стоит совсем особо. Это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как Божественная Комедия; это — в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства»[666].
В критической заметке о Байроне Пушкин сравнивает Манфреда с Фаустом: «английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант; они, кажется, правы. Байрон, столь оригинальный в Чайльд–Гарольде, в Гяуре и Дон–Жуане, делается подражателем, как только вступает на поприще драмы. В „Manfred” он подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению, благороднейшими. Но Фауст есть величайшее создание поэтического духа, служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности»[667].
Пушкин не создал и, по условиям русской культуры, не мог бы создать ничего, равного Фаусту. Но у Гёте кроме этого внешнего, исторического, есть и великое внутреннее преимущество перед русским поэтом. Как ни ясна и ни проникновенна мысль Пушкина, она не озаряет всех бездн его творчества. Художник в нем все‑таки выше и сильнее мудреца. Пушкин сам себя не знал и только смутно предчувствовал все неимоверное величие своего гения. «Ты, Моцарт, — бог, и сам того не знаешь»[668]. Отсутствие болезненного разлада, который губит таких титанов, как Байрон и Микель Анжело, гармония природы и культуры, всепрощения и героизма, нового мистицизма и язычества — в Пушкине естественный и непроизвольный дар природы. Таким он вышел из рук Создателя. Он не сознал и не выстрадал своей гармонии[669].
То, что Пушкин смутно предчувствовал, Гёте видел лицом к лицу. Как ни велик Фауст — замысел его еще больше, и весь этот необъятный замысел основан на сознании трагизма, вытекающего из двойственности мира и духа, на сознании противоположности двух начал:
Du bist dir nur einen Triebs bewust;
О lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bmst,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine halt, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen.
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen[670][671].
Из этого разлада двух стихий — «двух душ, живущих в одной груди», возникает двойник Фауста, самый страшный из демонов, — Мефистофель. Борьба Отца Светов с духом тьмы, борьба этих вечных врагов в сердце человека, неутолимо жаждущем единства, — таков смысл трагедии Гёте. Небо и ад, благословения ангелов и проклятья демонов, христианская мученица любви Маргарита и языческая героиня Елена, дух северной готики и дух эллинской древности, сладострастные ведьмы на Брокене и священные призраки умерших богов над Фессалийскою равниною, самоубийство мудреца, достигшего предела знаний, и детская радость пасхальных колоколов, поющих «Христос воскресе», — от начала до конца во всей поэме стихия восстает на стихию, мир борется с миром — и над всем веет дух гармонии, дух творца поэмы[672].
Пушкин менее сознателен, но зато, с другой стороны, ближе к сердцу природы. Пушкин не боится своего демона, не заковывает его в рассудочные цепи, он борется и побеждает, давая ему полную свободу. Осторожный Гёте редко или почти никогда не подходит к неостывшей лаве хаоса, не спускается в глубину первобытных страстей, над которой только двое из новых поэтов — Шекспир и Пушкин дерзают испытывать примиряющую власть гармоний. По силе огненной страстности автор Египетских ночей и Скупого рыцаря приближается к Шекспиру; по безупречной, кристаллической правильности и прозрачности формы Пушкин
родственнее Гёте. У Шекспира слишком часто расплавленный, кипящий металл отливается в гигантскую, но наскоро слепленную форму, которая дает трещины. В поэзии Шекспира, как и Байрона, сказывается один отличительный признак англосакской крови — любовь к борьбе для борьбы, природа неукротимых атлетов, чрезмерное развитие мускулов, сангвиническая риторика. Пушкин одинаково чужд и огненной риторики страстей, и ледяной риторики рассудка. Если бы его гений достиг полного развития, — кто знает? — не указал ли бы русский поэт до сих пор не открытые пути к художественному идеалу будущего — к высшему синтезу Шекспира и Гёте. Но и так, как он есть, — по совершенному равновесию содержания и формы, по сочетанию вольной, творящей силы природы с безукоризненной сдержанностью и точностью выражений, доведенной почти до математической краткости, Пушкин, после Софокла и Данте — единственный из мировых поэтов.
По–видимому, явления столь гармонические, как Пушкин и Гёте, предрекали искусству XIX века новое Возрождение, новую попытку примирения двух миров, которое начато было итальянским Возрождением XV века. Но этим предзнаменованиям не суждено было исполниться: уже Байрон нарушил гармонию поэта–олимпийца, и потом, шаг за шагом, XIX век все обострял, все углублял разлад, чтобы дойти наконец до последних пределов напряжения — до небывалого, безобразного противоречия двух начал в лице безумного язычника Фридриха Ничше и, быть, может, не менее безумного галилеянина Льва Толстого. Многозначительно и то обстоятельство, что эти представители разлада конца XIX века явились в отечестве Гёте и в отечестве Пушкина, то есть именно у тех двух молодых северных народов, которые в начале века сделали попытку нового Возрождения. Как это ни странно, но Ничше — родной сын Гёте, Лев Толстой — родной сын Пушкина. Автор «Jenseits von Gut und Bose»*[673] довел олимпийскую мудрость Гёте до такой же заостренной вершины и обрыва в бездну, как автор Царствия Божия галилейскую мудрость Пушкина.
Русская литература не случайными порывами и колебаниями, а вывод за выводом, ступень за ступенью, неотвратимо и диалектически правильно, развивая одну сферу пушкинской гармонии и умерщвляя другую, дошла наконец до самоубийственной для всякого художественного развития односторонности Льва Толстого.
Гоголь, ближайший из учеников Пушкина, первый понял и выразил значение его для России. В своих лучших созданиях — в Ревизоре и Мертвых душах Гоголь исполняет замыслы, внушенные ему учителем. В истории всех литератур трудно найти пример более тесной преемственности. Гоголь прямо черпает из Пушкина — этого родника русского искусства. И что же? Исполнил ли ученик завет своего учителя? Гоголь первый изменил Пушкину, первый сделался жертвой великого разлада, первый испытал приступы болезненного мистицизма, который не в нем одном должен был подорвать силы творчества.
Трагизм русской литературы заключается в том, что, с каждым шагом все более и более удаляясь от Пушкина, она вместе с тем считает себя верною хранительницею пушкинских заветов. У великих людей нет более опасных врагов, чем ближайшие ученики — те, которые возлежат у сердца их, ибо никто не умеет с таким невинным коварством, любя и благоговея, искажать истинный образ учителя.
Тургенев и Гончаров делают добросовестные попытки вернуться к спокойствию и равновесию Пушкина. Если не сердцем, то умом понимают они героическое дело Петра, чужды славянофильской гордости Достоевского и сознательно, подобно Пушкину, преклоняются перед западной культурой. Тургенев является в некоторой мере законным наследником пушкинской гармонии и по совершенной ясности архитектуры, и по нежной прелести языка.
Но это сходство поверхностно и обманчиво. Попытка не удалась ни Тургеневу, ни Гончарову. Чувство усталости и пресыщения всеми культурными формами, буддийская нирвана Шопенгауэра, художественный нигилизм Флобера гораздо ближе сердцу Тургенева, чем героическая мудрость Пушкина. В самом языке Тургенева, слишком мягком, женоподобном и гибком, уже нет пушкинского мужества, его силы и простоты. В этой чарующей мелодии Тургенева то и дело слышится пронзительная, жалобная нота, подобная звуку надтреснутого колокола, признак углубляющегося душевного разлада — страх жизни, страх смерти, которые впоследствии Лев Толстой доведет до последних пределов. Тургенев создает бесконечную галерею, по его мнению, истинно русских героев, то есть героев слабости, калек, неудачников. Он окружает свои «живые мощи» ореолом той самой галилейской поэзии, которой окружены образы Татьяны, Тазита, старого цыгана. Он достигает наивысшей степени доступного ему вдохновения, показывая преимущества слабости перед силой, малого перед великим, смиренного перед гордым, добродушного безумия Дон–Кихота перед злою мудростью Гамлета. У Тургенева единственный сильный русский человек — нигилист Базаров. Конечно, автор Отцов и детей настолько объективный художник, что относится к своему герою без гнева и пристрастия, но он все‑таки не может простить ему силы. Поэт как будто говорит нам, указывая на Базарова и не замечая, что это вовсе не герой, а такой же недоносок, неудачник, как его «лишние люди», ничего не создающий, обреченный на гибель: «вы хотели видеть сильного русского человека — вот вам сильный! Смотрите же, какая узость и ограниченность воли, направленной на разрушение; какая грубость и неуклюжесть перед нежною тайною любви; какое ничтожество перед величием смерти. Вот чего стоят ваши герои, ваши русские сильные люди!». Если бы иностранец поверил Гоголю, Тургеневу, Гончарову, то русский народ должен бы представиться ему народом, единственным в истории отрицающим самую сущность героической воли. Если бы глубина русского духа исчерпывалась только христианским смирением, только самопожертвованием, то откуда эта «божия гроза», это великолепие, этот избыток удачи, воли, веселия, которые чувствуются в Петре и в Пушкине? Как могли возникнуть эти два явления безмерной красоты, безмерной любви к жизни в стране буддийского нигилизма и жалости, в стране «мертвых душ» и «живых мощей», в силоамской купели[674] калек и расслабленных?
Гончаров пошел еще дальше по этому опасному пути. Критики видели в Обломове сатиру, поучение. Но роман Гончарова страшнее всякой сатиры. Для самого поэта в этом художественном синтезе русского бессилия и «неделанья» нет ни похвалы, ни порицания, а есть только полная правдивость, изображение русской действительности. В свои лучшие минуты Обломов, книжный мечтатель, неспособный к слишком грубой человеческой жизни, с младенческой ясностью и целомудрием своего глубокого и простого сердца, окружен таким же ореолом тихой поэзии, как «живые мощи» Тургенева. Гончаров, может быть, и хотел бы, но не умеет быть несправедливым к Обломову, потому что он его любит, он, наверное, хочет, но не умеет быть справедливым к Штольцу, потому что он втайне его ненавидит. Немец–герой (создать русского героя он и не пытается — до такой степени подобное явление кажется ему противоестественным) выходит мертвым и холодным. Искусство обнаруживает то сокровенное, что поэт чувствует, не смея выразить: не в тысячу ли раз благороднее отречение от жестокой жизни милого героя русской лени, чем прозаическая суета героя немецкой деловитости? От Наполеона, Байрона, Медного Всадника — до маленького, буржуазного немца, до неуклюжего семинариста, уездного демона–искусителя Марка Волохова, — какая печальная метаморфоза пушкинского полубога!
Но это еще не последняя ступень. Гоголь, Тургенев, Гончаров кажутся писателями, полными уравновешенности и здоровья по сравнению с Достоевским и Львом Толстым. Без того уже захудалые и полумертвые русские герои, русские сильные люди — Базаров и Марк Волохов, оживут еще раз в лице Раскольникова, Ивана Карамазова, в уродливых видениях «бесов», чтобы подвергнуться последней казни, самой утонченной адской пытке в страшных руках этого демона жалости и мучительства — великого инквизитора Достоевского.
Насколько он сильнее и правдивее Тургенева и Гончарова! Достоевский не скрывает своей дисгармонии, не обманывает ни себя, ни читателя, не делает тщетных попыток восстановить нарушенное равновесие пушкинской формы. А между тем он ценит и понимает гармонию Пушкина проникновеннее, чем Тургенев и Гончаров, — он любит Пушкина как самое недостижимое, самое противоположное своей природе, как смертельно больной — здоровье, любит и уж более не стремится к нему.
Литературную форму эпоса автор Братьев Карамазовых уродует, насилует, превращает в орудие психологической пытки. Трудно поверить, что язык, который еще обладает весеннею свежестью и целомудренной ясностью у Пушкина, так переродился, чтобы служить для изображения мрачных кошмаров Достоевского.
Последовательнее Тургенева Достоевский еще и в другом отношении: он не скрывает своей славянофильской гордости, не заигрывает с культурою Запада. Эллинская красота кажется ему Содомом, римская сила — царством Антихриста. Чему может научиться смиренная, юная, богоносная Россия у гордого, дряхлого, безбожного Запада? Не русскому народу стремиться к идеалу Запада, т. е. к всемирному язычеству, а Западу — к идеалу русского народа, то есть к всемирному христианству. Ясно, что здесь между Достоевским и Пушкиным существует глубокое недоразумение. У Смирновой на утверждение Хомякова, будто у русских больше христианской любви, чем на Западе, Пушкин отвечает с некоторою досадою: «может быть; я не мерил количества братской любви ни в России, ни на Западе, но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны»[675]. Или, другими словами, Пушкину представляется непонятным, почему Россия, у которой был Иван Грозный, ближе к идеалу Царствия Божия, чем Запад, у которого был Франциск Ассизский. Здесь Пушкин возражает не только Хомякову, но и Достоевскому: «если мы ограничимся, — прибавляет он далее, — своим русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только „приходскую литературу”»[676]. Очевидно, пожелай только Достоевский понять Пушкина до глубины, и — кто знает — не оказалась ли бы целая сторона его поэзии нерусской, враждебной, зараженной языческими веяниями Запада.
Тем не менее как художник он ближе к Пушкину, чем Тургенев и Гончаров. Это единственный из русских писателей, который воспроизводит сознательно борьбу двух миров. Великая душа Достоевского — как бы поле сражения, потрясаемое, окровавленное, полное скрежетом и воплями раненых, — поле, на котором сошлись два непримиримых врага. Кто победит? Никто никогда. Эта борьба безысходна. На чьей стороне поэт? Мы знаем только, на чьей стороне он хочет быть. Но именно в те мгновения, когда более всего доверяешь его христианскому смирению, — где‑нибудь в темном опасном углу психологического лабиринта с автором происходит вдруг что‑то неожиданное[677]: сквозь смирение мученика мелькает неистовая гордыня дьявола, сквозь жалость и целомудрие страстотерпца сладострастная жестокость дьявола. Пушкинская благодатная гармония превратилась здесь в уродливое безумие, в эпилептические припадки демонизма[678].
Казалось бы — вот предел, дальше которого идти некуда. Но Лев Толстой доказал, что можно пойти и дальше по той же дороге.
Достоевский до последнего вздоха страдал, мыслил, боролся и умер, не найдя того, чего он больше всего искал в жизни, — душевного успокоения. Лев Толстой уже более не ищет и не борется или по крайней мере хочет уверить себя и других, что ему не с чем бороться, нечего искать. Это спокойствие, это молчание и окаменение целого подавленного мира, некогда свободного и прекрасного, с теперешней точки зрения его творца, до глубины языческого и преступного, — мира, который величественно развивался перед нами в Анне Карениной, в Войне и мире, — эта тишина Царствия Божия производит впечатление более жуткое, более тягостное, чем вечная агония Достоевского. Конечно, и Лев Толстой не сразу, не без мучительных усилий достиг последнего покоя, последней победы над язычеством. Но уже в Войне и мире, в Анне Карениной мы присутствуем при очень странном явлении: две стихии соприкасаются, не сливаясь, как два течения одной реки. Там, где язычество, — все жизнь и страсть, роскошь и яркость телесных ощущений. Вне добра и зла, как будто никогда и не существовало добра и зла, с младенческим и божественным неумением стыдиться, скрывать наготу своего сердца поэт выражает жадную любовь ко всему смертному, преходящему, любовь — к этому великому волнующему океану материи, ко всему, что с христианской точки зрения должно бы казаться суетным и грешным — к здоровью, родине, славе, женщине, детям. Здесь вся гамма физических наслаждений, переданная с бесстрашной откровенностью, какой не бывало еще ни в одной литературе: ощущение мускульной силы, прелесть полевой работы на свежем воздухе, нега детского сна, упоение первыми играми, весельем юношеских пиров, спокойным мужеством в битвах, безмолвием вечной природы, душистым холодом русского снега, душистою теплотою глубоких летних трав. Здесь вся гамма физических болей, переданная с такою же неумолимою откровенностью, иногда доходящею до цинической грубости: начиная от звериного крика любимой женщины, умирающей в муках родов, до страшного хрустящего звука, когда у лошади, скачущей в ипподроме, ломается спинной хребет. Какое беспредельное упоение чувственностью! И как мог он сам, как могли другие поверить холодному, рассудочному христианству, как не узнали в нем великого, сокровенного язычника? Ребенок, свежий и радостный в объятиях матери; Иван Ильич, полусгнивший на своей страшной постели; цветущая и сладострастная Анна Каренина — всюду плоть, всюду языческая душа плоти, та из двух борющихся душ, о которой Гёте говорит:
Die eine halt in derber Liebeslust
Sich an die Welt mit klammernden Organen.
И в тех же произведениях уродливо и оскорбительно выступают наружу части, не соединенные никакою внутреннею связью с художественною тканью произведения, как будто написанные другим человеком. Это — убийственное резонерство Пьера Безухова, детски–неуклюжие и неестественные христианские перерождения Константина Левина. В этих мертвых страницах могучая плотская жизнь, которая только что била ключом, вдруг замирает. Самый язык, который уже достигал пушкинской простоты и ясности, сразу меняется: как будто мрачный аскет мстит ему за недавнюю откровенность — беспощадно насилует, ломает, растягивает и втискивает в прокрустово ложе многоэтажных запутанных силлогизмов. «Две души», соединенные в Пушкине, борющиеся в Гоголе, Гончарове, Тургеневе, Достоевском, совершенно покидают друг друга, разлучаются в Толстом, так что одна уже не видит, не слышит, не отвечает другой.[679]
Слабость Льва Толстого заключается в его бессознательности — в том, что он язычник не светлого, героического типа, а темного, варварского, сын древнего хаоса, слепой титан. Малый, смиренный пришел и расставил великому хитрую западню — страх смерти, страх боли; слепой титан попался, и смиренный опутал его тончайшими сетями нравственных софизмов и галилейской жалости, обессилил и победил. Еще несколько мучительных содроганий, отчаянных борений, порывов — и все навеки замолкло, замерло, наступила тишина Царствия Божия. Только изредка сквозь монашеские гимны и молитвы, сквозь ледяные пуританские речи о курении табаку, о братстве народов, о сечении розгами, о целомудрии, — доносится из глубины подземный гул, глухие раскаты: это голос слепого титана, неукротимого хаоса — языческой любви к телесной жизни и наслаждениям, языческого страха телесной боли и смерти.
Лев Толстой есть антипод, совершенная противоположность и отрицание Пушкина в русской литературе. И, как это часто бывает, противоположности обманывают поверхностных наблюдателей внешними сходствами. И у Пушкина, и у теперешнего Льва Толстого — единство, равновесие, примирение. Но единство Пушкина основано на гармоническом соединении двух миров; единство Льва Толстого — на полном разъединении, разрыве, насилии, совершенном над одной из двух равно великих, равно божественных стихий. Спокойствие и тишина Пушкина свидетельствуют о полноте жизни; спокойствие и тишина Льва Толстого — об окаменелой неподвижности, омертвении целого мира. В Пушкине мыслитель и художник сливаются в одно существо; у Льва Толстого мыслитель презирает художника, художнику дела нет до мыслителя. Целомудрие Пушкина предполагает сладострастие, подчиненное чувству красоты и меры; целомудрие Льва Толстого вытекает из безумного аскетического отрицания любви к женщине. Надежда Пушкина — так же, как Петра Великого, — участие России в мировой жизни духа, в мировой культуре; но для этого участия ни Пушкин, ни Петр не отрекаются от родной стихии, от особенностей русского духа. Лев Толстой, анархист без насилия, проповедует слияние враждующих народов во всемирном братстве; но для этого братства он отрекается от любви к родине, от той ревнивой нежности, которая переполняла сердце Пушкина и Петра. Он с беспощадною гордыней презирает те особенные, слишком для него страстные черты отдельных народов, которые он желал бы слить, как живые цвета радуги, в один мертвый белый цвет — в космополитическую отвлеченность.
Многознаменательно, что величайшее из произведений Льва Толстого развенчивает то последнее воплощение героического духа в истории, в котором недаром находили неотразимое обаяние все, кто в демократии XIX века сохранил искру прометеева огня — Байрон, Гёте, Пушкин, даже Лермонтов и Гейне. Наполеон[680] превращается в Войне и мире даже не в нигилиста–Раскольникова, даже не в одного из чудовищных «бесов» Достоевского, все‑таки окруженных ореолом ужаса, а в маленького пошлого проходимца, мещански самодовольного и прозаического, надушенного одеколоном, с жирными ляжками, обтянутыми лосиною, с мелкою и грубою душою французского лавочника, в комического генерала Бонапарта московских лубочных картин. Вот когда достигнута последняя ступень в бездну, вот когда некуда дальше идти, ибо здесь дух черни, дух торжествующей пошлости кощунствует над Духом Божиим, над благодатным и страшным явлением героя. Самый пронырливый и современный из бесов — бес равенства, бес малых, бесчисленных, имя которому «легион», поселился в последнем великом художнике, в слепом титане, чтобы громовым его голосом крикнуть на весь мир: «смотрите, вот ваш герой, ваш бог, — он мал, как мы, он мерзок, как мы!»
Все поняли Толстого, все приняли этот лозунг черни. Не Пушкин, а Толстой — представитель русской литературы перед лицом всемирной толпы. Толстой — победитель Наполеона, сам Наполеон бесчисленной демократической армии малых, жалких, скорбящих и удрученных. С Толстым спорят, его ненавидят и боятся: это признак, что слава его живет и растет. Слава Пушкина становится все академичнее и глуше, все непонятнее для толпы. Кто спорит с Пушкиным, кто знает Пушкина в Европе не только по имени? У нас со школьной скамьи его твердят наизусть, и стихи его кажутся такими же холодными и ненужными для действительной русской жизни, как хоры греческих трагедий или формулы высшей математики. Все готовы почтить его мертвыми устами, мертвыми лаврами, — кто почтит его духом и сердцем? Толпа покупает себе признанием великих право их незнания, мстит слишком благородным врагам своим могильною плитою в академическом Пантеоне, забвением в славе. Кто поверил бы, что этот бог учителей русской словесности не только современнее, живее, но с буржуазной точки зрения и опаснее, дерзновеннее Льва Толстого? Кто поверил бы, что безукоризненно–аристократический Пушкин, певец Медного Всадника, ближе к сердцу русского народа, чем глашатай всемирного братства, беспощадный пуританин в полушубке русского мужика[681]?
Нашелся один русский человек, сердцем понявший героическую сторону Пушкина. Это — не Лермонтов с его страстным, но слабым и риторичным надгробным панегириком; не Гоголь, усмотревший оригинальность Пушкина в его русской стихийной безличности; не Достоевский, который хотел на этой безличности основать новое всемирное братство народов. Это — воронежский мещанин, прасол, не в символическом, а в настоящем мужицком полушубке. Для Кольцова Пушкин — последний русский богатырь. Не христианское смирение и покорность, не «беспорывная» кротость русской природы — народного певца в Пушкине пленяет избыток радостной жизни, «сила гордая, доблесть царская»:
У тебя ль, было,
В ночь безмолвную
Заливная песнь
Соловьиная.
У тебя ль, было,
Дни — роскошество,
Друг и недруг твой Прохлаждаются[682].
У тебя ль, было,
Поздно вечером Грозно с бурею Разговор пойдет, —
Распахнет она Тучу черную,
Обоймет тебя Ветром, холодом,
И ты молвишь ей Шумным голосом:
«Вороти назад!»
«Держи около!»
Закружит она,
Разыграется! —
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься;
Встрепенувшися,
Разбушуешься, —
Только свист кругом,
Голоса и гул…
Буря всплачется Лешим, ведьмою,
И несет свои Тучи за море[683].
И символизм пьесы вдруг необъятно расширяется, делается пророческим: кажется, что певец говорит уже не о случайной смерти поэта от пули Дантеса, а о более трагической, теперешней смерти Пушкина в самом сердце, в самом духе русской литературы:
Где ж теперь твоя Мочь зеленая?
Почернел ты весь,
Затуманился;
Одичал, замолк, —
Только, в непогодь,
Воешь жалобу На безвременье…
Так‑то темный лес, Богатырь — Бова!
Ты всю жизнь свою Маял битвами.
Не осилили Тебя сильные,
Так дорезала Осень черная.
В настоящее время мы переживаем эту «черную осень», этот невиди мый ущерб, — убыль пушкинского духа в нашей литературе[684].
В Москве в нынешнем году поставлена трагедия Софокла «Антигона»[685], судя по многочисленным отзывам — тщательно, но едва ли вполне удачно, с излишними сценическими эффектами[686].
Значение хоров, в которых заключена вся мудрость и поэзия трагедии, ослаблено, потому что их превратили в «оперные» хоры. Публике, впрочем, это понравилось: вероятно, без оперы она бы скучала от однообразной простоты великих слов и не столь охотно посещала бы представления. Но, во всяком случае, постановка греческой трагедии у нас, и то, что толпа любопытствовала и шла в театр, есть уже событие. Оно говорит о едва нарождающемся, смутном желании что‑то понять, прежде совсем ненужное, обратить взоры в ту сторону, куда прежде вовсе не смотрели. Но, может быть, нехорошо, что нашей младенческой толпе, чтобы привлечь и забавить ее, чтобы остановить ее внимание, делают вечные уступки: дают оперу в трагедии, скрывая под семитическими сентиментальнонежными мелодиями Мендельсона[687] суровые и беспощадные пророчества древнего эллина; из других трагедий выбрана первою «Антигона», произведение высокое и совершенное, но все‑таки менее дерзновенное, чем остальные части трилогии — «Эдип–царь» и «Эдип в Колонне»[688]. Те, от кого зависел выбор трагедии, думали, вероятно, что «Антигона» современнее. Но ее только скорее, чем какую‑либо иную трагедию, можно «приспособить» к современной сентиментальности, понять со стороны неглубокой, общедоступной, мнимохристианской чувствительности, что, вероятно, большинство публики, не скучающей во время представления, и делает. Современность гораздо шире и глубже, чем случайное, сентиментальное волнение, которое может дать среднему человеку ложно понятая «Антигона».
И если взоры людей невольно обращаются назад, к великим произведениям древности, со смутной надеждой найти в них звуки наших дней, почему не дать им то, в чем звуки эти яснее и совершеннее, почему не показать живую связь прошлого с будущим без прикрас, уступок и смягчений?
Еврипид в сравнении с Эсхилом и Софоклом казался некогда трагиком упадка. Его находили слишком утонченным, изысканным, лишенным той громовой силы, которая есть у его предшественников, упрекали за то, что он отошел от правды жизни и допускал чудесное в своих трагедиях. Но так ли это?
Действительно, боги развязывают у него узлы человеческих страстей сверхъестественным вмешательством; он обнажает два вечные начала — «я» и «не–я», Аполлона и Диониса, — до последней, почти безобразной наготы; он знает борьбу между ними и уже символизирует ее в «Ипполите»[689] борьбой двух богинь — Афродиты и Артемиды. Может быть, у него уже слишком много сознания, что лишает его стихийной, первобытной мощи Эсхила и совершенной гармонии Софокла; но именно это мощное и тонкое сознание и преобладание его над стихийностью, глубокая прозрачность символов, разлад, ослабляющий и углубляющий его, и приближают к нему нас, людей с душами, едва пробудившимися к сознанию, еще такими же раздвоенными, как душа Еврипида. Так же, как он, мы поняли, что трагедия мировой жизни заключается в окружающей, в проникающей нас великой борьбе двух великих начал; так же, как он, увидели, что говорить о ней можно только символами, и, как он, слишком острым и тонким сознанием еще не сумели найти последней гармонии, последнего соединения.
Афродита — сила, сладострастие и красота — идет против Артемиды, целомудренной, строгой, нежной и такой же сильной и прекрасной. Обе они равно прекрасны — и потому равно правы. Вечная борьба их не оканчивается и никогда не окончится в трагедии мира поражением одной, победой другой, и эта борьба не нарушает их олимпийской тишины и
ясности, совершаясь только внизу, на земле, в сердцах человеческих. Артемида говорит Тезею, после гибели Ипполита:
А есть такой обычай у блаженных,
Что на своих в семье богов никто Не восстает, но каждый уступает.
Не то, поверь, не стала бы терпеть Я, гордая, такого униженья,
Чтоб из людей того, кто для меня Дороже всех, невинного, казнили.
Но как над ним ты должен плакать, смертный,
Когда и мне его, богине, жаль[690][691]!
Молниеносную Афродиту — мстительницу — Хор называет беспо щадною:
Эрос! Эрос! Желанья Ты вливаешь чрез очи В душу тех, кого губишь.
Проникая в сердца Упоительной негой…
Не являйся мне, Эрос,
Разрушающей силой,
Беспощадным врагом!
Нет, слабый огонь пожара И светил, враждебных людям,
Смертоносные лучи,
Чем из рук твоих любезных Стрелы нежной Афродиты,
Олимпийское дитя!
И далее:
Диркейский колодезь, Священные Фивы, Вы помните ярость Богини любви:
Там Семелу, Дионисия,
От Крониона зачавшую,
Не на радость полюбившую,
Ты сожгла, Киприда, молнией:
Губишь все своим дыханьем,
А потом, золотокудрая,
Улетаешь, как пчела!
Богиня сладострастия мстит человеку, непокорному ей, чтущему в сердце своем Богиню Целомудрия, убивает его и губит невинную Федру, «сжигает все своим дыханьем»; Ипполит умирает, его должны принести к отцу: и вдруг, среди горя и плача, среди несчастий, созданных Афродитою, перед самым появлением Артемиды, Хор возглашает радостный, как бы победный гимн:
Гордое сердце богов и людей Ты, Афродита, смиряешь,
Веет над ним, порхая, твой сын Легкий, на радужных крыльях,
И над певучей соленой волной,
И над землею летает.
Укрощает Эрос И зверей свирепых,
На горах живущих, —
Только что в их душу Темную проникнет Золотым лучом, —
И морских чудовищ,
И несметных тварей,
Вскормленных землею,
Озаренных оком Солнца, — и людей!
Всем повелевает,
Надо всем, Киприда,
Ты одна царишь!
Какая тишина, какое благоволение в злой силе прекрасного!
В этот миг является Артемида, непобежденная и непобедившая, чистая, справедливая и холодная. Она снимает клевету с Ипполита:
О милый мой, для мук ты был рожден И жить с людьми не мог, затем что слишком Была для них душа твоя чиста.
Но когда он, умирающий, взывает к ней:
О Артемида,
Взгляни, как я страдаю! —
Богиня отвечает ему кротко:
Вижу все,
Но слезы лить не должно нам, блаженным…
Ипполит, в безумии ропота, восклицает:
Зачем проклясть богов не могут люди!
Но Артемида утешает его безгневно, обещает отомстить Афродите, убив человека, который ей дороже всех. Борьба продолжается в бесконечность, и поле битвы все то же — сердце человека. Еврипид понимает, что эта борьба богов есть истинная жизнь людей, что она — биение их сердца, движенье крови, усилие и победа мысли. Мир — две чаши весов, вечно колеблющихся, две разные и равные чаши, с одной трепетной стрелкой сверху. И только две, соединенные и далекие, они могут существовать, обреченные на ничтожество, одна без другой:
Если о мудрости вечных богов помышляю,
В сердце моем утихает тревога.
И понимать начинаю
Волю бессмертных
В мире земном.
Прошло много веков, борьба Артемиды и Афродиты проявилась многими символами, люди познали галилейское учение целомудрия, смирения, отречения и покорности, не побежденное радостью жизни и солнца, но и не победившее их.
Еврипид как будто за много веков прозревал неведомое, новое учение и носил его в душе своей. Это смутно чувствовали люди старой русской Церкви, тихие и глубокие, более нас близкие к тайне жизни, потому что они в эту тайну хотели проникнуть, тогда как средний человек (под корой сонной нехристианской и неязыческой пошлости) к ней равнодушен. Наши древние иконописцы изображали языческих мудрецов, поэтов и сивилл, предвещавших Мессию. И в Вяжицком монастыре, в храме святого Николая (1462) под Спасителем, сидящим на престоле, изображен «Трагик Эврипидий» со свитком: «Аз чаю неприкосновенному родитися от Девы и воскресити мертвыя и паки судити им».
В Петербурге, на частной сцене, предполагается постановка «Ипполита» с возможной верностью и строгостью. Обещано участие артистов императорских театров. Хоры будут сопровождаться музыкой, которую напишет бар(онесса) Е. Овербек[692]. Полное подражание древней постановке недостижимо, да и не нужно. Все мелочное, временное уходит с временем, остается лишь вечное, и ясною должна быть только цепь, соединяющая наши помыслы и желания с душой великого поэта и пророка. Антигона может растрогать на минуту доброго, среднего человека, может испугать и ослепить душу более глубокую; но надо, чтобы нежный, девственный Ипполит заговорил со сцены, чтобы Богиня Целомудрия Артемида и Богиня Сладострастия Афродита, страшная, как смерть, золотая и легкая, как пчела, стали вновь лицом к лицу в вечной борьбе, губя и возвеличивая сердца человеческие, и тогда, может быть, многие смутно или ясно вдруг почувствуют, как две чаши весов мира, разные и равные, колеблются и как дрожит между ними, вверху, единая стрелка, не умея найти последнюю неподвижность.
Тургенев, говорят, устарел.
Две исполинские кариатиды русской литературы — Л. Толстой и Достоевский, — действительно, заслонили от нас Тургенева.
Навсегда ли? Надолго ли? Не суждено ли нам через них вернуться к нему?
В России, в стране всяческого — революционного и религиозного — максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный после Пушкина гений меры и, следовательно, гений культуры. Ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей?
В этом смысле Тургенев в противоположность великим создателям и разрушителям — Л. Толстому и Достоевскому — наш единственный охранитель, консерватор и, как всякий истинный консерватор, в то же время либерал. Или, говоря современным политическим языком, Тургенев в противоположность максималистам А. Толстому и Достоевскому наш единственный минималист.
В этом вечная правда его. Ибо, как бы мы ни презирали минималистов за их «мещанство», все‑таки без них не обойдешься; без них и максималисты провалились бы. Не потому ли революция наша не удалась, что слишком было много в ней русской чрезмерности, мало европейской меры; слишком много Л. Толстого и Достоевского, мало Тургенева?
Гений меры — гений Западной Европы. Европе и открылся Тургенев — первый из русских писателей. Несмотря на европейскую славу Л. Толстого и Достоевского, последняя русская глубина их остается Европе чуждою. Они удивляют и поражают ее; Тургенев пленяет. Он ей родной. Она почувствовала в нем впервые, что Россия тоже Европа.
Мера всех мер, божественная мера вещей — красота.
В созерцании осуществляется красота как искусство, эстетика; в действии, в трагедии — как любовь, влюбленность.
Тургенев — поэт красоты и влюбленности.
«Песнь торжествующей любви»[693] — песнь торжествующей плоти.
Трагедия влюбленности заключается в том, что не может любовь, ослепленная похотью, достигнуть этой истинной, торжествующей, «прославленной» плоти. Предмет похоти — чувственное тело человека — не истинная плоть, а лишь органическая материя, мясо, будущая падаль. Бодлэр видит в теле возлюбленной la charogne, падаль[694]. В «Прологах»[695] повествуется, как одному юному отшельнику, распаленному блудным помыслом, старец посоветовал пойти на кладбище, разрыть могилу, натереть платок трупным гноем и понюхать, чем пахнет: «Тогда поймешь, чего хочешь». Так аскетизм и оргиазм сливаются в одной кощунственной лжи.
На самом деле влюбленные любят не это тело, не труп, не падаль, а какое‑то другое, какую‑то нетленную «духовную плоть». О ней‑то и сказано: «Будут два одною плотью. Кто может вместить, да вместит»[696].
Но пока никто не вместил.
Влюбленностью вскрывается человеческая двойственность — дух и материя. Бог и зверь. Сначала нежный человеческий шепот: «Люблю! люблю!» А потом «звериный крик, вой, рев» рожающей Китти[697], рожающей самки. Любовь — жестокость. Любовь — кровавое насилие. Любить — рождать. Любить — убивать. «Любовь крепка, как смерть»[698]. Смерть связана с любовью. У Гёте Пандора, впервые увидев соединение любовников, спрашивает своего творца, Прометея: «Что это?» — и тот отвечает: «Это — смерть»[699].
Потому‑то и является в браке третья личность — ребенок, что две первые — отца и матери — как бы умирают, убывают, ущербляются в похоти. И задача неисполненной любви, непрославленной плоти передается от одного поколения другому, как зажженный факел из рук в руки; и череда поколений — череда бегущих факелоносцев.
Тургенев яснее, чем кто‑либо из мировых писателей, показал, что заповеди о браке, о совершенном соединении двух в одну плоть, никто не вместил.
У него, который, можно сказать, всю жизнь только и делал, что мучился над вопросом пола, поразительное отсутствие вопроса о деторождении, о материнстве. Тургеневские женщины и девушки как будто не могут родить. И как будто сам он этому сочувствует, не хочет продолжения рода человеческого, говорит ему: «Довольно! Довольно!» Но это не скопчество, не отсечение, а какое‑то огненное утверждение пола, огненная чистота — влюбленная девственность. Тургенев — поэт вечной девственности.
Я не могу себе представить, что у женщин и девушек Тургенева такие же тела, как у толстовской Китти, Наташи или даже Анны Карениной. Кажется, что тела их облачные, призрачные и прозрачные, как тела гоголевских русалок, сквозь которые светит луна[700]. Как будто они той же природы, как Эллис в «Призраках» или видение Клары Милич[701]. Вообще, призрачность и влюбленность почти всегда сливаются у Тургенева: это как бы два явления одной сущности; кто любит, тот вступает в царство призраков.
Тургеневские женщины и девушки среди человеческих лиц — иконы; среди живых людей — «живые мощи».
«Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая, ни дать ни взять — икона старинного письма… Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное.
— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал голос: он словно испарялся из едва шевелившихся губ. — Да и где узнать!.. Я Лукерья…
Я не знал, что сказать, я как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, красавица, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья! Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!
— Помилуй, Лукерья, что это с тобою случилось?»[702].
Случилось с нею то же, что со всеми женщинами и девушками, в которых влюблен вечный шестнадцатилетний мальчик Тургенев; все они погибают, превращаются в призраки, в видения, в таинственно мерцающие иконы, в благоуханно–нетленные мумии, в живые мощи.
Но что же именно происходит с ними? А вот что.
«Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова, — помните, такой из себя статный был, кудрявый, — еще буфетчиком у матушки вашей служил. — Очень мы с Василием слюбились… А дело было весною. Вот раз ночью… уж и до зари недалеко… а мне не спится: соловей в саду таково удивительное поет сладко… Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается… и вдруг мне почудилось: зовет меня кто‑то Васиным голосом, тихо так: „Луша!..” Я глядь в сторону, да знать спросонья — оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп!».
Всех тургеневских женщин и девушек зовет Васиным голосом не Вася, а кто‑то другой. Другой позвал Лизу в «Дворянском гнезде» — и она ушла в монастырь. И Елену, и Марианну, и Несчастную, и Клару Милич — всех. Все оступаются с какого‑то таинственного «рундучка», таинственной грани, и падают, и разбиваются о землю до смерти.
Ну а что же статный, кудрявый буфетчик Вася Поляков?
«Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного… Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. А жену он нашел себе хорошую, добрую — и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет, и очень ему, слава Богу, хорошо!».
Это брак Левина с Китти, Пьера Безухова с Наташею, так называемый христианский брак.
Христианский, но не Христов. Дело житейское, но не религиозное или по крайней мере не того религиозного порядка, о котором сказано: могущий вместить да вместит. «Человек молодой, не оставаться же ему холостым», — это все вмещают. Это физиология. Ветхий Завет. Трагедия пола этим не разрешается. Поставлен вопрос, но ответа нет.
Приказчику Васе Полякову, «слава Богу, очень хорошо». Но неужели же «песнь торжествующей любви» должна всегда кончаться унылым тренканьем гармоники благополучного приказчика? Жалко безумной влюбленности, жалко невозможной надежды.
«— А вы меня не слишком жалейте, право… Я теперь песни пою».
«Лукерья собралась с духом… Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но, прежде чем я мог промолвить слово, в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук… за ним последовал другой, третий. Она пела, не изменив выражения своего окаменевшего лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, как струйка дыма, колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить».
Вот предсмертная «песнь торжествующей любви» — песнь самого Тургенева. Громовые голоса Л. Толстого и Достоевского заглушают этот «чуть слышный, трогательно звенящий, как струйка дыма, колеблющийся голосок». Но горе нам, если мы его не услышим. В тех громовых голосах звучит хаос, безмерность, а в этом тихом — тишина гармонии, тишина красоты.
«— Ох, не могу, силушки не хватает…
Она закрыла глаза. Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики. Она взглянула на меня, и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова».
Не кажется ли иногда, что в последних, самых совершенных и вещих произведениях своих муза Тургенева похожа на эту древнюю статую с темными, закрытыми веками?
Веки у нее закрыты, потому что она видит чудный сон.
«Раз мне какой чудный сон приснился. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая… И будто со мною собачка рыженькая, злющая–презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не просто серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста.
Только очень меня растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью, жать‑то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают, да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить, а между тем я слышу — кто‑то уж идет ко мне, близко и таково поет: „Луша! Луша!..” Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц, заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь: по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько, только не Вася, а сам Христос. И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только Он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, только пояс золотой, и ручку мне протягивает. „Не бойся, — говорит, — невеста моя возлюбленная, ступай за мною: ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские”. И я к Его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги… Но тут мы взвились. Он впереди… Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, и я за Ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка болезнь моя и что в Царстве Небесном ей уже места не будет».
Нам казалось, что Тургенев — безбожник, что он покончил навсегда с религией вообще и с христианством в частности, что тут непримиримая противоположность Тургенева Л. Толстому и Достоевскому: они верят в Бога; много, может быть даже чересчур много, говорят о Христе; Тургенев почти никогда не говорит о Нем, не произносит имени Его, как будто забыл Его, не знает, не хочет знать.
Но откуда же это внезапное видение?
Реальная муза Тургенева не видела Христа наяву; но закрыла «свои темные веки, с золотистыми ресницами, как у древних статуй» и увидела Его во сне — в самом вещем сне своем, в самой страшной муке, ибо трагедия пола и есть, конечно, самая страшная мука Тургенева. И вот он понял, что никто, кроме Христа, не утолил этой муки.
По отношению к христианству не лицо А. Толстого и Достоевского, наших богоискателей, а лицо «безбожного» Тургенева есть лицо всей русской интеллигенции, да, пожалуй, и всей западноевропейской культуры.
Но, может быть, и у них, как у Тургенева, непроизнесенное имя? Может быть, вся современная культура, вся живая плоть человечества — живые мощи, бедная Лукерья, которая думает, что любит приказчика Васю Полякова с уныло–благополучной гармоникой, а в действительности любит кого‑то другого, давно уже позвавшего ее таинственным голосом? Открытыми глазами, наяву еще не видит Его, но закроет их — и вот–вот увидит во сне? Может быть, имя Его останется пока еще безмолвным, потому что нельзя его сейчас произнести, не наступили времена и сроки?
А когда пытаются произносить, то все не так. Твердят, кричат, вопиют громовыми голосами, но никто не слышит.
Л. Толстой произносит имя человеческое; а чувствуют, что это не только Человек. Достоевский произносит имя Божеское; а все чувствуют, что это не только Бог.
Тургенев молчит и молча подходит ближе ко Христу, чем Л. Толстой и Достоевский.
Каков же этот никем не узнанный, не названный по имени Христос?
«Я видел себя юношей, почти мальчиком, в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи.
Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви… Но народу стояло передо мною много.
Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.
Вдруг какой‑то человек подошел сзади и стал со мною рядом.
Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.
Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие… и посмотрел на своего соседа.
Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но сжаты; верхняя губа как бы покоится на нижней; небольшая борода раздвоена; руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех.
„Какой же это Христос! — подумалось мне. — Такой простой, простой человек! Быть не может!”.
Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоял со мной рядом.
Я опять сделал над собою усилие…
И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хотя и незнакомые черты.
И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа»[703].
Толстовский ли это Христос, Сын Человеческий, только человеческий? Нет. Тот в алтаре со священником или на иконах в блистающих ризах. А Этот в «рабьем зраке», с людьми пришел из мира и снова пойдет в мир. И лицо у Него, «как у всех, похожее на все человеческие лица». Совершенно Божеское, потому что совершенно человеческое. Христос в миру, Христос в человечестве — вот неузнанный, неназванный, но подлинный, тургеневский Христос.
Отсюда религиозное отношение Тургенева ко всемирной культуре, которого ни у Л. Толстого, ни у Достоевского нет.
Толстовское опрощение, надежда спасти Россию «по–мужицки, по–дурацки»[704] есть тоже форма нигилизма. И у Достоевского в его высокомерном презрении к «безбожному, гнилому Западу»[705], в утверждении России как единственного народа–богоносца — опасность еще злейшего, хотя и скрытого, нигилизма, который теперь на наших глазах вскрывается в «зоологическом патриотизме», в действительно безбожном и гнилом национализме современных эпигонов славянофильства. Тут уже воистину под видом Христа провозглашается Антихрист: «По плодам узнаете их»[706]. Плоды же их — все происходящие сейчас в России человеческие мерзости и зверские ужасы, освящаемые именем Христа.
Гордыня реакционная, которая противополагает Россию Европе в самодержавии, православии, народности, и обратная, но не менее страшная гордыня революционная, которая отрицает религиозную культуру народа, его живую историю, живую плоть, хочет все смести, разрушить, чтобы строить сызнова на голом месте, — вот две грозящие нам погибели. От этих‑то двух погибелей спасает нас религиозное смирение Тургенева перед святыней европейской культуры.
Говорят, Тургенев — западник. Но что значит — западник? Это ведь только бранное слово славянофилов. Неужели же мы всем существом своим не чувствуем, что Тургенев — не менее русский, чем Л. Толстой и Достоевский? Ежели Петр, Пушкин — истинно русские люди, не в презренном, шутовском, сегодняшнем, а в славном, подлинном смысле этого слова, то Тургенев — такой же истинно русский человек, как Петр и Пушкин. Он продолжает дело их: не заколачивает, подобно старым и новым нашим «восточникам», а прорубает окно из России в Европу; не отделяет, а соединяет Россию с Европой. Пушкин дал русскую меру всему европейскому; Тургенев дает всему русскому европейскую меру.
Но с окончательною ясностью Тургенев еще не видел того, что соединяет Россию с Европою. Мы уже видим или скоро увидим.
Соединяет их вселенское начало обеих культур, единое солнце Востока и Запада — вселенское христианство, Христос в миру, неузнанный, неназванный Жених человеческой плоти, всемирной культуры, ибо без Него культура не живая плоть, а живые мощи, или мертвое тело, падаль. Этого‑то Жениха, грядущего в мир, увидела в своем вещем сне влюбленная муза Тургенева.
Существовало некогда, кажется, у всех народов, древнее суеверие, а может быть, и неотложная вера в то, что на поминальных тризнах, справляемых во славу героя, тень умершего, бессмертного, присутствует среди живых.
Может быть, вы усмехнетесь, если я напоминаю вам эту древнюю веру и признаюсь, что у меня сейчас такое чувство, что будто И. С. Тургенев, которого кое‑кто из пришедших на эти поминки знал при жизни и до сей поры еще помнит, любит, как живого, — у меня, говорю я, такое чувство, как будто он присутствует здесь, видит и слышит нас.
Если действительно есть та живая связь наша с ним, о которой я говорил, если религиозное отношение его и наше ко всемирной культуре — Христос в миру, с лицом человеческим, простым, лицом, как у всех; именно такой Христос, каким Тургенев увидел Его; если Он — единственное наше спасение гибнущей России, то вы поймете, поверите, почувствуете, так же как я это чувствую, что Тургенев — живой, самый нужный, близкий нам человек, что он видит и слышит нас, потому что мы любим то, что и он здесь любил и не мог разлюбить там.
Он вошел в приемную, холодную, светлую комнату, с холодною парадною мебелью, с холодными белыми гипсами, снимками с древних мраморов. И от него самого веяло холодом: великий человек и господин тайный советник маленького немецкого дворика, напыщенного и напудренного во вкусе Людовика XV.
— Ваше превосходительство высказываете великие мысли, и я счастлив, что слышу их, — говорит ему собеседник, доктор Эккерман[707], изгибаясь почтительно, не то как лакей своего барина, не то как жрец своего бога.
Бог — в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80–ти. Высок и строен; так величав, что похож на собственный памятник. Редкие седые волосы над оголенным черепом; смуглое, свежее лицо все в глубоких складках–морщинах, и каждая складка полна мысли и мужества. Углы старчески–тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены не то с олимпийскою усмешкою, не то с брезгливою горечью. Стар? Да, очень стар. Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, — глаза человека, который видит «на аршин под землею». «Орлиные очи». Невероятно, до странности, до жуткости молодые, — в старом–старом, древнем лице, — глаза 18–летнего юноши. «Я ощущал перед ними страх», — признается Тэккерей, посетивший его в Веймаре в 1831 г.[708] Они напомнили ему глаза Мелъмота–Путешественника[709], которым когда‑то пугали детей; Мельмот, подобно Фаусту, заключил договор с «некоторым лицом», и до глубокой старости глаза его сохраняли властительный блеск. В самом деле, в этих нестареющих глазах что‑то «демоническое», как любил выражаться их обладатель: демоническое — для язычников значит божеское (от древнегреческого слова diamon — бог), а для христиан — бесовское, но во всяком случае, сверхчеловеческое.
Да, сверхчеловеческое — в этой вечной юности. «Ему скоро будет восемьдесят, — записывает Эккерман в 1825 г., — но ни в чем он не чувствует себя готовым и законченным; он стремится все вперед и вперед; он кажется человеком вечной, неразрушимой юности»[710].
Однажды, весенним утром, в саду забавлялся стрельбой из лука. «Я подал ему лук. Он приладил стрелу, прицелился вверх и спустил тетиву. Он был точно Аполлон, состарившийся телом, но одушевленный бессмертной юностью. Не умею сказать, до чего мне было весело, глядя на него. Мне вспомнились стихи:
Иль старость меня покидает?
Или детство вернулось опять?»[711].
На 72–м году от роду, летом, на Мариенбадских водах влюбился в 19–летнюю девушку[712] и страдал, вздыхал, бегал за нею, как мальчик. Красавица не пожелала быть Гретхен, и, расставшись с нею, он заболел от горя. Тогда написал свою безумно–страстную «Мариенбадскую элегию»[713]. Переписал ее тщательно латинским шрифтом на веленевой бумаге и прикрепил шелковым шнурком к красному сафьянному переплету с истинно немецкой аккуратностью. Нам смешно, но ему не до смеха.
«— Ах, я научился страдать и терпеть! — вздыхает он не хуже юного Вертера, сидя ноябрьской ночью в своей крошечной веймарской спаленке, больной, в белом фланелевом шлафроке, с ногами, закутанными в шерстяное одеяло. — Я не лягу в постель, просижу всю ночь в кресле: все равно, настоящего сна не будет…»[714].
Но вот разговор с Гумбольдтом или другим ученым о спиральном росте растений, о законах атмосферического давления, о новооткрытых веществах — йоде и хлоре; велит принести йоду и превращает его в пары на пламени свечки; при этом, восхищаясь фиолетовым цветом паров, видит в нем «приятное подтверждение одного из законов своего учения о цветах»[715]; смотрит на волшебное пламя такими же влюбленными глазами, как в ее глаза: и там, и здесь — одна душа — Душа Мира; там изменила, здесь не изменит, — и вот уже опять здоров, опять юн.
Знает, что в семьдесят лет влюбляться глупо. «Но надо часто делать глупости, чтобы только продлить жизнь»[716]. Думает, что люди живут, пока смеют жить; живут и умирают по собственной воле. У него самого воля к жизни, смелость жизни бесконечная.
Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия.
И другим, глядя на него, а может быть, и ему самому, приходит в голову странная мысль: полно, умрет ли он когда‑нибудь? Ну, как такому умирать?
Когда же все‑таки умер, — Эккерман вошел в комнату его. «Обнаженное тело было обернуто белой простыней. Фридрих (старый слуга) отвернул простыню, и я подивился на божественное великолепие этих членов. Грудь была необычайно сильная, широкая и выпуклая; руки и ноги — полные и нежные; следки ног изящны и правильны. Передо мною лежал совершенный человек в совершенной красоте, и восторг, который я почувствовал, заставил меня позабыть на миг, что бессмертный дух уже оставил эту оболочку»[717].
Как будто и в смерти бессмертен.
«Обновляется, подобно орлу, юность твоя»[718]. Эту вечную юность он черпает из ее первоисточника — из природы всеобновляющей. Припал к ней, как ребенок к груди матери. Вот для кого мать сыра земля в самом деле — Мать.
«Я сравниваю землю, — говорит он по поводу своих барометрических наблюдений над земной атмосферой, — с огромным живым существом, которое постоянно вдыхает и выдыхает»[719]. С нею дышит и он, дитя ее, одним дыханием.
С природой одною он жизнью дышал[720].
Это не сравнение, а действительность. Опять‑таки не умственно, не нравственно, а плотски, кровно, физически он связан с природой — с Душою Мира.
«Он сегодня совсем бодр, — записывает Эккерман после той болезни от мариенбадской несчастной любви. — Сегодня самый короткий день в году, и надежда на то, что теперь с каждой неделей дни станут быстро удлиняться, по–видимому, благотворно на него действует. — Сегодня мы празднуем рождение нового солнца! — воскликнул он радостно, когда я вошел.
Я узнал, что всякий год он чувствует слабость и уныние за несколько недель перед самым коротким днем»[721].
Дитя земли, подобно ей, унывает, умирает, когда солнце от нее уходит, и опять оживает, когда оно приближается. Рождество Христово — только в уме его; но рождение солнца — в теле, в крови. Вот откуда вечная юность: земля для него все так же молода, как в первый день творения, и он смотрит на нее, как первый человек в раю.
В этом он — единственный, по крайней мере на нашей старой земле, в нашей старой Европе. Впрочем, был еще другой подобный, но не в созерцании, а в действии.
В 1808 году в Эрфурте произошло свидание Гёте с Наполеоном.
«Меня позвали в кабинет императора. Он сидел за круглым столом и завтракал; направо, несколько поодаль стола, стоял Талейран; налево, ближе к нему, — Дарю, с которым он говорил о военных контрибуциях. Император сделал знак, чтобы я подошел. Я стал перед ним в должном расстоянии. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Господин Гёте, вы — человек (Monsieur Goethe, vous etes un homme). Он спросил:
— Сколько вам лет?
— Шестьдесят.
— Вы прекрасно сохранились… Вы писали трагедии?..»[722].
И далее — о трагедиях, о Вертере, которым Наполеон зачитывался в юности, — общие места, величавые глупости, которые показывают, что и людям божественно–умным не следует совать носа туда, куда их не спрашивают.
Но вещее слово сказано: се человек[723].
И Гёте говорит о Наполеоне почти то же самое: «Наполеон был молодец (ein Kerl); он находился в состоянии непрерывного просветления»[724]. — «Он — сокращение мира»[725]. — «Он — существо демоническое»[726] (опять в особенном, гётевском, древнем смысле, от diamon — бог), — демоническое в такой высокой степени, что с ним нельзя сравнить никого.
Узнали друг друга, увидели: рыбак рыбака видит издалека. Встреча их неслучайна; они должны были встретиться, — великое созерцание с великим действием. Близнецы неразлучные, дети одной земли–матери: она породила их вместе одним усилием родов, великим землетрясением — Великой Революцией.
Но для нас, маленьких, — не слишком ли велики? «На таких людях не тело, а бронза», — говорит Раскольников[727]. Бронзовым или каменным холодом веет от них. Когда такой человек входит в наш дом, ступени лестниц трещат, половицы скрипят и шатаются под ступней нечеловеческой, как будто вошел Каменный Гость.
О, тяжело
Пожатье каменной его десницы[728]!
Нам страшно с ним, как Фаусту с Духом Земли:
Weh! Ich ertrag’dich nicht!
Горе! Я не могу тебя вынести[729]!
Вынести нельзя того, как этот нестрадающий относится к страданиям, этот бессмертный — к смерти.
«Сегодня, по дороге к Гёте, я узнал о смерти великой герцогини–мате — ри, — сообщает Эккерман. — Первою моею мыслью было, как это подействует на Гёте в его преклонных годах. Он уже более пятидесяти лет был близок к герцогине, пользовался ее особой милостью: смерть ее должна глубоко взволновать его. С такими мыслями я вошел к нему в комнату; я был немало изумлен, увидав, что он вполне бодр и здоров; сидит за столом с невесткой и внуками и ест суп, как будто ничего не случилось. Мы беззаботно разговаривали о разных посторонних вещах. Вдруг начался перезвон колоколов; г–жа фон Гёте взглянула на меня, и мы заговорили громче, боясь, что заупокойный звон встревожит и потрясет его; мы думали, что он чувствует так же, как мы. Но он чувствовал не так, как мы. Он сидел перед нами, как высшее существо, которому недоступны земные страдания»[730].
Что это, победа над чувством или просто бесчувственность? Божественный мрамор или обыкновенный кремень?
Прежде чем решать, вглядимся, вслушаемся.
Wer nie sein Brot mit Tranen ass…
«Кто никогда не ел своего хлеба со слезами, кто не просиживал скорбных ночей, плача на своей постели, — тот вас не знает, Силы Небесные!»[731].
Эта песенка старого арфиста — неужели песенка самого Гёте?
Когда он писал о самоубийстве Вертера, то никогда не ложился спать, не положив рядом кинжала: решил покончить с собой и только выжидал минуты.
«Немецкий писатель — немецкий мученик»[732], — говорил он в глубокой старости, оглядываясь назад, на прожитую жизнь. Гёте — мученик, Гёте — несчастный, — как это странно звучит. Но странный звук верен. «Меня всегда считали за особенного счастливца; я не стану жаловаться и бранить мою жизнь. Но в сущности она была только труд и работа; за свои 75 лет вряд ли я провел четыре недели в свое удовольствие. Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который надо было снова подымать»[733]. В этой‑то Сизифовой работе над камнем жизни он сам окаменел, окаменил себя, чтобы вынести невыносимое.
Weh! Ich ertrag’dich nicht!
Горе! Я не могу тебя вынести!
— не говорил ли себе самому, как страшному Духу Земли?
Когда узнал о внезапной смерти сына, глаза его наполнились слезами, но не заплакал, а только произнес:
— Non ignoravi me mortalem genuisse (Я знал, что рожден смертным).
«Он был вполне спокоен и ясен духом, — записывает Эккерман через месяц.
— Мы говорили о многом; о сыне он не вспомнил ни словом»[734].
А через три дня после этой записи Гёте вдруг заболел кровотечением, «потерял шесть фунтов крови, что при его 80–летнем возрасте весьма серьезно».
Боялись, что не выживет, но «его удивительное сложение и на этот раз одержало победу»[735]. Начал быстро поправляться и, лежа в постели, уже работал над второю частью «Фауста».
«Моя единственная забота — поддержать физическое равновесие; остальное пойдет само собою… Тому, кто твердо начертал путь для воли, нечего много беспокоиться. Вперед… вперед по могилам!»[736].
Если это бесчувственность, то такая, как у солдата, который в пылу сражения не чувствует раны.
Под мертвым камнем живое сердце страдает, истекает кровью так же, как наше, только умеет не по–нашему терпеть и молчать.
В его писаниях живое сердце каменеет, мертвеет к старости: в его беседах — обратный путь, к живому от мертвого. Вот почему для познания Гёте разговоры с Эккерманом — книга единственная. В них то, чего нет в его писаниях: слова, которые могут быть сказаны, но не написаны.
Эккерман — человек маленький. Рассказ его о жизни и творчестве Гёте — рассказ божьей коровки об орлином полете. Разговор великого с маленьким; но в том‑то и величие солнца, что оно отражается и в малейшей капле воды.
Если бы человек неверующий спросил меня, какую книгу прочесть, чтобы найти смысл жизни, — я указал бы ему на разговоры Гёте. Это самая здоровая и самая целебная из книг. Лучшее лекарство для самоубийц: может быть, многие отложили бы пулю и яд, если бы прочли эту книгу как следует.
«Истину удобно сравнить с алмазом, от которого лучи расходятся не в одну, а во многие стороны»[737], — говорит Гёте. Ни у кого лучи истины не расходились, не множились так, как у него. Отсюда — неисследимость его, непознаваемость, как самой природы. Когда мы думаем сказать о нем что‑нибудь, мы ничего не говорим. «О Шекспире нельзя говорить: все будет мало»[738], — заметил он однажды. Кажется иногда, что по той же причине нельзя говорить и о самом Гёте.
Критические лоты, сколько бы ни опускались в это море, не доходят до дна. Что, если нет вовсе дна? Ни низа, ни верха, ни глубины, ни высоты. Бездонность, безбрежность, как в том страшном царстве Матерей[739], куда Мефистофель приглашает Фауста:
Versinke denn! Ich konnt auch sagen: steige!
’s ist einerlei.
Опустись же! Я мог бы сказать: подымись!
Это все равно[740].
По природе своей он человек действенный. Но для действия нужна точка опоры, — а какая же опора в безбрежности, бездонности? Чтобы сделать что‑нибудь, надо хотеть чего‑нибудь. Чего же он хочет? Всего. Не слишком ли это много для сил человеческих? Созерцание должно ограничиться, сузиться, заостриться в острие воли, чтобы перейти в действие. «Величайшее искусство, — говорит Гёте, — суметь ограничить и уединить себя»[741]. Этого‑то искусства у него самого не было. «Я много потерял времени на вещи, которые не относятся к моему прямому делу»[742]. — «Я все больше понимаю, что значит быть действительно великим в одном деле»[743].
Бывали минуты, когда ему казалось ничтожным все, что он сделал. Вся его жизнь — не действие, а только стремление, подготовление к действию. Начинал и не кончал; делал, но не сделал. В этом главная мука его, неимоверная усталость, вечное вскатывание Сизифова камня.
В безбрежности, бездонности — одна только мель, где опущенный лот почти сразу касается дна. Эта мель — общественность.
Он вышел из революции, так же как Наполеон; она породила обоих и оба от нее отрекаются. Тут вечный спор «отцов и детей». На небе Кронос пожирает детей своих[744]; на земле дети пожирают отцов своих.
«Люди будут непрестанно колебаться то в ту, то в другую сторону, и потому одна часть будет страдать, а другая — благоденствовать, и не будет конца борьбе… Самое разумное — держаться того дела, для которого рожден… Либералы могут говорить… Но роялистам, у которых власть в руках, речь не к лицу. Им следует двигать войска, рубить головы и вешать… Я всегда был роялистом»[745].
Гёте, благоволящий смертную казнь, — такое плачевное зрелище, что хочется пройти мимо, закрыв глаза.
«К чему нам излишек свободы, когда мы не можем им воспользоваться? — недоумевает он. — Мещанин столь же свободен, как и дворянин, пока держится в известных, предназначенных ему Богом пределах»[746].
Ну, на этом нас не поймаешь: освящение рабства именем Божьим — самое древнее и гнусное из всех кощунств.
Благословляет и смертную казнь слова. «Необходимость возбуждает ум; вот почему мне нравится ограничение свободы печати»[747]. Цензура возбуждает ум, как розга кровообращение. На это можно только ответить: пусть тот, кто думает так, сам ляжет под розгу.
Да, все это мелко, и если бы речь шла не о Гёте, то надо бы сказать: пошло. Тут в его ясновидении какая‑то слепая точка. Кажется, он это и сам чувствует.
«Говорят, что я государев холоп… что я не друг народа. Конечно, я не друг революционной черни, которая выходит на разбой, убийства и поджоги… Я ненавижу всякий насильственный переворот… Все насильственное, всякие скачки мне противны, потому что они противны природе»[748].
Нет, не противны, — мы уже теперь это знаем. Постепенности, непрерывности недостаточно для того, чтобы объяснить закон эволюции; нужно допустить и другой, смежный, закон — прерывности, внезапности, катастрофичности, — то «непредвидимое» (imprevisible Бергсона), что в стихии общественной называется революцией.
В революции Гёте не узнал «демонического», что было ему так понятно и родственно в других областях; не узнал Духа Земли во времени, которого так хорошо знал в вечности.
Но обнажать это слабое место его слишком легко.
«Шекспир подает нам золотые яблоки в серебряных чашах, а неумелые критики валят в них картофель»[749]. Утверждать, как это делают неумелые критики самого Гёте, что последняя сущность его — реакция, не значит ли в серебряные чаши вместо золотых яблок валить картофель?
«Известия о начавшейся июльской революции дошли сегодня до Веймара и взволновали всех, — записывает Эккерман. — Я зашел к Гёте.
— Ну, — встретил он меня, — что вы думаете об этом великом событии? Вулкан начал извержение; все в пламени, и это уже не беседа при закрытых дверях!
— Ужасное событие! — отвечал я. — Но чего же было и ожидать при таком министерстве, как не того, что все кончится изгнанием королевской семьи?..
— Мы, любезнейший, кажется, не понимаем друг друга, — возразил Гёте. — Я вовсе не о них говорю; меня занимает совсем другое, я говорю
о публичном обсуждении в академии столь важного для науки спора между Кювье и Жоффруа де–Сен–Илером…»[750].
Может быть, он прав; знаменитый спор о происхождении видов — большое событие, большая революция, чем та, на парижских площадях и улицах. Он видит одну и не видит другой; но одна с другой связана; одна без другой невозможна. Июльский переворот — следствие Великой Революции, а без этой не было бы воздуха, в котором только и могло зажечься пламя спора в стенах академии. «Все в пламени», — радуется Гёте. Но пламя это зажглось на площадях и улицах.
Учение о мировой эволюции он угадал один из первых и торжество его считал главным делом своей жизни.
«Растение развивается от узла к узлу, заканчиваясь цветком и семенем. Не иное и в мире животном: гусеница, солитер растут от узла к узлу и, наконец, образуют голову; у высших животных и человека позвонки все прибавляются, прибавляются и заканчиваются головою»[751]. Развитие организмов соответствует развитию обществ. Пчелиный улей производит матку — голову свою; общество людей — героя.
В этом очерке мира, может быть, больше величия, чем во всем художественном творчестве Гёте. Но чтобы так увидеть мир, надо быть таким художником. Тут истина и красота — одно.
«Отныне, при испытании природы, будут взирать на великие законы творения, в таинственную мастерскую Бога… и чувствовать дыхание Божие, которое указывает движение каждой частице материи»[752], — определяет он смысл учения об эволюции.
Познавать природу — значит «чувствовать в ней дыхание Божие»; всякое научное открытие есть и откровение религиозное — вот сущность Гёте. Разлад, который проходит незаживающей раной по самому сердцу современного человечества — разлад веры и знания, — он преодолел, он — первый и единственный.
Кто верит, тот еще не знает; кто знает, тот уже не верит. «Наукой доказано, что верить нельзя» — вот общее место научной пошлости, того полузнания, которое хуже всякого невежества. Гёте есть воплощенное отрицание этой пошлости. Он знает и верит; чем больше знает, тем больше верит. «Малое знание удаляет нас от Бога, великое приближает к Нему»[753], — эти слова Ньютона Гёте оправдал на себе, как никто. «Знание и вера существуют не для того, чтобы уничтожать друг друга, а чтобы восполнять», — сказал он, и не только сказал, но и сделал. Его соединяющее, как он любил выражаться, «синтетическое» знание есть новое, небывалое в религиозном опыте человечества приближение к Богу.
Новейшая философия «творческой эволюции» (evolution creatrice Бергсона) следует вплотную за Гёте, когда утверждает, что исключительно механическое, рассудочное толкование мира недостаточно. Оно нерелигиозно, потому что ненаучно.
«Рассудок не достигает природы, — говорит Гёте, — человек должен возвыситься до высочайшего разума, чтобы прикоснуться к божеству, которое открывается в живом, а не в мертвом»[754]. — «Существуют явления первичные (Urphanomenen), божественную простоту которых разрушать не следует»[755]. «Я всегда был уверен, что мир не мог бы существовать, если бы не был так прост»[756]. Это одна из глубочайших мыслей гётевой религии. Простота мира и есть его чудесность, таинственность, божественность. «Все мы бродим ощупью среди тайн и чудес»[757]. Явления природы суть богоявления. «Высшее, чего может достигнуть человек в познании, есть чувство изумления (Erstaunen)»[758].
Никто не обладал в такой мере, как он, этим даром изумления. Оно‑то и соединяет для него науку с религией.
«— Бог жалеет вопиющих к нему воронят! — восклицает он по поводу выкармливания чужих птенцов маткою. — Кто слышит это и не верует в Бога, тому не помогут ни Моисей, ни пророки. Вот что я зову вездесущием Божиим»[759].
Естественная история — продолжение священной, книга природы — продолжение Библии, и подлинность обеих одинакова.
Матка–малиновка кормит детенышей в клетке, когда ее выпускают в окно, — возвращается к ним. Эккерман, наблюдающий за ней, тронут этим до глубины сердца. Он рассказал об этом Гёте.
«— Глупый вы человек, — возразил тот, улыбаясь многозначительно, — если бы вы верили в Бога, то не удивлялись бы. Он приводит в движение мир; природа в Нем, и Он в природе… Если бы Бог не одушевлял птицы этим всемогущим влечением к ее детенышам, если бы подобное стремление не проникало всего живого, то и мир не мог бы существовать. Всюду распространена божественная сила и всюду действует вечная любовь»[760].
В проповеди св. Франциска «сестрам–птицам»[761] брезжит то, что здесь, у Гёте, сияет полным светом: «Бог не почил от дел Своих»[762]. Учение об эволюции есть созерцание этого не почившего, делающего, творящего Бога. Тут, повторяю, новое, небывалое в религиозном опыте человечества: чтобы так верить, надо так знать.
Познание души человеческой приводит его к тому же, к чему познание природы. Может быть, нигде религиозное чувство его не достигает такой убедительной, осязательной подлинности, как в чувстве личного бессмертия.
Идея бессмертия связана для него все с той же идеей творческой эволюции. «Для меня убеждение в вечной жизни истекает из понятия о вечной деятельности: если я работаю без отдыха до конца, то природа обязана даровать мне иную форму бытия, когда настоящая уже не в силах будет удержать мой дух»[763].
Это только догадка; но если все его догадки о природе оказались верными, то почему бы и не эта?. Уничтожение такого человека, как он, не большая ли бессмыслица, чем та, о которой сказано: credo quia absurdum[764].
Однажды, во время прогулки в окрестностях Веймара, глядя на заходящее солнце, задумался он и сказал словами древнего поэта:
И, заходя, остаешься все тем же светилом[765]!
«При мысли о смерти, — добавил он, — я совершенно спокоен, потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимою и непрерывно действует из вечности к вечности; он подобен солнцу, которое заходит только для нашего земного ока, а на самом деле никогда не заходит»[766].
В эту минуту он сам подобен заходящему солнцу: знает так же, как оно, что опять взойдет.
В разговоре с Фальком в день похорон Виланда он выразил это чувство бессмертия еще с большею силою.
«— Никогда и ни при каких обстоятельствах в природе не может быть и речи об уничтожении таких высоких душевных сил; природа никогда не расточает так своих сокровищ…»[767].
Изложив свое учение о душах–монадах, сходное с учением Лейбница, он продолжает:
«— Минута смерти есть именно та минута, когда властвующая монада освобождает своих дотоле подданных монад. Как на зарождение, так и на это преставление я смотрю как на самостоятельные действия этой главной монады, собственная сущность которой нам вполне неизвестна… Об уничтожении нечего и думать; но стоит поразмыслить о грозящей нам опасности быть захваченными и подчиненными монадой, хотя и низшею, но сильною…
В это время на улице пролаяла собака. Гёте чувствует от природы нелюбовь к собакам». (Недаром Мефистофель вышел из черного пуделя).
Тогда произошло что‑то странное, почти жуткое. Гёте вдруг остановился, поспешно подошел к окну и закричал:
«— Ухищряйся, как хочешь, ларва, а меня ты не захватишь в плен!» (Larva значит по–латински привидение, призрак, пустая оболочка души).
«Никогда, ни раньше, ни позже, я не видал его в таком состоянии», — замечает Фальк.
«— Эта низкая сволочь, — заговорил Гёте снова, после молчания, более спокойным голосом, — важничает свыше меры. В нашем планетном закоулке мы принуждены жить с настоящими подонками монады, и если на других планетах узнают о том, то такое общество не принесет нам чести…
И закончил торжественно:
— Монады принимают участие в радостях богов как блаженные, сотворческие силы. Им вверено становление творения. Свободные, идут они по всем путям, со всех вершин, из всех глубин, от всех созвездий, — и кто их удержит? Я уверен, что я — тот самый, кто перед вами уже тысячи раз жил и еще буду жить тысячи раз…»[768].
Образ Гёте–олимпийца, кричащего псу с какой‑то нездешнею яростью: «Ларва, низкая сволочь!», — останется навеки одним из богоподобных человеческих образов. Тут, как будто в темноте, не видя предмета, мы его нащупываем: уже не верим в бессмертие, а знаем, осязаем, чувствуем: вот оно.
Как относится религия Гёте к христианству?
«Для меня Христос, — признается он в минуту откровенности, — навсегда останется существом в высшей степени значительным, но загадочным»[769] (Mir bleibt Christus immer ein hochst bedeutendes, aber problematisches Wesen).
Я за тобой не пойду…
Folgen mag ich dir nicht…
— обращается он ко Христу в одной из своих венецианских эпиграмм и кощунствует о Воскресении с возмутительной легкостью[770].
А в разговоре с Эккерманом утверждает: «Сколько бы ни возвышался дух человеческий, высота христианства не будет превзойдена»[771]. — «Величие Христа настолько божественно, насколько вообще божественное может проявиться на земле»[772].
Но, поклоняясь Христу, он проходит мимо Него, и, в конце концов, Гретхен, кажется, все‑таки права, когда говорит Фаусту–Гёте:
Steht aber doch immer schief darum,
Denn du hast kein Christentum.
А все же что‑то тут неладно Затем, что ты не христьянин[773].
Тут, впрочем, неладно не только у Гёте, но и у всего современного человечества. Что это, отступление? Может быть. Но чье — наше от Христа или Христа от нас?
«Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду и не будет меня»…[774]. Кажется, эта молитва исполняется. Он отступил от нас, чтобы мы могли подкрепиться: так мать отступает от ребенка, которого учит ходить; ребенок пугается, но не успеет упасть, как она обнимет его и поддержит опять.
Ясно одно: что религия Гёте не совпадает с христианством. В христианстве не понимает он чего‑то главного, — не того ли прерывного, катастрофичного, внезапного, непредвидимого, что в религии называется Апокалипсисом, а в общественности — революцией?
Но если одна часть его религиозного опыта меньше, то другая — больше, чем историческое христианство. Последнее соединение веры и знания, откровение Духа, «дыхания Божьего» в природе, которое предчувствует он, выходит за пределы христианства.
А если это не оно, то что же?
Об этом говорить трудно; для этого у нас еще нет языка, нет имени. Но если говорить на языке христианской догматики, тут, кажется, условном и недостаточном, то можно бы сказать, что это религия не Отца и не Сына, а Духа.
Дух назван Утешителем, как будто Сын огорчает, а Дух утешает. Мы не знаем, — мы только предчувствуем, что в противоположность христианству огорчающему религия Духа будет утешительной. Кажется, Гёте это предчувствовал больше, чем кто‑либо.
Как бы, впрочем, ни относилась его религия к христианству, она уже сама по себе есть пророчество, — пророчество о том, что в современном человечестве убыль религиозного духа временна и что прибыль его неминуема.
И, заходя, остаешься все тем же светилом!
— могли бы мы сказать заходящему солнцу религии. Что оно взойдет, — он знает лучше, чем кто‑либо.
Для нас, русских, явление Гёте особенно значительно.
Как волка ни корми, все в лес глядит; как ни сближайся Россия с Европою, — все тяготеет к Азии. На словах — тяготение к Западу, на деле — к Востоку. Православие — христианство восточное.
Du hast kein Christentum.
Ты не христианин,
— говорит, как Гретхен Фаусту, святая Русь грешному Западу. «Свет Христов просвещает всех»[775] — это мы тоже говорим, — говорим, но не делаем. Нет–нет, да и усомнимся в самой сути просвещения вселенского, т. е. европейского, ибо иного взять негде, — усомнимся, добро оно или зло, от Бога или от дьявола; нет–нет, да и подумаем: не опроститься ли, не отправить ли всю европейскую цивилизацию к черту и не начать ли сызнова, «по–мужицки, по–дурацки»[776], по–Божьему? Что это не только нелепая, но и нечестивая мысль, — мы все еще не поняли как следует.
Вот от этого‑то русского яда лучшее противоядие Гёте. Лучше, чем кто‑либо, знает он, что просвещение — от Бога; хотя и «язычник», с большим правом, чем иные христиане, мог бы сказать: свет Христов просвещает всех; лучше, чем кто‑либо, мог бы напомнить нам, что и Европа — Святая Земля.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя[777],
— исходил не только нашу, но и ту родную, святую землю — Европу.
Wer immer strebend sich bemiiht,
Den konnen wir erlosen.
Кто вечно трудится, стремясь,
Того спасти мы можем[778],
— поют ангелы, «вознося в горния бессмертную часть Фауста».
«В этих словах, — говорит Гёте, — ключ к спасению Фауста»[779]. Может быть, и к спасению всего европейского Запада: он ведь тоже «вечно трудится, стремясь».
А мы, не трудящиеся, не стремящиеся, чем спасемся? Праздностью, косностью, сидением сложа руки, созерцанием, неделанием, обломовщиной? Не будем себя обманывать: лентяи, бездельники не войдут в Царствие Божие. Бездельники — безбожники, сколько бы ни говорили о Боге. Вот страшный и спасительный урок, который дает нам Гёте.
Л. Толстой и Гёте — два сторожевых изваяния в преддверии двух веков, двух веков, двух миров. Кому из них отдаст человечество сердце свое? За кем пойдет? Во всяком случае, для нас, русских, во Л. Толстом — соблазны бесконечные, и не победит их никто, кроме Гёте.
И. Тэн в исследовании политических начал современной Франции («Les origines de la France contemporaine»[780]) развенчивает одну из величайших попыток человеческого духа достигнуть счастья и свободы на земле. Как ни старается исследователь быть объективным и беспристрастным, нам ясно его личное отношение, мы чувствуем, что он хочет сказать нам: «вот до чего люди дошли, стремясь к свободе и равенству, вот что идеализировали прежние писатели под громким именем Великой[781] Революции». Тэн — разрушитель социальной веры, веры в земную человеческую справедливость. Ренан — такой же скептик[782] в другой области, в исследовании других начал («Historie des origines du Christianisme»[783]). Характерно для нашего века, что два великих историка в исследовании двух начал, двух всемирных движений, возникших из идеалов земной[784] и небесной справедливости, оба пришли к отрицательным выводам, оба отнимают у нас надежды и разочаровывают[785] верующих[786].
Что же дают они людям взамен[787] прежней веры, которая помогала им жить? Великое счастье[788] познания, утомляющее ум, а сердце?.. Разрушители уверяют, что познание должно утолить и сердце. Если[789] так, отчего же их самые[790] искренние страницы[791] проникнуты[792] такою[793] скорбью. Довольство знанием — это условное и официальное оправдание[794]; скорбь — для посвященных, для избранных, для читателей, составляющих успех и популярность книги[795], — скорбь[796] — самое дорогое, глубокое и заветное, что есть у Ренана и Тэна. Несмотря на внешнюю объективность и бесстрастие, чувствуется у каждого историка[797] — свое вдохновение: у Тацита — негодование на человеческое рабство, у Гиббона и Бокля — вера в могущество знания[798], у Маколея — скорбь[799], безнадежность, разочарование[800] во всех идеалах человечества, во всех попытках достигнуть счастья на земле или на небесах. Начиная Тит–Ливием и кончая Моммсеном еще никогда[801] история не внушала такого глубокого скорбного чувства. Единственное очарование, которое сохранило власть над сердцем этих[802] неверующих, последняя тайна, которую не успел разложить их ум, Красота[803], Искусство, обаяние формы[804]. Основания для выводов являются у них[805] во всеоружии современной точной науки; в примечаниях, в ссылках, в цитатах царит неумолимый и бесстрашный дух исследования. Эти нижние этажи, гранитные незыблемые устои книги предназначены для полемики[806], для ученых, для специалистов; а текст, пламенные, страстные и разрушительные страницы («тайный яд страницы знойной», как говорит Лермонтов[807]) облечены в самую обаятельную художественную форму, т. е. самую доступную для толпы. Эти страницы современной скорби и отчаяния в исследованиях политических и религиозных начал Европейской цивилизации волнуют сердце женщин и молодых людей, сердце толпы.
У каждой эпохи есть свое отношение к прошлой истории человечества, свое понимание, свой глазомер, камертон, данный великими историками, которому подчиняется хор. Этот современный исторический камертон, преобладающее настроение умов при созерцании прошлого установили'[808] Тэн и Ренан страницами разочарования[809] и неверия.
Но как непохожи скорбные[810] сомнения конца нашего века на радостные и торжествующие сомнения конца прошлого века, на самодовольную насмешливую улыбку Вольтера. Вольтер деист[811]. Но в сущности деизм его так же холоден, как официальное государственное исповедание тогдашних католиков. Неверие порождало в нем радость, неверие порождает в лучших представителях нашего времени величайшую скорбь.
Еще в тридцатых годах А. Мюссэ выразил это чувство незаменимой потери, одиночества и безнадежности, которое пробуждается в душе современных людей утратой и невозможностью веры: «о Христос, да будет нам по крайней мере позволено плакать над этим холодным миром, который жил Твоею смертью и умрет без тебя! О Боже мой, кто теперь возвратит ему жизнь? Ты воскресил его своею чистою кровью… Иисус, кто сделает то, что Ты сделал? Кто возвратит нам юность только рожденным и уже дряхлым?.. Люди чувствуют себя такими же старыми, как во дни Твоего пришествия. Мы так же страстно ждем, мы еще больше утратили. Во второй раз еще более мертвое и холодное, человечество, как Лазарь, простерто в своем гробу. Кто же вызовет нас из могилы?» («Rolla»)[812].
В этой скорби великих современных[813] поэтов–историков заключена все более безнадежная и неутолимая жажда веры, вопрос, на который никто не может дать им ответа: «кто вызовет нас из могилы?».
Наука исключила из своей области все попытки проникнуть в Абсолютное, в Непознаваемое. Но тем самым она не исключила их из человеческой души, не могла уничтожить связи величайших нравственных вопросов о смысле жизни, об отношении к смерти — с областью Непознаваемого. Еще никогда ум наш не стоял так близко, так лицом к лицу без всяких покровов и преград с тайной человеческой судьбы и природы. Никто не заслонит нас от этого мрака, ничто не уничтожает и не дает успокоения! Тэн историк идеалов[814] земной справедливости и свободы, Ренан историк религиозных движения не могли в своих исследованиях не натолкнуться[815] на эту глубокую связь всех великих основных вопросов с областью Непознаваемого. Тэн в «Истории английской литературы»[816] делает попытку свести оригинальность гения на определенные влияния окружающей среды и расы; но когда он лицом к лицу встречается с гением, — он перестает разлагать, забывает свой научный тезис, из скептика делается мистиком[817] и благоговеет перед тайной, заключенной в красоте. Ренан холодно и бесстрастно исследует развитие религиозного движения, но когда он встречается с великими проявлениями религиозного гения, он забывает объективность и восторгается, сердце его трепещет.
I. Общие предварительные замечания относительно литературной формы, языка, художественных приемов. 129 — дилетант по теории. 199. 240. Любит искренность и простоту. 241 — ненавидит вычурность, ищет народность. 378. 400. II 61 — взгляд на народное творчество. 62; 159; 162; 170.
II 51, 52 — строгость в отношении себя. 53; 54; 55; 56 — отзыв об нем Этьена Пакье[818]. 79 — отсутствие произвольной быстрой находчивости 326, 327 — он слишком часто это повторяет, чтобы не видеть здесь кокетства. 336, 447 — он ценит свою оригинальность.
Юмор Монтеня, незлобивый и грациозный. III 451 — шутит над любовью.
Ирония III 453
II Литературные вкусы и наклонности Монтеня. 195. 237 — ненависть риторики. 239. 238. 346, 347, 368; 372 — критическое отношение к Цицерону. II 211, 212, 3, 4, 216. 217. 219. 220; 222, 3.
III 443. IV 201 — любит и ценит красоту в искусстве. Чрезмерное поклонение древним. I 344, 345 — он совсем чужд идеи прогресса. II 41.
III 52; 134. IV 137.
Фамильярность, отсутствие доктрины, синтеза и систематизации как недостаток и типичность, жизненная яркость подробностей как достоинство, связанное с этим недостатком.
I 121 — милый цинизм II 41. 216. 218. 219.
III 55. 301. 394 — его поразительная искренность. 416.
IV 3. — 49 — сравнивает свои произведения с экскрементами. 197 неожиданный переход. 303 — мы узнаем даже такую мелочь, как он любит сидеть; здесь проявляется и фамильярность, и какое‑то уж слишком заботливое, нежное отношение к собственной особе; то же на стр. 312.
IV. Чужие влияния, которые имеет на себе Монтань[819]. Материал для его «Опытов».
I 72 Наблюдения во время путешествия; 142 — обширная традиция по этнографии[820]; 243 Как воспитывали сам(ого) Монтеня. 244, (24)5.
II 216; 372, 373 — влияние пирронизма.
V Его влияние на последующие теории Руссо, Вольтера, Паскаля и др. II 79 — взгляд на ростки заимствований у Монтаня Руссо. 193. 208 — Эмиль[821]. 230. 246 — Исповедь Руссо[822]. 307 — идеализирует деизм; 308. — 358 — теория уединения Руссо.
II 342 — вред цивилизации. IV 262 — сладость терзаний — у Руссо то же самое.
IV (продолжение)
Из биографии Монтаня. IV. 177; 216, 217 — постоянная опасность, которая грозила многим в его время, — и от Короля и власти относительно телесной опасности. 242 — 3 — случай — нападение солдата и мужество, которым его победил Монтань. 244, 245 — случай с разбойниками, которых он тоже побеждает своим благородством. 260; 309 — отец воспитывает его в народе.
VI. Из биографии Монтаня. I 245, 246, 247, 248, 249.
II 104 — отец стр. 176, 177, 178, 239 — умеренный темперамент. Очень спокойный, несмотря на то, что мать тревожная и эксцентричная.
240, 241; 243. 245; 249; 254, (25)5. III 21 не принимает участия в войне междоусобной; 62, 63; 70; 80 биография С. Бёва[823]; 84 — ослабление воли. 91 — он сам создает срединность и спокойствие своего темпера–мента. 353[824] — трудно и нескоро сходится с людьми. 358 Но по природе он очень общителен и любит людей (он только не любит практических интересов и борьбы с ними и реальной жертвы для них, — он любит умственные наслаждения и доставлять ими такие наслаждения, как дилетант). 406—407 — почти враждебное отношение к браку.
IV 87 — боязнь одолжиться как у Руссо — сравн. с 63 IV; 91, 105;
111 — общительность — 119; 149
Этические взгляды Монтаня
I 39. Внутренний критерий нравст(венности). 47—8. Утилитарный взгляд на значение лжи. 84—85 Смерть и ее значение для каждой личности. 86 — Цель разума и доброты[825] — удовольствия. 87, 88 — цель философии ср. с 224, 225 IV — противоречия[826]. 94—5 — memento mori[827] ср. 226 IV[828]. 96 Мнение о смерти делает стоиком. 144 — происхождение нравственности из обычая, привычки. 179 — знание больше уважается, чем добродетель. 187—8 — главная цель знания добро. 190; 220; 224 — утилитарный, светский взгляд на добродетель. 410 стоицизм.
А) Скептицизм.
1) Философия основания скептицизма: «для sais‑je?». 216. — скептицизм, возникающий из созерцания разнообразия явлений мира; достижение объективности. 252, 253 сомнения относительно самого сомнения.
II. 47 — сомнение в людях. 48, 55; 87 — непостоянство воли. 88, 89 — почти отрицание свободной воли. 92 — зыбкие суждения, зависящие от минутного настроения. 96; 279 — человек не центр мира. 280, 291, 297; 336, <33)7, <33)8, 344.
372 — пирронизм. 412. 445. 446. 465. (46)6; 472.
479 — шаткость познания происходит тоже от того, что оно зависит от минутного субъективного настроения 96[829]. 480, 481, 482. 498, 502. 504 моя заметка об этом[830]. 525, 528, 529, 534; 549, 550.
IV 12—13 — из его скептицизма возникает самая широкая терпимость.
13—14 — терпимостью он напоминает Дж. Ст. Миля.
39 — сила убеждения — признак глупости.
191
2) Сомнения относительно науки
I 179 Тщета тогдашней схоластической[835] науки — она не содействует добру. 180—(18)1 она — чужая; 186; 188 — наука[836] унижает еще тем, что ею занимаются для денег люди низкого происхождения.
I 254, (25)5; 341 — знание не увеличивает счастья. 345, 347, 348, <36)6. 480—545[837].
III 264 сомнения относительно всего искусственного вообще — из этого проистекает его глубокая ненависть к медицине.
IV 205 — сомневается относительно пользы книг и знания вообще; ибо оно не способствует счастью: оно удовлетворяет только тщеславие. 228 — блаженное[838] состояние невежества в естественном виде то, чего[839] искусственно достигает наука. 254 недостаток схоластической науки. 255 — недостаток метафизики.
3) (Сомнения относительно) религии I 59. 112. 255. Крайний скептицизм он делает орудием католицизма.
257 И. 79 — бессознательно наносит удар католич(еству). 112. Срав. далее с оправданием чисто античного[841] самоубийства 114, 115, 135; 157.; 344.; 362, 363, 365., 376, 388, (38)9, 405 — философия понятия Бога; 550 — скептицизм приводит его к Богу.
IV — 93 — антирелигиозное воззрение на смерть.
Крайняя осторожность I. 70 — терпимость. 314[842] 136. 257.
1 2 З[843]
II 66. 71 — искреннее отрицание протестантизма. 72. 75, 76. 375— <37)6 — его скептицизм совсем безопасный, даже ancilla theologiae[844].
IV 193, 194; 196. 5[845]. как осторожно он проповедует терпимость, но все‑таки проповедует.
4) (Сомнения относительно) культуры и цивилизации.
I 188 избыток знаний уничтожает нашу самостоятельность и оригинальность. I 184 вред знания: лучше наивное невежество мужика. 193 знание сопровождает упадок нравов. 299. 307 идеализирует дикарей 308 возвращение к первобытному состоянию. 309. 313, 314; 321 322; 337
II 60, 292 животное невежество 298, 307, 311, (31)2, 314, 342 идеализация товарищества 364, 348, 349, 450 идеализация естественного состояния 360, 359, 360, 361, 375, (37)6 посредством пирронизма достигается подобие естественного состояния.
III 96 симпатия к музыке 230, 264[846], 504, 503 — полное, но не только объясняемое историческим моментом, но и органическими свойствами его личности непонимание прогресса 504 505
IV. 38, 81 — непонимание личного прогресса. 174 — счастлив народ и величайший мудрец[847] 207 истинная любовь к простому народу 221 мужество народа 222, 227; 232, 269
5) (Сомнения относительно) государства, законов, нравственных правил, бытовых форм и т. д.
I 137 — условность обычая. 138. — относительность нравственных правил. 148. — Относительность законов. 261 — 262 — критика семьи 263. 322. 417, 418, 419, 420 — 421 сравнить с 384[848] — философский, абстрактный демократизм. 422, 423, 424.; 429, 430—432 — отрицание) роскоши II 36, 37; 360 — счастье дикарей без государя IV — 126—171 — сомнение в серьезности госуд(арственных) дел. 249 — отсутствие законов — благо. 256, 257; 258; 260 — отрицание законов[849].
(Сомнения относительно) современных ему культуры и предрассудков[850] I 58. — 59 116. II 143
III. 397. 485 — равноправие женщин и мужчин, но тоже конечно теоретически
IV 2 — презирает примат честолюбия то же на 324[851]. IV 7 стр.[852] презирает царскую власть с чисто личной точки зрения. 75 — презирает национальные различия. 186 — не верит в чудеса. 187 и дает им рациональные объяснения 189.
в) Психология[853]
1) Различные эмоции. I стр. 9 — то же. 77 страсть. 113 Сила воображения. 114, 115, 6. Он предчувствует современные настроения 119. 125, 126, 127. II 89, 92, 93 изменчивость настроения.
333 относительность чувства красоты. 521 — органы[854] чувства единственный путь познания
III 259 наследственность. 302 — наслаждение чужими страданиями — садизм и Достоевский. 329 — блестящая, художественная психология раскаяния. 382 — тонкая психология страха смерти.
2) Теория воспитания. 134—135; 183 — презрение к схоластике 207 — жизнь должна учить. 210—211 — независимость убеждений и рабство практической деятельности. 208, 209[855] 215 — путешествия. 216; 227 — умственное переутомление в школах. 228—230 — протест против физических наказаний. 232. II 177. 178. III 177
4) Его личные отношения к общественным интересам. I 210[856]— 211 — свобода мысли и рабство жизни. 211. 218.; 354, (35)5; 361. 362 — субъективность его удаления из общества. 384. искренность его роялизма. 424, (42)5; 428. Ср. с 216, 211 IV т.
II. 343. III 87, 88. Проследить также из 66; 334 — он небрежен к обществу, к честолюбию из‑за 334, 335; многое уясняет его демократизм 354.
IV — 68 — неверие в прогресс 69 полный квиетизм объяснить 215
IV Т. И 428 I Т. И 242 IV и 260 IV[857] — впрочем, вполне искренний 70. 73. 150[858], 151, 152 — теория пассивной, холодной жертвы 153, 154; 216, 7 ср. 428 I тома
Дилетантизм социальных взглядов.
I стр. 17 36, 37. Индифферентизм 18.; 150, 151 сравнить с 66 III тома, сравнить 148; 152, 153, 4, 5 ср. с 171.
157 — умеренный даже в консерватизме 172 царям он советует то же непротивление злу. III 358, 359 — дилетант(изм) в отношении к людям. 360 — «passer le temps»[859] (и Que sais‑je?[860]) IV какими софизмами он утешает и успокаивает себя насчет опасности Франции 76.; 128.; 196 — страшная робость в применении взглядов.
5) Теория самодовлеющей личности, связанная с его характером. 1[861]
1 2[862]
357. 358[863] теория уединения ср. с 243 — 5 II т. 361
II 159. 173; 187 — 366 II тома их результат 359 I тома
III 90, 91 — 367 — его убежище, 368 — сравн. 358[864] — отрицание ложного честолюбия и пустой, развращающей душу светской суеты заставляет его бежать (в) уединение, не в нирвану Руссо, а к отдыху, к уединенному досугу обеспеченного философа–дилетанта. IV его теория личного[865] как протест против личного[866] рабства и подавления самостоятельности в Ср.(едние) В.(ека). 151.
Неудача этой теории. III 387 — печальная, одинокая, вырождающаяся старость 388, — трагические ноты в его меланхолии 391[867] 392 453 пессимистические взгляды на любовь и человека 411 сравн. с 453. — 479 — внутренняя трагедия старости и бессилия ср. с надменным, изящным и молодым эгоизмом 358 I т. 480, 482. IV — 63 готов жить на чужой счет в полной зависимости, только бы не трудиться, не думать. — Разве это истинная свобода? 114, 115 idee fixe[868] о смерти. 312 — мелочность и скудость интересов на склоне лет.
6) Дружба, женщины, отношение к отцу, благородство, мужество и д же нтль ме нство.
I 259, 260; 264 263[869] недоверие к женщинам и непонимание их[870] любви. 267—8 мистический экстаз дружбы. 269, 270, 272, 275, 276; 320 хвалит многоженство дикарей. 334. 408, 409 — щедрость.
II. 78 — 191 — 192 недоверие к женщинам. 195.
III 72 его крайняя правдивость. 93 — идеализация Ла Боэси[871]. 321, 322 — правдивость абсолютная. 357 недоверие к женщинам 360, 364; 394 — критика его искренности. 403, 404 средневековый[872] взгляд на брак 406. 407. 410 — почти враждебное отношение к браку 413 положение женщин 415 — испорченность женщин. 423 — человеч(еская) сторона его отношения к женщине 438 — тогдашний разврат. 439; 450, 451, 452, 453 — старческие пессимистические взгляды на любовь — грубый, но очень искренний взгляд на любовь. 477. IV 13—14 как он понимает откровенность дружбы и терпимость. 59 — деспотичность по отношению к другу. 99 — женщины 243, 245 — мужество, благородство и храбрость, сила духа.
7) Мелкие, но характерные черточки из домашней жизни, наблюдений и обстановки.
стр. 22 — его крайняя стыдливость 202 он льстит графине Гурзон[873] 340 — как он одевался. 379 — его несветскость. 400 — мало семьянин.
II 63, 65, 152, 157. 243, 245 сравн. с 358 I тома. 249, 252.
III 55 лучше говорит, чем пишет. 65 — плохой хозяин. 76 — не терпит ни малейшего принуждения. 240 три лучших человека, по мнению Монт.(аня), Гомер, Алекс, (андр) Мак.(едонский), Эпаминонд 351 — его несветскость. 352; 366 — обстановка его кабинета, его дом[874], как он проводит время. 448 — как легко он в мелочах подчиняется чужому влиянию.
IV — 114 — черта авторского тщеславия.
С) Личность Монт.(шя) по его «Опытам»
1) Дилетантизм 1[875] 53, 89[876], 205. П[877] 150—159 — старается успокоить себя насчет смерти ср. с 224, 225 IV противореч(ие)[878] (единственная вещь, которую нельзя исполнить по дилет(антски)) IV 114, 115 — хочет комфортабельно и дилетантски умереть.
Вера и случай, т. е. бессознательно, органически и непроизвольно[879] I164; 165 — он больше верит в случайность, в бессознательное[880], чем в силу разума. 168 — фатализм. 174, 333. II 21; IV 242, 243.
III 64 — он сам понимает свое призвание в дилетантизме. 65. даже в мелочах см. 63 — Очень важно — 66. сравн. с 343 II тома и с 150, 151, 154, 152 I тома сравн., что пишет с IV том 69, 70. — Это также объясняется из ничтожества представлявшейся тогда общественной деятельности 154, 171 IV тома, и 216, 217 IV
I 361 дилетантизм в науке. 7[881]. 368. II 210. 8[882]. III 368. 9[883]. и 369 I тома 358. 4[884].
III 74 дилетант всяких мелких привычек ума и воли. 82, 83 — дилетантизм в подробностях обыденной жизни — также 63 стр. и 352. 360— 361 — дилетантизм в отношении к женщине. 364, 365; 366 дилетантизм в манере читать книги 368 и 369 I тома ср. с 154, 171 IV тома[885] дилетантизм как цель и смысл жизни, науки, искусства — он, впрочем, противополагает свой дилетантизм не деятельности для общественной пользы, не жертве, об этом он не имеет понятия[886], а суетности, честолюбию, алчности, тщеславию; его дилетантизм гораздо чище настоящей нравственности, рекомендующей полезную работу для других, но он вместе с тем выше суетного стремления к успеху и честолюбию, погоне за военной славой, за деньгами и грубыми наслаждениями, жизни среди сплетен и придворных интриг, составлявшей удел большинства тогдашней аристократии и здесь м(онтань) умеренно поднялся над уровнем своего времени.
319 дилетант — в эмоциях.
IV — 54 — je ne cherche qu’a passer[887] 61; 145, 146, 141.
2) Его аристократизм и барство. I. 201 — знание привлечения высокопоставленных) лиц. 368[888]. 363, 364—365. 367. — книгу считает утомительной; праздность. 368. Не надо забывать, что все это субъективно — он говорит «я» — «мой возраст». 409[889]. II 48, 71, 72.
III 63, 64, 65 — его барство в теории и практике. 66. — Обломов XVI века. 82 его непрактичность. 83.
IV 3 стр. выбирает изящную жизнь в свое удовольствие вместо суровых подвигов. 55. 61 — готов подчиниться, чтобы ни о чем не заботиться. 62 — барство. 63 — его призвание — жить на чужой счет 69 и 70[890] как результат 62 и 66 из III тома. 115 — хочет умереть аристократично. 156, (15)7; 281 — ив мелочах барских вкус; 299 — слишком много и заботливо говорит о своих недугах. 31 — сибаритство; нарушает сон, чтобы он казался приятным.
3) Радость жизни и умение пользоваться ею. Эпикуризм. Он — оптимист. Отсутствие мистицизма. Античный взгляд на жизнь.
I стр. 9—97 — Постоянно, но спокойно ждет смерти. 99 — отсутствие квиетизма несмотря на фатализм. 104 Очень смутно говорит о будущей жизни. 105 Утешает себя насчет смерти.
221. 222 — дух светлого возрождения. 223 — красота и радость добродетели. 295 aurea mediocritas[891] даже в мудрости. 363. 369.
III 263 58, 59 отрицание пессимизма[892] обожает здоровье 369.
IV 148, 166, 237, 238 — культ красоты. 313 — apiaxovjieipov[893]
331 — он выжимает сок из наслаждения до последней капли.
332 отрицание мечтательности и напряженный свежий взгляд на жизнь. 333; II[894] 335 — дорожит всем существом человеческим, даже телом. 338[895].
Влияние древних в то время.
Что говорит король Генрих IV о впечатлении, произведенном на него Плутархом, в переводе знаменитого Амио[896]: (письмо к супруге Марии Медичи): «Клянусь Богом, вы бы не могли сообщить мне ничего приятнее того известия, с каким удовольствием вы читали Плутарха, — он в самом деле постоянно улыбается мне, как свежая новость — любить его все равно что любить меня, потому что он был наставником моего первого дюженного возраста. Моя добрая мать, которой я всем обязан и которая с такою любовью следила, чтобы я[897] хорошо себя вел и не хотела (как она сама говорила) видеть в своем сыне знаменитого невежду, дала мне эту книгу в руки, едва только я успел выйти из возраста грудного ребенка. И эта книга как бы сделалась моей совестью и она нашептала мне на ухо много добрых правил и прекрасных советов для моей жизни и управления делами (Nizard. His(toire) de la litterature frangaise. Т. 1, p. 417—418[898]).
О переводчике Amyot. Низар говорит: латинский язык ему был ближе знаком, чем французский… он обыкновенно сочинял проповеди, которые надо было сказать по–французски, на латыни и затем переводил их
(420).
Главная заслуга Амио в том, что он доставил материал для Монтаня и таким образом содействовал оформлению этого замечательного ума»
(425).
Вот что говорит сам Монтань о Плутархе:
«Мы невежды погибли бы, если б эта книга не извлекла нас из грязной лужи (bourtier); благодаря ей мы в настоящее время смеем и говорить, и писать: дамы посредством нее имитируют школьные учебники. Амио наш молитвенник» (Essais, II ch. IV).
«Монтань не только первый в своей эпохе — он первый по старшинству из наших народных писателей, я понимаю тех, от которых образованному уму так же трудно отделаться, как Монтаню от Плутарха».
Низар видит в Монтане первого писателя, который осмелился помериться с древностью — Рабле был слишком ею опьянен, Кальвин был слишком теологом, Ронсар — брал только внешнюю форму, Амио — ограничился гениальными переводами. Монтань же ассимилировал (в) себе античное миросозерцание и вместе с тем остался вполне самостоятельным, не подчиняя ему своей оригинальности.
(430) Преобладание в Монтане латинского духа над греческим. Плутарх сам был под влиянием римских декадентов. Замечательно, что Монтань считает именно «Георгики» Вергилия (т. е. пастораль) величайшим произведением поэзии.
Паскаль утверждал, что «Опыты» Монтаня книга «вредная, безнравственная, полная слов грязных и позорных»[899], — конечно, с точки зрения католицизма.
По Низару весь XVIII век вышел из Монтаня: «Чем больше он стареет, тем больше слава его увеличивается». Но Низар говорит, что XIX век в противоположность XVIII восторгается главным образом не идеями Монтаня, а стилем. Для Низ (ара) Монтань — величайший стилист. Так ли это?
Паскаль сказал про Монтаня: «не в Монтане я нахожу то, что в нем вижу, но в самом себе» (Се n’ent pas dans Montaigne, mais dans moi que je trouve ce que j’e vois)[900].
Паскаль о Монтане:
«Laisser aux autres le soin de chercher le vrai et le bien; demeurer en repos; couler sur les sujets, de peur d’enfoncer en s’appuant; ne pas presser le vrai et le bien, de peur qu’ils n’echappent entre les doigts, suivre les notions communes; agir comme les autres»[901].
Наружность Гёте. «Орлиные очи». Самая целительная из книг. Наполеон и Гёте. «Vous etes un homme. Das war ein ganzer Kerl!»[902]. Вечная юность. Влюбленность. Мариенбадская элегия. Связь с природой.
Каменный гость. Смерть герцога и герцогини. Страдание. Гёте несчастный. «Wer nie sein Brot mit Tranen ass»[903]. «Вся моя жизнь — труд и забота». Смерть сына. Non ignoravi me mortalem genuisse[904]. «Вперед! Вперед по могилам».
Безобщественность. Спор Кювье с Сент–Илером в Париж(ской) Академии и Июльская революция.
Бог — в природе. Малиновка. Вездесущие Божие. Гёте и христианство. Религия бессмертия[905]. Энтелехия, монада. Лай собаки. Смерть Гёте. «Передо мной лежал совершенный человек».
Л. Толстой и Гёте. Почему нам, русским, урок этот особенно важен. Наши сомнения в кумире. «Свет христов просвещает всех». Ангел в II ч. «Фауста»: «Wer immer strebend sich bemiiht, der konnen wir erlosen»[906]. Здесь «Ключ к спасению Фауста» — и спасению Гёте.
Мелочи для вступления
I. 219 — «Шекспир подал нам золотые яблоки в серебряных чашках… Но беда в том, что мы приобретаем серебряные чаши и валим в них картофель».
Разговоры Гёте — самая здоровая, самая целительная из книг. Ср. с диалогами Сократа, особенно Федоном. Если бы спросил ни во что не верующий и потерявший смысл жизни человек, какую книгу читать, — я бы сказал: Разговоры Гёте.
321. — «Все благородные по природе».
324. — «Мы, как бильярдные шары, катимся по земному полю: когда им случается столкнуться, они еще дальше отскакивают друг от друга».
II — 17. — «Ваше превосходительство, высказываете великие вещи, и я счастлив, что слышу их».
69. — «Правда — алмаз, от которого лучи расходятся не в одну, а во многие стороны».
135. — «Я всегда в стороне от философии: точка зрения здравого человека, рассудка была моею». Не философ, не ученый[907], а мудрец.
Карл. 257. — Wie das Gestirn, Подобно светилу
Aber ohne Rast, Без торопливости
Drehe sich jeder Но без усталости
Um die eigne las. Каждый вращайся
Вкруг собственной тяжести.
Вечная юность. I. 40. — Влюблен в 70 л(ет). Мариенбадская элегия. Прицепил шелковый шнурок[908] к сафьяновому переплету.
42. — Весь был исполнен веселости, силы и молодости. 55. — Мариенб(адская) эл(егия). Сидел в белом фланелевом шлафроке и ноги у него было завернуты в шерстяное одеяло. 57. Старость — причина болезни. 64. — «Надо часто делать глупости, чтобы возыметь смелость прожить еще».
I. 181 — 182. — Наружность Гёте по Теккерею. «Необыкновенно черные, блестящие, пронзительные глаза — как у Мельмота путешественника:, который заключил договор „с некоторым лицом”… Я ощущал перед ним страх…» — «Орлиные очи». — Все[909] I. 16. — «Мужественное загорелое лицо в складках, и каждая складка полна выражения»[910] лицо в глубоких складках — морщинах, полное выражения. Странно, жутко[911] — молодые юношеские[912] глаза в старом, древнем лице. «Гёте стариком был еще красивее, чем молодым человеком»[913]. В них — «демоническое», божеское для нас, грешных[914], или бесовское для благочестивого христианина.
Каменность, тяжесть и холод нездешний…
«О тяжело пожатье каменной его десницы!»
I. 186 — «Ему через несколько дней будет 80… Но ни в чем он не чувствует себя готовым и законченным: он кажется человеком вечной неразрушимой юности. Похож на Фауста, который выпил волшебного снадобья, эликсира второй юности[915].
202. — Стрельба из лука. Точно Аполлон, состарившийся телом, но одушевленный несокрушимой юностью. — «Или старость меня покидает, или снова доброй становится».
Связь с природой. «С природой одною он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесный листов понимал, и чувствовал трав лепетанье; была ему звездная книга ясна и с ним говорила морская волна».
I. 63. — «Сегодня мы празднуем рождение нового солнца!». «Всякий год он чувствует слабость и уныние перед самым коротким днем».
186. Детское и божественное любопытство к природе.
326. — «Я сравниваю землю с огромным живым существом, которое постоянно вдыхает и выдыхает».
Наполеон и Гете.
I. 74—75. — Свидание в Эрфурте 1808 г. — «Вы человек вполне». Wiess 149. — «M(onsieur) Goethe, vous etes un homme»[916]. Оба — дети солнца. Рыбака Узнали[917] друг друга и обрадовались. Рыбак рыбака чует издалека. Они должны были встретиться. Они — из одного — из революции.
I — 227. — «Наполеон был кратким изображением мира».
II — 58. Наполеон был молодец: он находился постоянно в состоянии непрерывного просветления.
I — 260. — «Ein ganzer Kerl!». 403. Мертвое тело Гёте: «передо мной лежал совершенный человек». — 331. — «Наполеон был, кажется, демоническое существо? — Вполне. В такой высокой степени, что с ним нельзя сравнить никого другого… В моей натуре демонического нет, но я ему подчинен».
Гете — несчастный.
I. 84. — «Меня всегда считали за особенного счастливца. Я не стану жаловаться… Однако моя жизнь была только труд и работа… Вряд ли за свои 75 лет я провел 4 недели в свое удовольствие… Моя жизнь была вечным скатыванием камня, который надо было поднимать снова».
Каменный гость. «О тяжело пожатье каменной его десницы!». Но это обман зрения. Он — такой же человек, как мы, из плоти[918] на нем не мрамор, а тело. Также страдает, как мы.
II. 265. — «Немецкий писатель — немецкий мученик!».
II. 297. — Смерть сына. Non ignoravi me mortalem genuisse. «Вперед! Вперед по могилам». 298. — Он был вполне спокоен и ясен духом. 299. — Потерял 6 ф(унтов) крови — едва не умер. Уже думал о работе, о II части Фауста «До веселого свидания». После быстрого исцеления обратил все свое внимание на 4 а(кт) Фауста и окончание IV гл.(авы) Правды и поэзии[919]. Ср. со смертью Герцогини–матери и герцога в «Бессмертии»[920].
Gedichte I 99. — «Wer nie sein Brot mit Tranen ass». — «Кто никогда не ел хлеба своего со слезами; кто никогда не просиживал горестных ночей на постели своей, плача, — тот вас не знает, Силы Неба!».
Wiess. 100. — Во время писания Вертера, думает о самоубийстве. Никогда не ложился спать, не имея кинжала решил[921] убить себя — только не уверен в часе, не уверен в минуте: il n’est plus maitre de Tinstant quand va le soir[922].
Общественность. Непонимание революции.
I. 71. — брюзжит: «Как вяла и слаба стала самая жизнь в эти два оголтелые столетия!». I — 245. — «Наш скверный век!». II — 74. — «Мир созрел для страшного суда». 115. — то же.
I. 93. — Люди всегда будут колебаться… одна часть страдать, а другая благоденствовать, и не будет конца борьбе… либералы могут[923] болтать… Но роялистам речи ни к чему… им следует действовать… рубить головы и вешать… Я всегда являлся роялистом…
I. 106. Французская революция велась при помощи подкупа.
II. 238. — «Я останусь одиноким! Я сравниваю себя с человеком, который во время кораблекрушения схватился за доску, которая может поднять только одного: он один и спасается, а все остальные горестно тонут».
I. 118. — «Я был вполне одинок». II — 157. — «Приходится жить одному». II. 214. — «Полноте. Оставьте эту публику, о которой я слышать не могу!..».
I — 105. — «Мои сочинения никогда не станут всенародными… Они написаны для отдельных личностей». 310. «В искусстве личность — все».
I. 187. «Я посвятил народу и его просвещению всю свою жизнь». 188. — «Я не знаю, чем я когда‑нибудь погрешил против народа, а между тем признаю раз навсегда, что я не друг народа… Я ненавижу всякий насильственный переворот… Всякие скачки мне противны, п(отому) ч(то) они противны от природы… Роза не может цвести в конце апреля…».
189. — «И вот говорят, что я государев холоп». Связь непонимания революции с непониманием христианства. Катастрофичность, прерывность развития.
223. Воля разложения, регресса — субъективна; творческая воля — объективна. 273. «К чему нам излишки свободы, когда мы ими не можем воспользоваться? Мещанин столь же свободен, как дворянин, пока держит себя в известных, предназначенных ему пределах, в которых родился».
I — 9. — «Необходимость возбуждает ум; вот почему мне нравится ограничение свободы печати». Розга возбуждает кровообращение. — 234. — «Все разумные люди должны быть умеренными либералами… При помощи мудрого прогресса постепенно[924] устранять общественные недостатки, без насильственных мер».
273. — «Не разрушать а сохранять и воздвигать».
291—293. Июльская революция и спор между Кювье и Жоффруа де Сент–Илером. — «Мы, любезнейший, никогда не понимали друг друга… Отныне будут взирать в таинственную мастерскую Бога…».
Религия — знание. Бог в природе.
I — 40. — «Мы все бродим ощупью посреди тайны и чудес».
I — 54. — «Бог жалеет вопиющих к нему воронят».
VIII — 55. — «Вездесущие Божие: всюду распространяет и насаждает частицы своей бесконечной любви».
II — 144. — «Растение развивается от узла к узлу и заканчивает цветком и семенем. Не иначе и в животном мире. Гусеница, солитер растут от узла к узлу и наконец образуют голову. Пчелы производят матку; народы — героев».
II — 146. «Божество в первичных явлениях, в живом, а не в мертвом. Рассудок не достигает природы; человек должен возвыситься до высочайшего разума, дабы прикоснуться к Божеству». Ср. с Бергсоном.
III[925] — 149. «Высшее, что может достичь человек есть чувство удивления, и когда первичное явление природы приводит его в изумление, он должен быть доволен… Тут предел».
III[926] — 293. — «Во что обратится исследование природы, если мы станем только аналитическим путем иметь дело с отдельными частями природы и не будем чувствовать дыхания Божия (Духа Св(ятого)), которое предписывает направление каждой частице».
II — 368—369. — Матка–малиновка вернулась к птенцам в клетку. «Такая любовь тронула меня до сердца».
«— Глупый вы человек, — сказал Гёте, улыбаясь многозначительно, — если бы верили в Бога, то не удивлялись бы… Природа в Нем, и Он в природе… Всюду распространена Божественная сила и всюду действует высшая любовь… Символы вездесущности Божией…».
395. — «Бог не почил от дел».
415. — «Существуют первичные явления, божественную красоту которых не следует разрушать… Наука и вера существуют не ради того, чтобы уничтожить друг друга, а чтобы восполнить…».
Гёте и Христианство.
I. 79. — «Я верил в Бога и в природу… но этого было мало… я должен был еще верить, что 3 = 1 и 1 = 3. Это противоречило чувству правды в моей душе и притом я вовсе не видел, к чему бы это послужило». Гёте — Марфа, которая печется о многом. Часть Марии благая — не его часть[927]. Но ведь сама природа похожа на Марфу в своем буколическом разнообразии. Отступление от Христа, или отступление Христа от человека.
II — 307. «Когда давно не изучаешь евангелистов, то снова дивишься нравственному величию лиц. Категорический императив». — «Особенно вы найдете категорический императив веры, который Магомет простер еще дальше». Религия не Сына, а Духа Утешителя. Сын огорчает, а Дух утешает.
II. 392. — «Все же я считаю все четыре Евангелия вполне подлинными, п(отому) ч(то) в них чувствуется отблеск того величия, котор(ое) исходит от личности Христа, величия столь божественного, насколько божественное может проявиться на земле… Лежит ли в моей природе почитание солнца? Вполне!.. Но расположен ли я преклониться перед костью большого пальца апостолов Петра и Павла? — Пощадите меня и отстаньте от меня с вашими глупостями!». Selbstzeugnisse[928]. 203. Венецианские эпиграммы на Христа:
Folgen mag ich dir nicht…[929]. О воскресении: Schelmen, ich trug ihn ja weg….[930]
206. — Называет себя «старым язычником».
208. — «Mir bleibt Christus immer ein hochst bedeutendes, aber problematisches Wesen»[931].
217. «Mag die geistige Kultur nur immer fortschreiten, — iiber die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in dem Evangelium schimmert und leuchtet, wird es nicht hinaus kommen»[932].
225. — Гретхен — Фаусту: «du hast kein Christentum»[933].
Овечий запах христианства был ему противен. Но львиного хищного запаха («гнев Агнца, Агнец — Лев») он совсем не знал, не мог знать в своей страсти и в своей воле[934].
Бессмертие и земная жизнь.
I. 47. «Всякое мгновение имеет бесконечную ценность, п(отому) ч(то) оно представляет вид вечности.
I. 95. — «Заниматься идеями о бессмертии могут только высшие сословия, и особенно женщины, которым нечего делать. Но человек деловой оставляет Selbstzeugnisse. 138. — «Ein tiichtiger Mensch»[935][936] будущую жизнь в покое и приносит пользу настоящей Vivere memento[937][938].
I. 122. — Против нас заходило солнце. Гёте задумался и затем сказал словами древнего поэта: «И заходя, остается все таким же светлым!» «Наш дух есть существо, природа которого вполне неразрушима и непрерывно действует из вечности к вечности; он подобен солнцу, которое заходит только для нашего земного ока, но в сущности никогда не заходит и светит непрерывно…».
I. — 166. — «Самое важное искусство — суметь ограничить себя». 167. — «Что значит быть действительно великим в одном деле…». Деятельность Гёте. Прагматизм. Против мистики — за религию. 215. — «Не добро прикасаться к божественным тайнам».
II — 65. — Энтелехия. Физическое чувство бессмертия у Гёте. Энтелехия дает преимущество вольной юности. «Душа» — слишком христианское, церковное слово. Энтелехия — слово из Аристотеля.
331. — «Демоническое — то, что не решается при помощи разума и рассудка». 66. «Демоническое». 249. — «То, что мы зовем энтелехией, Лейбниц назвал „монадою”». 317. «Веришь в нечто демоническое: перед ним благоговеешь, но не осмеливаешься объяснять его». 327. Гёте эту неизъяснимую мировую и жизненную загадку обозначает словом «демоническое». Когда он описывает ее сущность, то мы чувствуем, что так оно и есть, и кажется, что перед некоторыми глубинами нашей жизни подымается завеса.
II. 83. — Смерть герцога. — «Нам, бедным смертным, ничего не остается, как терпеть и жить настолько хорошо и долго, как придется».
136. «Для меня убеждение в высшей жизни истекает из понятия деятельности; если я работаю без отдыха до конца, то природа обязана даровать мне иную форму существования, когда нынешняя форма уже не в силах удержать мой дух».
II. — 204. — «Я не сомневаюсь в будущей жизни; но мы бессмертны не одинаково, и чтобы в будущей жизни обнаружиться как великая энтелехия, надо быть ею».
II. — 243. Смерть герцогини–матери. Гёте был близок к ней более. «Он сидит за столом и ест суп, как будто ничего не случилось… Он чувствовал не как мы… Он сидел перед нами, как высшее существо, которому недоступны земные страдания».
244. — «Я принуждаю себя работать, чтобы не свалиться и твердо[939] перенести эту внезапную разлуку… В смерти есть нечто до того странное, что мы считаем ее невозможною… до того насильственное, что для остающихся она не проходит без глубокого потрясения».
273. — «Вот умер Земмерлинг, едва дожив до 75 л. Что за несчастные создания люди: у них нет смелости прожить дольше! Я за то и хвалю моего друга Бентама, этого высокорадикального болвана, что он несколькими неделями старше меня, а держится крепко…».
366. Перед черепом Шиллера Selbstz.(eugnisse) 143![940] «Kein Wesen капп zu nicht zerfallen»[941].
«Кто вечно трудится стремясь, того спасти мы можем».
II ч. Фауста 189. — Ангелы: Wer immer stebend sich bemiiht, Den konnen wir erlosen.
370. — «Кто век трудяся, жил душой, тот стоит искупленья».
«В этих строках заключается ключ к спасению Фауста», — к спасению Гёте.
403. «Я подивился на божественное великолепие этих членов — передо мной лежал совершенный человек».
Смерть Гёте.
II. 371. — Окончив II ч. Фауста, Гёте был чрезвычайно счастлив, видя, что достиг наконец цели, к которой стремился так долго: «На остальную жизнь я теперь могу смотреть, как на простой подарок, и мне теперь в сущности все равно, напишу ли я еще что‑нибудь и что именно». — Ныне отпущаеши раба твоего[942]. Насыщен днями[943]. Создан для смерти. Как св. Франциску одинаково хорошо жить и умереть.
403. — Мертвое тело Гёте. «Я подивился на божественное великолепие этих членов — передо мной лежал совершенный человек». Опять физическое чувство бессмертия. «Восторг заставил меня позабыть, что бессмертный дух оставил эту оболочку».
406. — Разговор с Фалком о бессмертии в 1813 г., когда умер Виланд: «В природе не может быть и речи об уничтожении таких высоких душевных сил: природа никогда не расточает так своих сокровищ…» — «Смерть зависит от нашего произвола…».
408. — «В минуту смерти властвующая монада освобождает своих подданных монад. Смерть — преставление».
410. — «Опасность быть захваченными и подчиненными низшей, но сильной монадой». Лай собаки. Гёте подошел к окну и закричал: «Ухищряйся, как хочешь, ларва, но меня ты не захватишь в плен!» — «Эта низкая сволочь важничает свыше меры… В нашем планетном закоулке мы принуждены жить с настоящими подонками монады и если на других планетах узнают о том, то такое общество не принесет нам чести».
412. — «Монады принимают участие в радостях богов, как блаженные, сотворческие силы… Они сами собой идут со своих звезд; кто может их удержать? Я уверен, что я, тот самый, что перед вами, уже тысячу раз жил и еще возвращусь тысячу раз!».
414. — «Человек — беседа бога с природой. Я не сомневаюсь, что на других планетах эта беседа может быть выше, глубже и разумнее».
416. — «Я никогда ни раньше, ни позже не видел Гёте в таком настроении, как в день похорон Виланда».
(«В СУМЕРКАХ» И «РАССКАЗЫ» ЧЕХОВА)
В последнее время на Западе, а отчасти и у нас, распространился новый оригинальный род литературных произведений — маленькие сжатые очерки, почти отрывки, приближающиеся по своим размерам и содержанию к известным «Стихотворениям в прозе» Тургенева. Мопассан, Ришпен, Копэ, Банвиль и другие французские беллетристы новейшей формации первые ввели в моду эту своеобразную и довольно грациозную форму, отлично приспособленную к потребностям и вкусам современной публики.
Спенсер в своей статье о музыке[944] делает предположение, что этому искусству должна принадлежать в будущем все более и более выдающаяся роль, так что со временем красота звуков отодвинет на задний план красоту слова и пластических образов. Может быть, эта мысль и не вполне верна, во всяком случае, нельзя не признать, что современное настроение масс в значительной степени ее подтверждает. Вкус и понимание живописи, скульптуры и даже отчасти поэзии уменьшается с каждым днем, делается достоянием ограниченного кружка знатоков и ценителей, между тем как популярность музыки растет не по дням, а по часам. Ее возрастающее влияние не могло не отразиться на искусстве, более всего родственном ей, — на изящной литературе. Эдгар По и Гофман — гении вполне современные, которых никакая эпоха, кроме нашей, не могла бы произвести и оценить, стремились воплотить в слове неясное, неуловимое и почти непередаваемое волнение, доступное, по–видимому, одной только музыке. С другой стороны, мы, кажется, все более утрачиваем способность наслаждаться крупными чертами, резкими контурами и не обращать внимания на детали, мелочи, подробности, способность, составляющую громадное преимущество античных народов; для нас — в мелочах микроскопических, не уловимых обыкновенным глазом, таится самая сущность, душа предмета. Архитектурная красота художественного плана в его широких очертаниях ускользает от большинства из нас, части заслоняют целое, ум наш слишком охотно погружается в подробности, дольше всего переживают в нас впечатления не от книги, а от отдельных глав, страниц, отрывков. По мере того как читатель все более утрачивает способность сосредоточивать внимание на широких контурах стройного, законченного произведения, — поэтов, невольно испытывающих на себе влияние преобладающего эстетического настроения, увлекает страстная погоня за деталями, за тонкими психологическими полутонами, за тем непередаваемым и малоисследованным музыкальным элементом, который таится на дне всякого ощущения. Писатель, отчасти ободряемый внешним успехом новой формы, еще более привязывается к ней, потому что эти маленькие, изящные новеллы как будто нарочно созданы для того, чтобы передавать микроскопические детали, мимолетные, музыкальные оттенки чувства, которые так дороги современному искусству.
Г–н Чехов, издавший в прошлом и нынешнем году две книжки новелл[945], принадлежит к беллетристам этого нового типа. Книжки его сразу обратили на себя внимание лучшей части читающей публики и литературных кружков за то, что так называемая критика отнеслась к ним хотя и благосклонно, но довольно сдержанно. Современные русские рецензенты и публицисты (потому что художественных критиков в собственном смысле этого слова у нас не имеется) обыкновенно судят писателя не за те достоинства, которые у него есть, а за те, которых, по их мнению, ему недостает. Прием этот, крайне невыгодный для авторов и читателей, оказывается зато чрезвычайно легким и удобным для самих «критиков»: человеку, не обладающему художественным чутьем, гораздо легче предъявлять мертвые, отвлеченные формулы и теоретические требования, чем прочувствовать и проанализировать живую красоту живых образов, легче судить, чем понять, легче смеяться, чем объяснить. Перед каждым произведением, в котором не слишком резко обозначена общественная тенденция, дающая повод хоть о чем‑нибудь поговорить и поспорить, «критики» останавливаются в полном, беспомощном недоумении, более смелые из них с плеча отрицают самую возможность подобных произведений, более трусливые хвалят, но сдержанно и неискренне, только потому, что все их знакомые, литературные кружки и публика хвалят. Вот причина, которая заставила рецензентов отнестись к г. Чехову хотя и благосклонно, но гораздо менее внимательно и добросовестно, чем он этого заслуживает.
А между тем рассказы молодого беллетриста подкупают своей задушевностью и, несмотря на отрывочность, производят вполне цельное художественное впечатление. Чувство, оставляемое ими, довольно неопределенно, но, быть может, в этом и заключается главная его прелесть, подобно тому как эмоция, возбуждаемая в нас музыкой, нравится нам именно оттого, что она своим неуловимым, неопределенным характером резко отличается от обыденного, вполне ясного, но несколько прозаического строя мыслей и чувств. Г–н Чехов соединяет в себе два элемента, две художественные сферы, которые бывают вполне слиты и уравновешены только в очень немногих гармоничных талантах. Он одинаково любит и природу, и человеческий мир. В большинстве писателей эти два элемента более или менее исключают друг друга. Поэты такого типа, как Байрон и Лермонтов, страстно любят природу, но к людям относятся презрительно и свысока, пренебрегают обыкновенными человеческими характерами и бытовой стороной жизни, изображают не живых, настоящих людей, а одного человека, одного героя — демона, Люцифера или Прометея, который является носителем и воплощением внутреннего мира самого поэта. Кроме своей громадной и одинокой личности они действительно понимают и любят только одно — природу. Писатели противоположного типа, как например Диккенс, Стендаль, Теккерей, Достоевский, заняты почти исключительно изображением бытовой стороны жизни, человеческого мира в его трогательных, смешных или трагических проявлениях и обращают довольно мало внимания на мир природы. Только очень немногие первостепенные писатели, как Тургенев и Лев Толстой, соединяют в себе эти два элемента. Г–н Чехов, конечно, не по количеству таланта, о котором трудно судить по тому, что он до сих пор дал, а по качеству примыкает к современной русской школе, к Тургеневу и Толстому: он научился у них одинаково любить природу и человеческий мир, не жертвовать одним из этих элементов для другого, понимать их органическое и необходимое взаимодействие. Природа для рассказов г. Чехова — не аксессуар, не декорация, не фон, а часть самой жизни, самого действия, основная грандиозная мелодия, в которой звуки человеческих голосов то выделяются, то исчезают, как отдельные аккорды. Он смотрит на природу не с одной только эстетической точки зрения, хотя по всем его произведениям рассыпано множество мелких изящных черточек, свидетельствующих о тонкой наблюдательности. Но для истинного художника этого мало. Надо, чтобы он обладал не одною только внешней наблюдательностью, чтобы глаз его останавливался не на одной красивой поверхности явлений, не только на изяществе колорита, на мелодичности звуков, но чтобы поэт чувствовал более глубокую внутреннюю связь, кровное родство с природой, надо, чтобы он «с нею одною жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье», чтобы «была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна»[946]. У г. Чехова, как у истинного поэта, есть эта глубокая сердечность и теплота в отношении к природе, это инстинктивное понимание ее бессознательной жизни. Он не только любуется ею со стороны как спокойный наблюдатель–художник, она поглощает его целиком как человека, оставляет неизгладимую печать на всех его мыслях и ощущениях, подавляет своими тайнами и величием: в его лучших описаниях чувствуется осадок хорошей, глубокой поэтической грусти, которую испытывают чуткие люди в минуты самого интенсивного наслаждения природой. Вот одно из этих прелестных описаний: «Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему‑то мысль и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной» («Степь»)[947]. На дне природы поэт чувствует тайну: эстетическое наслаждение, испытываемое при поверхностном созерцании, уступает место более глубокому мистическому чувству, почти ужасу, не лишенному, впрочем, неопределенной, но увлекающей прелести.
Есть прелесть бездны на краю[948].
Вот другой отрывок: «Позади сквозь скудный свет звезд видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел. Во всей природе чувствовалось что‑то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой» («Враги»)[949]. По этому небольшому отрывку можно судить о мастерстве г. Чехова изображать природу такими тонкими и вместе с тем резко определенными, индивидуальными чертами, что описание воспроизводит все неуловимые музыкальные оттенки впечатления, которые, по–видимому, может дать одна только действительность. Впрочем, поэт умеет изображать не только открытые, великолепные горизонты, но и те трогательные мелочи интимной жизни природы, которые доступны лишь истинным поэтам, влюбленным в нее. У него в темноте летней ночи «какой‑то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно касается щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что он не спит»[950]; у него «золотые полосы вечерней зари похожи на ангелов–хранителей, которые, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагаются на ночлег»[951]. Он в высшей степени обладает мастерством оригинального эпитета; встречая некоторые из его сравнений, вы невольно отрываете глаза от книги и прислушиваетесь, как в душе возникает длинная вереница мыслей, чувств, неясных музыкальных ощущений, похожих на ряд отголосков, пробужденных под сводами громких звуков. Он иногда, как будто ненарочно, мимоходом, бросит вам какую‑нибудь мелкую черточку, от которой в вашем воображении вся картина сразу вспыхивает с яркостью галлюцинации.
Но мистическое чувство, почти экстаз, возбуждаемые в нем слишком сосредоточенным созерцанием природы, не ослабляют теплого, внимательного, женственно–нежного сочувствия человеческому горю, любви и понимания бытовой стороны жизни. Между тем для большинства писателей этот отвлеченный экстаз, чувство мировой тайны почти никогда не проходят даром: в конце концов они делают поэта слишком одиноким, погруженным в эстетический идеализм, приводят к холодному, жесткому и в сущности бесплодному пессимизму, к презрительному взгляду на обыкновенных людей, на интересы будничной жизни. Г–н Чехов любит и понимает людей не меньше природы. «В жизни ничего нет дороже людей!» — восклицает один из его героев[952], и, кажется, эта фраза могла бы служить эпитетом ко всем произведениям молодого беллетриста. Любит он человека не за высшие проявления его гения, не за то, что он — сильный и разумный, а, скорее, за то, что он слишком уж слабый, жалкий и смешной. Действующие лица его рассказов — очень маленькие, заурядные люди, в большинстве случаев из неинтеллигентной или полуинтеллигентной среды, в самой серенькой, будничной обстановке.
А между тем едва успевает автор на протяжении каких‑нибудь десяти страниц крохотного очерка познакомить нас с одним из своих героев — ничтожнейшим сельским дьячком, неизвестным пастухом, затерянным в степи, зауряднейшим бродягой, пехотным офицериком, — как мы уже инстинктивно привязываемся к ним, начинаем от всей души сочувствовать их микроскопическому горю, и в конце новеллы, чтение которой продолжается не больше четверти часа, нам почти жаль расстаться с действующими лицами. Приведу несколько примеров.
В прелестном, глубоко поэтическом рассказе «Мечты» мы имеем дело с бродягой, которого ведут под стражей в уездный город. «Это маленький, тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами»[953]. Бродяга рассказывает провожатаям свою горькую судьбу. «Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну, а я, плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили они меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывести»[954]. Бродяга чрезвычайно гордится и дорожит своим происхождением. Несмотря на все несчастия, он чувствует себя все‑таки привилегированным: «Так меня приспособили, что я не могу теперь никакого мужицкого неделикатного слова сказать». «…Живу по писанию, людей не забижаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю по благовремении»[955]. Все эти привычки, которые ему кажутся аристократичными, он приписывает своему дворянскому происхождению: «я так о себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё… Моя маменька весь свой век при господах жили… Не соблюли себя, — это точно… Оно, конечно, грех великий, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин»[956], — восклицает он с искренней гордостью. И вот этот кроткий, очень недалекий, но совершенно безобидный человек попадает на каторгу, бежит, скрывает свое имя и делается бродягой, не помнящим родства. Теперь, конвоируемый сотскими в уездный острог, он, как истинный поэт, отдается радужным мечтам о «вольных местах» в восточной Сибири, куда его должны сослать. «Земли там, рассказывают, ни по чем, все равно как снег: бери, сколько желаешь!.. Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овечек, собак… кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели… Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут»[957]. Воображение его разыгрывается, — арестанту, которого ведут под конвоем в острог, оно рисует картину привольной жизни, широкие горизонты, быстрые реки, дремучие леса. Много задушевной поэзии в этих детских мечтах забитого, измученного человека, обреченного на неизбежную гибель, вспомнившего вдруг, что и ему принадлежит право жить как люди, дышать вольным воздухом, иметь семью, дом, родину. Даже сотские не могут не увлечься на мгновение этими мечтами. Но практический смысл скоро берет в них верх над разыгравшейся фантазией: «Так‑то оно так, все оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных местов. Где тебе? Верст триста пройдешь и Богу душу отдашь. Вишь ты, какой дохлый!»[958]. Проснувшийся мечтатель глядит испуганно и виновато и поникает головой. Чувствуя в словах сотского страшную, неумолимую правду, «он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили»[959]. На этом и кончается рассказ, или, скорее, маленькая поэма в прозе, которая принадлежит к лучшим в сборниках г. Чехова. Как просто и вместе с тем задушевно! В каждой строке дышит что‑то теплое, глубоко поэтическое и человечное: невольно перед вашими глазами вырастает и навсегда врезывается в память образ бедного бродяги — поэта и сентиментального мечтателя, каторжника, гордящегося своим благородным происхождением и эпикурейскими вкусами, болезненного, изнеженного дворянским воспитанием и страстно жаждущего вольной жизни. Я нарочно подробно изложил этот рассказ, для того чтобы иметь возможность проследить на деле взаимодействие двух начал, которые входят как составные элементы в поэзию г. Чехова, — лирических описаний природы и тонкой бытовой наблюдательности. В самом деле, изображение серенького дня, грязной черно–бурой дороги, непроглядной стены белого тумана проникнуто неподдельным лиризмом и музыкальным чувством: сколько, например, этого чувства в заключительных словах отрывка, напоминающих финальный аккорд, взятый рукой опытного артиста: «на траве виснут тусклые недобрые слезы. Это не слезы тихой радости, которыми плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных длинноносых кроншнепов!»[960].
От этих лирических мест, написанных музыкальной прозой, напоминающей своим изяществом хороший стих, автор сразу легко и свободно переходит к изображению бытовой стороны жизни, к простонародному жаргону сотских Андрея Птахи и Никандра Сапожникова, к елейной, претенциозной и чрезвычайно своеобразной речи каторжника. Если г. Чехов обладает способностью безгранично отдаваться мечтательному, музыкальному настроению, возбуждаемому природой, то это нисколько не мешает ему понимать и глубоко сочувствовать самой будничной серенькой стороне человеческой жизни, самым мелким насущным вопросам дня, обыденному горю маленьких людей. Молодой беллетрист соединяет несколько отвлеченный, но глубоко поэтический мистицизм в отношении к природе с теплой туманностью и необыкновенно изящной, задушевной добротой в отношении к людям, что, конечно, свидетельствует о гибкости его таланта.
Автор иногда совершенно отказывается от излюбленного им лирического настроения, от изображений природы, которые ему так великолепно удаются, чтобы целиком отдаться насущным интересам дня, мелким, но жгучим вопросам будничной жизни. Впрочем, и здесь он остается истинным художником и поэтом благодаря красоте и силе гуманного чувства, одушевляющего эти рассказы. В маленьком очерке, озаглавленном «Кошмар», член присутствия по крестьянским делам, молодой человек Кунин, в качестве столичного интеллигента пекущийся о пользах народа, возмущен алчностью, полным индифферентизмом, грубым невежеством сельского священника, отца Якова: «Какой странный, дикий человек, — рассуждает он. — Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница… Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа!..»[961]. Кунин в пылу благородного негодования пишет донос архиерею на отца Якова. Через несколько дней он узнает страшную правду, действительно похожую на кошмар. Священник описывает ему свое положение: «Совестно! Боже, как совестно!.. Стыжусь своей одежды, вот этих латок… риз своих стыжусь, голода… Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но у меня, Господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял… Молодая, еще и двадцати лет нет… Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить. А она у меня… хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показаться, Боже мой, Боже мой!.. Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью… верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет… Ужас! Господа Иисусе! Святые угодники! И служить даже не могу… Вы вот про школу мне говорите, а я как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю… Даже перед престолом…»[962]. Трудно читать без волнения эту незатейливую простую исповедь, в которой и смысл‑то весь в сущности сводится к самому прозаическому, будничному вопросу о насущном куске хлеба. Столичный интеллигент, пекущийся о благе народа, вспомнил донос, который он написал архиерею, «и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой…»[963]. Рассказ крайней простотой, жизненностью и тонким задушевным юмором напоминает деревенские очерки одного из самых талантливых русских бытовых писателей Глеба Успенского. Ни одной яркой лирической черты, ни одного описания природы. Все, по–видимому, крайне прозаично, тускло и строго выдержано в сером, будничном тоне, но зато — сколько внутренней глубокой теплоты, гуманности и реализма. Неужели это тот же самый мистик–поэт, проникнутый чувством тайны и бесконечности, который при взгляде на глубокое звездное небо начинает сознавать свое непоправимое одиночество и находить человеческий мир, как и «все, что считал раньше близким и родным, бесконечно далеким и не имеющим цены», мечтатель, которого «звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, гнетут своим молчанием» и которому «весь мир, вся природа кажется темной, безгранично глубокой и холодной ямой?». Неужели писатель с таким мистическим темпераментом, заставляющим его погружаться в широкое, несколько отвлеченное философское созерцание природы, может искренне, не теоретически, а по–настоящему сочувствовать некрасивому, прозаическому горю отца Якова, который крадет в гостях крендельки и яблочки для своей попадьи, который мечтает перед престолом о еде и к тому же «неряха, груб и, наверное, пьяница». Люди узкие, страстно убежденные, но мало наблюдательные скажут, что подобное сочетание противоречивых построений невозможно, что нельзя в одно и то же время смотреть на звезды и сокрушаться по поводу их равнодушия к короткой жизни человека, считать все земное бесконечно далеким и не имеющим цены — и вместе с тем искренне сочувствовать совсем уж земным помышлениям отца Якова о еде. Но в том‑то и заключается тайна немногих гибких и гармоничных натур, к которым принадлежит г. Чехов, что они соединяют в себе очень широкое мистическое чувство природы и бесконечности с трезвым здоровым реализмом, с гуманным отношением к самым обыкновенным, сереньким людям, с чутким пониманием насущных вопросов дня.
Большая нравственная задача поставлена молодым беллетристом в другой его превосходной новелле под заглавием «Враги». Тема, как и во всех рассказах г. Чехова, незамысловатая. У доктора Кириллова только что умер сын от дифтерита. Некто г. Абогин, изящный денди, богатый и красивый, явившись к доктору почти в самый момент смерти ребенка, умоляет Кириллова тотчас же ехать к жене, которая внезапно и тяжело заболела. Тот сначала наотрез отказывается, но затем его трогают мольбы и слезы обезумевшего от горя человека, чувство долга берет верх над личным горем, и он едет. Читатель понимает, чего ему стоит оторваться от неостывшего еще трупа ребенка, покинув мать, победить в себе боль первых минут отчаяния. По приезде оказывается, что никакой пациентки нет, что жена Абогина притворилась тяжело больной только для того, чтобы как‑нибудь сплавить мужа и во время его отсутствия бежать с другом дома. Несчастный супруг в страшном отчаянии рвет и мечет, не замечая даже присутствия доктора, глубоко оскорбленного этим глупым, трагикомическим недоразумением. Кириллов, не разбирая и не понимая ничего, накидывается на бедного Абогина, в сущности ничем не виноватого. «Я врач, — кричит он в исступлении, — вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!»[964]. У каждого свое личное горе, которое разделяет их, мешает им друг друга понять и делает из этих честных, ничем не виноватых людей озлобленных, обезумевших от ярости врагов. «Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга»[965]. Можно, пожалуй, спорить с последней мыслью, но как просто и резко в самом драматическом положении действующих лиц поставлен очень большой нравственный вопрос. Кто прав, кто виноват — доктор, суровый, честный работник, недобрый и жесткий, «ненавидящий и презирающий до боли в сердце» всех богатых, откормленных, довольных людей, или Абогин, мягкий, добродушный, «живущий в розовом полумраке и пахнущий духами»? Вот они стоят лицом к лицу, как озлобленные враги, эти представители двух непримиримо–враждебных классов, и эгоизм личного горя навеки разделяет их. Но поэт выше обоих, он одинаково их любит, понимает и жалеет, они оба для него только несчастные люди, он прощает одному — роскошь, довольства, розовый полумрак, другому — черствость, озлобление, несправедливую, жестокую ненависть к богатым. Почти весь рассказ написан в строго объективном тоне, а между тем эта художественная объективность нисколько не исключает гуманного чувства, дышащего в каждой строчке, того чувства, которое пробуждает мысль и волнует совесть читателя, быть может, не менее самой яркой, боевой, политической тенденции.
Я мог бы привести много других рассказов г. Чехова, как например «Дома», «В суде», «На пути», — из сборника, озаглавленного «В сумерках», и «Ванька», «Перекати–поле», «Тайный советник», «Поцелуй» из второй недавно изданной книги[966], — рассказов, которые проникнуты тем же теплым, гуманным чувством, соединенным с художественной объективностью, с поэтическими описаниями природы. Пример г. Чехова, как вообще всех истинных художников, доказывает, что можно быть безгранично свободным поэтом, воспевать «красу долин, небес и моря»[967] и вместе с тем искренне сочувствовать человеческому горю, обладать чуткой совестью и откликаться на «проклятые» вопросы современной жизни. Служение красоте, «вдохновение, звуки сладкие, молитвы»[968]^ вовсе не предполагают в писателе отречения от жгучих интересов дня и общественного индифферентизма.
Г–н Чехов обладает талантом изображать характеры, хотя видно, что эта способность, — быть может, самая трудная и важная для современного писателя — не достигла еще в молодом беллетристе своего полного развития. Герои его рассказов никогда не бывают безличными, но автор изображает их чересчур уж внешними, акварельными чертами, что, вероятно, зависит отчасти от избранной им формы коротеньких, отрывочных новелл. На протяжении какой‑нибудь дюжины страниц негде обнаружиться сложному и глубокому характеру, даже если бы г. Чехов и оказался способным создать нечто подобное. Фигуры действующих лиц быстро мелькают перед глазами читателя, как ряд силуэтов, освещенных слишком беглым, мерцающим блеском, похожим на свет молнии: вы только что успеваете разглядеть их физиономии, уловить в них что‑то типическое, еще минута — и вы, может быть, признали бы в них старых знакомых, но молния потухает, рассказ прерывается и силуэты исчезают. Это же замечание относится и к самому крупному из произведений г. Чехова, к «Степи», которое только по чисто внешним размерам, а не по внутреннему художественному замыслу значительнее остальных его новелл: рассказ слеплен из почти самостоятельных отрывков, коротеньких эпизодов, лирических описаний природы и представляется скорее сборником отдельных миниатюрных новелл, соединенных под одним заглавием «Степь», чем большим, вполне цельным и законченным эпическим произведением. Впрочем, даже в эскизных очертаниях тех мимолетных силуэтов, которые выводит молодой поэт в своих рассказах, чувствуется мастерская кисть настоящего художника. Среди них есть один тип, чаще других мелькающий в произведениях г. Чехова и лучше всего удающийся ему: это — тип мечтателя–неудачника, страстного идеалиста и поэта, почти всегда женственно кроткого, мягкого, нежного, но лишенного воли и определенного направления в жизни, получающего жестокие уроки от грубой действительности и все‑таки сохранившего способность детски верить и увлекаться. Этот излюбленный поэтом образ героя–неудачника является в самых разнообразных обстановках и под всевозможными видами: под видом каторжника–бродяги, неведомого монаха, слагающего поэтические акафисты святым, образованного русского интеллигента, увлекающегося модными прогрессивными идеями, в личности армейского офицера, мечтающего об идеальной и несуществующей «сиреневой барышне»[969], и бесприютного бобыля Савки, деревенского Дон Жуана. В сущности, это одно лицо, один основной тип под различными физиономиями, в самых разнообразных костюмах и обстановках, это все тот же — герой–неудачник, нежный, добродушный, одаренный богатой поэтической фантазией, тонкой, почти сентиментальной чувствительностью, но абсолютно лишенный устойчивой воли и практического смысла. Чтобы лучше познакомиться с излюбленным героем г. Чехова, я рассмотрю одну из его самых грациозных, изящных новелл — «На пути», в которой тип неудачника разработан глубже и шире, чем в других. На постоялом дворе ночью, застигнутые крещенской вьюгой, встречаются господин Лихарев с барышней Иловайской, дочерью богатого соседнего помещика. Между ними завязывается как‑то сразу откровенный разговор, и Лихарев, в качестве человека в высшей степени экспансивного, излагает случайной собеседнице повесть своей тревожной, бурной и чрезвычайно безалаберной жизни. Еще мальчиком он проявлял ту громадную способность верить, увлекаться, которая, по его мнению, составляет отличительную черту русского народа. Он уже тогда «бегал в Америку, уходил в разбойники, просился в монастырь, нанимал мальчишек, чтобы они его мучили за Христа»[970]. В университете он страстно, до самозабвения увлекся наукой, но, впрочем, ненадолго, он скоро постиг в качестве современного русского Фауста, «что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, все равно как у периодической дроби», и разочаровался в науке. Затем, смотря по тому, откуда ветер подует, делался нигилистом: революционером, народником, славянофилом, последователем толстовской теории непротивления злу. «Ведь я, сударыня, — признается он Иловайской, — веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело»[971]. В чаду увлечений он расточил не только свое собственное состояние, но и женино, и массу чужих денег. Он «изнывал от тяжкого, беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям»[972]. «Изменял я тысячу раз, — обличает себя Лихарев, — сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уже я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне в след. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку!»[973]. Он никогда не лгал ни перед собой, ни перед другими, никогда не изменял тем принципам, в которые в данный момент верил или думал верить, никому не желал зла и, однако, причинил даже близким людям массу горя и бесцельных страданий. Беспорядочной жизнью он вогнал в гроб свою жену. И вот теперь 42 лет, со старостью на носу, он бесприютен и одинок, «как собака, которая отстала ночью от обоза». Пока Лихарев все это говорит Иловайской, он по своему обыкновению, сам того не замечая, успел уже увлечься, сесть на новый конек, который в настоящий момент заключается для него в поклонении милосердию женщин и в необыкновенной покорности судьбе, этому необычайному самопожертвованию, всепрощению, «безропотному мученичеству, слезам, размягчающим камень» и т. д. и т. д. Наивная, впечатлительная барышня увлечена, по–видимому, искренним, хотя в сущности несколько актерским красноречием Лихарева, и тот, в свою очередь, готов в нее влюбиться. Но уже поздно, они расходятся и ложатся спать. Много теплоты и поэзии в описании торжественной рождественской ночи, неясных, светлых, полувлюбленных грез Иловайской, горя, раскаяния и беспредельной нежности Лихарева, который плачет со своей бедной девочкой, осужденной поневоле делить его горькую, скитальческую жизнь. «Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала»[974]. В великолепном художественном описании их разлуки так много красоты и задушевного чувства, что читателю очень трудно в первую минуту отделаться от испытанного им обаяния и подвергнуть ту прелестную, дышащую жизнью грациозную поэму строгому анализу. Наяда в одном из стихотворений Полонского смеется над молодым ученым, собирающим раковины, чтобы их «резать, жечь — вникать иль изучать…
А! сказала — ты и мною
Не захочешь пренебречь!
Но меня ты как изучишь?
Резать будешь или жечь?..»[975].
Но, не поддаваясь очарованию наяды, мы все‑таки должны сознаться, что в рассказе молодого беллетриста есть черты, которые, быть может, не вполне удовлетворят требовательного читателя. Прежде всего тип Лихарева вовсе не такой реальный и жизненный, каким он может показаться благодаря необыкновенно увлекательному, прочувствованному тону его исповеди. Спрашивается, разве есть какая‑нибудь физическая возможность совместить в одну жизнь то количество искренних увлечений, которые, по словам Лихарева, ему пришлось испытать за какие‑нибудь 20 лет: он успел за такой сравнительно короткий промежуток времени (я считаю с 18 лет, когда он мог поступить в университет, — до 42 — момента его беседы с Иловайской) познать тщету всех наук, быть нигилистом, служить на фабриках, в смазчиках, бурлаках, изучать русский народ, собирать песни, побывать в пяти тюрьмах, отправиться и вернуться из ссылки в Архангельскую и Тобольскую губернии, быть славянофилом, украинофилом, археологом и т. д. и т. д. Заметьте, что каждое из этих многообразных, бесчисленных увлечений, которые он, по–видимому, меняет, как перчатки, «гнет его в дугу», «рвет его тело на части». Он плачет, грызет подушку, глотает подлеца от своих друзей и после этого снова как ни в чем не бывало идет в смазчики, бурлаки, археологи. Только фантастические нервы могут выдержать ряд подобных потрясений, а ведь Лихарев и в 42 года в сущности бодрый, сильный и довольно веселый господин, то, что называется «мужчина в полном соку». Даже мифическому Фаусту, для того чтобы исполнить самую ничтожную частицу программы русского неудачника — познать тщету наук, надо было 80 лет. Очевидно, что тут либо г–н Лихарев, либо сам автор хватил через край. Единственно возможный исход из этого лабиринта невероятностей заключается в предположении, что этот, по–видимому, столь искренний человек на самом деле не что иное, как искусный актер, обманывающий барышню Иловайскую и, быть может, самого себя. Страшные слова, что убеждения будто бы гнули его в дугу и рвали на части тело, именно не более, как страшные слова. Если он и плакал, и грыз подушку, то уж никак не всерьез, а так себе, для вида, из хвастовства перед самим собою: «вот, мол, я какой благородный, искренний, чуткий интеллигент». И, пожалуй, в названии подлеца, которое ему бросали друзья, была значительная доля правды, ибо превозносимая Лихаревым способность веровать и изменять чему угодно, дряблая уступчивость каждому модному веянию граничит с подлостью… — зачем смягчать выражения — это есть настоящая заправская подлость, — правда, бессознательная, но, быть может, именно потому еще более опасная. Меня нисколько не удивляет, что наивная провинциальная барышня могла увлечься актерским пафосом и полуискренней декламацией Лихарева, тем более что оратор красивый мужчина «в полном соку», но я решительно не понимаю, как сам автор может разделять институтское увлечение Иловайской. А что он вместе с барышней действительно симпатизирует своему герою–неудачнику, об этом прежде всего свидетельствует избранный им эпиграф: «Ночевала тучка золотая (т. е. Иловайская) на груди утеса великана (т. е. Лихарева)». Далее из заключительных слов рассказа, где праздношатающийся русский интеллигент сравнивается с «белым утесом», запорошенным вьюгой, ясно, что и воображению самого автора Лихарев представляется чем‑то вроде великана. Широкоплечее геркулесовское сложение, саженный рост кажутся наивной барышне миниатюрными, «подобно тому, — от себя уже замечает г. Чехов, — как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан»[976]. Очевидно, поэт вместе с m‑elle Иловайской обманут искусной декламацией своего героя и принимает те разнообразные мутные лужи, в которых плавает Лихарев, за нечто вроде океана. А между тем если бы автор не до такой степени идеализировал своего неудачника, не сравнивал его с утесом–великаном, взглянул на него как на человека в сущности не злого и не дурного, но до дна развращенного интеллигентной русской беспринципностью и нравственной обломовщиной, — из Лихарева мог бы выйти очень интересный художественный тип. Даже и так в его фигуре много типического и чрезвычайно современного: он, несомненно, — плоть от плоти, кость от кости — сын нашего века, вконец изолгавшегося и смешавшего людей, партии, убеждения в один громадный, чудовищный хаос. Придайте Лихареву черту простодушной, наивной подлости и отнимите ненужное притворство, желание показаться подвижником, — вы получите вполне современный тип очень многих русских «общественных деятелей», начавших радикальными идеями шестидесятых годов и кончающих проповедью «благородного, святого рабства» или непротивления злу.
Гораздо реальнее и, пожалуй, даже симпатичнее неудачники г. Чехова, когда он помещает их в неинтеллигентную или полуинтеллигентную среду, где они не думают много о себе, не претендуют на фаустовско‑лихаревскую мировую скорбь, живут вблизи очень чутко понимаемой ими и понимающей их природы, забытые жизнью и людьми, но счастливые внутренним миром своего богатого поэтического воображения. Изящно и тонко очерчен силуэт такого неинтеллигентного неудачника — огородника Савки в рассказе «Агафья». Савка, в качестве настоящего мечтателя, обожает кейф и чрезвычайно «скуп на движения». Живет он как птица небесная: утром не знает, что будет есть в полдень. Ото всей его фигуры «так и веет безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава». Савка, молодой, здоровый, сильный и красивый парень, благодаря своей бесконечной лени, живет «хуже всякого бобыля»[977]. С течением времени за ним накопилась недоимка, и мир посылает его на стариковскую, довольно унизительную должность, «в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре»[978]. Савка в душе — поэт. У него есть пытливое, вдумчивое отношение к природе, которую он понимает и любит как истинный художник: «любопытно… Про что ни говори, все любопытно. Птица теперя, человек ли… камешек ли этот взять — во всем своя умственность!..»[979]. Есть в Савке какая‑то скрытая, не находящая себе исхода сила: недаром женщины, которые в этом отношении в высшей степени чутки, находят в нем что‑то неотразимо привлекательное. Быть может, они инстинктивно чувствуют во всем его существе то изящество оригинальной, поэтической личности, которое так легко покоряет их воображение и сердце. Им нравится в Савке его презрительное, надменное обращение с ними, некоторая холодность, невозмутимо–философское равнодушие к самым трогательным проявлениям их страсти, его беззаботность, лень, пренебрежение материальной практической стороной. Несмотря на то что Савка обладает чрезвычайно мягким и впечатлительным темпераментом, он не способен серьезно увлечься ни одной из деревенских красавиц, победы над которыми ему ничего не стоят; правда, он жалеет их, но как‑то брезгливо и, конечно, никогда не изменит для них природе, мечтам, созерцательной лени. Фигуру Савки поэт поместил в изящную поэтическую рамку на фоне тихой летней зари, от которой «остается одна только бледно–багровая полоска, да и та подергивается мелкими облачками, как уголья пеплом», и надвигающейся ночи, в которой, «кажется, звучат и чаруют слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядящие с неба»[980]. В такой обстановке вы прощаете лень Савки и вам понятно задумчивое оригинальное лицо этого странного мечтателя, смутно чующего красоту и «умственность» во всем — в каждой былинке, птице, человеке, камешке. Остается жалеть, что г. Чехов обрисовал его чересчур эскизными, легкими штрихами, что он не развил этого интересного типа, не прибавил побольше реальных, бытовых черт в его биографию и характер, не превратил поэтического силуэта на фоне зари в живого человека.
Я не могу не упомянуть об одной из прелестнейших новелл молодого беллетриста «Святою Ночью», в которой все тот же излюбленный им образ неудачника в лице монаха Николая, неведомого поэта–слагателя акафистов, принимает еще более смутные, полу фантастические, но вместе с тем необыкновенно привлекательные очертания. Сквозь призму восторженных воспоминаний его друга послушника Иеронима, горюющего о смерти Николая, веет от его личности какой‑то легендарной, мистической прелестью, как от идеальных монашеских фигур из средневековых преданий. «Этого симпатичного поэтического человека, — говорит автор, — выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятного и одинокого, я представляю себе робким, бледным с мягкими, кроткими и грустными чертами лица»[981]. Не правда ли, в этом грациозном отрывке, напоминающем стихотворения в прозе Тургенева и Бодлэра, фигура монаха Николая походит на один из неуловимых образов почти без контуров, но с понятным, знакомым выражением, которые проносятся перед глазами во время музыки, но и в этом неопределенном, полувоздушном облике вы можете подметить несомненное сходство с основным типом рассказов г. Чехова — с праздношатающимся интеллигентом Лихаревым, бродягой, мечтающим о «вольных местах», огородником–поэтом Савкой. У всех у них мягкие, кроткие черты лица с грустным выражением, женственно–нежное сердце, полное отсутствие воли, мечтательность, презрение к практическим требованиям жизни.
Рассказы г. Чехова, благодаря своей отрывочности, не могут захватывать ряда последовательных моментов действия, расположенных в перспективе времени, — в них нет и не может быть психологического развития характеров и положений, того, что называется интригой, завязкой. Это не более как повседневные, чрезвычайно простые сцены, взятые из будничной жизни, но автор всегда умеет осветить их таким задушевным чувством, что они приобретают в глазах читателя новую неожиданную ценность, иногда художественное, часто идейное значение. Тенденции в собственном смысле в очерках г. Чехова нет. Но, несмотря на довольно объективный творческий темперамент поэта, в его рассказах можно уследить одно излюбленное им, чаще других повторяющееся, драматическое положение, подобно тому как мы уже нашли один основной, лучше всего удающийся ему характер. Поэт любит сопоставлять в их резкой противоположности и непримиримом антагонизме два психологических элемента — сознание, разлагающий анализ, рефлексию и бессознательную, неразложимую силу инстинкта, чувства, страсти, сердца. С любовью, хотя, по своему обыкновению, чересчур эскизно и отрывочно, он изображает сложные перипетии их борьбы, которая в современном человеке все более обостряется и приводит подчас к нестерпимо мучительным, болезненным кризисам. Элемент чувства в новеллах г. Чехова почти всегда выставляется либо как нечто стихийное, разрушительное, но все‑таки грандиозное, более могущественное и неодолимое, чем разлагающая, критическая способность («гордый демон так прекрасен, так лучезарен и могуч»[982]), либо как нечто спасительное, идеальное, как вечная правда, которая, будучи растоптанной и поруганной людьми, погруженными в эгоистичные расчеты буржуазного «здравого смысла», изредка вырывается наружу и тогда побеждает своей неотразимой красотой. Замечательно, что в том и в другом случае сердцу, инстинкту, бессознательному элементу поэт отдает предпочтение перед рефлексией, перед аналитической способностью. Возьму несколько примеров.
В рассказе «Верочка» автор изображает современного молодого человека, несколько гамлетовского типа, с дряблой волей, обреченного на «собачью старость в тридцать лет», измученного и обессиленного бесцельным копанием в собственной душе, различными сомнениями и вопросами, анализирующего и думающего в «такое время, когда не думает никто». Молодая девушка признается ему в любви. «Вера (имя девушки) была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере… Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, а в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг и истин…». Но он, «как ни рылся в своей душе, не находил даже искорки»[983]. По обыкновению таких людей, вместо того чтобы просто отдаться простому чувству, он копается в себе и докапывается до следующего неутешительного вывода: «Это не рассудочная холодность, которою так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из‑за куска хлеба, номерной, бессемейной жизни»[984].
Подобно тому как герой «Верочки», несмотря на весь свой ум и образование, на все свои «статистики, книги, истины», — пасует, теряется, делается смешным и жалким перед чувством влюбленной в него женщины, так в рассказе «Дома» прокурор, «опытный правовед, полжизни упражняющийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях»[985], смущается, робеет и не знает, что ответить на самые, по–видимому, незамысловатые детские вопросы своего маленького сына Сережи. Ребенку, уличенному в краже табака, любящий отец старается внушить незыблемость и святость принципа личной собственности. Но эта идея, которая, с теоретической точки зрения, кажется прокурору очевидной и непоколебимой, уничтожается самыми простыми детскими возражениями Сережи, идущими не от разума, а от чувства. Прокурор с строгой логичностью человека, привыкшего к юридическим формулам, твердит мальчику «мое», «твое», а тот разрушает все его доводы одной ласковой улыбкой, одним порывом не развращенного предрассудками, естественного чувства: «Возьми, если хочешь! Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего… Пусть себе стоит!»[986]. И прокурор пасует, смущается, чувствует свое бессилие перед какой‑то высшей внутренней правдой, заключенной в словах ребенка. Конечно, на суде этому теоретику было бы гораздо легче разрешить «канальские вопросы»; но в семье не то: для санкции тех государственных основ, которые так неожиданно поколеблены Сережиным восклицанием: «Возьми, если хочешь, ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери!» — и его вполне логичной ссылкой на «желтенькую собачку», прокурору нельзя здесь прибегнуть к юридическому формализму, и если не он, то по крайней мере читатель чувствует, что не узкая ограниченная правда житейского здравого смысла, а вечная, простая правда любви — на стороне Сережи. Та же полусознательная творческая идея или, скорее, излюбленный драматический мотив, настроение, которое только очень несовершенно и грубо выражается афоризмом: чувство шире и правдивее рефлексии, критической разлагающей способности, — неясными проблесками мелькает в рассказах «На суде», «Тайный советник», «Поцелуй» и во многих отдельных чертах, эпизодах, намеках, разбросанных по всем произведениям г. Чехова.
Но в произведениях молодого беллетриста нет того, что принято у нас называть тенденцией. Чувство, одушевляющее их, не есть резко обозначенное политическое направление, а, скорее, несколько неопределенная, расплывчатая, но задушевная, теплая гуманность, которая лучше всего формулируется в приведенном мною раньше восклицании одного из героев: «В жизни ничего нет дороже людей!» Можно ли обвинять писателя за это отсутствие сознательной, намеренной тенденции, дает ли оно достаточное основание для признания его деятельности праздной, ничтожной или прямо развращающей, вредной для общества?
Прежде чем приступить к этому трудному и чрезвычайно запутанному вопросу, я вынужден сделать следующую оговорку: в настоящее время в нашем обществе распространился тип фантастических поклонников так называемого «чистого искусства», утверждающих, что всякая тенденция, как бы она ни была искренна и глубока, — настоящая пагуба для художника, что первое и самое важное его качество — полный общественный индифферентизм, высокомерное презрение к насущным запросам современной жизни и какое‑то на деле невозможное и невиданное олимпийское бесстрастие. Самое слово «тенденция» ненавистно для этих людей. Термины «искусство», «красота», «эстетика» получили в неопрятных руках пошлый опереточный характер и до такой степени осквернены нечистоплотными прикосновениями, что теперь просто страшно и гадко употреблять эти слова. Вслушайтесь в голоса фанатических проповедников чистого искусства и вы поймете, что под видом эстетики, красоты они защищают свой собственный индифферентизм. Эти люди считают за личное оскорбление всякий намек на тенденцию только потому, что она прямо бьет им по лицу, напоминает им, что есть общественный суд и совесть. Они искренне ненавидят всякий проблеск идеи в художественных произведениях, потому что идея может только осветить их полное нравственное падение. Боясь света, они закрывают глаза на все и забиваются в узкий, темный угол своей «чистой», в сущности же чрезвычайно неопрятной эстетики. Конечно, не с этой мнимо–эстетической точки зрения намерены мы защищать в последующем изложении художественное творчество, не отмеченное резкой окраской. Если нам и придется употреблять иногда слова, донельзя оскверненные и опошленные, в этом не наша вина, и, конечно, такое вынужденное совпадение терминов не может подать повод вдумчивому читателю отнести нас к толпе фанатических поклонников «чистой красоты», возводящих в символ веры полную нравственную беспринципность художника. Антипатию к лагерю подобных эстетиков современного опереточного пошиба мы не в состоянии выразить с достаточной силой и энергией. Наше коренное, принципиальное отличие от них заключается в том, что они отрицают в искусстве всякую возможность тенденции, и если решаются признать некоторые произведения с очевидно тенденциозной окраской — великими, то все‑таки утверждают, что велики они отнюдь не благодаря тенденции, а лишь несмотря на нее; мы же, будучи бесконечно далекими (раз навсегда просим читателя иметь это в виду) от каких бы то ни было, тем более неопрятно–эстетических нападок на тенденцию, признаем за ней громадное не только жизненное, но и художественное значение, так как она, несомненно, является одним из самых роскошных, неисчерпаемых источников поэтического вдохновения. Разве не резкая боевая тенденциозность, ответившая на жгучие вопросы дня, создала стих Ювенала и высокохудожественные образы некоторых сатир Щедрина, вдохновение Барбье и бессмертные политические памфлеты Свифта, песни Некрасова и «Chatiments» Виктора Гюго[987]? Вот почему все наши возражения будут направлены отнюдь не против самой тенденции, а лишь против узкой, фантастически нетерпимой формулы некоторых из ее приверженцев, которая гласит: «вне тенденции для художника нет спасения». После этого маленького вынужденного отступления обращаемся к самому вопросу.
Конечно, не жизнь — для искусства, а искусство — для жизни, так как целое значительнее своей части, а искусство — только часть жизни. Мы вполне признаем принципы научной этики, утилитарианской нравственности даже по отношению к искусству, мы убеждены, что и оно, как всякая человеческая деятельность, имеет конечной целью и результатом достижение наибольшей суммы возможного счастья. Но весь вопрос заключается в качестве, характере, свойствах этого счастья. Все человеческие деятельности легко и удобно классифицируются в две обширные группы: группу деятельностей распределяющих и накопляющих. К первой группе относятся все деятельности социальные (как например политическая борьба партий, распространение среди масс идей и принципов, добытых научной социологией, наконец, даже художественное творчество с резко обозначенным направлением и яркой тенденциозностью), к этой же группе относятся все деятельности, имеющие в виду непосредственное достижение общественной пользы и возможно равномерное, справедливое распределение между всеми членами общества того основного фонда человеческого счастья, который в данный момент имеется в распоряжении благодаря второй группе деятельностей, накопляющих и увеличивающих этот основной капитал.
Нисколько не отрицая громадной важности первой группы деятельностей распределяющих, социальных, можно вместе с тем признавать не меньшую важность за группой деятельностей накопляющих, которые, не имея в виду непосредственного достижения общественной пользы и равномерного распределения суммы достигнутого счастья, направляя усилия лишь к тому, чтобы отодвинуть как можно дальше пределы человеческого сознания и чувствительности, открывают иногда новые, совершенно непредвиденные горизонты для беспредельного движения науки и прогресса. Поясню мою мысль примерами. Возьмем деятельности служителей так называемой «чистой науки», какого‑нибудь химика, зоолога, ботаника, открывающих новое химическое тело, новый вид животных или растительных организмов: их открытия могут и не иметь прямого отношения к общественной пользе, но они необходимо должны и будут иметь по крайней мере косвенное отношение к реальному благу человечества; не говоря уже о том, что эти открытия могут подать повод для какого‑нибудь технического изобретения, для усовершенствования какой‑нибудь отрасли прикладной науки, они раздвигают пределы человеческого знания и тем самым увеличивают сумму благ, которые впоследствии группа социальных деятельностей будет стремиться равномерно и справедливо распределять между людьми. Но раз мы признали целесообразной деятельность служителей чистой науки на основании того же самого принципа, то есть принципа полезности деятельности не только распределяющей, но и накопляющей, нам неминуемо придется признать столь же целесообразной деятельность служителей искусства, — притом не только таких, которые резкой тенденциозностью своих произведений непосредственно стремятся к достижению общественной пользы (что соответствует техническим изобретениям в научной деятельности), но и таких, которые служением идеалу красоты, «вдохновением, звуками сладкими и молитвами» увеличивают общую сумму эстетических наслаждений, доступных человечеству. Статуя, картина, музыкальная пьеса, антологическое стихотворение Фета, Тютчева, Анакреона или лирическое описание природы в новеллах г. Чехова, по–видимому, совершенно бесцельные с точки зрения деятельности распределяющей, стремящейся к непосредственному достижению общественной пользы, оказываются и значительными, и ценными, и полезными с точки зрения деятельности накопляющей: разве они не содействуют прогрессивному усовершенствованию эстетического вкуса и впечатлительности, которые приносят нам такую массу высоких и бескорыстных наслаждений, разве лучшие из них не открывают человеческому глазу и уху целые миры новых колоритов, форм, звуков, ощущений и разве тем самым они не раздвигают пределов человеческой чувствительности, не обогащают ее основного фонда, подобно тому как научная деятельность химика, зоолога или ботаника открытием нового химического тела, животного или растительного организма расширяет границы человеческого знания, увеличивает его основной капитал и через это способствует накоплению возможно большей суммы счастья, доступной всему человечеству? Но если это так, то всякая художественная, хотя бы и не тенденциозная картина, статуя, музыкальная пьеса, стихотворение Фета или поэтическая новелла таких писателей, как г. Чехов, должны считаться полезными, ценными и вполне оправданными с точки зрения научной утилитарианской нравственности.
Можно признавать громадное значение и красоту таких произведений, как сатиры Ювенала, песни Барбье и Некрасова, в которых резкая, глубоко искренняя тенденциозность проистекает из самой сущности творческого темперамента художника, и вместе с тем понимать не только поэтическую, но и жизненную ценность таких произведений, как «Илиада» Гомера или «Ромео и Джульетта» Шекспира, в которых нет и следа какой‑нибудь тенденции. Дело в том, что мои возражения направлены не против того, что тенденция возможна, но против того, что она составляет необходимое условие sine qua non[988] признания художественных произведений ценными и значительными.
Мы уже видели, до какой степени отрицание пользы, приносимой нетенденциозными художниками, — несправедливо, мы сейчас увидим, что, кроме того, оно — неразумно. Творческий процесс не механический, — а бессознательный, непроизвольный, органический, о чем может свидетельствовать каждый истинный художник и все, кому случалось наблюдать возникновение первого психического импульса, составляющего самое зерно художественного произведения. Сознание, критическая работа, научная подготовка составляют ряд очень существенных моментов, либо предшествующих творческому акту, либо следующих за ним, но специальное отличие этого акта от всех других душевных состояний и эмоций заключается именно в его бессознательном, органическом и непроизвольном характере. Истинно художественные произведения не изобретаются и не делаются, как машины, а растут и развиваются, как живые, органические ткани. С этим положением можно, пожалуй, спорить, так как, к несчастью, психология творчества еще слишком мало разработана для того, чтобы подтвердить незыблемыми научными доказательствами этот эмпирический закон, хотя я вполне уверен, что высказанная мною мысль не встретит возражений среди лиц, мало–мальски знакомых по наблюдению или собственному опыту с процессом возникновения художественных произведений. Но раз вы согласились с тем положением, что творческий акт не есть механическое, сознательное приспособление, а явление органическое, непроизвольное, — вам неминуемо придется признать и то, что творческому акту невозможно и неразумно предписывать какие бы то ни было внешние, не от него зависящие законы и теоретические формулы, подобно тому как нельзя путем каких бы то ни было внешних механических приспособлений изменить внутреннее морфологическое строение органа, по произволу управлять биологическими процессами в животной или растительной ткани. В этом смысле художник так же не властен по произволу изменить в своем собственном произведении какую бы то ни было, даже самую ничтожную черту, как садовник, культивирующий растение, не властен прибавить или отнять у цветка ни один лепесток. Тенденция вполне законна, если она является таким же бессознательным, непроизвольным, органическим продуктом художественного темперамента, как и все другие элементы, входящие в состав творческого акта, но, только что она навязывается извне, как теоретическая формула, она либо портит и калечит художественное произведение, либо является мертвым несрастающимся придатком, не способным омрачить красоты всего произведения: в таком случае она не может слиться, смешаться с ним, как масло не сливается с водой, как палка, приставленная к цветку, — с самим растением. Конечно, критики могут сердиться и выходить из себя по поводу того, что Гораций — не Ювенал, что Фет — не Некрасов, что г. Чехов — не г. Короленко, но это комичное негодование будет так же праздно, неразумно и ненаучно, как негодование биолога по поводу того, что у данной разновидности пять, а не шесть лепестков, что артериальная кровь красного, а не черного цвета.
Трудно заподозрить такого художника, как Шиллер, в общественном индифферентизме, в отсутствии идейности и глубоко прочувствованной, органически связанной с свойствами его темперамента и, следовательно, вполне законной тенденциозности, а между тем и он определяет творческий акт как что‑то непроизвольное, стихийное, над чем не властны никакие внешние предписания, теоретические формулы и рассудочные требования:
«Не мне управлять песнопевца душой», —
Певцу отвечает властитель:
«Он высшую силу признал над собой, —
Минута ему повелитель.
По воздуху вихорь свободно шумит,
Кто знает, откуда, куда он летит?
Из бездны поток выбегает:
Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
При звуках воспрянув, пылает»[989].
I
ХАРАКТЕР РУССО
Однажды, во время своих продолжительных скитаний, Руссо, заблудившись, вошел в мужицкую избу и спросил чего‑нибудь поесть. Крестьянин подал ему молока и черного хлеба. Но, увидев, что гость не вполне доволен этим скромным угощением, он вопросительно посмотрел на Ж. — Жака, потом, уверившись по наружности, что имеет дело с человеком добрым и честным, поднял люк, спустился в погреб и вынес оттуда вино, ломоть полубелого хлеба и окорок, который предложил гостю. Когда же тот, уходя, пожелал расплатиться, крестьянин снова чего‑то испугался, не хотел брать денег, как будто ему давали их за какое‑нибудь нехорошее дело, и наконец, дрожа и бледнея, объявил Руссо, что он должен тщательно скрывать от сборщиков податей всякий лишний кусок, чтобы они не оштрафовали его и не обвинили в уголовном преступлении; что за ним следят шпионы и надсмотрщики, и что он погиб, если только они узнают, что он не умирает с голоду. «Все, что он мне говорил, — продолжает Руссо, — было для меня совершенной новостью. Впечатление от его слов никогда не изгладится из моей души. То было первое запавшее в меня семя глубокой и с тех пор постоянно возраставшей ненависти к притеснителям народа. Человек этот, обладавший некоторым достатком, не смел есть собственный хлеб, заработанный в поте лица, и должен был прикидываться нищим, чтобы избавиться от разграбления. Нежность и негодование смешивались в моем сердце, когда я вышел из его дома, и я оплакивал участь этой прекрасной страны (т. е. Франции), щедро осыпанной дарами природы, но вместе с тем отданной в добычу бесчеловечным грабителям»[990].
Кроме подобных отдельных случаев было еще много других более постоянных и могущественных причин, натолкнувших Руссо на вопрос об отношении привилегированных классов к народу. В ряду этих причин следует прежде всего отметить обстоятельства его личной жизни. Руссо испытал на самом себе весь ужас бедности и унижения. В своей молодости он бродил нищим по большим дорогам Швейцарии, Италии и Франции; он слишком хорошо изведал, что такое голод и до самой старости не мог забыть чувства животного страха, внушаемого им; нередко приходилось ему ночевать на улице, под открытым небом, протянувшись где‑нибудь на скамейке или в поле, под стогом сена. А между тем этот бродяга хорошо помнил те времена, когда он был любимым баловнем достаточно счастливой семьи, он помнил довольство, спокойствие и все прелести тихой домашней жизни. Гордый до тщеславия, он должен был смиренно надевать лакейскую ливрею какой‑то г–жи Верчелли, он прислуживал и подавал блюда таким людям, которых считал равными по рождению и ниже себя по достоинству.
Кроме подобных воспоминаний детства, имевших влияние на всю его жизнь, в характере этого человека было много черт, оттолкнувших его от высших классов и приблизивших к народу. Во–первых, он чувствовал глубокое отвращение к светским манерам. Ложь, лицемерие, неестественность, все, что от него требовало тогдашнее общество, были ему противны. Он никогда не мог научиться говорить и держать себя в обществе. Он старался скрыть свою природную робость напускным цинизмом и притворной дерзостью, что казалось очень оригинальным и милым людям, искавшим развлечения в странностях прославленного чудака, но для него самого было тягостно и унизительно. Вследствие этой же непреодолимой робости он бежал однажды от почетного представления Людовику XV с такой поспешностью, как будто ему угрожала самая позорная казнь. Тереза Ле–Вассер понравилась ему только своей необыкновенной простотой. Он прелестно передает поэзию их маленьких ужинов на улице С. Оноре, происходивших с глазу на глаз в уютном уголке под окном, служившим им вместо стола. «Кто, кроме нас двоих, — восклицает он, — мог бы понять прелесть угощений, состоявших из доброго ломтя хлеба, вишен, сыра и бутылки вина, которую мы распивали вдвоем. Дружба, доверие, мир, кротость — вот лучшие из всех приправ!»[991]. В другом месте он так изображает свою любовь к простоте: «мне до такой степени приедались салоны, фонтаны, беседки, цветники и те люди, которые все это устраивали, мне так надоедали памфлеты, игра на фортепиано, карты, шум, остроты, пошлые любезности, скучные рассказчики и большие ужины, что, когда я видел простой кустик терновника, забор, овин, лужайку, когда, проходя через деревню, я чуял запах яичницы с кервелем, когда издали слышал грубый напев пастуха, мне хотелось отправить к черту и румяны, и фалбалы, и амбру»[992].
Сюда присоединяются более глубокие типические черты его характера: он страстно любит природу. Он умеет ее изображать так реально и художественно, что в сравнении с его картинами все описания его предшественников и современников — Расина, Корнеля, Вольтера — кажутся бесцветными. С. — Бёв говорит, что Руссо первый во Франции положил начало пониманию природы. Посмотрите на восторженное чувство, которое овладевает им каждый раз, как он входит в лес. Ему кажется, что перед ним открывается сказочное великолепие. Он любуется золотистым цветом сильной травы и пурпурным отблеском вереска: красота их проникает до глубины его сердца. Величие деревьев, игра теней, разнообразие трав и цветов попеременно возбуждают в его уме то любопытство, то наслаждение. Это волнение возрастает и, наконец, превращается в экстаз. «Я с какой‑то радостью, — признается он, — чувствовал себя подавленным беспредельностью природы и мне нравилось, что величественные, овладевшие мною образы смутны и неопределенны, что мой обессиленный ум теряется в их бесконечности. В пределах действительной жизни мне было тесно; я задыхался во вселенной, я бы сам охотно устремился вслед за мечтой. Мне казалось, что, если передо мной откроются все тайны природы, я испытаю менее сладостное чувство, чем этот нежный, отуманивший меня восторг, и я отдавался ему нераздельно и, будучи не в силах сказать или подумать что‑либо другое, я мог только произнесть: „О Всемогущее Существо!”».
Чтобы верно осветить характер Руссо, следует обратиться к его основной черте, заключающейся в крайнем перевесе внутренней психической жизни над впечатлениями, получаемыми от внешнего мира. Этот человек из‑за своего «я» не видит других людей. Изобилие, глубина и сила внутренней деятельности так велики, что она поглощает все его внимание; он постоянно к ней прислушивается и в сравнении с нею опыт и наблюдение, даваемые ему действительностью, кажутся бесцветными и тусклыми[993]. Он живет, погруженный в самого себя, оторванный от остального мира, недовольный, когда малейший толчок заставляет его считаться с реальными отношениями к людям. Он постоянно ищет полного уединения, абсолютного покоя. Природу он любит только за то, что она убаюкивает его, усыпляет мысль. По выражению Морлея, он вовсе не смотрит на нее, как сфинкс, не чувствует в ней, как Вертер или Манфред, ужасающих загадок. Она ему нужна, как мягкая постель для утомленного человека, чтобы отдохнуть. Его привлекают ясные Савойские долины с их свежей смеющейся зеленью и золотом нив на голубом фоне Юры, глубоко прозрачные тихие воды Женевского озера. Описывая идеал счастия, напоминающий индийскую нирвану, Руссо говорит: «если есть такое состояние, в котором душа находит прочную опору, чтобы вполне на нее положиться и сосредоточить на ней все свое существование, не чувствуя необходимости ни вспоминать о прошедшем, ни заглядывать в будущее, причем настоящее длится бесконечно, не обозначая, однако, своей продолжительности, без всяких следов последовательности, без лишнего чувства лишения или радости, удовольствия или огорчения, желания или страха, кроме сознания собственного существования, и если одно это чувство может наполнить всю душу, то тот, кто находится в таком состоянии, может назваться счастливым, не тем неполным, жалким и относительным счастием, какое мы находим в наслаждениях жизни, но счастьем полным, совершенным, не оставляющим в душе никакой пустоты». Здесь мечтатель так глубоко погружается во внутреннюю жизнь, что весь мир кажется ему отдаленной, едва заметною точкою, почти совсем исчезает. Он умоляет Бернское правительство как о величайшей милости о том, чтобы его лишили свободы и заточили вместо тюрьмы на маленький остров Св. Петра, обещая на вечные времена прекратить все сношения с внешним миром и, так сказать, заживо похоронить себя. В «Исповеди» он рассказывает, как ему однажды удалось провести около двух недель полного, глубокого счастия в четырех стенах карантинного здания без стола, без стула, без постели, с чемоданом вместо кровати. Понятно, что такой человек не мог быть счастлив в блестящем салоне XVIII века. Очарованный и ослепленный богатством своей собственной внутренней жизни, он втайне презирает людей или, — лучше сказать, — он не видит, не замечает их. Если он с кем‑нибудь сближается, то ищет в своем друге или любимой женщине не живого, реального человека, а воплощения собственной мечты, он любуется и в них отражением самого себя, отблеском собственной фантазии. Когда же обаяние грезы проходит, и Руссо с отвращением видит людей такими, какие они есть, он тотчас же отворачивается и забывает их до нового увлечения.
Подобное преувеличение индивидуальности и оторванность от жизни должны иметь последствием в области разума полнейшее пренебрежение к опыту, к фактическому материалу, почерпаемому из наблюдений над живыми людьми, к злоупотреблению дедуктивным методом. И в самом деле, Руссо, как будто играя, создает целые миры из рационалистической паутины, он отважно строит прямоугольные перспективы своих теорий, как геометр или поэт. Он употребляет все обаяние мечты и всю точность математики, чтобы придать им как можно больше реальности. Но вместе с тем его остроумная, поверхностная логика является не более как очень тонким, сложным инструментом в руках чувства. Разум может только тогда играть самостоятельную роль и даже управлять чувством, когда он стоит на почве положительного опыта и черпает материал для своих комбинаций из познания реальных явлений; когда же между ним и действительностью лежит целая бездна и вся его работа направлена к внутренней деятельности, приток извне свежей, здоровой пищи прекращается, разум слабеет, теряет свою жизненную силу, пока, наконец, всецело не подчинится произволу чувства и не станет его рабом. Руссо возводит это порабощение разума чувству в нравственный принцип. По его мнению, существовать — значит чувствовать. «Тот лучший человек, кто лучше и сильнее чувствует». Совести он отдает значительное преимущество перед разумом; он называет ее божественным инстинктом, бессмертным и небесным голосом, делающим человека подобным Богу. «Без тебя, — обращается он к ней, — я не ощущаю в себе ничего, что ставило бы меня выше животного, кроме печальной привилегии блуждать от одной ошибки к другой, опираясь на рассудок без твердых правил и на разум без руководящего начала». И так, подобно Лютеру, он гонит от себя разум, как «бесовскую блудницу». Божественный инстинкт возводится на пьедестал, с которого недавно была свергнута вера. Как в области разума отвлеченный рационализм и склонность к произвольному дедуктивному методу явились последствиями преувеличения индивидуальности, таким же образом это ненормальное развитие внутренней центростремительной душевной деятельности должно было повлечь за собою аналогичные последствия в сфере чувства. В таком же сосредоточенном и обособленном и погруженном в себя человеке нравственное чувство не должно быть направлено на какой‑нибудь внешний объект, не обладает характером деятельной общительной симпатии к людям, — оно всецело устремляется на охранение собственной личности от всякого посягательства и вторжения со стороны внешнего мира, оно выразится в чрезвычайно интенсивном сознании личного достоинства и личных прав. Такой человек будет честен до мелочности, до ригоризма в своих пассивных, отрицательных отношениях к людям; больше всего в мире будет он бояться поставлять себя в зависимость от чужой воли; он не захочет никому ничем быть обязанным; не нарушит, например в денежных делах, самой строгой честности, не примет никакой ничтожной услуги, чтобы только не связать себя благодарностью, не поступиться как‑нибудь неосторожно своими правами, не пожертвовать малейшей крупинкой той независимости, которая кажется ему дороже всего на свете. Подобный человек может дойти до такой странной мелочности, что будет отказываться, как Руссо, от самых, по–видимому, невинных подарков. Если же кто‑нибудь от чистого сердца осмелится предложить ему деньги, он усмотрит в таком человеке своего злейшего врага, одного из многочисленных заговорщиков, которые только и думают о том, как бы отнять свободу у честных людей. Вместе с тем у крайнего индивидуалиста сознание обязанностей будет гораздо слабее развито, чем сознание собственного права. Подобно Руссо, который оклеветал однажды из боязни позора невинную девушку, покинул ее благодетельницу m‑me Варенс, отдал детей в воспитательный дом и совершил множество других неблаговидных поступков[994], он будет склонен к нарушению обязанностей, т. е. к непониманию своих активных отношений к другим людям, поражая нас вместе с тем своим нравственным бескорыстием в тех случаях, когда ему нужно будет правильно установить эти отношения к его личности; он откажется от королевской пенсии, которая его сравняла бы с Вольтером, и будет воровать бутылки вина из хозяйского буфета, что сравняет его с мелкими мошенниками. Но если уже сознание обязанностей в нем слабо, тем более должны быть ничтожными альтруистические инстинкты, требующие отречения от собственной личности, самопожертвования, деятельной любви не к созданиям собственной фантазии, а к живым людям. Эта сторона нравственного мира, т. е. широкая, теплая симпатия ко всякому человеческому существу, будет почти совсем недоступна индивидуалисту, слишком поглощенному созерцанием своих внутренних сокровищ и бережливым охранением их от всякого внешнего посягательства. Наконец, такой человек, если и дойдет через сознание личных прав и через потребность личной свободы до страстного, вдохновенного отрицания тех общественных неравенств, которые нарушают его собственные права, лишают его свободы; если он будет способен к этому великому и по своему значению неоценимому делу, он все‑таки окажется бессильным при создании социального идеала, потому что в основу этого идеала нужно положить понимание реальных отношений людей к людям, выведенное из опыта, которым он пренебрегает, и, кроме того, нужно присоединить элемент объединяющего, альтруистического чувства, сознание общечеловеческой солидарности, братства, словом, всего, что по природе своей чуждо крайнему индивидуализму.
В заключение я подведу итог моим выводам относительно характера Руссо. Основная черта его — преувеличенное развитие внутренней психической жизни, отсюда в области разума возникает рационализм и отсутствие положительных знаний; в области нравственного чувства — интенсивное сознание личных прав и отсутствие альтруистических инстинктов; из того же преувеличенного развития внутренней, центростремительной деятельности следует ослабление и атрофия разума, лишенного притока обновляющих соков из живой наблюдательности и полное его порабощение чувству.
Теперь, когда у нас есть психологические данные характера, посмотрим, каким образом они повлияли на учение этого оригинальнейшего из писателей, на разрешение того вопроса, с которым его столкнули и обстоятельства личной жизни, и направление умственного развития, — вопроса об отношении привилегированных классов к народу.
II
ОТНОШЕНИЕ РУССО К ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ КЛАССАМ
Руссо в самом корне стремится подорвать престиж французской аристократии. Для него «всякий французский дворянин по более или менее прямой линии происходит от средневекового разбойника». Самый феодальный строй, источник всех наследственных титулов, он считает величайшим абсурдом. В эти наивные времена «стоило какому‑нибудь вождю, — говорит он, — сказать любому из своих рабов: будь велик, — ты и весь твой род, — и тотчас же этот человек делался великим в своих собственных глазах и в глазах других людей: и потомки его чем дальше, тем все выше и выше поднимались в общественном мнении; действие увеличивалось, по мере того как причина отдалялась: древний род становился тем благороднее, чем большее количество бездельников можно было в нем насчитать»[995] Средние века прошли невозвратно; теперь «на два, на три гражданина, действительно достойных, во Франции на глазах у всех возводятся в дворянство тысячи негодяев. Чем же гордится это дворянство?.. Что же оно делает для своей родины и человечества?.. Это люди, достигшие богатства и почестей такой страшной ценой, умеют ли они по крайней мере пользоваться плодами своего преступления, действительно ли они счастливы, достойно ли их положение зависти?». Нет, и на это они неспособны: «среди удовольствий, покупаемых так дорого, среди людей, хлопочущих об их забаве, скука снедает и убивает их; они проводят жизнь, убегая скуки и снова делаясь ее жертвой; они падают под ее невыносимым бременем; — женщины в особенности пожираемы скукой, она превращается у них в страшную болезнь, которая иногда лишает их рассудка, а наконец, и жизни. Я не знаю более ужасной участи, чем участь хорошенькой женщины в Париже, — после участи щеголя, ухаживающего за ней и самого превратившегося в праздную женщину, который ради тщеславного желания прослыть за победителя женщин переносит томительную скуку самых грустных дней, какие только проводил человек». И эту‑то праздную аристократическую скуку развозят в блестящих экипажах из Парижа в Версаль с такой быстротой, что «скорее пятьдесят пешеходов будут раздавлены, чем один бездельник остановится в своей золоченой карете[996]; эту патрицианскую скуку одевают в бархат и шелк, ее кладут на пуховые постели, окружают роскошью, упитывают дорогими яствами, все страны света приносят свою дань, быть может, двадцать миллионов рук работают, быть может, тысячи людей жертвуют жизнью» — и для чего же? чтобы скучающему, пресыщенному сибариту «предложить в полдень то, что вечером он оставит в отхожем месте». «Таковы презренные люди, которых образует разврат молодости: будь между ними один, который сумел бы остаться воздержанным, который предохранил бы свое сердце, свою кровь, свои нравы от общей заразы, — ив тридцать лет он задавил бы всех этих букашек и ему стоило бы меньше труда овладеть ими, чем собой».
Но не отнесется ли Руссо более снисходительно по крайней мере к той части привилегированных классов, которую в наше время называют интеллигенцией? Не смягчит ли он своего приговора над нею за то, что она держит в своих руках светоч искусства и науки, что в ней лежит залог умственного развития целого народа? Напротив, Руссо еще с большим ожесточением нападает на ученых, философов, поэтов и писателей, чем на аристократов, чиновников и богачей. Он вооружается против них отчаянным метафизическим парадоксом, который сразу дает нам понять, что он намерен бороться не на жизнь, а на смерть: «всякое мышление по природе своей противоестественно; человек мыслящий не что иное, как развращенное животное»[997]. Вот до каких крайних выводов доводит его ненависть к интеллигенции. Но вместе с тем он предъявляет знанию требования жизни, — он подчиняет науку и искусство верховному принципу полезности, в умственных деятелях своего времени он ищет и не находит стремления к этическому (нравственному) совершенствованию. Знания так называемых философов — пустые, фиктивные. Классическое воспитание приучило их довольствоваться изящной формой при самой возмутительной легковесности содержания. Привычка болтать в салонах, погоня за красным словцом, напыщенная риторика, мертвое академическое красноречие, неестественные декламации, фальшь, казуистика, сухая школьная мораль — вот, что присвоило себе громкую кличку народного образования, вот, что в так называемых науках и искусствах заменяет вдохновение, теплоту чувства, любовь к людям, пытливое, добросовестное отношение к природе. Каким образом возникли наука и искусство? Неравенство — язва всех цивилизаций — породило богатство, богатство — праздность и роскошь, из праздности произошли науки, из роскоши — искусства. В своем настоящем виде они не только не приносят никакой пользы, но прямо вредят, а в государстве каждый ничего не делающий человек — так же вреден, как преступник. К чему годны эти жрецы мнимой науки? Сердце их черство и холодно, как камень. «Добро, справедливость, великодушие, воздержанность, сострадание, мужество — все это для них пустые, ничего не значащие слова: их слуха никогда не поражало священное слово „родина!”»[998]. «Великие философы, попробуйте преподать ваши мудрые наставления детям и друзьям, — и вы скоро увидите, как жестоко они отплатят вам за них!»[999]. Все эти мнимые мыслители слишком много рассуждают и слишком мало чувствуют. Какое им дело до чужих страданий? Философия служит им только для того, чтобы легко оправдать собственный индифферентизм и бездушие. Она отрывает их от жизни, делает эгоистами, заставляет втайне думать при виде человеческих мук: «пусть все погибнут, только бы мне было спокойно… Под окном философа могут зарезать человека, и он только заткнет себе уши и придумает несколько остроумных доводов, чтобы заглушить в своем сердце голос возмущенной природы»[1000]. И подобные люди смеют себя называть цветом общества, солью земли! Руссо срывает с них маску, он показывает нам во весь рост тип так называемого «интеллигентного человека»: он — продажен, фальшив, мелочен, тщеславен, порочен, зол. Руссо смотрит на этих представителей просвещения, как «на ничтожную горсть людей, которые, кроме себя, никого не желают видеть в целом мире, а между тем сами недостойны того, чтобы на них обращали малейшее внимание, если бы не то зло, которое они причиняют народу»[1001]. Вот где здоровая часть отрицания Руссо. Его «не подкупит весь этот блеск, потому что он видит там, в глубине провинций, покинутые деревни, невспаханные земли, большие дороги, покрытые толпами граждан, которые превратились в нищих и воров, которым суждено окончить жизнь где‑нибудь под колесом или на куче навоза»[1002]. Интеллигенция ничего не делает, чтобы помочь этому великому народному бедствию, — вот за что Руссо с таким ожесточением нападает на нее. Но Руссо, увлеченный этим чувством, как всегда, дошел до крайностей, до проповеди обскурантизма и невежества, до полного отрицания не только злоупотреблений науками и искусствами, но и самой законности какого бы то ни было просвещения. Здесь мы вступаем в открытое море его противоречий. Он, который только что пугал нас своей необузданной смелостью, ниспровержением тысячелетних авторитетов, подает руку султану Ахмету, который велел бросить в колодец печатный станок. Ж. — Ж. Руссо приходит в умиление и восторг от мудрости Омара, предавшего пламени Александрийскую библиотеку на том основании, что, «если в этих книгах говорится не то, что в Алкоране, — их надо сжечь, если же в них говорится то же самое, что в Алкоране, — они излишни, и, следовательно, их все‑таки надо сжечь! Существуют дерзновенные люди, — с негодованием добавляет Руссо, — которые осмеливаются считать это абсурдом. Но предположите, что на месте Омара очутился бы Григорий Великий, — и замените слово Алкоран словом Евангелие, он, подобно Омару, уничтожил бы библиотеку, причем этот поступок, — замечает автор, — вероятно, был бы самым прекрасным подвигом в жизни знаменитого папы»[1003]. Здесь чрез преувеличение выводов Руссо достигает отрицания основных посылок. Итак, слепое чувство ненависти к интеллигенции завело автора в трущобы обскурантизма, — разум, слишком подчиненный чувству и парализованный его ненормальным развитием, не мог указать Руссо, в какую путаницу противоречий он вступает, отрицая не те или другие злоупотребления отдельных ученых и писателей, а самую сущность науки и литературы. Таким образом, он безосновательно дал первый толчок той реакции против освободительных идей XVIII века, которая в лице Шатобриана, де Сталь, де Местра и др. пыталась восстановить религиозные и политические идеалы феодального строя, столь «абсурдного», по выражению самого Руссо[1004], родоначальника реакционной литературы эмигрантов, как называет ее Брандес[1005].
Мы имеем пока три отвлеченных принципа: во–первых, отрицание аристократического сословия, во–вторых, отрицание интеллигенции с точки зрения ее бесполезности для народных масс; кроме этих двух с необыкновенной силой высказанных идей — мы имеем еще третий принцип, столь же отвлеченный, явившийся результатом крайнего полемического увлечения, принцип, заключающийся в безусловном отрицании всякой умственной деятельности.
Посмотрим, какое практическое применение получили эти три отвлеченных положения, каким путем Руссо намеревался провести их в жизнь. Прежде всего он успокоительно заявляет, что его страстная жажда возвратиться к «благодатному невежеству» — совершенно платонического характера. К сожалению, говорит он, невозможно истребить науки и искусства, которыми так злоупотребляют. «Никогда не случалось, чтобы однажды развратившийся народ снова сделался добродетельным. Напрасно думали бы уничтожить источники зла, напрасно даже снова вводили бы между людьми прежнее равенство: однажды испорченные сердца останутся такими навсегда, против этого нет лекарства, кроме какого‑нибудь великого переворота»[1006]. Итак, третий принцип, самый отвлеченный и бесплодный, абсолютное отрицание науки, — теряет на практике всю силу и смелость, перерождаясь в следующее банальное наставление: «предоставим наукам и искусствам смягчать нравы людей, которые они испортили; поищем средств изменить людей к лучшему и дать другое направление их страстям. Дадим этим тиграм пищу, чтобы они не пожирали наших детей»[1007]. Но что же сделать с науками и искусствами? «Нужно позволить заниматься ими исключительно тем, которые способны их усвоить без всякой посторонней помощи и, усвоив, создать что‑нибудь новое в этой области. Пусть только этим немногим избранным принадлежит слава воздвигать памятники человеческого знания». А для того чтобы умственная аристократия могла с полным комфортом исполнять свою задачу, государи должны принять ее под свое покровительство. Цицерон, величайший оратор, был консулом в Риме, Бэкон, величайший философ, — государственным канцлером в Англии. Отсюда — прямой вывод: если хотите иметь великих ученых, награждайте их большими чинами. Королям следует, окружив себя философами, под их руководством править страной. Им нечего бояться ученых, напротив, это самый безобидный народ: «они сумеют, — по собственному выражению Руссо, — скрыть железные цепи под гирляндами цветов»[1008].
Руссо — индивидуалист, поглощенный своим внутренним миром, он неспособен к изучению реальной действительности, а между тем это изучение необходимо для практического приложения теории к жизни. Руссо прямо и даже несколько цинично объявляет: «я уже сто раз говорил: хорошо, что существуют философы, только бы народ не вздумал им подражать (pourvu que le peuple ne se mele pas de l’etre)». Разум, совершенно порабощенный чувством, не играл у него достаточно самостоятельной роли для того, чтобы указать, в каком непримиримом противоречии находится теория с практическими выводами.
III
ОТНОШЕНИЕ РУССО К НАРОДУ
Всем своим характером, всеми вкусами и привычками он был поставлен в самое враждебное положение относительно привилегированных классов. Но с народом он сблизился только посредством отрицания аристократии и интеллигенции; ему недоставало деятельной симпатии и положительных знаний, чтобы на самом деле полюбить этот народ. Руссо относится к нему двойственно. Он создает своего естественного человека, дикаря — божественное существо, добродетельное, счастливое и совершенное, которое он противополагает людям, испорченным цивилизацией, — философам и аристократам. Но грандиозная фигура этого дикаря заслоняет от автора реальную красоту народной жизни. Руссо любит «естественного человека», это детище своей фантазии, как он всегда любит все свои мечты. Он посвящает ему лучшие, пламенные страницы своих произведений, так что на долю народа осталось еще немного; он отодвинут на второй план добродетельным дикарем. Народ — реальность, дикарь — мечта; зная характер Руссо, нельзя ни минуты сомневаться, что он отдаст преимущество мечте перед реальностью; в самом деле, он утверждает, что «нет никого глупее крестьянина и хитрее дикаря… Первый, постоянно исполняя чужие приказания… вечно делая то, что делал с первых лет молодости, живет по рутине, тогда как дикарь…» — и затем следует восторженное описание жизни дикаря, независимого и оригинального во всех своих поступках. Не только перед добродетелями естественного человека меркнут достоинства народа, который стоит в глазах Руссо все‑таки несравненно выше привилегированных классов. Он прямо объявляет, что единственные настоящие граждане находятся в деревнях, «где они погибают в нищете и презрении». Он полагает, что параллель, проведенная между крестьянином и философом, была бы, конечно, не в пользу последнего. «Род человеческий, — говорит Руссо, — состоит из простого народа, часть, которая к нему не принадлежит, так незначительна, что о ней не стоит и упоминать… Самые многочисленные сословия заслуживают наибольшего уважения… Мыслитель видит те же страсти и те же чувства у мужика и у знатного человека, он видит разницу не только в их речи, видит более или менее изысканные манеры, а если и есть между ними существенная разница, то она не в пользу тех, кто скрытнее. Простой народ высказывается таким, как он есть, и вовсе не красив, но светским людям необходимо маскировать себя; выскажись они такими, каковы в действительности, они возбудили бы отвращение…». «Изучите людей этого
сословия (т. е. крестьян), — продолжает Руссо, — и вы увидите, что у них столько же ума и более здравого смысла, чем у вас, хотя они говорят другим языком. Уважайте же род человеческий; подумайте, что он главным образом состоит из собрания народов, что если бы исключить из него всех философов и королей, то это было бы незаметно и от этого на свете не сделалось бы хуже». «Естественное призвание человека, — пишет Сен–Пре в «Новой Элоизе», — обрабатывать землю и жить ее плодами. Мирный житель полей, чтобы чувствовать свое счастие, должен только понять его. В его власти все истинные удовольствия человека; из горестей же его постигают только — самые неотвратимые для смертных, те, освобождаясь от которых, мы подвергаемся более жестоким… Земледельческое состояние единственно полезное и необходимое. На мужике покоится истинное благосостояние края, сила его и величие, которые народ извлекает из самого себя, которые ни в чем не зависят от других народов, никогда не принуждают к нападениям и дают самые верные средства к защите»[1009]. По мнению Руссо, — «стыдливость и скромность глубоко вкоренены в понятия народа, и в этом случае, как во многих других, грубость (la brutalite) народа лучше, чем приличие светских людей». Руссо полагает, как мы уже видели, что философия делает человека бессердечным эгоистом… Народ, не анализируя своих чувств, отдается им гораздо искреннее. Он более интеллигентного человека способен к состраданию: «во время уличной свалки сбегается толпа, — благоразумный человек удаляется, тогда как чернь и уличные торговки (c’est la canaille, се sont les femmes des halles) разнимают дерущихся и мешают порядочным людям избивать друг друга»[1010]. Не роскошь дворцов, а обстановка мужицкой избы показывает степень экономического довольства данной страны. «Только деревни составляют — землю, только деревенское население — составляет народ». Если есть надежда, что цивилизация примет когда‑нибудь более благоприятное для человечества направление, если есть надежда, что sanalibus aegrotamus malis[1011], то она возникнет конечно не из знакомства с развратной жизнью больших городов, а «из пристального изучения народов, живущих в отдаленных провинциях и сохраняющих всю простоту национального духа… Все народы, наблюдаемые при таких условиях, выказываются в гораздо лучшем свете, чем ближе они к природе, тем больше добродетели в их характере; только запираясь в города, только изменяясь благодаря культуре, они развращаются и меняют на приятные и зловредные пороки некоторые недостатки более грубые, нежели вредные». Заметим, что у Руссо встречается учение о «власти земли» Гл. Успенского[1012]. Он признает, что зависимость от внешних явлений, т. е. от природы (от плодородия почвы, урожая, засухи и т. д.), не имея ничего морального, не мешает свободе и не порождает вопросов; «зависимость же от людей» (которой землепашец может избегнуть по условиям своей работы скорее всех других сословий), «будучи неестественной, служит основою всех пороков; чрез ее посредство господин и раб взаимно развращают друг друга»[1013]. Вот почему, объявляет Руссо, «земледелие есть первое ремесло человека, — оно самое честное, самое полезное и, следовательно, самое благородное из всех». Крестьянская работа имеет еще одно огромное преимущество в глазах Руссо: она целостна, сама себя удовлетворяет, не требует разделения труда и вытекающего отсюда принижения личности. «То искусство, — говорит автор, — употребление которого наиболее распространено и наиболее полезно… то, для которого наименее необходимы другие искусства, заслуживает большего уважения, потому что оно свободнее и ближе к самостоятельности»[1014]. Таким свободным искусством он считает земледелие. Он с пренебрежением говорит о тех людях, которые «только чрез разделение отраслей промышленности совершенствуют их и умножают до бесконечности инструменты каждой отрасли… Подумаешь — они боятся, как бы их руки и пальцы не послужили им на что‑нибудь, сколько придумывают они машин. Чтобы заниматься одним каким‑нибудь промыслом, они ставят себя в зависимость от тысячи других, для каждого рабочего нужен целый город».
Но иногда этот разумный, трезвый взгляд на земледельческие классы получает несколько романтическую окраску. — Его крестьяне из «багровых, опаленных солнцем животных, прикованных к земле, ворочающих ее с неодолимым упорством», из этих животных, которые, по описанию Лабрюйера, «только когда встают на ноги, проявляют человеческий образ»[1015], неожиданно превращаются в буколических поселян золотого века, грациозно пляшущих и наряженных в шелковые балетные костюмы. Деревенская жизнь представляется ему в горацианской обстановке изобилия и спокойствия: «там, — мечтает он, — городской тон был бы забыт и, сделавшись поселянами в себе, мы предавались бы множеству различных забав… Веселые полевые работы, резвые игры — вот лучшие повара в мире, и тонкие соусы смешны для людей, находящихся в движении с самого восхода солнца… Длинная вереница гостей несла бы с песнями принадлежности пиршества… Если бы на какой‑нибудь праздник собрались окрестные жители, я бы первый присутствовал на нем… Я весело поужинал бы на конце их длинного стола, подтягивая хору старинной сельской песни, и веселее танцевал бы в их сарае, чем на балу в Опере». Кроме этого эпикурейского легкомысленного романтизма, который вполне, впрочем, соответствует духу XVIII века и характеру Руссо, он до некоторой степени не чужд известного презрительного аристократизма, искажающего его симпатичное отношение к народу. Установив в теории верховный принцип народовластия, он, как всегда, в области практических выводов делает множество оговорок, которые сводятся к одному: народ туп и невежествен, он не понимает собственного блага. Руссо прямо объявляет: «для народа недоступны слишком общие воззрения и слишком отдаленные цели; будучи способным оценивать только те государственные меры, которые касаются его личного блага, он с большим трудом оценивает пользу, являющуюся результатом постоянных лишений, возлагаемых на личность законом»[1016]. Итак, народная масса в самых важных общественных вопросах некомпетентна. Народу не следует заведовать внешними политическими сношениями: во–первых, потому что «великие государственные принципы недоступны ему (ne sont pas a sa portee)»[1017], во–вторых, потому что «собрание почтенных сенаторов способно внушить гораздо больше уважения иностранцам, чем какая‑нибудь темная презренная толпа». Последняя параллель между внушительным видом сенаторов и презренной наружностью черни чрезвычайно характерна. Мало того, Руссо отнимает у народа его последнее достоинство — простоту и безыскусственность: по его мнению, «народ (следовало бы по крайней мере упомянуть, что здесь разумеется под словом народ — городской пролетариат) всегда обезьянничает и подражает богатым; отправляется в театр не столько для того, чтобы насмехаться над ними, но чтобы изучать их и сделаться еще глупее, подражая им». Кроме таких общих, невыгодных для народа воззрений, у Руссо попадаются мелкие черты брезгливого аристократического отношения к обездоленным классам. Так, напр., воспитывая Эмиля в деревне, он тщательно заботится о том, чтобы «мальчик не перенял от крестьянских детей дурного тона». Размышляя о том, какому ремеслу посвятить своего воспитанника, он решает, что кузнечное мастерство слишком грязное и неэстетично: ему неприятно, чтобы руки Эмиля были постоянно черны и запачканы сажей, — он лучше сделает из него столяра. Это ремесло благородное, — оно изящно и опрятно, — недаром сам Петр Великий удостаивал заниматься им. Эмиль, вероятно, также не будет земледельцем, так как его возлюбленная, по собственному признанию Руссо, находит землю грязной; Софья так опрятна: «скорее допустит, чтобы сгорел весь обед, чем замарает рукавички»; она терпеть не может запаха навоза. Итак, земледелие, которое только что превозносилось в теории как «первое, самое почтенное, самое благородное искусство», как основа народного счастия, как наиболее целостная, независимая от людей и гармоничная деятельность, отодвигается теперь на задний план на том основании, что Эмилю неприлично пачкать руки, как простому рабочему, что утонченное обаяние Софьи не выносит запаха земли, которая кажется ей грязной. Та же двойственность, те же противоречия, отмеченные мной в отношениях Руссо к привилегированным классам, выступают и здесь, в его отношении к народу, что прямо вытекает из двух основных недостатков его характера — отсутствия 1) деятельной устойчивой симпатии и 2) живой наблюдательности. Симпатия заставила бы полюбить простой народ так крепко и горячо, что никакой «запах земли», никакие «запачканные руки» не могли бы его смутить. Известная доля наблюдательности показала бы ему в жизни народных масс так много нравственной красоты, что он не считал бы ниже своего достоинства изображать их такими, как они есть, не одевая в балетные костюмы.
Напряженное, с каждым днем возрастающее страдание, которое, несомненно, свидетельствует о каком‑то глубоком, всеми нами переживаемом кризисе, — вот общий фон, основная характерная нота большинства произведений молодых русских беллетристов. Все, как будто наперерыв друг перед другом, спешат заявить, что жизнь для современного человека сделалась чересчур тяжелой, что, по выражению поэта, «так дольше жить нельзя»[1018], что необходим какой‑то радикальный, большой переворот в нравственном мире, что иначе в недалеком будущем грозит полное банкротство всех прежних идеалов и верований. Напряжение душевной боли и безысходной тоски, удручающей каждого чуткого писателя наших дней, достигло небывалых размеров; чтобы почувствовать это, стоит только попристальнее вглядеться в скорбную, глубоко трагическую фигуру самого крупного представителя новейшей русской беллетристики — покойного В. М. Гаршина. Основная тема его произведений — сознание страшной ответственности, налагаемой жизнью на человека, и нашего полного нравственного бессилия оправдаться перед нею, нести эту ответственность. Гаршин, а за ним и большинство молодых русских беллетристов горюют не о том, что люди нашего поколения настолько нравственно измельчали, износились, что не хватает силы деятельно примкнуть к какому бы то ни было верованию, даже сознавая его истинность, воплотить в жизнь, принести ему реальные жертвы. Не стало способности верить — и вот почему «так дольше жить нельзя», и все мы чувствуем, что тяжесть существования возрастает с каждым днем, и молодые писатели самых разнообразных темпераментов, лагерей и направлений сходятся в одном — в сознании, что смысл жизни мало–помалу теряется; в произведениях таких во многих отношениях совершенно несходных беллетристов, как Альбов и Муравлин, Баранцевич и Ив. Щеглов, все громче, болезненнее и резче звучит нота напряженной, характерной для русской современности, «гаршинской» тоски. Что же касается писателей типа Чехова, по–видимому, более жизнерадостных и беззаботных, то следует заметить, что слишком часто для современных поэтов поклонение чистой красоте, намеренная художественная объективность, «искусство для искусства» играют роль чего‑то вроде вина или гашиша, в которых писатель ищет хотя бы минутного забвения от слишком мучительных, жгучих запросов реальной жизни. Впрочем, и в произведениях таких по наружности жизнерадостных поэтов прорываются иногда скорбные, болезненные ноты, которые свидетельствуют, что и эти писатели не избегли общей участи молодых беллетристов, что напрасно они стараются убежать в область чистого, объективного искусства и красоты от удручающего сознания: «так дольше жить нельзя». На мрачном фоне русской литературы ярко и резко выделяется одна светлая фигура, в траурной современной беллетристике, этой «юдоли плача и скорби», раздается один свежий, молодой голос, полный бодростью и силой здоровья, а не той вакхической, болезненной силой, которую дает художнику опьянение гашишем красоты. Голос этот принадлежит г. Короленко. Конечно, «гаршинская» скорбь должна быть оправдана как проявление естественной реакции против условий, в которые поставлен современный интеллигентный человек; но вместе с тем искренний, не самодовольный, не ограниченный, а вполне выстраданный оптимизм произведений г. Короленко нисколько не менее правдив и жизнен. Он свидетельствует о том, что в русской интеллигенции сохранился еще запас здоровой нравственной энергии, что мучительный душевный кризис, всеми нами переживаемый, более или менее временный и что в молодой русской литературе много нетронутых свежих сил, которые просятся на волю, и рано или поздно, конечно, сумеют пробить себе дорогу. Где корни этого оптимизма, что дало молодому писателю если не верить, то по крайней мере надеяться, что наше поколение еще не окончательно утратило способность верить, в каком источнике почерпнул он живой воды, которая позволила ему сохранить в этот век пессимистической заразы бодрость духа, ясное, здоровое миросозерцание? Где, наконец, взял он эту свежесть, молодость настроения, благодаря которой лучшие его произведения ворвались в современную русскую беллетристику так же отрадно и неожиданно, как свежий воздух из открытого окна в тяжелую атмосферу лазарета? Эти вопросы я предложил себе, приступая к настоящему очерку.
I
Интересно проследить, как постепенно развивалось и через какие фазы проходило отношение русских писателей к излюбленному ими типу «униженных и оскорбленных», который во всевозможных видах и среди всевозможных обстановок так часто являлся героем нашей художественной литературы. Отметим в самых общих чертах несколько периодов истории этого развития. Представители первого фазиса — Достоевский и Некрасов. Как ни противоположны эти два писателя во всех других отношениях, они сходятся, однако, в одном приеме, в одной характерной черте при изображении типа «униженных». Мармеладов и некрасовский мужик отличаются смирением и безответностью: они глубоко пассивны по отношению к той вопиющей общественной несправедливости, благодаря которой сделались «униженными и оскорбленными»; здесь не может быть и речи о каком бы то ни было протесте. По–видимому, у них нет даже сознания, что они правы и что общество их обидело. Писатель заставляет эти типы униженных безропотно исполнять их единственную функцию: доходить до последней степени возможного унижения, страдать, молчать и смиряться, причем автор берет уже на себя обязанность замолвить за них слово перед читателем. Читатель, тронутый их смирением, снисходит к ним и жалеет. Писатель не может, конечно, не сознавать некоторого нравственного превосходства своего терпеливого, безответного героя перед теми, кто его обездолил, но превосходство это так и остается совершенно фиктивным и метафизическим, как преимущество обиженного перед обидчиком: от такого сознания автора самому герою ни тепло, ни холодно. Все эти отверженцы общества, самые яркие художественные типы Некрасова и Достоевского, идут на казнь без ропота, без протеста, даже почти без сознания обиды, как «агнцы безгласные, ведомые на заклание»[1019], и единственная их защита — жалость, возбуждаемая бесконечным унижением и христианским смиренномудрием.
Лев Толстой является представителем следующего фазиса. Он не только жалеет униженных и окружает их мистическим ореолом мученичества, как Достоевский и Некрасов, он, кроме того, завидует им вполне искренно, завидует их нравственной и физической силе, здоровью, рабочему миросозерцанию, простоте, способности глубоко верить и тому громадному будущему, которое им принадлежит; и не только сам автор, но и созданные им представители типа униженных отлично сознают свою силу и правоту: посмотрите, например, как солдатик Платон Каратаев в «Войне и мире» импонирует Пьеру Безухову своим спокойствием, изящной простотой своего единства, сознанием внутренней силы. Праведный старик Аким, несмотря на то что он пересыпает речь косноязычным «таё» и занимается очисткой выгребных ям[1020], обладает полным сознанием своего человеческого достоинства, ставит выше всяких авторитетов голос совести, и это сознание силы и правоты дает ему смелость в последнем акте драмы обратиться с властной, почти повелительной речью «к светлым пуговицам», то есть к чиновнику. Смиренномудрые, безответные и, так сказать, пришибленные типы униженных Достоевского и Некрасова не посмели бы пикнуть в присутствии «светлых пуговиц», а тем более не решились бы противопоставить авторитету силы идеальный авторитет божеских и нравственных законов. Впрочем, ни Аким, ни Платон Каратаев далеко еще не достигли сознательного протеста: они так мало чувствуют себя обездоленными, так хорошо сознают свое преимущество и правоту, что с высоты очевидного нравственного превосходства относятся не то пренебрежительно, не то индифферентно к тем общественным условиям, которые их унижают в наших, а отнюдь не в их собственных глазах. Глеб Успенский, являющийся представителем третьего фазиса, подобно Толстому, завидует людям низших классов, но он уже гораздо жизненнее и реальнее объясняет эту зависть. Достоевский и Некрасов слишком унизили представителей обездоленных классов, Толстой впал в противоположную крайность: он слишком их превознес; в том и в другом случае, оставаясь более или менее за пределами реального мира, типы униженных чужды всякого протеста и относятся к своему унижению вполне индифферентно, как будто игнорируют его. Глеб Успенский первый объяснил с естественнонаучной точки зрения превосходство главного контингента «униженных» перед высшими классами «властью земли»[1021], то есть влиянием земледельческого труда и близостью к природе. Для того чтобы понять, что отношение русской литературы к народу сделало важный шаг вперед с эпохи Достоевского и Некрасова, стоит только сравнить мужика Некрасова с мужиком Успенского: первый страдает, смиряется, молчит без малейшего сознания силы, даже без протеста, второй, то есть мужик Успенского, тоже страдает и молчит, но уже отлично сознает свою силу и свое право: он является если не нравственно принципиальным, то по крайней мере эгоистическим соперником высших классов в борьбе за существование. Впрочем, и в типах Глеба Успенского, как у Толстого,
Некрасова и Достоевского, мы не встречаемся еще с вполне сознательным, принципиальным протестом; мужик Успенского слишком связан фаталистической, стихийной властью земли, слишком погружен в преследование земледельческого хозяйственного идеала, чтобы иметь возможность доразвиться до обдуманного, нравственного протеста.
Только в четвертом фазисе, в который молодая русская литература едва еще успела вступить и представителем которой является г. Короленко, тип «униженного и оскорбленного» достигает, наконец, вполне сознательного, принципиального протеста. Теперь обездоленный поставлен лицом к лицу с обществом, но в его отношении к тем, кто презирает и оскорбляет его, нет и помину о робкой жалобе, мольбе, христианском смиренномудрии, безответности героев Некрасова и Достоевского, вместе с тем он не относится к буржуазной части общества с пренебрежительным индифферентизмом, как герои Толстого и Глеба Успенского, он не просит, а требует оправдательного приговора от этих высших классов. В голосе его слышатся ноты не страха, не унижения и покорности, а чего‑то совсем иного. Г. Короленко намеренно выбирает типы своих униженных в самых грязных «подонках общества», в среде преступников, бродяг, нищих, беглых каторжников, и у него в первый раз эти отверженцы заявляют человеческие права: им вовсе не надо тех платонических, сострадательных слез, которые вызываются у нас покорностью и смиренномудрием героев Достоевского, им также не надо того мистического обожания, с которым Толстой преклоняется перед мужиками, они требуют чего‑то гораздо более реального, простого и вместе с тем трудного для нас… Каторжники г. Короленко мало заботятся о том, чтобы не испугать нас резкими нотами своего протеста, и его высшая, неотразимая, нравственная сила находится в таком захватывающем, трагическом контрасте с реальным бессилием, ничтожеством и унижением протестующих, что этот яркий художественный эффект глубоко врезывается и навсегда остается в памяти читателя как что‑то совершенно новое, оригинальное и ничем еще не выраженное. Эффект этот составляет завоевание и открытие г. Короленко в русской литературе.
Произведения г. Короленко я расположу не в строгом хронологическом порядке, а по известной системе, которая нагляднее всего выяснит перед читателями основную идею.
В одном из довольно слабых по форме и мало оригинальных по содержанию рассказов г. Короленко — «В дурном обществе» — мы встречаемся с этими основными мотивами, но еще в смутной, колеблющейся форме. Дело происходит в маленьком городке юго–западного края. Мальчик, от имени которого ведется рассказ, попадает в «дурное общество», то есть в притон нищих и бродяг; он описывает свои впечатления: перед нами проходит целая портретная галерея типов отверженных и несчастных. Среди других менее интересных и оригинальных личностей выдается фигура пана Туркевича. Человек этот дошел до последней степени унижения. Вся жизнь его — беспробудное пьянство. Но в редкие минуты, когда в нем пробуждается сознание, он становится ужасен: «глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы поднимались на голове дыбом», он впадал в исступление. «Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь» и кричал: «Иду!.. Как пророк Иеремия… Иду обличать нечестивых!»[1022]. Это было сигналом, обещавшим интересное зрелище. «Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка…»[1023]. Он при этом всегда умел придать своему спектаклю интерес современности. Протест является здесь довольно мимолетно, и притом в несколько комической обстановке. Остальные фигуры нищих в «Дурном обществе» напоминают сентиментальной фальшью и выдуманностью приемы непосредственных польских беллетристов и в этом отношении им, конечно, далеко до униженных Достоевского и Некрасова.
Неизмеримо художественнее прелестная сказка «Сон Макара». Вместе с тем идея протеста выступает здесь резче. Бедный якутский крестьянин Макар, напившись пьяным, видит сон, будто он умер и предстал на суд перед Богом, пред Великим Тайоном, как он его называет. «Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова… Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — он чувствовал сам, что говорил убедительно»[1024]. Макар энергически протестовал против приговора Великого Тайона, который за грехи и за леность решил отдать бедного якута трапезнику в мерины, чтобы тот «возил на нем исправника, пока не заездит». Макар объявил наотрез, что не желает идти к трапезнику в мерины. Решение Тайона неправильно. «Он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают что хотят!.. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, а овсом никогда не кормили… Да, его гоняли всю жизнь. Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!..
Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят… И он также… Пусть же они поищут: когда он испытал от кого‑нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждою. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная старость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели»[1025]. Тайон замечает Макару, что он не похож на истинных праведников, ибо лицо его темно, глаза мутны, одежда изорвана, а сердце «поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью». Тогда бедняк чувствует стыд собственного существования. «Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять. О каких это праведниках говорит Тайон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром… то Макар их знает… Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами… А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его… А чья же? Этого он не знает… Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение». Макар умолк. «Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, перед чьим лицом предстоит, — забыл все, кроме своего гнева…»[1026]. Сколько истинного трагического пафоса и своеобразной, несколько дикой прелести в этой речи Макара, несмотря на ее крайнюю простоту. Пан Туркевич в роли пророка Иеремии перед окнами секретаря уездного суда и бедный якут на небе перед престолом Великого Тайона — в сущности, это одна и та же личность в разных костюмах, одно и то же драматическое положение в разных обстановках.
В поэтической новелле «Лес шумит»[1027] крепостной мужик Роман убивает из ревности барина, деспота–самодура. Здесь, как и во всех рассказах г. Короленко, «униженный и оскорбленный» принимает наступательное положение по отношению к обидчику — представителю высшего класса. Как видите, основная тема все та же. Но протест — совершенно животный, грубый, чуждый сознательных, нравственных мотивов; это возмущение первобытного естественного инстинкта против одной из вопиющих несправедливостей, порождаемых общественными неравенствами. Представителем более определенного и осмысленного протеста является в рассказе эпизодическое лицо — Опанас, вольный казак–бандурист родом с Украины. Автор, увеличив в общем реальность обстановки (сравнительно с фантастической новеллой «Сон Макара»), перенеся драму с неба на землю, счел нужным уменьшить определенность и резкость протеста; да и фантастический элемент еще не вполне исчез, так как весь рассказ подернут полусказочной дымкой народного былинного эпоса и довольно значительной исторической перспективой. Дымка эта окончательно подымается, и мы вступаем в реальный мир в блестящем этнографическом очерке — одном из самых сильных произведений г. Короленко, озаглавленном «В подследственном отделении». Арестант Яшка, не имея возможности ничем другим выразить протеста, изо всей силы стучит ногами в двери камеры каждый раз, как какое‑нибудь начальство проходит мимо нее. Один из служащих при тюрьме рассказывает про Яшку: «…собственно, держат его в одиночке за непризнание властей, за грубость… Полицмейстер ли, кто ли придет, — хоть тут сам губернатор приходи, — он и ему грубость скажет.
— А зачем он стучит?
— И опять же, как сказать… Собственно, для обличения»[1028]. Вот как сам Яшка определяет свое призвание: «…стою за Бога, за великого Государя, за Христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей… Обличаю начальников, — пояснил он, — начальников неправедных обличаю. Стучу. — Какая же от того польза тебе? — Польза? Есть польза… — Да какая же? в чем? — Есть польза, — повторил он упрямо. — Ты слушай ухом: стою за Бога, за великого Государя, — и он целиком повторил свою тираду. Я понял теперь (это говорит лицо, от имени которого ведется рассказ, товарищ Яшки по тюрьме), что Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он „стоял” столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей; он видел пользу уже в самом факте „стояния” за Бога и за великого Государя, стало быть, поступал так „для души’ »[1029]. Оказывается, что Яшка совершенно невинный человек; держат его «безо всякого преступления»: «…отрекись, вишь, от Бога, от великого Государя, тогда отпустим. Где же отречься?.. Невозможно мне. Сам знаешь: кто от Бога, от истинного прав–закону отступит, — мертв есть. Плотью‑то он живет, а души в нем живой нету!»[1030]. Между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его «беззаконниками» установилась странная связь, «он успел своим неукротимым стуком раздражить им нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку и торжествовал сознательно над связавшими его по рукам и по ногам врагами… Господь поддерживает его… „Стучу вот!” В этом он привык уже видеть свою миссию, свое торжество: „Думаете, заперли, так уж я вам подвержен? Не–ет! Стучу, вот слава те, Господи, царица Небесная… поддерживает меня Бог–от!”»[1031].
Г. Короленко приводит в том же очерке в pendant[1032] к Яшке другой, в высшей степени оригинальный и, очевидно, прямо выхваченный из жизни тип протестанта. Это — мещанин из Камышина, скрывающий свое имя и происхождение. На допросе чиновник осведомляется: «Веры какой? — Никакой. — Как никакой?! В Бога веруешь? — Где он, какой Бог?.. Ты, что ли, его видел? — Как ты смеешь так отвечать?.. Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты такой! — Что ж? Было бы за что гноить‑то. Я прямо говорю… За то и сужден…»[1033]. Товарищи арестанты приступают к мещанину: «Чудак! Пра–а, чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру: „нет!” Так что же есть? — Ничего! — отрезал он коротко и ясно. „Ничего!” Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан… вообще страждет из‑за… ничего! Он является как бы адептом, подвижником чистого отрицания. Он бесстрастно исповедует свое „ничего” перед врагами этого оригинального учения»[1034]. Автор находит много общего между Яшкой и камышинским мещанином. И в самом деле, они сходны по силе, страстной энергии и самоотверженности протеста и вместе с тем по крайней неопределенности его содержания. Один стоит за какое‑то метафизическое, абсолютное «ничто», похожее на буддийскую нирвану, другой противопоставляет новым, свежим началам, ворвавшимся в нашу жизнь в эпоху шестидесятых годов, «истинный прав–закон», который он усматривает в отжившей старине, в крепостном праве, в дореформенном порядке. Но если мы вспомним полукомический протест пьяного пана Туркевича, обличающего секретаря уездного суда, то увидим, насколько ярче и рельефнее выступает основная идея в образах Яшки и камышинского мещанина. Робкие ноты протеста, вырвавшиеся из уст «униженного и оскорбленного» в захолустном городке юго–западного края, становятся несравненно смелее и громче в фантастической обстановке якутского неба, в устах Макара, потом снова спускаются на землю, но все еще в полусказочную обстановку полесской легенды, наконец, эти ноты зазвучали совершенно определенно и ясно в подследственном отделении, в резком нигилистическом отрицании камышинского мещанина, в громком обличительном стуке Якова. Но до сих пор, несмотря на всю силу и страстность протеста, ему недостает, по крайней мере с нашей интеллигентной точки зрения, разумного содержания.
Эта разумность является в протесте каторжника Панова, главного действующего лица в превосходном этнографическом очерке «По пути».
Вот как автор характеризует личность Панова: «В четырех стенах за решеткой и на верхушках гольцов, где над головой носятся орлы и тайга шумит без конца, как море, — всюду он чувствовал себя дома, импонируя товарищам самоуверенностью и спокойствием. Удаль его побегов вызывала восторженное удивление, но вместе с тем на его слово начальство полагалось больше, чем на самый многочисленный конвой. Было что‑то, придававшее особенный смысл самым простым его словам. За этими словами слышалось еще нечто недосказанное, что глядело на слушателя из этих глаз и прикасалось к душе при звуках этого голоса, будя в ней какие‑то смутные чувства…» (Северный Вестник, 1888, № 2)[1035]. Панов осужден не за преступления, а за бродяжничество. Сын бродяги, с самого раннего детства он жил по тюрьмам, по этапам, в среде каторжников и арестантов. «Человека я хорошего, настоящего не видал и слова хорошего не слышивал… Откуда мне было в понятие войти, в добродетель?..»[1036]. Он нигде не может обжиться, привыкнуть к оседлому существованию, потому что врожденный инстинкт влечет его к бродячей жизни: «Эх, барин, говорю тебе, на такую линию поставлен… Веришь, один раз слюбился я с бабой, с поселенкой; год прожил. Одну весну руками за нее хватался, чтобы не уйти мне… На другую сбежал. Пришел в тайгу и думаю: надо мне жизни своей конец сделать…»[1037]. У Панова, как у человека чрезвычайно умного, есть сознание, которое делает его положение еще более нестерпимым, сознание своей полной невиновности и той роковой, необходимой связи причины и следствий, которые разбили его жизнь и бросили в число отверженцев общества. Как просто и неотразимо ясно обнаруживает он перед своим интеллигентным собеседником черты воспитания, которые не могли его не сделать именно таким, как он есть. Однажды (Панов был тогда еще ребенком) отец его во время побега с каторги, в одной деревне ночью решился ограбить амбар. «Посадил меня отец к оконцу: ну–ко, говорит, Яша! Пробуй, не пролезет ли голова. Голова пролезет и весь пролезешь». Но в ребенке заговорил страх, а может быть, и нравственный инстинкт: «Не лезет, говорю (а голова‑то ведь лезет). Вот и слышу — говорит отец Хомяку: „Ничего не поделаешь, ломать, видно, не миновать. — Плохо, друг, тот отвечает, услышут на заимке или собака взлает… беда! Народ по здешнему месту варвар — убьют! — Да ведь как быть‑то — отец говорит, — мочи моей нету нисколько… Вторые сутки не ел, вчера свой кусок мальчонке отдал…”. Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову‑то в оконце… „Тятька, кричу, тятька! Голова‑то пролезла”»[1038]. Конечно, надо удивляться не тому, что человеку, поставленному в такие условия, приходилось нередко ломать замки и присваивать чужое добро, чтобы не умереть с голоду, а тому, как, несмотря на подобную жизнь, он все‑таки сумел сохранить в душе столько светлого, высокого и благородного. «У нас, барин, — объясняет он Залесскому, — своя есть честь, бродяжья. Не всякий ее соблюдает. Другой в тайге из‑за халата товарища убьет: ну а про Панова, кого хочешь спроси, кто со мной в товарищах ходил: никогда не жаловались…»[1039]. Панов обладает развитыми умственными способностями настоящего интеллигентного человека, он страстно жаждет знания, по ночам, при свете сального огарка, жадно читает Льюиса, которого ему удалось выпросить у спутника по ссылке, Залесского. В рассказе нет собственно определенной речи, в которой Панов изливал бы свою горечь обиды и негодования против общества, накипевшую в его сердце, но сознание какого‑то нестерпимого, громадного оскорбления слышится в каждом слове каторжника, в немой, но удивительной по странно сконцентрированному внутреннему трагизму сцене, когда тюремный инспектор, сытый, добродушный, самодовольный буржуа, ласковыми расспросами и очевидным контрастом своего благополучного существования с разбитою жизнью каторжника доводит этого последнего до бешенства, до безумия, почти до преступления; тот же страстный, но бессильный протест чувствуется в дикой вспышке зверских инстинктов, в отвратительном пьянстве и разгуле Панова. «Может, спроси меня кто, — я бы согласнее в младых летах окончиться, чем эдакую жизнь провождать. И верно, что согласился бы. Так ведь никто не спросил, вот и вышло»[1040]. Страшно становится, когда сознаешь и почувствуешь, что ведь здесь ни одной строчки нет выдуманной, что все это, наверно, целиком взято из «живой жизни». Сколько боли, горечи и озлобления должно накопиться в душе такого отверженца, не смиренного и не забитого, а гордого, самостоятельного, полного сознания своего умственного и нравственного превосходства! С каким утешением может подойти интеллигентный человек к такому несчастному? Что скажет он ему? «Что он не более, как ничтожная случайность, что его жизнь, его страдания не идут в счет, что он сам только осколок мельчайший, оторвавшийся от общей массы и падающий в беспредельность, что его жалобы — только слабый отголосок его оторванности; что он промелькнет и исчезнет без следа, без воспоминания, без какого‑либо смысла… Случайность!.. Он не может сказать этого, потому что душа отдельного человека — это целый мир! Ведь он слышит не простой свист летящего осколка, а крики отчаяния и боли человеческого сердца…»[1041].
Тип протестующего униженного, по–видимому, преследует молодого беллетриста, который освещает этот образ со всевозможных точек зрения, среди всевозможных обстановок. Не довольствуясь тем, что исчерпал его трагическое содержание личностью каторжника Панова, г. Короленко с замечательным художественным тактом и тонкой грацией разрабатывает комическую, донкихотовскую сторону протеста в личности сапожника Андрея Ивановича («За иконой». Северный Вестник, 1887, № 9)[1042]. «Работник он был примерный, пользовался доверием, трудился с утра до вечера… Только на время, когда снимал хомут, как сам он выражался, — тогда сразу становился другим человеком. В нем проявлялся строптивый демократизм и наклонность к отрицанию. „Давальцев” он начинал рассматривать, как своих личных врагов, духовенство обвинял в чревоугодии, полицию в том, что она слишком величается над народом и, кроме того, у пьяных, ночующих в части, шарит по карманам… Но больше всего доставалось купцам… „Я так об них полагаю, что будь я министр — всех бы их запретил”»[1043]. Андрей Иванович выражает свой протест довольно смешно и нелепо тем, между прочим, что жестоко ругает ни в чем не повинных перед ним людей, сует нос всюду, куда его не просят, лезет со всеми драться; но тем не менее в его личности масса симпатичных, рыцарских черт. «За правду помереть готов во всякое время»[1044] — в устах его это не пустая фраза, а выражение очень глубокого чувства, которое только не находит подходящих условий, чтобы выразиться реальным самопожертвованием. Андрей Иванович, как Панов, обладает пытливостью, подвижным, несколько скептическим умом, страстно жаждущим развития, знания, и вместе с тем замечательной нравственной чуткостью. «Быть может, — говорит автор, — в своих религиозных взглядах он был ближе к истинному христианству, чем очень многие более развитые люди». У него было «инстинктивное, искреннее искание настоящего смысла учения человечности и любви»[1045]. В типе Андрея Ивановича г. Короленко еще более приблизил к хорошо знакомой для нас будничной обстановке, к жизни самых обыкновенных средних людей изображение протеста униженных: можно, пожалуй, сомневаться, не идеализировал ли автор Панова, часто ли попадаются такие исключительные, недюжинные личности в среде «униженных и оскорбленных», но что Андрей Иванович весь целиком до последней мелочи своего характера выхвачен из самой серой, близкой к нам повседневной действительности, что в нем нет решительно ничего книжного, сочиненного, что протест его — сама жизнь во всей своей смешной и вместе с тем трагической наготе, в этом сомневаться невозможно. Андрей Иванович — слишком хорошо знакомая физиономия, таких, как он, в народе масса — имя им легион.
К несчастью, г. Короленко, как и все молодые беллетристы, рисует свои типы несколько эскизно, в отрывочных очерках и новеллах, а не в крупном, законченном художественном произведении. Между тем в высшей степени благородный и новый тип протестующего униженного заслуживает гораздо более пристальной, серьезной обработки, он мог бы послужить отличной темой для широкой эпической картины. Вообще воля, деятельность, самостоятельная сила личности, активность были весьма редко объектами поэтического творчества в России; в этом отношении русской литературе как‑то не посчастливилось: апатичные и рефлексирующие, безвольные, расслабленные, обломовские темпераменты — при изображении интеллигентной среды, забитые, смиренные, безответные страдальцы — при изображении народа, одним словом, пассивность воли во всех ее видах, формах и проявлениях — вот излюбленная психологическая тема наших беллетристов. В этом отношении они кажутся слишком субъективны. Едва ли в такой молодой, свежей, полной сил и здоровья стране, как Россия, не найдется ничего посильнее и пожизненнее, чем безответное смиренномудрие — в народе и расслабленная, гамлетовская рефлексия — в интеллигенции. Молодая литература в лице г. Короленко делает новаторскую попытку исследовать эту своего рода terra incognita[1046], непочатый угол сильных, самостоятельных, активных типов из народной среды. Нельзя, конечно, от всей души не приветствовать такое смелое начинание, тем более что мы вполне сознаем все его громадные трудности; следует вместе с тем пожелать, чтобы попытка эта удалась не в мелких эскизных набросках, а в более крупном и цельном произведении.
II
Лермонтов любил Россию «странною любовью» — не за славу, не за величие, не за историческое прошлое: «Я люблю, — говорит он, — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям».
Он любит «дрожащие огни печальных деревень, дымок спаленной жнивы, в степи кочующий обоз и на пашне средь желтой нивы чету белеющих берез»[1047]. Особенное, родное, русское чувство степного раздолья, простора, стихийной воли, которое так неподражаемо передано в этих стихах, более или менее знакомо и понятно каждому из нас. Орел говорит узнику Пушкина: «Давай, улетим! Мы вольные птицы; пора, брат, пора! — туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем — лишь ветер да я!»[1048]. Поэзия стихийного простора, которую так чудно умели передавать Пушкин и Лермонтов, звучит в народных песнях, в казацкой думе, в заунывных напевах волжских бурлаков: она, по–видимому, отпечаток, оставленный в душе всего народа родным пейзажем — однообразным, широким, степным. Та же черта, то же чувство раздолья, чего‑то дикого, свободного и стихийного сказывается в некоторых оттенках национального темперамента, в наклонности доводить каждую эмоцию, каждую нравственную или логическую посылку до последнего предела, до самых крайних выводов, в особенной русской «отчаянности», подмеченной многими наблюдателями. Эта отчаянность — в смелости веры, которую народ доводит до фанатизма, до самых диких, крайних сект, проповедующих самоуничтожение; эта отчаянность — ив смелости отрицания, которое интеллигенция доводит до полного нигилизма. В качестве нации очень молодой и свежей мы сохранили первобытную связь с характером родной природы: «с холодным молчанием степей, с колыханьем безбрежных лесов»; целые столетия, проведенные в тяжелых условиях, не могли окончательно уничтожить в глубине национального темперамента отзывчивость на поэзию стихийной воли, которая таится в нашей душе как неясный, бессознательный инстинкт, как ощущение, по наследственности переданное от далеких предков, как смутный атавизм, — быть может, связывающий нас с древней народной вольницей. Вот почему в искусстве поэтические мотивы, в которых звучит чувство степного раздолья, удали, стихийной свободы, не могут не найти отголоска в сердце русских читателей. Г. Короленко отлично владеет этим мотивом. Его пейзажи сибирской природы, степей, тайги, лесов, рассказы бродяг и беглых каторжников, стремящихся на родину среди бесчисленных опасностей, дышат поэзией воли. Благодаря долгому заключению, жажда личной свободы — один из могущественнейших инстинктов человека — достигает у этих людей такого напряжения, страстности и силы, о которых нам трудно составить себе понятие. Всякое другое ощущение, всякое счастье кажется им тусклым и бледным в сравнении с наслаждением, которое дает чувство свободы, даже если оно покупается ценою страшных лишений, страданий, самой жизни. Недаром каторжник Панов променял любовь женщины на приволье дикой, пустынной тайги. «Ты, барин, генерала Кукушкина не знаешь, видно? — Какого Кукушкина?.. — А вот такого. Бродяжий генерал. Весной в тайге кричит: ку–ку, ку–ку… строгой. Как стукнет, так по лесу из конца в конец отдается. Тут мы, бродяги, к нему и собираемся»[1049]. И тогда ничто не может их удержать. Шум бесконечных сибирских лесов, кукование кукушки, унылая пустынная тундра, весенний ветер, который приносит теплые дожди с Тихого океана, — все это обладает особенной, непобедимой властью над душой бродяги, властью, могущественнее самой любви. Беглый каторжник с Сахалина, Багылай, пробует обжиться, привыкнуть к оседлому быту, обзаводится домом, хозяйством, скотиной, он старается уверить себя, что больше ему ничего не надо. «Теперь я уже знаю, — говорит автор, — привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением… Он сознавал — хотя и подавлял пока это сознание, — что эта серая жизнь… не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль»[1050]. Соколинец недаром, как истинный поэт, описывает пейзаж сибирской природы — грозный, сумрачный, но дышащий поэзией дикой воли: «…а ветер‑то все гудет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, старички (птица такая, вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном, море на берег лезет!»[1051]. По этому описанию, простому и необыкновенно художественному, видно, какой инстинктивной «странной любовью» бродяга любит эти черные волны океана с белыми зайчиками, этот стонущий каменный берег, и чаек, и шум ветра; любит их несравненно больше, чем домик, коровку, хозяйство, «бычка по третьему году». Достаточно самого ничтожного предлога, чтобы он променял тепло и покой уютного буржуазного существования на раздолье тайги, где его ожидают опасности и, быть может, смерть, подобно тому как Панову достаточно кукования кукушки в лесу, чтобы бросить любимую женщину. В г. Короленко сказываются черты национального русского темперамента, когда с жадной, страстной чуткостью, с пониманием и сочувственным волнением он вслушивается в рассказы сибирских бродяг, этих современных «ушкуйников». Литератор сразу сходится с беглым каторжником, с первого слова понимает его, потому что этот инстинкт простора воли, степного раздолья есть частица того общего, родного, очень старого, что бессознательно дремлет в душе у обоих и соединяет их как членов одной национальности.
Повесть каторжника производит на автора громадное впечатление. «Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки… Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме — не трудностью пути, не страданиями, даже не „лютою бродяжьей тоской”, а всею поэзией вольной волюшки; почему на меня пахнуло от него только произволом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимым желанием чаши?.. Бродяга спал. Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю… Куда?
Да, куда?
В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем‑то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса…»[1052].
Сколько захватывающего, страстного лиризма в этом вопросе «кудаР», с которым поэт, представитель интеллигентной России, обращается к спящему бродяге — представителю тех смутных, молодых, неустановившихся сил, которые не успели еще перебродить в свежей, мало жившей поэзии и страстно просятся к жизни. Этот же ушкуйнический, беспокойный бродяжий дух, который манит героев г. Короленко в «неизвестную даль», сказывается в одной характерной особенности их характера — в страстном искании новой веры. Подобно тому как в физической природе молодая нация видит перед собой громадные, пустынные равнины, незаселенные, нетронутые плугом, так в душе своей она чувствует такой же пустынный простор — громадную арену какой‑то неизвестной будущей цивилизации; в физическом мире переселенческое движение еще волнует народ, в нравственном — тот же кочевнический дух манит народ в тот широкий, неизведанный простор, который он ощущает в себе, заставляет его вглядываться в него, постоянно углубляться и не дает ему успокоиться ни на какой старой вере, ни на каком старом нравственном принципе. Вот что рассказывает один сибирский бродяга, по прозванию «убивец», об этом характерном для нас, русских, и более или менее всем нам свойственном искании новой веры: «Крепко меня люди обидели — начальники. А тут и Бог вдобавок убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было — остался один–одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп — и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и, наконец, того, пошатился в вере. В старой‑то тгошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю… И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшенная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить… Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко — все кинул… Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги–пару, вырезал в тайге посошок и пошел…
— Куда?
— Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю — поле вспашу хозяину, а в другое — к жатве поспеваю. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как Богу молятся, как веруют… Праведных людей искал.
— Что же, нашел?
— Как сказать тебе?.. Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, брат, в нашей стороне люди Бога‑то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить‑то надо, если по божьему закону?.. Всяк о себе думает, была бы мамона сыта…» («Убивец»)[1053]. Замечательно, что и здесь поэт задает «убивцу» тот же самый вопрос: «куда?», который у него явился под впечатлением рассказа «соколинца» о его побеге и бесконечных скитаниях, полных того же бессознательного стремления в неизведанную даль. У «соколинца» жажда вырваться из душного острога в степное раздолье так сильна и мучительна, что он готов идти на всевозможные страдания, почти на верную смерть, только бы немного заглушить муки этой жажды: таким же образом в «убивце» потребность новой веры достигает такого напряжения, такой жгучей, невыносимой боли, что он добровольно идет в тюрьму, налагает на себя крест, ищет страданий, намеренно истязает себя, только бы чем‑нибудь заглушить муки неудовлетворенной нравственной потребности. И в том и в другом случае перед «убивцем» и перед соколинским бродягой у автора, быть может, и у самих героев является этот многозначительный, тревожащий вопрос: «куда?», в котором смутно выразилось чувство громадного душевного простора, незанятого еще никаким верованием, ожидающим нового, великого нравственного принципа. Эта черта страстных поисков — вторая характерная черта всех «униженных и оскорбленных» г. Короленко. Даже бедный Макар, захудалый потомок великорусских переселенцев, затерянный в якутских степях, сохранил некоторые следы этой особенности великого славянского племени — жажду новой веры. «Он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти „на гору”. Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал: знал только, что гора эта есть, во–первых, а во–вторых, что она где‑то далеко — так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тайону–исправнику… Податей платить, понятно, он также не будет… Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. „Тогда пропадать буду”, — говорил он, но все‑таки собирался…»[1054]. Не то же ли стремление к мифологической «горе», не та же ли потребность новой веры скрывается под абсолютным нигилистическим отрицанием знакомого уже нам «мещанина из Камышина» («В подследственном отделении»). Недаром же он идет на мученический подвиг за свой отчаянный, философский девиз: «ничего». Под этим «ничего», под этой оригинальной, русской нирваной таится, может быть, целый новый будущий нравственный мир, не успевший еще выступить в сознании народа. «In demem Nichts hoff ich das All zu finden», как говорит Гётевский Фауст Мефистофелю[1055]. Один и тот же психологический мотив — потребность новой веры — проходит как красная нить сквозь все рассказы, все типы г. Короленко; мотив этот проглядывает в легенде Макара о «горе», в нирване камышинского мещанина, в желании «убивца» «пострадать», в стремлении «соколинца» в степное раздолье, в неизведанную даль, в комических, но искренних и трогательных религиозных сомнениях Андрея Ивановича («За иконой»), вступающего в ожесточенные прения с раскольниками, в чуткой отзывчивости, с которой каторжник Панов («По пути») понял мысль, вычитанную из книги Льюиса: «„…наш век страстно ищет веры”. — Это верно! — сказал Панов. — Что верно? — Справедливо здесь написано насчет веры»[1056]. Соедините черту смутного, но страстного, неутомимого искания веры с протестом, с сознанием правоты, с ушкуйническим духом, — и вы получите полный, в высшей степени оригинальный тип «униженных и оскорбленных», созданный г. Короленко. Все эти нищие, бродяги, каторжники, пионеры современной народной жизни, ищущие новых земель и новой веры, внушают читателю вопрос, который невольно возникает и у самого автора: «куда?». В этом смутном, тревожащем «куда?» — вся поэзия стихийного кочевнического простора, которым веет от пейзажа русской природы, широкого степного раздолья, тайги, «колыханья безбрежных лесов», и в этой поэзии мы чувствуем что‑то очень старое, родное, милое, что звучит в малороссийской думе и былинах, в стихах наших лучших поэтов — Пушкина, Лермонтова, Кольцова и в лирической поэме удельного периода, в грандиозных сумрачных степных пейзажах «Слова о полку Игореве». Эта поэзия стихийного простора не что иное, как чувство бодрой юношеской силы и свежести всего народа, чувство, которое, вероятно, каждый человек испытывает в своей личной жизни, когда нетронутые и уже пробудившиеся силы рвутся к деятельности: это — ощущение свежей, молодой жизни, предчувствие непрожитого будущего, слышится в том призыве пушкинского орла, который я раньше приводил
«…Давай улетим!
Мы вольные птицы! Пора, брат, пора —
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем… лишь ветер да я!»
Г. Короленко в своих лучших произведениях, то есть в этнографических очерках, прежде всего художник, чем он резко отличается от писателей–народников прежней формации, как например Глеба Успенского. Я этим вовсе не хочу сказать, чтобы Успенский не обладал весьма значительным талантом, но элемент поэтического творчества заглушается в нем громадной примесью публицистики и многочисленных вставочных рассуждений, весьма интересных с точки зрения социологии и политической экономии, но не имеющих ничего общего с художественным творчеством. Нередко поэтические образы являются у этого писателя только второстепенным пособием, объяснительными виньетками, приложенными к блестящей полугазетной, полунаучной статье. Между тем в лучших произведениях г. Короленко, несмотря на их этнографический характер, несмотря на присутствие резкой, определенной тенденции, нет и следа публицистики: он прежде всего художник, и только художник. Тенденция ему не препятствует быть истинным поэтом, напротив, благодаря своей искренности и глубине она составляет главный источник его творческой силы, той оригинальной, ему одному свойственной поэтической окраски, в которую для него облекаются все формы и все явления внешнего мира. О степени интенсивности поэтического темперамента вернее всего можно судить по лирическим описаниям природы, где автора не спасет никакая идейность, никакая психологическая или бытовая наблюдательность, если он не обладает непосредственным чувством красоты. Г. Короленко так же, как в общих архитектурных массах своих лучших произведений, остается истинным поэтом и в отделке второстепенных частей, из которых, несмотря на их кажущуюся незначительность, слагается общее эстетическое впечатление. Приведу несколько примеров. Макар, напившись пьяным в кабаке, где «резкий дым махорки стоял целою тучей», где «лица были потны и красны», выходит на свежий воздух. «Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере из‑за темного полукруглого облака вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния»[1057]. Макар едет на дровнях. «Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись»[1058]. Макару во сне представляется лисица, попавшая в одну из его ловушек. «Он ее видел — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотистой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу… Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней…», Макар все во сне же приближается к тайге. «Чем дальше, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые ветви лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое–где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запушенных снегом… Мгновение — и все опять потонуло во мраке, полном молчания и тайны»[1059]. Здесь почти нет мелких колоритных подробностей (только одна или две черты), но в общих, простых, широких контурах пейзажа такое чувство меры и гармонии, на которое способен только истинный художник. Все приемы описания необыкновенно просты, почти наивны (они и должны быть такими, потому что это сон полудикаря–якута), а между тем вы чувствуете, что здесь нет ничего риторически банального, что поэт глубоко изучил характер той страны, которую описывает.
Макару снится, что он умирает. «„Пропадать буду!” — подумал он и решил сделать это немедленно. Он лег в снег. Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана. Сияние колыхнуло и погасло. Звон стих. И Макар умер»[1060]. Оригинальный параллелизм звуковых и световых образов, которые вместе с тем служат символами реального явления смерти, придает отрывку характер настоящей мелодии, действующей без слов, одними звуками. «Звон стих. И Макар умер».
Этот конец фразы кажется уже не речью, а последним, замирающим аккордом музыкальной пьесы; от иллюзии трудно отделаться, и в хорошем чтении она должна производить поразительный эффект. Вот еще великолепное описание рассвета в фантастической стране, куда попал Макар после смерти. «Прежде всего, точно первые удары могучего оркестра, из‑за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела. Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража. И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото. И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу. И из‑за них вышло солнце, и стало на их золотистых хребетах, и оглянуло равнину. И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом. И туманы торжественно поднялись торжественным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху»[1061]. Опять очертания пейзажа необыкновенно просты, они обрисовывают несколькими общими широкими и вместе с тем оригинальными штрихами главный, пластический контур картины, без мелких колоритных подробностей, без полутонов и деталей…
Много непосредственной поэзии и тонкого чувства природы в красивой легенде «Лес шумит». Как художественно очерчена личность деда, рассказывающего одну из страшных, кровавых повестей своего времени. Человек этот, всю жизнь проживший в лесу, так сблизился, сроднился с ним, что почти не отличает себя от окружающей природы. «А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу? — Эге! Давненько. Француз приходил в царскую землю, я уже был… — Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать… — А что же мне видеть, хлопче? Лес видел… Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом… И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил… Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет… Эге, вот как! Может, и вовсе не жил…»[1062]. Его речь с ее простым и вместе с тем грандиозным былинным складом до такой степени гармонирует с однообразным гулом ветра в деревьях, что, когда дед умолкает, кажется, можно уловить продолжение прерванной повести в шуме леса, и, наоборот, когда лес умолкает, можно уловить в монотонной речи деда бесконечный шум деревьев. И эти две величавые мелодии — голос человека и стихийный голос природы, переплетаясь в легенде, сливаются в душе читателя в одно смутное, глубоко торжественное поэтическое впечатление. По окончании повести, когда вы отрываете глаза от книги, начинает казаться, что действительно вы побывали в лесу и слышали шум громадного бора. «Лес шумит, лес шумит…» — эти слова старого деда долго стоят в ушах, как отголосок бесконечного лесного гула.
По этим примерам можно судить о том, что лучше всего удаются г. Короленко пейзажи с широкими, очень простыми очертаниями, где много воздуха, света и дали и мало миниатюрных, детальных черточек; различные оттенки освещения и колориты неба, общие картины громадных равнин, леса сибирской тундры, моря, степи с несложными, грандиозными контурами — вот любимые темы его описаний, которые вообще ему удаются лишь в том случае, если от них веет широким степным раздольем, поэзией стихийной воли, столь близкой сердцу автора. Что же касается до миниатюрной живописи природы, то, кажется, лучше бы г. Короленко не браться за нее: его художественный темперамент мало к ней приспособлен, да кроме того, в этом роде описаний он имеет такого опасного, почти непобедимого соперника, как г. Чехов.
Кстати, я отмечу одну любопытную черту описательного приема г. Короленко. У него есть склонность к постройке, если можно так выразиться, звуковых пейзажей, то есть целых поэтических картин, основанных на звуковых эффектах. Для пояснения приведу наудачу один из многочисленных примеров, встречающихся почти во всех его произведениях. Вот как начинается маленькая новелла из детской жизни «Ночью»: «Со двора слышался шум дождя. Несмотря на запертые двери, шум этот врывался в комнату и наполнял ее всю, от пола до потолка. Дождь стучал по тесовой крыше… плескался в лужах на дворе и широким, сплошным гулом отдавался в далеком пространстве. В углу комнаты стояла свеча. Фитиль по временам тихо, тихо потрескивал. Кроме того, в комнате стучал еще маятник, да из соседней темной спальни слышалось дыхание спящих детей. Но шум дождя покрывал все эти звуки. В нем слышалось что‑то упрямое, живое. Бесчисленное множество маленьких капель падали, шлепались, стучали, разбивались, и тотчас же за ними летели другие, без конца, без перерыва, сливаясь в один стройный, нескончаемый гул»[1063]. Все слова, подчеркнутые мною, изображают звуковые представления: замечательно, что во всем описании, сравнительно длинном и не лишенном поэтической живописности, нет ни одного образа, ни одной черты, не заимствованной из области звуков. Вот другой пример звукового пейзажа; изображаются впечатления, которые производит весна на слепого мальчика: «Он слышал, как бегут потоки весенней воды… ветви буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыши сосулек… стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно они тихо таяли в воздухе» («Слепой музыкант»)[1064]. Автор иногда нарочно выбирает сюжеты (например, «Слепой музыкант»), которые могут дать повод для целого ряда пейзажей и описаний, сотканных из звуковых эффектов. Шум леса в рассказе «Лес шумит» служит основной, постоянно выдвигающейся канвой, на которой легенда вырисовывается только изящной арабеской, как золотая вышивка на старинных тканях. Один из лучших очерков «В подследственном отделении» целиком построен на звуковом эффекте — на протестующем стуке арестанта Яшки. Маленькая драматическая сцена, которой кончается очерк «В ночь под светлый праздник», всецело основана на резких символических контрастах звуков — торжественного пасхального звона, призывающего к любви, и ружейного выстрела, которым в это время часовой убивает арестанта, бежавшего из острога. «Из‑за стены стройно несутся далеко в поле первые звуки торжествующей песни: „Христос воскресе!” И вдруг за стеной, покрывая все остальное, грянул выстрел… Слабый, беспомощный стон пронесся за ним беспредметною, предсмертною жалобой, и затем на мгновение все стихло… Только дальше эхо пустынного поля, с печальным ропотом, повторяло последние раскаты ружейного выстрела перед замолкшею в ужасе ночью»[1065]. Ничего, кроме звуков, и эти звуки, как настоящие действующие лица, разыгрывают всю драму. Новелла «Старый звонарь»[1066] также построена на звуковом эффекте, с которым мы уже раньше встречались в описании смерти Макара («звон стих, и Макар умер»), на параллелизме двух образов — утихающего звона колокола и умирающего человека.
Мы видели уже, что г. Короленко лучше всего умеет рисовать пейзажи с несложными, обобщенными контурами, широкие картины без мелких колоритных деталей; подобно тому лучше всего удаются ему произведения, драматический остов которых может быть очерчен немногими простыми штрихами без психологических подробностей: в человеческом мире он выбирает драматические положения, которые не требуют психологического анализа, выбирает героев из неинтеллигентной среды, влагая рассказ в их собственные уста; таким образом, действие, и без того несложное, проходя через мировоззрение более или менее первобытное, принимает еще более простые резкие очертания: во всех драмах, рассказанных г. Короленко, чувствуется основная идея — протест униженных, подобно тому как во всех его пейзажах чувствуется основной лирический мотив — поэзия стихийной воли. Вот несколько примеров: диалог Великого Тайона и Макара передается как сон, благодаря чему и без того уже несложное драматическое положение, пройдя через примитивное миросозерцание полудикаря–якута, еще более упрощается; в легенде «Лес шумит» рассказ ведется от лица дряхлого деда, таким образом, драматическая интрига, преломляясь в призме полуфантастических воспоминаний старика, принимает самые простые, рудиментарные очертания. В «Очерках сибирского туриста», в «Соколинце» рассказ тоже влагается в уста неинтеллигентных людей, вследствие чего драматический остов обнажается от всех мелких подробностей, от психологических полутонов и оттенков, в которые современный писатель счел бы необходимым облечь основную интригу, если б вел рассказ от собственного лица.
Этим присутствием сильного, быстрого и простого драматического действия, очерченного крупными контурами без деталей, г. Короленко отличается от других новейших беллетристов В. Гаршина и г. Чехова. Гаршину драматическое положение его героев служит только удобным предлогом для психологического анализа; г. Чехов в своих превосходных новеллах никогда не берет всей драмы целиком, а выхватывает только отдельные, кульминационные драматические моменты, которые он освещает ему одному свойственным лирическим настроением. Между тем в лучших произведениях г. Короленко в первом плане — драма сжатая, сильная, упрощенная до основных элементов, драма, которая без остановок, без психологических размышлений и деталей стремится к заключительной катастрофе, к последнему аккорду так же неудержимо, как узкий горный поток, стесненный крутыми берегами.
Простые и резкие очертания пейзажа и не менее простые и резкие контуры драматического действия — вот художественные приемы г. Короленко: в качестве приверженца того метода в поэзии, который в живописи соответствует пластической школе Рафаэля, он выдвигает не колорит, а рисунок, не психологическое настроение, а скульптурный остов произведения, в противоположность В. Гаршину и г. Чехову, которые в качестве настоящих колористов тициановской школы предпочитают рисунку, простым и резким очертаниям драмы — лирическое освещение, настроение, колорит.
III
До сих пор я рассматривал только лучшие произведения г. Короленко. Но если бы я здесь прервал мой очерк, то читатель получил бы неверное понятие о молодом беллетристе, у которого, к сожалению, найдется довольно много слабых вещей. По странному стечению обстоятельств главным образом именно эти слабые и плохие произведения заслужили автору популярность среди русской публики, которая вообще не отличается особенной разборчивостью и художественным пониманием. В лучших рассказах («Сон Макара», «Лес шумит», «В подследственном отделении», «Очерки сибирского туриста», «За иконой», «По пути», «Соколинец») г. Короленко, как мы видели, берет темы из народной жизни; к самым слабым относятся произведения, где он касается жизни интеллигентных людей. Здесь автор утрачивает оригинальность и впадает в несомненное подражание то польским писателям, то Достоевскому и В. Гаршину. Очевидное подражание польским образцам преобладает в двух растянутых, сентиментальных повестях, которые имели у нас немалый успех и составили автору имя даже в кружках читателей, не обращавших внимания на его лучшие произведения. «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» почти целиком написаны в том условном, нарочито трогательном и утомительно приподнятом стиле, который составляет недостаток посредственных польских беллетристов. Вот образчики: автор передает воспоминания маленького мальчика об умершей матери: «…помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки… Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном…». И дальше снова: «О да, я помнил ее! Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице» и, наконец, в четвертый раз: «О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался… с улыбкой счастия в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства… Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, так больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки»[1067]. Неужели девятилетний мальчик думает так неестественно и просто: что похожего на воспоминание ребенка в этих холодных фразах, в банально–эффектных повторениях «О дй, я ее помнил!». Слишком мало сердечности и простоты в таких приторно–сентиментальных выражениях, как «блаженное неведение, навеянное розовыми снами детства». Ни одного свежего, живого эпитета, ни одной оригинальной черты; все до такой степени сделано по избитому шаблону, что, начиная отрывок, можно сказать a priori, что в конце должны появиться неизбежные «слезы, прожигающие горячими струями щеки». Рассказ фальшив и риторичен не только в отдельных частях, но и в общей постройке. Добродетельный сын, который из чувства рыцарской чести героически переносит гонения не менее добродетельного отца, неутешного супруга какой‑то умершей «неземной женщины», колония нищих, гнездящихся «под покровом седых руин» феодального замка с разбитыми окнами, в которые врывается ветер и заглядывает бледная луна, старинная часовня с зловещими песнями филина — все это отзывается наивным романтизмом старого доброго времени.
То же подражание польским беллетристам преобладает в очень большой и довольно слабой повести «Слепой музыкант». Автор не без претензии назвал ее «этюдом», желая дать понять читателю, что труд его является плодом строго научного исследования душевной жизни слепых: но мало научного, а еще менее жизненного и правдивого найдет читатель в длиннейшем утомительнейшем этюде. Чем‑то выдуманным и вымученным веет от всех этих многословных метафор, растянувшихся на целые страницы, от троп и уподоблений, которыми г. Короленко так бесплодно старается объяснить ощущения слепого. Встречаются — и не в малом количестве — такие выражения: «звучнее и плавнее, звенящие, поющие и рокочущие аккорды»[1068]; не говоря о банальности эпитетов, для каждого человека, обладающего слухом, ясно, до какой степени, благодаря обилию щ, немузыкально это изображение музыкального эффекта. Вот еще различные описания звуков: «в неопределенный перезвон и говор (?) аккордов вплетались чудные мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды»[1069]. Такими вычурными описаниями переполнен весь этюд. Из тысячи примеров выбираю еще один наудачу: «…это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков»[1070], и т. д. и т. д. все в том же риторическом стиле. «Слова, слова, слова»[1071], которые скользят по душе, не задевая ни одним живым образом, ни одним смелым штрихом…
Небольшой очерк из детской жизни «Ночью» написан в том же стиле детальной миниатюрной живописи, в которой г. Короленко не может дать ничего оригинального. В рассказе, кроме нескольких удачных отдельных штрихов, как например заключение, все время чувствуется рабское подражание Льву Толстому — в особенном семейно–интимном тоне разговора детей, то Диккенсу — в размышлениях маятника, нагоревшей свечи, словом, в манере превращать неодушевленные предметы в одушевленные разумные существа. Описывается детская спальня ночью. На полу стоит свеча. «Несколько крупных тараканов разместились в кружок, около таза со свечой. Сдавшись на задние ножки и подняв кверху головы, они тихо водили усами, будто в молчаливом совещании. Казалось, упрямство дождя наводило их на какие‑то грустные размышления». Далее автор снова возвращается к этим тараканам, которые, по–видимому, ему очень понравились: «В то же самое время тараканы начинали усиленно водить усами и таращить глаза… Вид у них был совершенно разумный: казалось, все происходившее прямо до них не относится. Но они не могли не признать, что положение свечи очень жалкое, а дождь буянит совершенно напрасно»[1072]. Нет ничего более тяжелого, как неудачное, напряженное стремление казаться во что бы то ни стало грациозным и наивным, как желание искусственно достигнуть безыскусственной простоты. Есть у г. Чехова такие микроскопические, прелестные подробности, по–видимому, ненужные, даже смешные, на самом деле, пленяющие вас обаятельной простотой, наивностью и правдой; но эта манера миниатюрной живописи совершенно недоступна и чужда художественному темпераменту г. Короленко.
Одна особенность поражает во всех названных слабых произведениях г. Короленко: только что он вводит в рассказ хотя бы эпизодическое лицо из народной среды, только что он начинает речь о простом человеке или от лица простого человека, вся риторика, вся мелодрама, все изобилие банальных эпитетов и метафор разлетается как чад, как угар от свежего ветра и уступает место простому, образному, художественному языку, свежей безыскусственной поэзии. Так и в «Дурном обществе», когда автор бросает романтические описания природы и сходит в среду «униженных и оскорбленных», являются типы нищих, пана Туркевича, Тебурция, Лавровского, которые все‑таки неизмеримо жизненнее мелодраматического пана судьи с его скучнейшим и добродетельнейшим сыном. В «Слепом музыканте» всякий раз, как на сцену выступает кучер Иоахим, простой малороссийский мужик с самодельной дудкой и сапогами, от которых пахнет дегтем, слащавая сентиментальная риторика заменяется живым, колоритным говором с певучими украинскими интонациями. В рассказе «Ночью», переполненном авторским жеманством и грациозничанием, тотчас же с народной легендой еврея–торгаша Мошки, с появлением мужика Хведора врывается струя свежей поэзии.
Таким образом, относительно всех произведений г. Короленко можно установить общее правило: сила его творчества прямо пропорциональна близости сюжета к народной жизни и обратно пропорциональна близости к среде интеллигентных людей.
Так, например, в повести «С двух сторон», недавно напечатанной в «Русской мысли» (ноябрь и декабрь)[1073], автор больше, чем в каком‑либо другом произведении, удалился от народной жизни, и согласно с заключением, которое можно вывести a priori из правила, повесть эта, всецело посвященная изображению жизни интеллигентных людей, чуждая всякого бытового этнографического элемента, оказывается самым бесцветным и слабым из всех произведений г. Короленко. Сюжет философский. Герой повести, студент Петровской академии, отличается такой научной недальновидностью и нравственной дряблостью, что совестно называть его расслабленное миросозерцание именем нигилизма, хотя он и слушает лекции по физиологии, режет лягушек и не верит в бессмертие души; в одно прекрасное утро этот «нигилист», впрочем совершенно безвредный, так сказать, нигилист на розовой идеалистической подкладке, во время прогулки замечает на шпалах железной дороги не что иное, как раздавленный мозг своего товарища — тоже нигилиста, который бросился под поезд из‑за несчастной любви. Молодой человек не на шутку пугается, теряет доброе расположение духа и аппетит и, наконец, заболевает нервной горячкой, до такой степени струсил он будто бы перед ужасающими и безнадежными выводами, которые он приписывал ложно понятому им механическому миросозерцанию. В заключение, конечно, является прекрасная, неземная девушка в лице либеральной кассирши с волжского парохода; молодой человек, конечно, выздоравливает, конечно, влюбляется, и с гибельного пути нигилистической ереси благополучно возвращается в лоно православной, идеалистической веры; сначала он уверовал в нее, а затем в тот арсенал риторических банальностей — «добро, идеалы, правда, красота» и т. д. и т. д., — словом, во все, чем так надоели нам посредственные стихи г. Фруга. Но напрасно г. Короленко думает, что своей повестью он раздавил гидру современного пессимизма и материализма. Дело в том, что герой его до своего обращения представитель отнюдь не материализма, а школьной бравады и поверхностного, очень дешевого скептицизма, так же как после обращения он представитель не прочувствованного, сердечного идеализма, а какой‑то жиденькой, розовенькой, идеалистической эссенции, как будто нарочно приспособленной автором для расслабленного желудка нынешнего буржуазного русского идеалиста. Исполнение не выше сюжета; вот образчики: описывается тот момент, когда молодой человек увидел на рельсах раздавленный мозг товарища: «Взглянув вниз на шпалы, на отсыревший щебень, я вздрогнул, точно от озноба. Все показалось мне мокрым, грязным и суровым; на железных рельсах кое–где были раскиданы белые пятна, и было что‑то вызывавшее нервную дрожь в этом соприкосновении белой массы с холодным железом…». «…Караульные в простоте сердца собрали мозг самоубийцы в обломок разбитого черепа вместе с песком и щебнем… Я стоял перед этим образом, беззащитный и потерявшийся, точно птица перед глазами змеи… И чувствовал, как этот мертвящий взгляд проник в глубину моей беззащитной души». «— А зачем вы… Это?.. — спросил я как‑то наивно. — Чего? — Ну, это… собрали? — Как иначе‑то? Для порядку. — Мы это должны, — наставительно добавил другой. — Там его Бог за это рассудит, а мы должны, стало быть, земле предать… вот что. — Я смотрел на говорившего и растерянно глупо улыбался. Предать земле… Кого же? Вот это… Я опять засмеялся»[1074]. Так все это фальшиво и неестественно, что не вызывает в читателе даже отвращения, а только досаду… Далее описывается настроение перетрусившего молодого человека; вот некоторые отрывки: над моей душой «распростерлось что‑то темное, слякотное (!), холодное…», «это было воспоминание о разбитых обломках черепа, в которых лежала белая масса. Да, где все то, что казалось мне любовью, страданием, возвышенными стремлениями, высокою мыслью? Все лежит там, в разбитом черепке, вместе с камешками и щебнем. Сырое, слякотное пятно из туманного пятнушка превращалось в облако, закрывшее в моей душе свет жизни. Вместе с приведенными выше мыслями оно росло, и я вздрагивал от внутреннего холода…», «Небо казалось увешенным грязноватыми лоскутьями. Я боялся, что оттуда вот–вот потечет на меня невероятная гадость»[1075]. Просто не верится, что эти строки написаны рукою г. Короленко — писателя, обладающего несомненным художественным талантом. Удивительнее всего то обстоятельство, что повестью этой многие зачитываются и искренно восторгаются, находят в ней глубокий философский смысл. Успех подобной вещи — признак крайнего безнадежного упадка эстетического вкуса в среде русских читателей.
Мы видели, сколько силы, глубины и свежей поэзии в очерках г. Короленко из народной жизни. Фальшь, риторика, банальность являются каждый раз, когда он касается интеллигентной среды. Почему оно так выходит, вполне понятно. Дело в том, что интеллигентная среда, хорошо нам знакомая, сложная, исследованная во всех направлениях нашими великими писателями–психологами, требует от нового беллетриста, не желающего повторять уже сказанное до него, глубокого анализа, мелких колоритных деталей, тонкой миниатюрной живописи с характером и пейзажем (так как пейзаж неразрывно связан с настроением героя и автора) — словом, всего, что совершенно чуждо поэтическому темпераменту г. Короленко. Мы видели, что лучше всего ему удаются те произведения, в которых на первом плане не подробности, не колорит, а широкие, простые архитектурные очертания, пейзажи и драмы. Но эта простота контуров является или в том случае, когда рассказ ведется от лица неинтеллигентного человека и, таким образом, все события, все картины, проходя сквозь наивное миросозерцание, значительно упрощаются, или когда описывается простая жизнь простых людей с несложными, резкими и сильными страстями, которые легко поддаются недетальной, малоколоритной, пластической живописи.
В настоящее время многие высказывают резко, даже в форме неоспоримой аксиомы ту мысль, что всякая тенденция, социальная идея, как бы она ни была прочувствована, вредит художественному произведению, для которого в сущности не нужно ничего, кроме красоты, и даже не красоты, а красивости. Пример г. Короленко — блестящее опровержение этой теории крайних эстетиков. Я показал, как резко и последовательно в лучших произведениях молодой беллетрист проводит вполне определенную тенденцию — идею протеста «униженных». Повсюду, где есть эта глубокая, прочувствованная тенденция, г. Короленко — истинный художник; вместе с нею у него является простота и сила языка, свежесть образов и оригинальность замысла. Такое совпадение тенденции с подъемом художественного творчества далеко не случайно: особенность поэтического темперамента г. Короленко — склонность к простоте рисунка, к отсутствию психологических мелочей и оттенков — делает для него симпатичным миросозерцание народа, людей простых, неинтеллигентных, которые всем предметам и событиям придают несложные, широкие, эпические очертания, требующие от писателя мощного, но простого, недетального рисунка. В эту же среду народа, в среду «униженных и оскорбленных», столь симпатичную для художественной кисти поэта, влечет его страстная, прочувствованная тенденция — идея протеста отверженцев. Таким образом, здесь не только нет ни малейшего антагонизма тенденции и поэтического темперамента, но, напротив, полное их взаимодействие, полная гармония. В произведениях г. Короленко мы можем, так сказать, прощупать весь этот глубоко скрытый, внутренний механизм, который связывает искреннюю тенденцию с искренним поэтическим творчеством, спаивает их, заставляет друг другу помогать, сливает в одно органическое целое, в одну творческую силу.
На «piazza del Duomo» в Милане стоят рядом два огромных здания: современный торгово–промышленный «пассаж» (великолепная галерея Виктора Эммануила) и знаменитый миланский собор.
Трудно себе представить более резкий контраст. Это два века, два непримиримых человеческих взгляда на жизнь. С точки зрения реализма, с точки зрения искусства утилитарного галерея прекраснее собора.
Железо, стекло, кирпич служат разумным целям — человеческой пользе и удобству. Это здание восполняет программу позитивного искусства: архитектор Иосиф Мангони из Болоньи проник в современную буржуазную душу. Его произведения рядом с неоконченным мраморным собором, божественною мечтою средних веков, — идеал разумного комфорта и утилитарной роскоши. Но в этом полезном торгово–промышленном здании, несмотря на внешние грандиозные размеры, какое внутреннее ничтожество, какая плоскость и пошлость. На всем печать знакомого уродства и современного цивилизованного варварства. Это — бездушный железно–стеклянный сарай для товаров, исполинская мелочная лавочка. Это — вдохновение современных коммивояжеров и приказчиков, знаменитого аптекаря Гоме из «М–me Bovary»[1076], который обо всех предметах в мире имеет такие незыблемые лакейские убеждения.
Здесь вполне чувствуешь, какая бессмыслица сочетание этих двух слов «позитивное искусство». Когда угасает в людях то бесполезное и в сущности единственно нужное, что воздвигло великий собор, когда порывается последняя связь человеческой души с Бесконечным, искусство, несмотря на все поразительное совершенство техники, несмотря на весь небывалый реализм и научность экспериментального метода, делается пустым, уродливым и жалким.
Называя XIX век эпохой крайнего отрицания и материализма, высказывают не полную истину, а только одну часть, одну сторону истины.
В самом деле, небывалое развитие опытных знаний наложило своеобразную печать на умственный строй современного человека, породило непреодолимое, инстинктивное недоверие к творческой способности духа, к нашему внутреннему, идеальному миру. В поэзию, в религию, в любовь, в отношение к смерти и к жизни проникает особенное трезвое отношение лабораторий, научных кабинетов и медицинских клиник. Это, если можно так выразиться, запах и колорит XIX века.
Вместе с тем непрерывная, уже третий век продолжающаяся работа отрицания и разрушения прежних идеалов не могла не оставить на людях неизгладимого следа. Беспредельная скорбь и горечь познания пленяют наше сердце чувствами беспредельной умственной свободы, свободы единственной, необычайной, не испытанной еще ни одним из прошлых веков.
Дух зла не обманул своей жертвы. В самом деле, вкусив от плода познания, люди стали «как боги»[1077]. Ибо и в блаженстве богов нет ничего выше упоения свободой. Но искуситель должен бы предупредить: «Вы будете как страдающие боги».
Мы начинаем замечать, что слишком увлеклись материальной стороной культуры, могуществом техники, довольно подозрительными дарами цивилизации, которые прославляются печатью. Не должно окончательно забывать, что в слове «культура» есть древний латинский корень «см/tus» — почитание богов. Кроме усовершенствования комфорта, техники и материальной стороны жизни во всех великих исторических культурах есть духовное, бескорыстное зерно, основание нового религиозного культа, установление новой связи человеческого сердца с божественным началом мира, с бесконечным. Накопление опытных знаний, техника, — словом, вся внешняя цивилизация — только телесная оболочка, плоть культуры, плоть, которая мертвеет без внутреннего, священного огня, без дыхания идеальной жизни. Вот почему высокая степень цивилизации еще вовсе не предполагает неминуемо такой же высокой степени культуры. И на опыте современной Европы мы в этом с каждым днем все более и более убеждаемся. Культуру должно определить как взаимодействие целых поколений для достижения единой бескорыстной, идеальной цели, можно сказать, цели мистической, религиозной, если употреблять слово религиозной не в ограниченном, а в том беспредельно–широком, философском значении, какое ему придают современные люди: Гёте, Карлейль, Ренан. Высокая степень материальной цивилизации с низким уровнем идеальной культуры рано или поздно приводит ко всеобщему упадку, к вырождению. Еще Нибур предсказывал грядущее цивилизованное варварство, которое грозит современной Европе. Гёте на склоне лет с глубокою скорбью подтвердил это мрачное предсказание[1078]. В Париже, Лондоне, Вене, Нью–Йорке, в самом центре лихорадочной деятельности какой‑нибудь современный капиталист, огражденный деньгами от людей, в полном одиночестве может прожить всю жизнь, как настоящий дикарь, принять даже образ и подобие зверя среди величайшего комфорта, в грандиозных отелях, похожих на дворцы, среди столь прославленных благ научной техники. От рождения до смерти никогда ни одно человеческое бескорыстное чувство не проникало в его мертвое, до ужаса мертвое и холодное сердце. Он живет в огромном современном городе, как в настоящей первобытной пустыне. Полное, страшное одиночество от колыбели до гроба. Ни поэзии, ни любви, ни веры в Бога. Никаких волнений, кроме волнений спорта биржевой игры. Разве не такой новейший варвар этот натуралистический художник, который старается превратить свою душу в точнейший аппарат для фотографических снимков природы. Разве не может быть холодного звериного сердца у этого ученого, который, погрузившись в свою крохотную схоластическую специальность, забыл про людей и Бога, про жизнь и смерть. Разве не настоящий дикарь этот изобретатель смертоносных военных орудий, новых усовершенствованных способов уничтожать человеческую жизнь?
В атмосфере бездушной торгово–промышленной цивилизации, когда идеальное, религиозное зерно культуры окончательно умирает, когда мистическая связь человека с бесконечным окончательно порывается, новые поколения могут продолжать, как обреченные на смерть, только временное, призрачное бытие. Но дух жизни от них отлетел. Когда дерево уже срублено и повалено на землю, листья еще некоторое время могут жить. Не чувствуя приближения смерти, они играют на солнце, по–прежнему зеленые и свежие. Но если связь с глубокими подземными корнями, приносившими питательные соки жизни, нарушена, листья рано или поздно должны увянуть: дух жизни от них отлетел.
С другой стороны, материалистический, все отрицающий XIX век — вместе с тем эпоха еще небывалого научного и художественного мистицизма, неутомимой потребности новых религиозных идеалов, подготовительной работы еще неясного, но, во всяком случае, не разрушительного, но творческого движения. В этой мучительной борьбе, в глубоком контрасте двух основных начал жизни — характерная черта XIX века.
Настоящие дети его, представители современного духа, как бы они ни были враждебны друг другу, по характеру своей деятельности — мистики. Быть может, величайший из них, Гёте, так же, как его учитель Спиноза, был «человек, опьяненный Богом». Он говорил Эккерману: «Рассудок не достигает до природы; человек должен быть способен возвыситься до высочайшего разума, дабы прикоснуться к божеству, какое открывается в первичных явлениях как физических, так и нравственных; оно скрывается за ними, и они исходят от него»[1079]. «Когда меня спрашивают: лежит ли в моей природе почитание солнца, я отвечаю: вполне. Ибо и оно также откровение Высочайшего, и притом самое могущественное, какое мы, дети земли, только можем воспринять. Я благоговею в нем перед светом и производительной силой Бога, которой мы живем, движемся и существуем, а с ним все растения и животные. Но если меня спросят — расположен ли я преклониться перед костью большого пальца католических святых, то я отвечу: пощадите меня с вашими нелепостями»[1080]. Такова религия Гёте: это свободная, истинно человеческая религия сердца и природы. Сущность ее до такой степени проста и возвышенна, что ее разделил бы даже самый темный, но искренний человек, какой‑нибудь русский рационалист–сектант так же, как Сократ и Марк Аврелий. Ее первый догмат Гёте выражал двумя словами: «Бог доныне не почил от дел своих»[1081]. Я не понимаю, чем такая религия могла бы противоречить даже беспредельной умственной независимости, которой жаждет человечество. Такая вера, такое поклонение Непознаваемому — самое сердце, самое дыхание жизни всякой культуры, то, без чего люди могут строить полезные торгово–промышленные заведения вроде галереи Виктора Эммануила, но никогда не создадут ничего истинно прекрасного и великого. Для чего нужна эта религия, какая в ней польза? Словами доказать необходимость религии человеку, который не чувствует в ней потребности, невозможно. Вот что Гёте отвечает на эти вечные ограниченные вопросы ограниченных людей: «Высшее, чего может достигнуть человек, есть чувство изумления, и когда первичное явление приводит его в изумление, то он должен быть доволен: высшее ему недостижимо, и ему не следует искать дальнейшего; тут граница»[1082].
Так думал жизнерадостный олимпийский Гёте, величайший представитель двух последних веков. Но полная умственная противоположность Гёте, ненавистник жизни и радости, проповедник мирового отчаяния и пессимизма Шопенгауэр — такой же мистик. В материалистической Германии Бюхнера и Молешотта, среди современных естественнонаучных
открытий он дерзает воскресить не более, не менее, как древнеиндийский буддизм в обновленной, метафизической форме. И эта безнадежная теория современной философской нирваны и отречения от жизни проникает в плоть и кровь XIX века, налагает на него свою трагическую, неизгладимую печать. Метафизика Шопенгауэра противоположным путем, с противоположными целями проникает в ту же мистическую глубину, как жизнерадостный пантеизм Гёте.
Но вот человек, стоящий к нам еще ближе, наш современник, видевший конец века, несмотря на уединенные многолетние труды, несмотря на внешний жреческий облик, который он иногда желал принять, истинный парижанин до мозга костей, ум легкий и женственно–грациозный, недоверчивый и обаятельный, с печатью той национальности, которая подарила нам самого тонкого и пленительного из скептиков — Монтаня. Я говорю об Эрнесте Ренане; попробуйте отличить, где начинается его сомнение, где кончается его вера. Что это — конец старой религии или начало новой, неведомой, вечерняя тень или утренние сумерки? Его дерзновенное отрицание более всего похоже на самую пламенную молитву, его тонкая, неуловимая насмешка граничит с искренним благоговением. В сущности он не развенчивает ни одного идеала, он только одухотворяет ореолы мучеников и героев. Разве его Марк Аврелий не настоящий мученик? Разве его мученики не истинные герои? Он только разбивает омертвевшую, догматическую скорлупу, чтобы обнажить вечно живое идеальное зерно всех прошлых верований. И с какою нежною меланхолиею он разрушает, с каким свободным дерзновением он верит. Это новое, еще небывалое сочетание веры и сомнения, научной критики и религиозного экстаза, творчества и разрушения. Несмотря на свои колебания и переходы, несмотря на вечное «reut‑etre»[1083], которое он просит читателей прибавлять к каждому слову его книг, — это самый верующий из скептиков, самый благоговейный из разрушителей, это — настоящий сын XIX века, то есть настоящий мистик.
Т. Карлейль полная противоположность Ренану. Ум не гибкий и не грациозный, но мужественный и пламенный — темперамент мощной саксонской расы, прежде всего практический, неутомимо–деятельный, чуждый сомнений и колебаний, преисполненный почти необузданной энергии проповедника и бойца. У него нет ни женственной мягкости, ни тонкого вкуса автора «Vie de Jesus»[1084], но зато какая сила, какой мрачный и сосредоточенный огонь. И Карлейль, как истинный представитель XIX века, подымает знамя новой религии. Он говорит почти словами Гёте — религиозное поклонение божественной тайне мира «есть высшая степень удивления; удивление, не знающее никаких границ и никакой меры, и есть поклонение…». «Наука много сделала для нас. Но ничтожна та наука, которая захотела бы скрыть от нас всю громаду, глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда не можем проникнуть и на поверхности которого все наше знание плавает подобно легкому налету. Наш реальный мир, несмотря на все наше знание и все наши науки, остается до сих пор чудом, удивительным, неисповедимым, волшебным, для всякого, кто задумается над ним… Атеистическое знание, со всей своей научной номенклатурой, со своими ответами и всякими пустяками, лепечет о нем свои жалкие речи, как если бы дело шло о ничтожном веществе, которое можно разлить в лейденские банки и продавать с прилавка»[1085]. И Карлейль, как настоящий проповедник–индепендент[1086], бросает в лицо позитивному веку свой дерзкий боевой клич: «…природный здравый смысл человека во все времена, если только человек честно обращается к нему, провозглашает, что мир есть нечто живое, о да, нечто невыразимое, божественное, по отношению к чему, как бы ни было велико наше знание, нам более всего приличествует благоговение, поклонение и смирение, молчаливое поклонение, если нет слов». Никогда до XIX века чувство религиозное не высказывалось с такой безграничной умственной свободой, при таком полном отсутствии всех клерикальных и метафизических целей. За этот свободный мистицизм старик Гёте приветствовал Карлейля как новую грядущую силу[1087].
До сих пор я приводил в пример людей, обладающих художественным темпераментом. Но вот современный мыслитель строго объективный и научный, поборник механического миросозерцания, эволюционист Герберт Спенсер. Когда вы читаете такие книги, как «Первые начала»[1088], вам невольно приходит на мысль, что современный человек столь же далек от наивной догматической метафизики, как и от узкого, ограниченного позитивизма, исключающего религиозное чувство. Да в сущности беспредельная любовь и жалость к людям, альтруизм в «Основах этики»[1089] есть не что иное, как видоизмененное, но все же мистическое «поклонение героям» Карлейля. После самых точных, опытных исследований в глубочайших страницах психологического трактата «Биологии»[1090] Спенсера вы чувствуете тот священный трепет изумления, который естествоиспытатель Гёте считал последним пределом и высшею наградою всякого человеческого познания. Природа для эволюциониста Спенсера — правильный механизм, действующий по неизменным законам дифференциации и интеграции, но основные, первичные силы, приводящие этот механизм в движение, — таинственные проявления великой, навеки скрытой от людей области Непознаваемого. Все наши относительные познания о мире Непознаваемое соединяет в одну стройную систему, как скрытая, невидимая нить зерна ожерелья. Выньте ее — и ожерелье рассыплется. Выньте из эволюционной теории Непознаваемое — и система разрушится. Во времени, силе, движении, пространстве, сознании, в результате каждого научного исследования, в глубине каждой философской перспективы Спенсер показывает нам последний, непреступаемый предел знаний, границу бездны. Но такая постановка позитивных опытных знаний отнюдь не разрушает, а только освобождает мистическое чувство, религиозное поклонение от всех стеснительных метафизических форм. Это новейший научный мистицизм, и близорукие, ограниченные позитивисты недаром обвиняли в нем Спенсера. Он сын XIX века, он мистик так же, как Гёте, Карлейль, Ренан, Шопенгауэр, так же, как все великие художники нашего времени: Байрон, Эдгар Поэ, Флобер, Достоевский, Толстой, Ибсен.
Лет двадцать тому назад в своей речи, произнесенной при открытии съезда Британского Общества в Белфасте, знаменитый ученый Тиндаль, между прочим, сказал следующие знаменательные слова:
«Мы видим одно глубоко вкорененное чувство, которое с самого рассвета исторической жизни народов и, по всем вероятиям, в доисторические времена воплотилось в религиозных верованиях мира. Вы, стоящие на высоте знания, можете смотреть с улыбкой сожаления на эти религии; но сарказм ваш только коснется случайностей формы, он не проникнет до незыблемых оснований того религиозного чувства, которое таится в нравственной природе человека. Дать надлежащее удовлетворение этой потребности составляет одну из величайших задач нашего времени. И как ни уродливы кажутся при сопоставлении с научной культурой многие из прошлых и настоящих религий мира, как ни опасны были они и как ни стремятся быть такими и в настоящее время для самых дорогих привилегий свободы, — рассудок требует признания их как проявлений силы, способной под руководством просвещенной мысли привести к самым возвышенным результатам в принадлежащей ей сфере нравственного чувства… Сама наука нередко почерпает силу в источнике, лежащем за ее пределами… Я готов утверждать, пренебрегая всеми ограничениями материализма, что здесь открывается самое благородное поприще для деятельности той внутренней силы, которую в отличие от сознающей мы можем назвать творческою способностью человека»[1091].
Сегодня десять лет со дня смерти Тургенева. Десять лет..! Какая маленькая волна в том бесконечном приливе и отливе, который мы называем временем!
А между тем сколько памятников, воздвигнутых, казалось, для вечности, успело рушиться, сколько побед отзвучало, сколько торжественных венков облетело!
Да, у Времени есть своя насмешливость, и очень справедливая. Ничтожное делается еще более ничтожным, только великое во времени растет.
Так, с каждым годом растет образ Тургенева, становится все выше и выше, светлее и светлее.
Посмотрите на портрет Тургенева. Вот лицо коренного русского человека. Глаза с тонким умом и нежною, русскою печалью, добрые, мудрые и грустные морщины, — это лицо старого русского крестьянина, только облагороженное и утонченное высокою культурой. Тургенев был и по своему духу коренной русский человек. Разве с безукоризненным совершенством, доступным кроме него, может быть, одному только Пушкину, он не владел гением русского языка? Разве смех его не самобытный, неподражаемый народный смех? Разве он не знал всех наших глубоко скрытых недостатков и не любил и не понимал той русской красоты, которая доступна только людям, связанным с народом плотью и кровью, сердцем и духом?
А между тем этот коренной русский человек величайший западник. Тургенев любит Запад, его великую многовековую культуру не холодной теоретической любовью, а всем существом своим, ревнивой и пламенной страстью. Он так умеет преклоняться перед каждым прекрасным и могучим явлением всемирного человеческого духа, как немногие русские писатели, и в этом отношении он остается верным завету другого великого и не менее коренного русского человека — Пушкина. Тургенев, — этот «славянский гигант», как называл его Флобер, понявший и оценивший в нем глубокую, неподражаемую народную самобытность, — Тургенев — истинный европеец, одно из самых крепких и живописных звеньев той великой цепи, которая связывает нас, русских, с жизнью человечества. Он один из первых открыл удивленному Западу всю глубину, всю прелесть и силу русского духа.
Противоречивость, которая составляет доныне неразрешенный, трагический узел нашей истории, противоположность западной культуры и русской самобытности, превращается в его душе в гармонию, в стройное и неразрывное сочетание.
Тургенев — эстетик. Он ненавидит грубо утилитарную теорию в искусстве. Он верит в красоту, верит и исповедует ее перед самыми ожесточенными врагами и хулителями. Он не стыдится ее, как многие русские писатели. Вселенная представляется ему прежде всего бесконечною красотою. За это исповедание, за эту искренность слишком смелого и независимого художника он потерпел немало жестоких гонений.
Но десять лет прошло со дня его смерти, и что осталось от этих гонений, что осталось от его врагов? «Самобытный, бесстрашный эпикуреец», «эстетик», поклонник чистого искусства имеет право на сердечную благодарность русского народа. Недаром Тургенев участвовал одним из своих лучших созданий в неизгладимо прекрасном и плодотворном подвиге, совершаемым интеллигенцией во имя народа — в освобождении крестьян. Красота не мешала ему любить народ и делать благо. Он любил народ прежде всего потому, что сам вышел из глубины народного духа; он любил народ, как природу, как таинственную и грозную стихию, как великую и могучую красоту. И вот почему он питал такое непреодолимое отвращение к крепостному праву. Он ненавидел всякое рабство как величайшее человеческое безобразие, как самое постыдное уродство; он ненавидел рабство и как художник, как эстетик…
В Тургеневе была еще третья великая противоположность — противоположность Веры и Знания. Ум его неумолимо скептический. Поэт не закрывал глаза, не останавливался ни перед одним из самых безнадежных выводов современного знания. Он не возмущался против «научной науки», подобно Толстому[1092]; не ищет от нее успокоения в мистицизме прошлых веков, подобно Достоевскому; в красоте законченных форм жизни, подобно Гончарову. Разлагающий разум его проникает в страшную сущность мира. А между тем сердце поэта, несмотря на все доводы разума, неутомимо жаждет чудесного и божественного. Мир, по выражению Ренана, представлялся ему гигантским, многогранным и многоцветным алмазом, повешенным над бездной в черном вечном мраке. Никто из поэтов с таким ужасом и возмущением не думал о смерти.
И вот сегодня исполняется десять лет с того дня, как вечный мрак поглотил его, десять лет, как перестало биться это великое сердце, так любившее красоту мира и так ненавидевшее смерть.
Смерть совершила и над ним свое грозное дело. Теперь он знает разгадку тайны, перед которой мысль его останавливается с таким тяжелым и пытливым недоумением. Но где же тление? Где же прах? Где же ужас смерти?
В эту годовщину мы празднуем еще одну победу человеческого духа над смертью и временем. Это — первые десять лет бессмертия Тургенева.
Разве он умер? Разве он не живой среди нас? Разве он нам не более друг, чем наши друзья? Разве он нам не более родной, чем наши родные?
Его вечно юные, благоуханные вымыслы действительнее, правдивее, чем тот лживый и недобрый сон, который мы называем современной действительностью.
Наше сердце бьется каждым трепетом его сердца, мы любим его любовью, мы плачем его слезами, мы живем его жизнью. Где же смерть?
Он вечно будет творить в живой душе людей чудо красоты, чудо бессмертия! Он будет заставлять самых недоверчивых людей верить в невозможное, в чудесное, в недоступно–прекрасное, в то, чего нет и что в некотором смысле более действительно, чем все, что есть! Воистину этот мертвец более живой, чем тысячи и тысячи людей, проходящих по земле как тени, которые только кажутся живыми!
Сегодня служили панихиду в Казанском соборе по скончавшемся Алексее Николаевиче Плещееве.
Когда узнаешь о смерти людей, которые были почему‑нибудь близки, в первую минуту прежде всякой мысли, прежде скорби испытываешь странное чувство недоумения, какого‑то тяжелого и вечного удивления перед смертью, как будто недоверие к ней. Переспрашиваешь и перечитываешь весть, и все не можешь покориться, все надеешься на какую‑то невозможную ошибку. Потом привыкаешь медленно, и тогда только возникает в сердце чувство новой пустоты и горечи, и мало–помалу начинаешь понимать значение утраты…
С таким странным и тяжелым недоумением я смотрел на обычную толпу петербургских литераторов, которые в последние годы, все чаще и чаще, собираются на похороны кого‑нибудь из братьев. Какая безнадежная грусть и унылая покорность в этой толпе. Вот еще один…
Тихо все — одно кладбище
Не пустеет, не молчит[1093].
Зажглись тонкие восковые свечи. Прозвучали торжественные слова панихиды. Холодом веяло от пышного и пустынного храма, от привыкшей к смерти толпы: холодный свет унылого дня падал на гранитные колонны, на тяжелые медные капители, и в этом безнадежном свете, снизу озаренные отблеском похоронных свечей, лица живых казались мертвенно–бледными.
Я видел перед собою кроткое старческое лицо скончавшегося поэта, его грустную и нежную улыбку. Достоевский где‑то говорит о необычайно глубоком и трогательном значении, какое русский народ на своем чудном языке придает самому обыденному выражению «милый человек». Это выражение, с особенным народным оттенком, как нельзя более подходит к А. Н. Плещееву. О, какой это был милый, и простой, и добрый человек! Не думайте, что этим я умаляю его значение как поэта. Нет! Но человек и поэт связаны в нем так неразрывно, так неразделимо, что, право, кажется иногда, что жизнь Плещеева — одна из его лучших, высоких поэм. Да, так должны жить люди, безгранично полюбившие поэзию…
Правда, это невеселая жизнь, но что делать? У грустного века должны быть грустные певцы.
Я познакомился с ним лет двадцать тому назад. Помню, я тогда заходил к нему на бедную и тесную квартиру в Троицком переулке, потом на Спасскую. Таким я и буду помнить его всегда, в скромной литературной келье — это милое, задумчивое лицо, за рабочей лампой, над столом, покрытым книгами и бумагами, с пакетами рукописей, присланными провинциальными начинающими поэтами на просмотр, с маленьким стеклянным шкафом, в котором хранились книги с автографами сороковых годов. Вся эта обстановка дышала гостеприимной простотой именно лучших времен. Каждому становилось здесь теплее. Словно приходил не к чужому, а к почитаемому и родному другу. Я никогда не забуду его бессознательной, невольной и тонкой внимательности, его доброты с молодыми писателями. Я никогда не забуду этого мягкого голоса, этих печальных и добрых глаз. Я ничего не знаю прелестнее и благороднее этой детской, в самом высоком смысле слова, очаровательной, истинно–рус — ской простоты в обращении равно со всеми людьми. В нем не было и еледа литературного тщеславия, соперничества — наших обычных пороков.
Таким он был до конца дней своих: он был «чистый сердцем», этот кроткий и печальный поэт. Он был похож на свою родину:
Не поймет и не заметит Чуждый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит В красоте твоей смиренной[1094].
Он познал всю тяжесть, все бесконечное утомление нашей современной жизни. Суровая русская действительность мстит неумолимо тем, кто слишком страстно любит русскую поэзию. Горе не умеющим любить ее практически, умеренной и разделенной любовью, так, чтобы, отдавая свои досуги музам, устраивать помимо них, более или менее выгодно, свои жизненные дела. Горе тем, кого случай не спасает от самого прозаического и уродливого из несчастий — от вечной литературной бедности. Данте говорил, что «горек хлеб чужих людей»[1095]. За три, за четыре года до смерти Плещеев мог сказать по опыту, что в мире нет ничего горше русского литературного хлеба.
Я помню, как иногда в его безнадежно устремленных в сумеречную даль, потупившихся глазах, в его добрых и мягких морщинах выступало унылое выражение бесконечной усталости. То была усталость сорокалетней работы, бескорыстной и бесконечной, которая слишком часто приводит русского писателя к тому, что на краю могилы он не знает, где приклонит свою бездомную голову.
В эти минуты усталости, граничившей с отчаянием, поэт говорил иногда со вздохом: «Только бы мне перед смертью уехать за границу, увидеть солнце и море, подышать вольным воздухом».
Но он уже не смел надеяться… Судьба бывает прихотливой… Надежда исполнилась: он увидел солнце и море. Я помню эту старую русскую, прекрасную голову в серебристых сединах под блеском южного солнца, на фоне теплого голубого моря. Но, должно быть, было поздно. Ни солнце, ни море не могли его утешить. Жизнь не могла дать отдохновения этому сердцу от своей страшной усталости. Там, в далекой земле, смотря на тихое и глубокое уныние в лице поэта, я невольно вспоминал слова друга Плещеева, Некрасова:
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль[1096].
Он умер, как жил, печальным и кротким, и до конца сохранил милую чистоту и невинность сердца, которые так очаровательны в старых людях. Он был поэт, это значит, что он не был счастлив на земле. Горькая жизнь! Горькая и благородная жизнь! Такой жизни можно позавидовать больше, чем самому полному счастью.
Он умер на чужбине, но завещал похоронить себя в родной земле. Да, он принадлежит ей.
Здесь, над открытой могилой, не время и не место говорить о его литературном значении. Но те, которые скорбят о падении и порче нашего родного языка, сразу поймут, на что я намекаю, когда скажу, что нельзя достаточно оценить безукоризненную чистоту истинно русского языка в произведениях Плещеева. Он бессознательно и непогрешимо хранил святыню народной речи. Мы, люди иных поколений, все больше утрачивая ее, все меньше ее ценим. От народного склада плещеевского стиха так и веет иногда хорошей благородной стариной. Негромкая и унылая песнь его исходит из той же родной глубины, из которой изливаются и песни его старших, более могущественных братьев. Я, может быть, предпочту каплю этой родниковой воды, «чистой, как слеза», целым бурным и мутным потокам.
Нам, молодым писателям более сложного и страстного века, можно поучиться у Плещеева этой благородной простоте языка.
Так я думал, прислушиваясь к великим словам панихиды. Теперь свечи были потушены, и унылый свет петербургского дня, с его мертвою свинцовою тяжестью, казался еще более зловещим.
Я повторял слова молитв об усопших. Да, этот усталый и наконец успокоившийся брат достоин великого покоя смерти, последнего отдохновения. Не надо тщетных жалоб! Повторим вместе с народом вечные и мудрые слова: «Царствие ему небесное»!
Я вспомнил еще раз глубокую невинность этого сердца, предавшегося поэзии с такой беспредельной любовью, вспомнил это лицо простого, доброго и милого русского человека и с почти радостной улыбкой прошептал слова Спасителя: «Блаженны чистые сердцем, что они Бога увидят»[1097]!
Тургенев и Толстой — враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга как великие представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов. Из писем Толстого к Фету видно, что ссора едва не кончилась дуэлью. Толстой, что можно заключить из тех же писем, часто отзывался о произведениях Тургенева с глубокой неприязнью. Тургенев об этом знал.
И вот перед самой смертью он пишет следующее письмо:
«Буживаль, 27 или 28 июня 1883 года
Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я рад быть вашим современником и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу.
Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар вам оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует! Я же человек конченый… Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз обнять вас, вашу жену, всех ваших… Не могу больше… Устал!»[1098].
Таковы последние слова Тургенева. На краю гроба он понял, что сердцу его старинный враг — ближе всех друзей, что даже на земле, быть может, он его единственный друг. Он завещает своему врагу, своему брату, «великому писателю русской земли», то, что для него было самого дорогого в жизни, — будущность русской литературы.
Тем пророческим взглядом, который бывает у людей перед смертью, он предвидит грядущее бедствие, падение русской литературы. А для Тургенева это было одним из величайших бедствий, которые могут посетить русскую землю.
Он был прав: язык — воплощение народного духа; вот почему падение русского языка и литературы есть в то же время падение русского духа. Это воистину самое тяжкое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю слово бедствие вовсе не для метафоры, а вполне искренне и точно. В самом деле, от первого до последнего, от малого до великого, для всех нас падение русского сознания, русской литературы, может быть, и менее заметное, но нисколько не менее действительное и страшное бедствие, чем война, болезни и голод.
Я хорошо знаю, что тема эта составляет еще с незапамятных времен излюбленное общее место рецензентов, непритупляющееся оружие всех литературных лагерей, всех обиженных самолюбий. Во времена Пушкина критики так же красноречиво оплакивали безнадежное падение русской литературы, как во время Тургенева, Достоевского и Толстого. Старики любят употреблять это оружие против молодых. Отживающие искренне убеждены, что во времена их молодости и небо было яснее, и земля плодороднее, и девушки красивее, и писатели талантливее. Но характерная черта таких недобросовестных и неосновательных жалоб на падение литературы — личная нота, торжествующая насмешка и злорадство.
Мне могут сделать и другое возражение: «Только что кончилась великая эпоха Достоевского, Гончарова, Толстого, Тургенева, даже не кончилась, потому что последние произведения Толстого относятся к последним дням современной литературы. Собственно, и о причинах падения нечего говорить, ибо они сами по себе слишком ясны. Наступает век литературных эпигонов. А талантов нет, потому что ни одна историческая эпоха, как бы ни была плодотворна, ни один народ не может производить гениев непрерывно. Но явись в наши дни новая сила, равная прежним, и не было бы речи ни о каком литературном упадке».
Прежде всего я должен разграничить литературу от поэзии. Я заранее готов согласиться, что в сущности это вопрос иногда сливающихся оттенков и почти неуловимых степеней, но для моей задачи они имеют большое значение. Поэзия — сила первобытная и вечная, стихийная, непроизвольный и непосредственный дар Божий. Люди над нею почти не властны, как над бесцельными и прекрасными явлениями природы, над восходом и закатом светил, над затишьем и бурями океана. Поэтические откровения доступны и ребенку, и дикарю, и Гёте, и лодочнику, напевающему октавы Тассо[1099], и Гомеру. Поэт может быть великим в полном одиночестве. Сила вдохновения не должна зависеть от того, внимает ли певцу человечество, или двое, трое, или даже никто.
Литература зиждется на стихийных силах поэзии так же, как мировая культура — на первобытных силах природы. Песни божественного слепого старика, который бродил по прибрежьям Ионии среди воинственных племен Эллады, конечно, не могли быть литературной силой. Но вот через несколько столетий в Афинах, в эпоху Перикла, в среде великих греческих писателей и философов Гомер приобретает совершенно новое, не только поэтическое, но и литературное значение. Гомер становится родоначальником целой школы художников и писателей. Едва ли не каждая строчка греческой литературы отмечена неизгладимой печатью его гения. Вы до сих пор чувствуете дух Гомера в какой‑нибудь полустертой надписи на могильном мраморе, как и в диалогах Платона, и в шутках Аристофана, и в походном дневнике Ксенофонта, и в нежных, как мрамор Парфенона, подобных самым чистым христианским гимнам лирических хорах Софокла. Дух Гомера — ненарушимая литературная связь между всеми отдельными поэтическими явлениями Греции, как бы они ни были различны по своим индивидуальным чертам. Много веков спустя, уже в окаменелой Византии, в мрачный полумонашеский век Феодосия Великого, среди глубокого литературного упадка все еще веет живучее, ничем не истребимое благоухание древних ионических рапсодий в любовной идиллии Лонгуса «Дафнис и Хлоя». Великая литература до последнего вздоха осталась верной своему родоначальнику. В поэтической прозе Лонгуса слышатся иногда как будто последние отзвуки древнего гекзаметра «Одиссеи», как отдаленный гул ионических волн.
В сущности литература та же поэзия, но только рассматриваемая не с точки зрения индивидуального творчества отдельных художников, а как сила, движущая целые поколения, целые народы по известному культурному пути, как преемственность поэтических явлений, передаваемых из века в век и объединенных великим историческим началом.
Всякое литературное течение так же порождается поэзией, как известная школа живописи, известный стиль — архитектурой.
Подобные таланты, как например Гирландайо или Вероккио, — художники, подготовившие расцвет флорентийской живописи, могли возникнуть и в другой стране, и в другую эпоху. Но нигде в мире они не имели бы того поразительного значения, как именно на этом маленьком клочке земли, у подошвы Сан–Миньято на берегах мутно–зеленого Арно. Здесь, и только здесь, у Гирландайо мог явиться такой ученик, как Буонарроти, у Вероккио — Леонардо да Винчи. Нужна была именно эта атмосфера флорентийских мастерских, воздух, насыщенный запахом красок и мраморной пыли, для того чтобы распустились редкие, дотоле невиданные цветы человеческого гения. Как будто, в самом деле, свободный, мрачный и пламенный дух неукротимого народа долго томился в своей немоте, бродил, искал воплощения и не мог найти. Он едва–едва брезжит, как мысль сквозь тяжелый полусон, как бледная полоска в утренних лучах, в задумчивых, больших глазах еще иконописных, полувизантийских мадонн Чимабуэ, он проясняется в мощном реализме Джиотто, сияет уже ярким светом у Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется в религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдруг, наконец, как молния из тучи, вырваться с ослепительным блеском и все озарить в титаническом Микеланджело и загадочном Леонардо да Винчи. Какое торжество для народа! Отныне флорентийский дух нашел себе полное выражение, неистребимую форму. Вокруг него могут происходить всевозможные перевороты, все может рушиться: Флоренция Возрождения сама себя нашла, она есть, она — бессмертна, как Афины Перикла, как Рим Августа. Я узнаю мощный резец Донателло в отчеканенных, с их металлическим звуком, терцинах Аллигиери[1100]. На всем печать мрачного, свободного и неукротимого духа флорентийского. Он чувствуется в самых ничтожных подробностях архитектуры — вот в этих несравненно прекрасных чугунных грифонах, которые вбиты в камень на уличных перекрестках по углам палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Так, в двустишии греческой эпиграммы я узнаю дух Гомера, в ничтожном обломке мрамора, наполовину скрытом мохом и землею, — стиль ионической колонны.
На всех созданиях истинно–великих культур, как на монетах, отчеканен лик одного властелина. Этот властелин — гений народа.
В наши дни нечто подобное, хотя в меньших размерах, повторяется в преемственности литературных школ Франции. В эпоху романтизма, в атмосфере всеобщего экстаза, в ожесточенных спорах, в оригинальных кружках Латинского квартала — был какой‑то трепет жизни, какое‑то творческое дуновение, несомненно, плодотворное для всей последующей культурной жизни Франции. Впоследствии реакция против романтической лжи довела литературу до нелепых крайностей грубого, жестокого и теперь в свою очередь мертвеющего натурализма. И вот мы уже присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом. Теперь на берегах Сены тот же воздух, какой был за пятьсот лет на берегах Арно. Стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились здесь в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно–историческим началом.
Мы видим повсюду и во все века — в современном Париже, как во Флоренции XV века и в Афинах Перикла, и в Веймарском кружке Гёте, и в Англии в Эпоху Елизаветы, — мы видим, что нужна известная атмосфера, для того чтобы глубочайшие стороны гения могли вполне проявиться. Между писателями с различными, иногда противоположными темпераментами устанавливаются, как между противоположными полюсами, особые умственные течения, особый воздух, насыщенный творческими веяниями, и только в этой грозовой, благодатной атмосфере гения вспыхивает та внезапная искра, та всеозаряющая молния народного сознания, которой люди ждут и не могут иногда дождаться в продолжение целых веков. Литература — своего рода церковь. Гений народа говорит верующим в него: «Где двое или трое собрались во имя мое, там я среди них»[1101]. Человек только среди подобных себе становится воистину человеком. Помните наивный символический рассказ из «Деяний Апостолов»:
«…Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (гл. II, 1—3).
Несомненно, что в России были истинно великие поэтические явления. Но вот вопрос: была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?
Иногда у самого Пушкина вырываются жалобы на одиночество. В письмах он признается, что русский поэт ровно ничего не знает о судьбе своих произведений: он работает в пустыне. Великий писатель доходит до такого отчаяния, что готов проклясть землю, в которой родился: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом» (1836 года, 18 мая, из Москвы в Петербург — жене). Он был так же одинок в цыганском таборе, в глубине бессарабских степей, как и в ледяных кружках великосветского Петербурга, как и в литературной атмосфере Греча и Булгарина. Такое же одиночество — судьба Гоголя. Всю жизнь сатирик боролся за право смеяться. Изнуряющее, губительное чувство напрасной любви к родине было у Гоголя еще сильнее, чем у Пушкина. Оно нарушило навеки его внутреннее равновесие, довело до безумия. Лермонтов — уже вполне стихийное явление. Этот сильный человек, в котором было столько напоминающего истинных героев, избранников судьбы, стыдился названия русского литератора как чего‑то унизительного и карикатурного. Он вспыхнул и погас неожиданным таинственным метеором, прилетевшим из неведомой первобытной глубины народного духа и почти мгновенно в ней потонувшим.
Во втором поколении русских писателей чувство беспомощного одиночества не только не уменьшается, а, скорее, возрастает. Творец Обломова всю жизнь оставался каким‑то литературным отшельником, нелюдимым и недоступным. Достоевский, произносящий пламенную речь о всечеловеческой примиряющей терпимости русского народа на пушкинских празднествах[1102], пишет на одного из величайших русских поэтов и самых законных наследников Пушкина, вдохновляемый ненавистью к западникам, карикатуру Кармазинова в «Бесах»[1103]. Некрасов, Щедрин и весь собранный ими кружок питает непримиримую и, заметьте, опять‑таки не личную, а бескорыстную гражданскую ненависть к «жестокому таланту»[1104], к Достоевскому. Тургенев, по собственному признанию, чувствует инстинктивное, даже физиологическое отвращение к поэзии Некрасова. О печальной и столь характерной для русской литературы вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи.
Может быть, раз в сорок лет сходятся два, три русских писателя, но не пред лицом всего народа, а где‑то в уголку, в тайне, во мраке, на одно мгновение, чтобы потом разойтись навеки. Так сошлись Пушкин и Гоголь. Мимолетная случайная встреча в пустыне! Потом был кружок Белинского. Там впервые начали понимать Пушкина, там приветствовали Тургенева, Гончарова и Достоевского. Но одно враждебное дуновение — и все распадается, и остается только полузабытая легенда. Нет, никогда еще в продолжение целого столетия русские писатели не «пребывали единодушно вместе». Священный огонь Народного Сознания, тот разделяющийся пламенный язык, о котором сказано в «Деяниях», ищет избранников, даже на одно мгновение вспыхивает, но тотчас же потухает. Русская жизнь не бережет его. Все эти эфемерные кружки были слишком непрочны, чтобы в них произошло то великое историческое чудо, которое можно назвать сошествием народного духа на литературу. По–видимому, русский писатель примирился со своею участью: до сих пор он живет и умирает в полном одиночестве.
Я понимаю связь между Некрасовым и Щедриным. Но какая связь между Майковым и Некрасовым? Критика об этом безмолвствует или же уверяет с нетерпимостью, что связи никакой нет и быть не может, что Некрасов и Майков взаимно друг друга отрицают. Бок о бок, в одном городе, среди тех же внешних условий, с почти одинаковым кругом читателей — каждая литературная группа живет особою жизнью, как будто на отдельном острове. Есть остров гражданский — Некрасова и «Отечественных записок». От него отделен непроходимыми безднами, яростными литературными пучинами поэтический остров независимых эстетиков — Майкова, Фета, Полонского. Между островами — из рода в род — вражда убийственная, доходящая до кровомщения. Горе несчастному поэту–мечтателю, если он попадет на прибрежье гражданского острова! У наших критиков царствуют нравы настоящих людоедов. Русские рецензенты шестидесятых годов, как дикари–островитяне, о которых рассказывают путешественники, пожирали ни в чем в сущности не виновного Фета или Полонского на страницах «Отечественных записок». Но не такой же ли кровавой местью отплатили впоследствии гражданским поэтам и беспечные обитатели поэтического острова? Между Некрасовым и Майковым так же, как между западником Тургеневым и народным мистиком Достоевским, между Тургеневым и Толстым не было той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурного воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливают друг друга и возбуждают к деятельности.
Так называемые русские кружки — еще хуже русского одиночества: второе горше первого. Тургенев недаром ненавидел их. Для примера стоит указать на славянофильство. Это настоящий московский приход, не живое, свободное взаимодействие искренних и талантливых людей, а какой‑то литературный угол, где, как во всех подобных углах, тесно, душно и темно.
Соединение оригинальных и глубоких талантов в России за последние полвека делает еще более поразительным отсутствие русской литературы, достойной великой русской поэзии. До сих пор с чисто национальной славянской иронией русские писатели имеют право сказать друг другу: поэзия наша велика и могуча, но ни литературной преемственности, ни свободного взаимодействия в ней нет. Вот почему завтра же у нас может явиться новый романист, равный Тургеневу, новый поэт, равный Лермонтову, и написать гениальное произведение, — все‑таки великой, имеющей всемирное значение, русской литературы он не создаст. И тотчас же после его смерти наступит такой же упадок, такое же варварское и непонятное одичание, какое мы теперь переживаем. Дальше идти некуда. Напрасно близорукие рецензенты так горько плачут об отсутствии талантов. Во всяком случае, это явление — стихийное и временное. По–видимому, стоило бы только подождать, и с первым талантом литература возродилась бы. Но горе в том, что кризис, переживаемый нами, неизмеримо глубже и болезненнее. Он сводится к вопросу: быть или не быть в России великой литературе, то есть воплощению великого народного сознания.
Будущий историк русской литературы, минуя многое, что теперь волнует и пленяет умы, остановится с немалым удивлением перед многозначительным образом одного из царей поэзии, увенчанных всемирною славой, Л. Толстого, в крестьянской одежде идущего за сохой, как он изображен на известной картине Репина[1105]. Что бы там ни говорили о тщеславии, как бы ни смеялись и ни спорили, фигура эта возвышается в XIX веке и невольно приковывает внимание. Мне кажется, что в мятежном восстании русского поэта против того, перед чем лучшие люди Европы — олимпиец Гёте так же, как демонический Байрон, — преклонялись с трепетом и благоговением, много искреннего, к сожалению, может быть, слишком много искреннего. Толстой обнаружил в резкой наготе то, что и прежде сквозило в жизни и произведениях наших писателей. Это их сила, оригинальность и вместе с тем слабость.
В Пушкине, почерпнувшем, быть может, самое смелое из своих вдохновений в диком цыганском таборе, в Гоголе, с его мистическим бредом, в презрении Лермонтова к людям, к современной цивилизации, в его всепоглощающей буддийской любви к природе, в болезненно гордой мечте Достоевского о роли Мессии, назначенной Богом русскому смиренному народу, грядущему исправить все, что сделала Европа, — во всех этих писателях то же стихийное начало, как у Толстого: бегство от культуры.
Теперь сравните с Толстым, идущим в лаптях за сохой, образ представителя всемирно–исторической культуры — Гёте. В Веймарском доме, похожем на дворец или музей, среди сокровищ искусства и науки — божественный старец, тот, пред кем создатель Манфреда склонялся как ученик, как «ленный вассал»! Разве Гёте не был удручен тою же самою мировою скорбью, которая в тридцать лет сожгла титана Байрона, довела его до отчаяния и самоубийства развратом? И все же Гёте среди такой скорби умел жить и радоваться жизни! Каким юношеским восторгом вспыхивал в 80 лет орлиный взгляд его, когда он слышал о новом открытии, подтверждавшем теорию цветов или биологическую эволюцию. Не было такого культурного явления во всех веках, у всех народов, с которым не пришел бы в соприкосновение его всеобъемлющий ум, на которое не ответило бы его многозвучное сердце.
И заметьте, что стихийной творческой силы у Гёте во всяком случае не меньше, чем у стихийных поэтов России. Этот олимпиец сам часто говорил о том темном, ночном, недоступном разуму, «демоническом», как он любил выражаться (от слова 5а1(ШЮ — божество), с чем он боролся и что управляло всей его жизнью. Представителя культуры, разумного Гёте, пишущего тихие лукрециевы гекзаметры о подборе животных и растений, вы не узнаете, читая проклятия Фауста. Ничего подобного по стихийной силе нет у самого разрушителя Байрона. Наука приблизила Гёте к природе, еще более обнажила перед ним ее божественную тайну.
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна[1106].
Он не боялся, что наука и культура отдалят его от природы, от земли, от родины, он знал, что высшая степень культуры вместе с тем высшая степень народности.
Гёте — лучший тип истинно великого не только поэта, но и литератора. Толстой, великий поэт, никогда не был литератором. В своих автобиографических признаниях Толстой неоднократно высказывает, по–видимому, искреннее и тем более плачевное презрение к собственным созданиям. Это презрение невольно пробуждает горькое раздумие о судьбе русской литературы. Если уж один из величайших наших поэтов так мало признает культурное значение поэзии, чего же ждать от других? Нет, Гёте не презирал того, что создал. Такое отношение, как у Толстого, к собственным творениям показалось бы ему святотатством. Вот бездна, отделяющая поэзию от литературы. В сущности это та же самая бездна, которая отделяет стихийное от человеческого. Сколько бы еще у нас ни было гениальных писателей, но пока у России не будет своей литературы, у нее не будет и своего Гёте, представителя народного духа. Стихийный богатырь, герой древнерусских былин не подымет маленькой «переметной сумочки», в которой заключена тяжесть мира, бремя земли.
Слезает Святогор с добра коня,
Ухватил он сумочку обема рукама,
Поднял сумочку повыше колен:
И по колено Святогор в земле угряз,
А по белу лицу — не слезы, а кровь течет…[1107]
Тяжесть мира не может поднять один народ, как бы он ни был силен. Древний богатырь все глубже и глубже будет уходить в землю, удрученный стихийной силой, если, наконец, не признает, что есть и другая высшая сила, кроме той, в которую он до сих пор верил.
Когда думаешь о настроении тех, кто теперь читает и пишет в России, перед глазами невольно встает знакомый великорусский пейзаж. Местность где‑нибудь в средних губерниях, около полотна железной дороги. Скудная природа, истощенная не менее скудной цивилизацией. Болота с торфяными кочками и пнями, остатками вырубленного леса, обмелевшая, унылая речонка. На косогоре — несколько серых домиков; самый большой с надписью — «Трактир». На рельсах — пьяные мастеровые в городских поддевках, с гармониками и нелепыми песнями. Вдали фабричная труба. И надо всем — холодный, резкий, как будто мертвый, день, скучное северное небо:
Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди‑ка ты сюда, присядь‑ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Взгляни, какой здесь вид…[1108]
Откройте наудачу современный «толстый» журнал или газету, вы встретите то же настроение, тот же мертвый колорит, ту же скуку, ту же печать уродливой, полуварварской цивилизации и ту же унылую, безнадежную плоскость.
Помню, я испытал с обидной горечью и ясностью эту в сущности давнишнюю, родную, уже Пушкиным описанную скуку, возвращаясь из‑за границы, из Парижа. Без всяких политических и философских соображений, просто в бульварах, в толпе, в театрах, в рекламах, выставках, кафе, в этом непрерывном ропоте человеческого океана — чувствуется, что там есть жизнь.
Нигде, даже в России, не царствует такая скука, как в литературных кружках. Опять‑таки, без всяких высших философских и политических соображений, просто кажется, что здесь нет жизни. Когда сразу из европейского воздуха, из атмосферы напряженной деятельности и мысли перенесешься в один из этих притонов скуки, в одну из несчастных петербургских редакций, с каким горьким недоумением слушаешь унылые разговоры унылых сотрудников. Если редакция легкомысленная, кажется, что попал в подозрительную справочную контору; если редакция серьезная, чувствуешь себя в канцелярии среди чиновников.
Я помню литературный кружок одного молодого журнала, подававшего большие надежды. Там собирались писательницы–дамы и только что прогремевшие беллетристы, и люди почтенного старого времени, талантливые и умные. Тем не менее скука царствовала неодолимая. Все только притворялись, что делают серьезное, кому‑то нужное дело, а в душе томились. Однажды принесли в редакцию простую детскую игрушку, бумажную муху. Надо было заводить пружинку, и муха, треща крыльями, летала по комнате. Как все были довольны, как хохотали и забавлялись!.. Угрюмые лица просветлели, и дамы хлопали в ладоши. С тех пор прошло лет шесть, но я помню очень ясно эту маленькую бытовую сценку, не лишенную местного колорита.
В последнем из своих стихотворений в прозе Тургенев говорит:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома! — Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу»[1109].
Три главные разлагающие силы вызывают упадок языка. Первая из них критика. Еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный прием. Надо отдать ему справедливость, этот сжатый, несколько надменный, как речи Базарова, но увлекательно сильный язык был отлично приспособленное разрушительное орудие в его руках. Писарев ослепил все поколение русских рецензентов 60–х годов. В критическом отделе «Отечественных записок» считалось непринятым писать другим языком. Но, как и всегда, подражатели взяли только внешние стороны оригинала. Силу они превратили в грубость, иронию — в оскорбительную фамильярность с читателем, простоту — в презрение к самым необходимым приличиям. Ничто так не развращает первоначально искреннего и всегда серьезного языка народа, как эта литературная бойкость дурного тона.
Другая сила, разрушительно влияющая на литературную речь, та особенная сатирическая манера, которую Салтыков называл «рабьим эзоповским языком»[1110]. У него стиль этот хорош, полон смертельного яда, тайного мщения и своеобразной, если можно так выразиться, злобной красоты. Салтыков владел духом народной речи. Но во что превратили эзоповский язык все бесчисленные, либеральные и консервативные (ибо и такие были) подражатели Салтыкова, критики из мелкой прессы и «Будильника»[1111], фельетонисты, обличительные корреспонденты. Насильственное и тяжелое остроумие, хитрые намеки, ужимки, сатирические гримасы — все это вошло в плоть и кровь газетного жаргона. Рабий язык может быть оправдан только высочайшим внутренним благородством и отвагою сатиры; иначе он бесцелен и противен. Ясность, простота речи становятся все более и более редкими достоинствами.
Попробуйте отложить наши современные журналы, читайте долгое время только иностранные книги и русских великих писателей прошлого поколения, потом сразу откройте свежий номер современной газеты, вы будете поражены, вас охватит испорченная атмосфера, уродливые неологизмы, одичание и пошлость языка, особенно в мелкой прессе: как будто с вольного воздуха вы войдете в комнату, где сильный дурной запах. Так же, как во Франции XVII века придворная риторика и напыщенность, в Германии XVIII века перед появлением Вертера — мещанская сентиментальность и слащавость, теперь в России портят живую народную речь эта мнимосатирическая манера, напряженное остроумие и распущенность, пренебрежение к стилю, литературная развязность дурного тона.
Третья и едва ли не самая главная причина падения языка — возрастающее невежество. Столь часто оплакиваемое вторжение в литературу демократической богемы было бы менее опасным, если бы у нас, как например во Франции, существовало крепкое зерно литературных традиций. Но такого зерна нет. Будущий историк русской журналистики соберет много печальных современных анекдотов, рисующих это понижение уровня образованности. В одной большой петербургской газете я прочел известие о том, что знаменитая драма Генриха Ибсена «Нора» в первый раз была поставлена с большим успехом — о ужас! — в Веймарском театре, когда им управлял Гёте! В другой газете перевели имя французского поэта Леконта де Лиля — граф де Лиль[1112]. Таких курьезов множество.
Полное незнание иногда лучше неполного знания. Пушкин уверял, что можно поучиться хорошему русскому языку у московских просвирен[1113]. Люди вполне чуждые образованности, сохранившие, однако, связь с народом, владеют чистым, даже красивым языком. Но в среде полуневежественной, полуобразованной, уже оторванной от народа и еще не достигшей культуры, именно в той среде, из которой выходят все литературные ремесленники, вся демократическая газетная богема, язык мертвеет и разлагается.
Другая причина упадка литературы — система гонораров.
Т. Карлейль говорит, что в современной Европе, среди небывалого торжества строя, единственными представителями вечного протеста против силы денег, идеального нищенства, по его выражению, могли бы сделаться только писатели[1114]. Нищим был некогда Данте в Италии, потом Самуэль Бен Джонсон — в Англии, Жан–Жак Руссо — во Франции, Эдгар Поэ — в Америке. Отчасти такой же тип был и в России — В. Белинский. Никакие вознаграждения, никакие литературные капиталы, миллионные гонорары порнографических писателей и опереточных либреттистов до сих пор не могут ни в толпе, ни в самих авторах уничтожить благоговения к бескорыстию литературного труда. В этом глубокий, трогательный смысл. Люди простые, совсем далекие от литературы, еще не узнавшие продажности вдохновения, смотрят на художника, на журналиста, на поэта, может быть, вовсе и не достойного такого уважения, как на избранника, как на человека, пришедшего из царства идеала. Точно так, несмотря на все вопиющие злоупотребления церкви, простые люди средних веков смотрели на священников и монахов. Когда вера в бескорыстие представителей церкви окончательно исчезла, средневековое общество рушилось, ибо только на вере в какой‑нибудь бескорыстный принцип зиждется всякое общество. Когда современная публика вполне проникнет в грубую симонию литературного рынка и окончательно потеряет наивную веру в бескорыстие своих духовных вождей, своих писателей, литература потеряет нравственный смысл, как некогда средневековая церковь.
В сущности каждый писатель отдает свое произведение публике — даром. Созидание на земле даже малейшей доли красоты — такой нравственный подвиг, такое благодеяние людям, что оно несоизмеримо ни с какими денежными наградами. И толпа это знает. На земле художники, ученые и поэты до сих пор в слишком практичный век — последние непрактичные люди, последние мечтатели, несмотря на все гонорары. Среди торжества буржуазно–промышленных и капиталистических идеалов жив суровый идеал царственного нищего, каким был Аллигиери, бродивший без приюта из города в город и признававшийся, что не сладок ему хлеб изгнания, хлеб чужих людей. Эдгар Поэ умирает, как последний пьяница, как нищий, едва не на большой дороге в самой богатой стране мира[1115], в стране чудовищных гонораров и гигантской журналистики!
Когда гонорар окончательно утрачивает всякий идеальный смысл, когда он перестает быть символом духовного нищенства писателей, знаком неизмеримой благодарности толпы, когда он превращается в повседневную официальную плату за труд, в материальное вознаграждение наемнику толпы, он становится величайшей разрушительной силой, одной из главнейших причин упадка. Система гонораров как промышленных сделок на литературном рынке — орудие, посредством которого публика порабощает своих поденщиков, своих писателей: они же мстят ей тем, что, презирая и угрожая, развращают ее.
Есть два средства овладеть вниманием толпы: во–первых, написать истинно гениальное произведение. Но на это способны один или двое в целом поколении, да и те работают почти всегда бескорыстно. Другое, столь же верное и более легкое: угождать низшим потребностям толпы. И чем ниже потребности, удовлетворяемые книгой, тем обширнее круг читателей, тем быстрее почти волшебное обогащение людей, продавших толпе даже самый крошечный талант. Таким образом, гонорар становится настоящей платой за самый унизительный из родов проституции — платой, посредством которой публика и автор взаимно друг друга развращают. Газеты и журналы становятся огромными базарами с торгово–промышленными сделками, литературными фабриками и заводами с бездушной поденною платой. Мне могут возразить, что всегда и везде так было, что еще в более резких и унизительных формах мы видим зависимость литературы от капитала в Западной Европе.
Во–первых, в России ничего подобного не было даже лет тридцать, сорок тому назад. Пушкин говорит в одном письме к Рылееву: «У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием; мы не хотим быть покровительствуемы равными, — вот чего Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворяНИН».[1116]
Пушкин прав. Он выставляет вполне верно сословное разграничение, которое в продолжение долгого времени защищало русскую литературу от вторжения слишком грубых, рыночных нравов. Но, с тех пор как написаны эти строки, прошло около семидесяти лет. Шестисотлетних дворян в русской литературе становится все меньше и меньше. Аристократический оплот окончательно рушился. И в самом деле, никогда еще русская литература, открытая всем ветрам, преданная всем вторжениям, затоптанная даже не демократической, а просто уличной толпою, не была так беззащитна перед грубым насилием нового, с каждым днем возрастающего денежного варварства, перед властью капитала.
В Западной Европе есть вековая умственная аристократия и этот могущественный культурный оплот более незыблем и прочен, нежели аристократия родовая, дворянство, на которое Пушкин возлагал, кажется, слишком большие надежды. Но такого умственного аристократического оплота, таких великих культурно–исторических преданий, охраняющих Святое святых литературы от вторжения рыночного капитала, к сожалению, у нас в России не было, нет и, Бог знает, сколько времени еще не будет. Вот почему литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было. Какие лица! Какие нравы! И ужасно, что эти лица самые молодые, бодрые, полные надежд… Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзия — самое воздушное и нежное из всех созданий человеческого духа — все более и более предается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!..
Критики наших так называемых «толстых» журналов привыкли относиться к мелкой прессе с высокомерным презрением, даже прямо игнорировать ее существование. Мы иногда перед новым годом с недоумением видим на последней странице газеты пол–аршинные буквы чудовищной рекламы о новом микроскопическом журнале, который сразу предлагает какую‑нибудь поразительную приманку, например неизданное произведение Гоголя, а рядом с Гоголем — новейший стенной календарь. Из объявления явствует, что редактор возлагает столько надежд на стенной календарь, как и на Гоголя.
Проходит некоторое время. Все забывают даже о существовании нового журнала. В литературных кружках не знают его имени; и вдруг через несколько лет оказывается, что он обладает двумя–тремястами тысячами подписчиков. Никто не мог бы объяснить, откуда и на какую приманку они явились. Во всяком случае, 200, 300 тысяч русских читающих людей, хотя бы из самой демократической, даже неинтеллигентной среды, достойны некоторого внимания и серьезной журнальной критики. Мелкая пресса и журналы с иллюстрациями при быстро возрастающей потребности в чтении могли бы сделаться огромной и благодатной культурною силой. Высокомерное пренебрежение критиков и читателей толстых журналов не мешает, а, напротив, помогает ловким литературным промышленникам десятками лет ежедневно отравлять 200, 300 тысяч человек, хотя бы и «малых сих»[1117], художественным безвкусием и невежеством, дешевыми олеографиями и пошлыми бульварными романами. У этих маленьких, уличных изданий ужасающая плодовитость низших организмов. Каждое из них отдельно — ничто, но все вместе — они страшная сила. Уже и теперь иногда слишком трудно провести пограничную черту, ясно определить, где кончается мелкая пресса и начинаются «серьезные» газеты и «толстые» журналы. В «мелкой прессе», в этой необъятной литературе, как в капле разлагающейся воды под сильным микроскопом, вы можете найти зародыш всех болезней, всех пороков, всех нравственных гниений.
И какое все это живое, какое быстрое, радостное и до ужаса маленькое: они мгновенно друг друга проглатывают, мгновенно возрождаются. За тысячами — новые тысячи! Бессознательно, глухо и слепо творят они дело литературного разложения — бесчисленные и неуловимые!
До сих пор в России книга не имела почти никакой самостоятельной жизни, находясь в полной зависимости от периодических изданий. Если у автора нет привлекательности и славы всепобеждающей, если он хочет, чтобы произведение заметили интеллигентные русские люди и литературные кружки, он не пойдет в мелкую прессу — и поневоле должен обратиться к одному из пяти–шести редакторов толстых журналов. В Западной Европе книга получила значение, равное газетам и журналам, или даже большее, и это, конечно, ко благу литературы, потому что книга дает беспредельную свободу оригинальности. Каждый самостоятельный талант не может не чувствовать справедливого негодования на малейшее вмешательство своего хозяина, редактора, осторожного и рассудительного педагога невзрослой публики. Каждый оригинальный писатель говорит с толпою как «власть имеющий»[1118], а редактор — как служитель толпы, если только он сам не истинный талант, не художник, не ученый, хоть раз в жизни создавший что‑нибудь новое и живое. Но вот беда: между пятью–шестью редакторами современных русских журналов нет ни одного литератора или ученого по призванию, с прирожденным, а не симулированным художественным или научным пониманием. Все это люди образованные, бескорыстные, достойные глубокого уважения, но в своих литературных вкусах — неизлечимые моралисты и боязливые педагоги невзрослой толпы. У них нет даже той свободы и смелости в границах определенной партии, какая была, например у Некрасова или Щедрина. Найдут ли они новый талант, тотчас же их редакторскому робкому сердцу хочется потихоньку, не суровостью, а, так сказать, отеческой лаской, педагогическим влиянием втолкнуть живую, непокорную оригинальность в свои старенькие, излюбленные рамочки, чтобы было, пожалуй, и оригинально, но главное поприличнее, поаккуратнее и побледнее.
Я слышал от одного литератора следующее, довольно верное сравнение: наши писатели еще не решаются выступать перед публикой в самостоятельных книгах, в одиночку. Чтобы не погибнуть в современной литературной пустыне, они должны собираться в журналы, в караваны и путешествовать вместе. В таком караване есть вождь — редактор, и вьючные животные — тяжеловесные компиляторы, и отважные застрельщики — рецензенты. Путешественники рассказывают, что караваны в Сахаре обыкновенно берут с собою в путь труп какого‑нибудь животного, который бросают ночью хищным зверям, чтобы предупредить их нападение. Такой труп в наших современных журналах — неизбежный скучнейший и длиннейший роман.
А русский читатель в самом деле — сила темная, стихийная, неожиданно прихотливая. Редактор чувствует под собой эту зыбкую некультурную почву и не доверяет ей. Как у всех ценителей с трусливым банальным вкусом, порабощенным толпе, заветный идеал его — внешняя литературная благопристойность. Пусть холодно, как лед, но зато строжайший этикет соблюден, пусть мертво, но зато в каждом буржуазно–аристократическом салоне Петербурга можно смело читать вслух. До какого педантизма иногда доходит эта забота о внешней корректности при внутреннем безвкусии, видно из следующего характерного анекдота, невероятного и, однако, вполне достоверного.
Писатель отдает в редакцию серьезного журнала перевод одной греческой трагедии. После внимательного чтения редактор объявляет:
— Печатать невозможно.
— Почему же?
— Вот видите ли… Трагедия Эсхила — это, так сказать, слишком яркий классический иветок на тусклом поле современной русской беллетристики.
— Но тем лучше, что яркий…
— Я ведь сказал — слишком яркий классический цветок — перевод с греческого.
— Что же из того, что с греческого?
— Помилуйте, мы в общественной хронике все время боремся против классической системы воспитания, и вдруг целая трагедия Эсхила.
В сущности — рыночная система гонораров, капиталисты–издатели, бескорыстные, но лишенные художественного чутья редакторы — все это силы только внешние, и, как ни пагубно их влияние на литературу, оно не может сравниться с действием внутренних разрушительных сил, из которых едва не главная — критика.
И. Тэн сделал первую попытку применения строгого научного метода к искусству[1119]. Но область эстетической психологии слишком мало разработана, чтобы считать эту попытку завершенной.
Во всяком случае, деятельность в том же направлении, то есть исследование законов творчества, его отношений к законам психологии и социальных наук, взаимодействия художника и культурно–исторической среды могут быть в будущем весьма плодотворны.
Другой не менее значительный и гораздо более разработанный метод — субъективно–художественный. Во всех лучших критических исследованиях Сен–Бева, Гердера, Брандеса, Лессинга, Карлейля, Белинского вы найдете страницы, в которых критик превращается в самостоятельного поэта.
Таким образом, возник почти неведомый до наших времен и все более развивающийся род художественного творчества. В своих разрозненных заметках об искусстве и всемирной литературе, в эпиграммах и ксениях Гёте, отчасти Шиллер дали первые образцы критической поэзии. Для субъективно–художественного критика мир искусства играет ту же роль, как для художника — мир действительный. Книги — живые люди. Он их любит и ненавидит, ими живет и от них умирает, ими наслаждается и страдает. То, что этот род поэзии теряет в яркости и реальной силе, он выигрывает в бесконечном благородстве и нежности оттенков. Некоторые страницы Карлейля и Ренана ничем не уступают лучшим произведениям Теннисона или Гюго по глубине и оригинальности вдохновения.
Поэт–критик отражает не красоту реальных предметов, а красоту поэтических образов, отразивших эти предметы. Это — поэзия поэзии, быть может, бледная, призрачная, бескровная, но зато неизвестная еще ни одному из прежних веков, новая, плоть от плоти наша — поэзия мысли, порождение XIX века с его безграничной свободою духа и неутолимою скорбью познания. В отражении красоты может быть неведомое, таинственное обаяние, которого вы не найдете даже в самой красоте: так в слабом, отраженном свете луны есть обаяние, которого нет в источнике лунного света, в могущественных лучах солнца.
Субъективно–художественный метод критики кроме поэтического может иметь и большое научное значение. Тайна творчества, тайна гения иногда более доступна поэту–критику, чем объективно–научному исследователю. Случайная заметка о прочитанной книге в письмах, в дневниках Байрона, Стендаля, Флобера, Пушкина одним намеком обнаруживает большую психологическую глубину и проникновение, чем добросовестнейшие статьи профессиональных критиков. Если художник читает произведение другого художника, происходит психологический опыт, который соответствует тому эксперименту в научных лабораториях, когда исследуется химическая реакция одного тела на другое.
Русская критика, за исключением лучших статей Белинского, Ап. Григорьева, Страхова, отдельных очерков Тургенева, Гончарова и Достоевского, гениальных заметок, разбросанных в письмах Пушкина, всегда являлась силой противонаучной и противохудожественной. Горе в том, что наши критики не были ни настоящими учеными, ни настоящими поэтами. Но у прошлого поколения — у Добролюбова и Писарева — публицистика все‑таки прикрывалась стремлениями философскими и научными.
Один из их воинственных эпигонов, современный тип русского журнального рецензента, г. Протопопов, заявляет уже вполне открыто, что критик должен быть публицистом, и только публицистом.
У г. Протопопова есть так называемое «бойкое перо», остроумие и политический темперамент газетного работника по призванию. Если бы он родился во Франции, он мог бы сделаться редактором распространенного уличного листка для рабочих, писать каждый день популярные статьи с громкими заглавиями, как Рошфор в «L’intransigeant»[1120], и, кто знает, принимать бы даже благодарственные депутации фабричных пролетариев. Но в русской современной журналистике ему ничего более не оставалось, как сделаться критиком–публицистом. Мечта таких людей — превратить литературу в комфортабельную маленькую кафедру для газетно–журнальной проповеди. Когда живая оригинальность таланта не покоряется им и не хочет служить пьедесталом политического оратора, г. Протопопов негодует и казнит ее. Он не объясняет, а попирает личность автора как ступень, чтобы удобнее взобраться на свою кафедру.
Конечно, публицистика — почтенное газетное ремесло. Для некультурной и невзрослой толпы необходима популяризация даже самых основных нравственных идей. Но сводить ту необъятную силу мировых гениев, которая создает «Страшный суд», «Фауста» или «Тайную Вечерю» на уровень второстепенного газетно–журнального ремесла, публицистики — это даже не преступление, это наше старинное и — увы! — глубоко национальное, доныне среди массы читателей популярное невежество.
Г. Протопопова так же, как многих его собратьев, тревожит схоластический вопрос: искусство для жизни или жизнь для искусства? Такой вопрос для живого человека, для искреннего поэта не существует: кто любит красоту, тот знает, что поэзия — не случайная надстройка, не внешний придаток, а самое дыхание, сердце жизни, то, без чего жизнь делается страшнее смерти. Конечно, искусство — для жизни и, конечно, жизнь — для искусства. Одно без другого невозможно. Отнимите у жизни красоту, знание, справедливость, — что же останется? Отнимите жизнь у искусства и это будет, по евангельскому выражению, соль, переставшая быть соленой[1121]. Непраздные люди, непраздные художники никогда не спорили о таких вопросах, они всегда друг друга понимали с первого слова, всегда друг с другом были согласны, в каких бы разных, даже противоположных областях ни работали. То же самое, великое и несказанное, что Гёте называет красотой, Марк Аврелий называл справедливостью, Франциск Ассизский и св. Тереза — любовью к Богу, Руссо и Байрон — человеческою свободою. Для живых людей все это единое, лучи одного солнца, проявления одного начала, как свет, теплота, движение в мире физическом видоизменения одной силы. Вопрос: жизнь для красоты или красота для жизни — существует только для мертвых людей, для газетно–журнальных схоластиков, которые не испытали «живой жизни» и не познали живой красоты.
А между тем вся ожесточенная полемика, вся многолетняя деятельность таких публицистов, как г. Протопопов, вертится около этого мертвого вопроса. Печальнее всего то, что у них до сих пор довольно обширный круг читателей и поклонников. Длится наше старое плачевное недоразумение, иконоборческое недоверие к свободному чувству красоты, боязливое требование от искусства подчинения рамкам педагогической морали.
У г. Скабичевского, другого представителя нашей современной критики, меньше полемической бойкости и остроумия, чем у г. Протопопова, но зато больше искреннего и добросовестного отношения к писателям. Он собрал и подготовил будущему историку русской литературы много интересных материалов. Его очерки из истории русской цензуры[1122] многозначительны. Но, будучи даровитым летописцем литературных нравов, г. Скабичевский менее всего по своему темпераменту художественный критик. В его воззрениях на искусство есть та черта убийственной банальности, порабощения общепризнанным вкусам толпы, которую легче отметить, чем выразить и определить.
Однажды на Передвижной выставке я видел картину известного русского художника приблизительно следующего содержания: пьяница, должно быть мастеровой, с угрожающим видом и поднятыми кулаками стоит на пороге кабака. Он хочет войти, но женщина с растрепанными волосами и неестественно трагическим лицом, вероятно, жена мастерового, не пускает мужа. Дико забросив голову и раскинув, как непременно сказал бы Потапенко или Златовратский, «бледные, изможденные руки», она всем телом своим закрывает дверь кабака. К довершению условного трагизма за лохмотья несчастной матери цепляется испуганный ребенок и умоляющим взором смотрит на жестокосердного отца[1123]. Картина была прескверно написана, с пренебрежением к технике, какими‑то мертвыми, деревянными красками. Но публика перед нею останавливалась: на лицах интеллигентных дам было видно сочувствие. Говорили по–французски о страданиях нашего бедного народа, о пьянстве, объясняли тенденцию художника. Общедоступный, банальный трагизм оказывал свое вечное действие на толпу.
Во всех обществах, во все времена есть люди, — имя им легион, — которых модное фальшивое чувство привлекает так же неизменно и неотразимо, как червяк на удочке привлекает рыбу. Я уверен, что, если бы среди публики перед картиной находился г. Скабичевский, чувствительное сердце почтенного критика так же было бы тронуто банальным, условным трагизмом картины, как сердце толпы. У добросовестного и гуманного рецензента явилось бы непреодолимое желание похвалить художника за теплое отношение к народу, за поразительную искренность непосредственного чувства, за трезвость здорового реализма. Не знаю, как у других, но у меня при подобных похвалах является непобедимое озлобление против несомненных добродетелей. У порока по крайней мере то преимущество, что никогда не удручают его таким безвкусием и уродством, как бедную добродетель. О, скука больших дорог! О, вечное умиление толпы перед любезною ей пошлостью популярно–великих идей!
Разве г. Скабичевский не восторгался этим «червяком на удочке», банальностью гуманных чувств и мнимо–народническим реализмом в произведениях г. Потапенко? Напрасно он теперь открещивается и негодует на своего любимца. Г. Потапенко целиком вышел из недр почтенного критика, из неисправимо добродетельного сердца его, как Афина Паллада из головы Зевса. У злополучного беллетриста есть несомненный талант, искренний юмор, некоторое знание народа, но тайна его успеха была не в них. Я уверен, что многие добрые люди плакали искренними слезами над произведениями г. Потапенко и вполне сочувствовали похвалам г. Скабичевского, как отцы их плакали над чувствительными романами 30–х годов. Но именно эти искренние слезы наивных читателей — зловещий признак всеобщего падения вкуса.
Высочайшее нравственное значение искусства вовсе не в трогательных тенденциях, а в бескорыстной неподкупной правдивости художника, в его бесстрашной искренности. Красота образа не может быть неправдивой и потому не может быть безнравственной, только уродство, только пошлость в искусстве — безнравственны. Никакая порнография, никакие соблазнительные картины пороков не развращают так сердца человеческого, как ложь о добре, как банальные гимны добру, как эти горячие слезы наивных читателей над фальшиво гуманными чувствами и буржуазной моралью. Кто привык плакать над ложью, тот проходит с холодным сердцем мимо истины, мимо красоты.
В Апокалипсисе есть одно страшное место: «…Дух говорит Церквам:
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг»[1124]. Эти великие слова кладут неизгладимое клеймо на всякую пошлость, на всякую посредственность чувства, все равно, в религии или в искусстве. Любителям банальных трагических эффектов, подобным г. Скабичевскому и г. Потапенко, проповедникам общепризнанных гуманных идей, ни холода, ни огня, а так называемой «задушевной теплоты чувства», этой ненавистной теплой водицы, которая заменяет искренность в нравоучительных романах, хочется напомнить страшный приговор Апостола: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
Такие люди, как г. Протопопов и г. Скабичевский, совершенно бессознательно творят дело разрушения. Это в сущности — невинные жертвы всеобщей анархии, всеобщего недоразумения. Они продолжают указывать писателям спасительные рамки народнического реализма так же добросовестно, как учителя каллиграфии проводят косые и поперечные линии, чтобы ученикам легче было выводить буквы прописи. Но как бы ужаснулись эти добрые, честные люди, учителя художественного чистописания, если бы вдруг могли понять, какая бездна, какая тайна — искусство и как смешны в безграничной стихийной свободе творчества их маленькие педагогические линейки. Они будут всю жизнь серьезно говорить о вдохновении, о поэзии, хотя никогда не видели красоты, и так и умрут, не увидев ее. Это, может быть, полезные и остроумные публицисты, но в искусстве — люди безнадежно непонимающие, слепорожденные.
У Гёте есть одно прелестное лирическое стихотворение — «Капли нектара». Когда Минерва, угождая своему любимцу Прометею, принесла полную чашу нектара, чтобы осчастливить созданных им людей и наполнить их сердце любовью к прекрасному, богиня торопилась, боялась, что Юпитер увидит ее, и «золотая чаша покачнулась и немного капель упало на зеленую траву». На эти капли набросились насекомые — пчелы, бабочки…
Selbst die ungestalte Spinne Kroch herbei und sog gewaltig[1125].
Даже безобразный паук отведал божественного напитка.
Когда я думаю о том, что природа и таким писателям, как г. Буренин, не отказывает иногда в некотором художественном даровании, мне вспоминается грациозная легенда о насекомых. Впрочем, может быть, он никогда и не вкушал от капли нектара, но по крайней мере слышал издали ее благоухание, он все‑таки ближе к поэзии, чем добрые, честные и безнадежно слепые люди — г. Протопопов и г. Скабичевский.
Вероятно, немногие знают, что у этого теперь ожесточенного газетного насмешника в далекой молодости была способность к почти искреннему лирическому пафосу. Г. Буренин, как оно ни дико и ни странно, написал несколько поэтических любовных элегий. Это что‑нибудь да значит. Во всяком случае, г. Протопопов удобочитаемой элегии не напишет. Надо быть справедливым даже к г. Буренину. На его остроумных пародиях, на литературных памфлетах есть несомненная печать — не скажу, таланта, но того, что в другом человеке, при других условиях могло бы сделаться талантом. У него злой, конечно, низменный, грубый и пошлый, но все‑таки настоящий злой смех. И для памфлетов нужна некоторая доля творчества, хотя бы то было творчество насекомых. Паук плетет свою паутину, потому что он отведал от напитка, предназначенного не паукам, а детям Прометея.
Но всего характернее в многочисленных произведениях г. Буренина, в его повестях, трагедиях, памфлетах, новеллах, романах, пародиях — одна выдающаяся, типическая черта — поразительный недостаток чувства литературной нравственности. Таким он создан, —
Насекомым — сладострастье…
Ангел — Богу предстоит[1126].
С этим ничего не поделаешь. Даже и обвинять его не хватает духу. Надо обвинять ту степень всеобщего литературного унижения, когда и Буренины выдвигаются и приобретают значение. Рассказывают удивительные анекдоты о его недобросовестном отношении к писателям. Все знают, кто он. А между тем о таком человеке приходится говорить почти серьезно как о русском художественном критике; это одно уже — весьма плачевный признак упадка и всеобщего недоразумения. Зародыши гноения носятся всюду, но только там, где должно совершиться дело смерти, они живут и приобретают силу. Литературная безнравственность г. Буренина, который благополучно справил юбилей, чувствует себя на вершине славы, с которым все мало–помалу примирились и которого многие даже боятся, явление очень знаменательное для наших современных газетно–журнальных нравов.
Интересно, что несправедливость г. Буренина в области поэзии влечет за собою совершенно те же последствия, что и безвкусие г. Протопопова или г. Скабичевского. Критика, то есть бескорыстная оценка прекрасного, ни в том, ни в другом случае невозможна. Как только г. Буренин перестает шутить и смеяться, как только хочет говорить серьезно, он делается убийственно скучен, даже скучнее и тяжеловеснее г. Скабичевского. Когда покидает его зависть и злоба, он становится до жалости беспомощен; у него нет своих слов, своих мыслей, и чувствуется, что ему просто нечего сказать.
Мне всегда казалось весьма поучительным, что поэзия одинаково недоступна вполне безвкусным людям, как и вполне несправедливым. Сущность искусства, которую нельзя выразить никакими словами, никакими определениями, не исчерпывается ни красотою, ни нравственностью, — она выше, чем красота, и шире, чем нравственность, она — то начало, из которого равно вытекают и чувство изящного, и чувство справедливого, которое объединяет их в живом человеческом сердце и делает только справедливое прекрасным и только прекрасное — справедливым. Их разделение влечет их упадок.
Но всего печальнее, когда это старческое, преждевременное бессилие, эта язва литературного разложения касается совсем молодых, только что начинающих писателей, как например одного из представителей нового газетно–журнального типа г. Волынского, юного и смелого рецензента «Северного вестника».
Прежде всего я должен признаться, что г. Волынский для меня двойствен. В первом и лучшем г. Волынском я ничего не нахожу, кроме симпатичного. Он недавно издал драгоценную книгу «Письма Бенедикта Спинозы» в превосходном переводе г–жи Л. Гуревич[1127]. Если бы побольше издавалось в России таких книг!.. Наивная биография Колеруса, страшный акт отлучения Спинозы от синагоги — все это переведено г. Волынским с удивительной красотой. В его объяснениях, заметках, редакторских выносках нас увлекает не столько научная добросовестность, как трогательная, благоговейная любовь, почти суеверная преданность учителю. Да, именно такой суеверной, фанатической любовью надо любить великих!.. Почти так же хороши и добросовестны популярные статьи г. Волынского о Канте[1128].
Во всех трудах г. Волынского есть одна характерная черта — не русская, но глубоко симпатичная. В этом пламенном, несколько сухом, но возвышенном мистицизме поклонника великого еврейского философа, в неутолимой ненависти к пошлой стороне позитивизма, в этой национальной, так сказать, прирожденной способности к тончайшим метафизическим абстракциям — сразу чувствуется нравственный и философский темперамент семита. Более всего меня привлекает к таким семитическим темпераментам неподдельная чистота, наивность философского жара, пламенная и вместе с тем целомудренная страстность ума. Недаром еврейская национальность до сих пор носительница страшного и благодатного огня — тысячелетней жажды Бога. Сколько раз, погибая, оплодотворяла она своим огнем более спокойные арийские культуры, которым грозили бесплодием научный материализм и позитивная уравновешенность.
Среди грубого шутовства г. Буренина, среди банального народнического реализма г. Протопопова и г. Скабичевского, замечая в новом типе публициста–философа г. Волынском искру этого плодотворного мистического огня, я не могу не приветствовать ее с величайшей радостью.
Может быть, я отчасти и преувеличиваю значение первого, лучшего, г. Волынского, но пусть!.. Это — из ненависти ко второму г. Волынскому, не имеющему с первым ничего общего, к его злополучному двойнику. Как всегда бывает, уродливый двойник, мучительная карикатура на свой оригинал, художественный критик Волынский притворился нежнейшим и преданнейшим другом философа Волынского, чтобы вернее погубить его. Национальный темперамент, лучший помощник в искреннем деле призвания, как только человек берется не за свое дело, обращает все свое могущество против него, делается непоправимою слабостью. Так отвлеченная семитическая метафизика, вполне уместная в статьях философского г. Волынского, поражает убийственною сухостью и бесплодием его художественное понимание. Вы как будто узнаете фанатизм и метафизическое раздражение черствых сердцем, узких и озлобленных учителей Талмуда. Какая мелочность! Какое уныние! Зачем он говорит, что любит красоту, любит жизнь?
Критик г. Волынский презирает простой, человеческий язык философа г. Волынского. Он даже притворяется русским патриотом, когда уж русского в нем нет ровно ничего. Он откапывает какие‑то невероятные допотопные цветы красноречия, чудовищно–комические, от которых становится не смешно, а жутко на сердце читателей, как от тех предметов роскоши, некогда веселеньких и пленительных безделушек, которые через тысячелетия находят среди мертвых костей в гробах. Бог с ней, с легкой иронией, с беззаботным юмором г. Волынского! И эта зловещая карикатура на Спинозу своими мертвыми устами, своим деревянно–цветистым языком проповедует деревянно–мертвого талмудического Бога. В сказочных новеллах Эдгара Поэ являются мертвецы, ненадолго воскресшие, одаренные искусственной жизнью. Они действуют, ходят, говорят, даже смеются, совсем как живые. Ничего доброго не предвещают их лица без кровинки, напряженный, лихорадочный блеск в глазах. И настоящие живые люди с недобрым предчувствием смотрят на них и думают: быть худу. Юный рецензент «Северного вестника» всегда казался мне таким мертвецом из рассказов Эдгара Поэ, одаренным какою‑то противоестественною жизнью. Пишет он статьи, проповедует Бога, громит материализм, даже проявляет попытки юмора совсем как живой, и все‑таки я ничему не доверяю и думаю: быть худу.
Когда вы смотрите на почтенных людей старого поколения, на окаменевших редакторов, на критиков, подобных г. Протопопову и г. Скабичевскому, и вдруг чувствуете, что люди эти в сущности давно уже мертвы, что от них даже как будто пахнет смертью и тленом, такое ощущение, надо признаться, довольно страшно. Но, впрочем, с ним еще можно примириться: была же у них своя молодость, своя жизнь. Но когда в литературе начинают появляться молодые люди или, лучше сказать, молодые мертвецы, как г. Волынский, когда от самых юных, только что начинающих, веет уже холодом могилы, страшным запахом смерти и тлена, это — признак последних дней целого поколения: уже тут, несомненно, быть худу!
В самом деле, не стоим ли мы перед бездной? Caveant consules[1129]*[1130]. Если современная литературная анархия будет прогрессировать по тому же пути, страшно подумать, до чего мы дойдем через двадцать, тридцать лет.
Едва ли спасение заключается в проблематической возможности появления нового великого таланта. Гений возродит поэзию, но не создаст литературы, которая невозможна без великого, культурного принципа, имеющего притом общечеловеческое, а не одно только русское национальное значение. А такого объединяющего принципа наша литература или, лучше сказать, наша стихийная поэзия еще до сих пор сознательно не выработала.
Напрасно, гордясь великим прошлым, мы стали бы утешать себя мыслью, что не может постигнуть полное литературное варварство ту страну, у которой есть Пушкин, Тургенев и Толстой. Благодатные гении прошлого отступаются от своего народа, если он недостоин их. У англичан XVI в. был Шекспир, но уже в XVII в. главное течение народной жизни избрало другое русло, и Шекспир сделался как будто чужим на своей родине. Кто знает, и современная литературная Россия может наконец сделаться недостойной великого прошлого, недостойной Пушкина, и Пушкин станет чужим в одичавшей литературе, и гений его — страшно сказать — отступится от своего народа. Caveant сопsules!
Что там, в темном будущем, перед которым мы стоим?
Смерть народной литературы — величайшее бедствие, немота целого народа, бессловесная смерть его творческого гения!..
В следующих главах я постараюсь показать новые созидающие силы, новое литературное течение, которое позволяет надеяться, что такое страшное бедствие не постигнет русской поэзии. Это течение или, лучше сказать, эта смутная потребность целого поколения, едва определившаяся, почти не выраженная словами, возникла не из метафизических обобщений, а прямо из живого сердца, из глубины современного общеевропейского и русского духа. Я даже не знаю, можно ли назвать эту потребность — литературным течением. Это, скорее, только первая подземная струйка вешней воды, слабая и жизненная. Ее характерная черта — соединение двух глубоких контрастов: величайшей силы и величайшего бессилия. Я сказал, что она слабая, и, в самом деле, ничего не может быть легче, как осмеять ее и отвергнуть, презрительно заметить, что это старая песня на новый лад. Но после смеха и отрицания она будет существовать по–прежнему, даже расти и усиливаться, потому что она — живая, она стремится утолить вечную потребность человеческого сердца.
Так иногда из‑под тяжелого камня пробиваются побеги молодого растения. Кажется, что они неминуемо должны погибнуть, подавленные камнем. Но нет в мире такой силы, которая могла бы остановить их упорный, непобедимый рост. Младенчески слабые и беспомощные, они рано или поздно вырвутся и подымут, если надо, силою жизни огромную мертвую тяжесть камня.
Я хочу проследить эти первые побеги молодой литературы, слабые и живые.
В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область Непознаваемого постоянно смешивалась с областью непознанного. Люди не умели их разграничить и не понимали всей глубины и безнадежности своего незнания. Мистическое чувство вторгалось в пределы точных опытных исследований и разрушало их. С другой стороны, грубый материализм догматических форм порабощал религиозное чувство.
Новейшая теория познания воздвигла несокрушимую плотину, которая навеки отделила твердую землю, доступную людям, от безграничного и темного океана, лежащего за пределами нашего познания. И волны этого океана уже более не могут вторгаться в обитаемую землю, в область точной науки. Фундамент, первые гранитные глыбы циклопической постройки — великой теории познания XIX века — заложил Кант. С тех пор работа над ней идет непрерывно, плотина воздвигается все выше и выше.
Никогда еще пограничная черта науки и веры не была такой резкой и неумолимой, никогда еще глаза людей не испытывали такого невыносимого контраста тени и света. Между тем как по сю сторону явления твердая почва науки залита ярким светом, область, лежащая по ту сторону плотины, по выражению Карлейля, «глубина священного незнания», ночь, из которой все мы вышли и в которую должны неминуемо вернуться, более непроницаема, чем когда‑либо. В прежние времена метафизика набрасывала на нее свой блестящий и туманный покров. Первобытная легенда хотя немного освещала эту бездну своим тусклым, но утешительным светом.
Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический луч потухает. И вот современные люди стоят, беззащитные, лицом к лицу с несказанным мраком на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны.
Куда бы мы ни уходили, как бы мы ни прятались за плотину научной критики, всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки!.. С этим ужасом не может сравниться никакой порабощенный мистицизм прошлых веков. Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, так же как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века.
Наше время должно определить двумя противоположными чертами: это время самого крайнего материализма и вместе с тем страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний.
Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на современной литературе.
Преобладающий вкус толпы — до сих пор реалистический. Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму. Пошлая сторона отрицания, отсутствие высшей идеальной культуры, цивилизованное варварство среди грандиозных изобретений техники — все это наложило своеобразную печать на отношение современной толпы к искусству.
Э. Золя сказал следующие, весьма характерные слова о молодых поэтах Франции, так называемых символистах, некоему m. Huret — газетному интервьюисту, написавшему книгу «L’enquete sur revolution litteraire en France»[1131]. Я приведу эти слова буквально, чтобы не ослабить их переводом:
«Mais que vient‑on offrir pour nous remplacer? Pour faire contre‑poids a rimmense labeur positiviste de ces cinquante dernieres annees, on nous montre une vague etiquette „symboliste”, recouvrant quelque vers de pacotille. Pour clore l’etonnante fin de ce siecle enorme, pour formuler cette angoisse universelle du doute, cet ebranlement des esprits assoiffes de certitude, voici le ramage obscur, voici les quatre sous de vers de mirlition de quelques assidus de brasserie… En s’attardant a des betises, a des niaiseries pareilles, a ce moment si grave de revolution des idees, ils me font l’effet tout ces jeunes gens,
qui ont tous de trente a quarante ans, de coquilles de noisettes qui danseraient sur la chute du Niagara»[1132].
Автор Ругон–Макаров[1133] имеет право торжествовать. Кажется, ни одно из гениальнейших произведений прошлого не пользовалось таким материальным успехом, таким ореолом газетной громоподобной рекламы, как позитивный роман. Журналисты с благоговением и завистью высчитывают, какой вышины пирамиду можно бы воздвигнуть из желтых томиков «Nana» и «Pot‑Bouille»[1134]. На русский язык, на который не переведены удобопонятным образом даже величайшие произведения мировой литературы, последний роман Золя переводится с изумительным рвением по пяти, по шести раз. Тот же самый любознательный Гюрэ отыскал главу поэтов–символистов Поля Верлена в его любимом, плохоньком кафе на бульваре Saint Michel. Перед репортером был человек уже немолодой, сильно помятый жизнью, с чувственным «лицом фавна», с мечтательным и нежным взором, с огромным лысым черепом. Поль Верлен беден. Не без гордости, свойственной «униженным и оскорбленным», он называет своей единственной матерью «l’assistance publique» — общественное презрение. Конечно, такому человеку далеко до академических кресел рядом с П. Лоти, о которых пламенно и ревниво мечтает Золя.
Но все‑таки автор «Debacle»[1135], как истинный парижанин, слишком увлечен современностью, шумом и суетой литературного мгновения.
Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм — какое‑то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему.
Вот чем страшны, должно быть, для Золя эти молодые литературные мятежники. Какое мне дело, что один из двух — нищий, полжизни проведший в тюрьмах и больницах, а другой — литературный владыка — не сегодня, так завтра член академии? Какое мне дело, что у одного пирамида желтых томиков, а у символистов — «quatre sous de vers de mirliton»[1136]? Да и четыре лирических стиха могут быть прекраснее и правдивее целой серии грандиозных романов. Сила этих мечтателей в их возмущении.
В сущности все поколение конца XIX века носит в душе своей то же возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут другие и все‑таки будут продолжать их дело, потому что дело — живое.
«Да, скоро и с великой жаждой взыщутся люди за вполне изгнанным на время чистым и благородным». Вот что предрек автор «Фауста» 60 лет тому назад, и мы теперь замечаем, что слова его начинают исполняться. «И что такое реальность сама по себе? Нам доставляет удовольствие ее правдивое изображение, которое может дать нам более отчетливое знание о некоторых вещах; но собственно польза для высшего, что в нас есть, заключается в идеале, который исходит из сердца поэта». Потом Гёте формулировал эту мысль еще более сильно: «Чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно прекраснее»[1137][1138]. Золя не мешало бы вспомнить, что эти слова принадлежат не своевольным мечтателям–символистам, жалким ореховым скорлупкам, пляшущим на Ниагаре, а величайшему поэту–натуралисту XIX века.
Тот же Гёте говорил, что поэтическое произведение должно быть символично. Что такое символ?
В Акрополе над архитравом Парфенона до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, по–видимому, незначительную сцену: нагие, стройные юноши ведут молодых коней и спокойно и радостно мускулистыми руками они укрощают их. Все это исполнено с большим реализмом, если хотите, даже натурализмом — знанием человеческого тела и природы. Но ведь едва ли не больший натурализм — в египетских фресках. И однако, они совсем иначе действуют на зрителя. Вы смотрите на них, как на любопытный этнографический документ, так же как на страницу современного экспериментального романа. Что‑то совсем другое привлекает вас к барельефу Парфенона. Вы чувствуете в нем веяние идеальной человеческой культуры, символ свободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это — не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем — целое откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое величие, такое спокойствие и полнота жизни в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия. Подобный символизм проникает все создания греческого искусства. Разве Алькестис Эврипида, умирающая, чтобы спасти мужа, — не символ материнской жалости, которая одухотворяет любовь мужчины и женщины? Разве Антигона Софокла — не символ религиозно–девственной красоты женских характеров, которая впоследствии отразилась в средневековых Мадоннах?
У Ибсена в «Норе» есть характерная подробность: во время важного для всей драмы диалога двух действующих лиц входит служанка и вносит лампу. Сразу в освещенной комнате тон разговора меняется. Черта, достойная физиолога–натуралиста. Смена физической темноты и света действует на наш внутренний мир. Под реалистической подробностью скрывается художественный символ. Трудно сказать почему, но вы долго не забудете этого многозначительного соответствия между переменой разговора и лампой, которая озаряет туманные вечерние сумерки.
Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую‑нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего, кроме отвращения, как все мертвое, не могут возбудить. Последние минуты m‑me Bovary, сопровождаемые пошленькой песенкой шарманщика о любви, сцена сумасшествия в первых лучах восходящего солнца после трагической ночи в «Gespenster»[1139] написаны с более беспощадным психологическим натурализмом, с большим проникновением в реальную действительность, чем самые смелые человеческие документы позитивного романа. Но у Ибсена и Флобера рядом с течением выраженных словами мыслей вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение.
«Мысль изреченная есть ложь» [1140] . В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя.
Символами могут быть и характеры. Санчо–Панса и Фауст, Дон–Кихот и Гамлет, Дон–Жуан и Фальстаф, по выражению Гёте, — Schwankende Gestalten[1141][1142].
Сновидения, которые преследуют человечество, иногда повторяются из века в век, от поколения к поколению сопутствуют ему. Идею таких символических характеров никакими словами нельзя передать, ибо слова только определяют, ограничивают мысль, а символы выражают безграничную сторону мысли.
Вместе с тем мы не можем довольствоваться грубоватой фотографической точностью экспериментальных снимков. Мы требуем и предчувствуем, по намекам Флобера, Мопассана, Тургенева, Ибсена, новые, еще не открытые миры впечатлительности. Это жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным в нашей чувствительности — характерная черта грядущей идеальной поэзии. Еще Бодлер и Эдгар Поэ говорили, что прекрасное должно несколько удивлять, казаться неожиданным и редким. Французские критики более или менее удачно назвали эту черту — импрессионизмом.
Таковы три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности.
Великая плеяда русских писателей: Толстой, Тургенев, Достоевский, Гончаров с несравненной силой и полнотой воспроизводят все три основы идеальной поэзии.
Начну с Тургенева. Русские рецензенты имели бестактность видеть в нем публициста и с этой точки зрения предъявляли ему требования. С надлежащим ли одобрением или порицанием изображен человек 30–х годов, потом человек 40–х годов, потом нигилист 70–х годов и т. д. и т. д. Одни защищали Тургенева, другие утверждали, что он в лице Базарова оскорбил молодое поколение. Странно читать теперь эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумение могло возникнуть только из коренного непонимания. Впрочем, и сам Тургенев подал отчасти повод к недоразумению.
Он писал свои большие романы на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня. В этом великом человеке был все‑таки литературный модник, то, что французы называют «модернист». Как почти все поэты, он не сознавал, в чем именно его оригинальность и сила.
Характерно письмо Тургенева к редактору «Вестника Европы» при посылке «Стихотворений в прозе». Великий русский поэт как будто просит снисхождения у г. Стасюлевичак своим лучшим созданиям[1143]. Он сам, по–видимому, не понимает их цены и не без некоторой нерешимости является перед русской публикой только поэтом, извиняясь за отсутствие обычной реалистической формы и модной темы. Художник не подозревает, что в двадцати строках «Стихотворений в прозе» он делает целые поэтические открытия, что эти «безделушки» едва ли не драгоценнее и не бессмертнее таких серьезных общественных типов, как Рудин, Лаврецкий, Инсаров. Разработка политических тем, жгучие вопросы дня, улавливания разных веяний в больших романах Тургенева с такими сенсационными заглавиями, как «Новь», «Отцы и дети», «Накануне», «Вешние воды», начинают стареть, делаются условными и чуждыми нам, отодвигаются на второй план.
И перед нами все более и более выступает другой, не модный и зато не стареющий Тургенев, которого почти не подозревали наши критики–реалисты.
Конечно, Тургенев, как все истинные поэты, знал жизнь и людей. Холодный наблюдатель, с горечью познавший пошлость и уродство действительности, утонченный современный скептик, он в то же время — властелин полуфантастического, ему одному доступного мира. Вспомните поэмы в прозе, как будто полные гармонии и совершенства пушкинского стиха: «Живые мощи», «Бежин луг», «Довольно», «Призраки», «Собака», в особенности «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе». Вот где неподражаемый, оригинальный Тургенев, сам себе не знающий цены, вот где он царь обаятельного мира. Здесь комизм, уродство бытовых типов, людская пошлость служат ему, только чтобы отметить красоту фантастического. Рядом с Фетом, Тютчевым, Полонским, Майковым он продолжал дело Пушкина, он раздвигал пределы нашего русского понимания красоты, завоевал целые области еще неведомой чувствительности, открыл новые звуки, новые стороны русского языка.
Как непреодолимо в Тургеневе тяготение к фантастическому, видно из женских фигур его больших общественных романов. Это бесплотные и бескровные призраки, родные сестры Морелла и Лигейя из новелл Эдгара Поэ[1144]. Таких идеальных девушек и женщин ни в России и нигде на земле не бывало. Тургенев на этих женских видениях, которые находятся иногда в неприятной дисгармонии с реальной обстановкой романа, отдыхает от пошлости и уродства живых, нефантастических людей, от близких его уму — не сердцу — вопросов дня.
Кроме женщин природа — область, где он никогда не изменяет себе. Как поэт верит в сверхъестественную жизнь природы! Как этот скептик XIX века умеет смотреть на нее детскими очами. Он владеет тайнами языка, которые неожиданно и неотразимо, где бы мы ни были, что бы мы ни чувствовали, вызывают в нас очарование природы с ясностью галлюцинации: и негу весны, и меланхолию осени, и бледно–зеленое небо над снегами Финстераангорн[1145], и тишину заросшего пруда в захолустье старосветских помещиков. Говоря о природе, Тургенев всегда умеет найти сочетания слов, самых обыкновенных русских слов, которые вдруг меняются, делаются новыми, только что в первый раз произнесенными и неожиданно близкими сердцу: они оказывают на душу действие властное, чудотворное, как настоящие поэтические заклинания: нельзя им противиться, нельзя сразу не увидеть того, что поэт хочет нам показать.
Есть русские писатели, которые превосходят Тургенева силой художественного реализма, глубиной психологического анализа и общественных мотивов, но нет больше такого пленительного и могучего волшебника слова. Тургенев — великий русский художник–импрессионист. И в силу этой важнейшей и бессознательнейшей черты своего творчества, почти совсем неразработанной нашими критиками, он истинный провозвестник нового идеального искусства, грядущего в России на смену утилитарному пошлому реализму.
То же критическое недоразумение преследовало Гончарова.
Его считали, да и он сам себя считал, исключительно реальным художником, правдивым бытописателем помещичьей жизни в эпоху крепостного права.
Человеческие характеры в романах–поэмах Тургенева являются или как модные герои, представители современного общественного мотива, или в полусказочном идеальном сумраке, как его девушки и женщины, или же, наконец, как юмористические аксессуары для оттенения волшебного мира. Достоевский рисует людей только в болезненном напряжении сил душевных, в неестественно ярком освещении психологического опыта, в повышенной температуре страсти, которая нужна ему, чтобы обнажить сокровенные, в нормальном состоянии не проявляющиеся глубины характера. У Толстого индивидуальность, личность отдельных людей почти всегда подавлена силами природы и человечества, массовыми движениями, войною, смертью, болезнью, деторождением, неразрешимыми вопросами о Боге, о вечности, о правде. Но истинно гармонический и спокойный художник, творец живых человеческих душ — один только Гончаров. Он берет характеры людей целиком как живые продукты истории, природы, времени, общества. Никто так не заставляет жить своих героев на страницах книги отдельной, собственной жизнью. Но вместе с тем типы Гончарова весьма отличаются от исключительно бытовых типов, какие мы встречаем, например у Островского и Писемского, у Диккенса и Теккерея. Помимо жизненной типичности Обломова вас привлекает к нему высшая красота вечных комических образов (как Фальстаф, Дон–Кихот, Санчо–Панса). Это не только Илья Ильич, которого вы, кажется, вчера еще видели в халате, но и громадное, идейное обобщение целой стороны русской жизни.
Гончаров из всех наших писателей обладает вместе с Гоголем наибольшею способностью символизма. Каждое его произведение — художественная система образов, под которыми скрыта вдохновенная мысль. Читая их, вы испытываете то же особенное, ни с чем не сравнимое чувство широты и простора, которое возбуждает грандиозная архитектура, — как будто входите в огромное, светлое и прекрасное здание. Характеры — только часть целого, как отдельные статуи и барельефы, размещенные в здании, — только ряд символов, нужных поэту, чтобы возвысить читателя от созерцания частного проявления к созерцанию вечного.
Способность философского обобщения характеров чрезмерно сильна в Гончарове: иногда она прорывает, как острие, живую художественную ткань романа и является в совершенной наготе, например Штольц, — уже не символ, а мертвая аллегория. Противоположность таких типов, как практическая Марфенька и поэтическая Вера, как эстетик Райский и нигилист Волохов, как мечтательный Обломов и деятельный Штольц, — разве это не чистейший и притом непроизвольный, глубоко реальный сымволизм! Сам Гончаров в одной критической статье признается, что бабушка в «Обрыве» была для него не только характером живого человека, но и воплощением России[1146]. Вспомните ту гениальную сцену, когда Вера останавливается на минуту перед образом Спасителя в древней часовне и тропинкой, ведущей к Обрыву, к беседке, где ждет ее Марк Волохов. Вера как идеальное воплощение души современного человека колеблется и недоумевает, где же правда — здесь, в кротких, строгих очах Спасителя, в древней часовне, или там, за обрывом, в злобной, страшной и обаятельной проповеди нового человека?
И такого поэта наши литературные судьи считали отживающим типом эстетика, точным, но неглубоким бытописателем помещичьих нравов! Но когда от реалистической критики, от столь прославленных ее бытовых комедий и романов не останется ни следа, произведения Гончарова, мало понятые в наш век художественного материализма, возродятся в полной, идеальной красоте. Он один из величайших в современной европейской литературе творцов человеческих душ, художников–символистов.
Гончаров и Тургенев в эпоху грубого реализма бессознательно, непреодолимым инстинктом отыскали новую форму, Достоевский и Толстой — новое мистическое содержание идеального искусства.
Быть может, никто из писателей современной Европы не чувствовал так, как Достоевский, всю неисчерпаемую, никем не открытую новизну величайшей книги прошлого — Евангелия.
По откровенным признаниям его любимых героев — Ивана Карамазова, Раскольникова, Ставрогина — ясно видно, что верующий Достоевский не страшился подходить к последним пределам сомнения, не закрывал глаза ни перед одним из крайних и безнадежных выводов современного знания, понимая глубоким умом их неотразимость. Прочтите исповедь «Великого инквизитора», признания и сцену самоубийства Кирилова в «Бесах», вы согласитесь, что в Достоевском было это преступное любопытство мятежной мысли, эта дерзость посягновения на величайшие святыни долга и веры — то демоническое, что в Байроне Бодлэр называет le satanique[1147][1148].
Достоевский — человек, дерзающий беспредельно сомневаться и в то же время имеющий силу беспредельно верить.
Безнравственность Ставрогина, Ивана Карамазова — не от бессилия и пошлости, а от избытка силы, от презрения к жалким земным целям добродетели — напоминает безнравственность Печорина, так же как весь мистицизм Достоевского в преемственной глубокой связи с мистицизмом Лермонтова.
Паскаль был одержим непрерывным чувством тайны мира, чувством бездны, физиологическим страхом Непознаваемого, который у философа XVII в. едва не переходит в сумасшествие. Достоевский одержим не страхом, а любовью к бездне. Ему нечего бояться ее, он никогда не выходил из нее. Она не рядом с ним, как у Паскаля, а в нем самом. Каждый из нас носит в себе эту внутреннюю психологическую бездну. Но сознание наше только скользит по ее поверхности: мы живем и умираем, не познав своей сердечной глубины.
Достоевский даже не боится смерти, как Толстой. Для него почти нет этого страшного перехода, этой границы между жизнью и смертью.
Душа петербургских ростовщиков и каторжников «Мертвого дома»[1149], самая будничная, серая жизнь для него — так же таинственна и непостижима, как смерть. Он давно уже привык к чувству психологической бездны, как птица — к воздуху, рыба — к воде. По краю пропасти, от которой у нас голова кружится, по самым крутым и обрывистым тропинкам он ходит легко и свободно, как мы — по большим дорогам. И в ту минуту, когда кажется, что вот–вот художник погибнет, что дальше идти некуда, что это уже — не искусство, а современная неврастения, мучительное безумие, он выходит из бездны, торжествующий, вынося вечную правду жизни, умиление и веру в человека, редкие, никому не доступные цветы поэзии, растущие только над пропастями.
Всюду, как рудокоп с лампочкой, в подземные колодцы и галереи он проникает, вооруженный ослепительным светом неумолимо–жадного психологического анализа, этим разрушительным, все покровы срывающим дерзновенным любопытством современного знания. У него, искреннего проповедника христианского смирения, так же, как у самых гордых мятежников Байрона и Лермонтова, душа, никогда ничего на земле не боявшаяся.
Довольно, впрочем, взглянуть на бледное, изможденное и все же могучее лицо русского писателя, чтобы почувствовать, что это вовсе не наивный поборник общедоступных и умственных идей вроде Жорж–Занд и Диккенса, о нет! — прежде всего это избранник роковой силы, как Данте, выходец из ада, только из ада внутреннего, вечного, неразрушимого никакими научными открытиями, никакими сомнениями.
Таков он. Вся душа его соткана из контрастов, из противоречий, запутанных в неразрешимый узел.
Как он понимал прелесть целомудрия! Нежная, стыдливая красота его женских фигур — не романтическая, идеализированная и в сущности никогда не существовавшая на земле девственность тургеневских эфирных видений, — это целомудренная красота живых, даже страстных женщин.
А его отроческие фигуры! Вспомните Алешу Карамазова. Как он любил детей! Как перед этой русской жалостью к детям ничтожна слащавая сентиментальность Диккенса. Достоевский глубже всех художников понял слова Спасителя: «Истинно говорю вам: кто не примет царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него»[1150].
И этот же человек — самый утонченный, самый болезненный и мучительный из сладострастников. У героев его мрачные, разрушительные экстазы чувственности граничат с эпилепсией, с жестокостью. Сладострастие — бездна, и он исследовал его с бесстрашным любопытством, как все бездны человеческого сердца. Ужасно то, что нет такой глубины порока, где бы он забывал о прелести, об ангельской красоте целомудрия. Вспомните в «Преступлении и наказании» бред Свидригайлова перед самоубийством: он видит пятилетнюю девочку, уже развращенную… Но этого нельзя пересказывать: выйдет уродливо то, что у Достоевского страшно. В «Бесах» нигилист или, скорее, русский новый буддист Кирилов проповедует на своем детски–наивном, полуграмотном и могучем языке теорию освобождения от жизни: он задумал прибегнуть к самоубийству, чтобы восторжествовать над страхом смерти — проклятьем и унижением людей, достигнуть высшего блаженства свободы, чтобы, по его собственному выражению, «оказать своеволие». Особенное, отнюдь не пошлое и не грубое сладострастие таких людей, как Свидригайлов и Ставрогин, есть только другая форма сознательного кириловского самоуничтожения. Их привлекает к разврату не одна животная чувственность, но и высшее, идеальное упоение свободою, попирающею цепи долга, возмущением против великого нравственного закона. Им радостно перешагнуть запретную границу, «оказать своеволие» и посягнуть на неприкосновенное! Такую чувственность — один только волосок, одна неуловимая черта отделяет от аскетизма. Если бы Николай Ставрогин и Свидригайлов нашли на земле что‑нибудь, во имя чего несомненно стоило бы отказаться от упоения дерзостью страха, они могли бы сделаться девственниками и аскетами до полного отречения от жизни, до самоубийства, подобно Кирилову.
Лучшие страницы Достоевского, например в «Записках из мертвого дома», проникнуты болезненно–жгучим состраданием к людям. Даже в книге вы боитесь этой мучительной жалости: она искушает. Нельзя таких страниц Достоевского читать безнаказанно, после них долго какой‑то терн остается в душе, который язвит и смущает покой равнодушных. Именно эта сторона его таланта более всего поразила молодое поколение писателей в Западной Европе. Достоевский — пророк, еще небывалый в истории, новой русской жалости.
Но вместе с тем он — один из самых жестоких поэтов. Как все чувства, ненависть доходит в его душе до упоения, до сладострастия. Перечтите в «Бесах» эпизод Кармазинова, — пасквиль на Тургенева. Какая злоба! И это уродливое чувство, мелкое, завистливое мщение в таком сердце! Он извлек из той же глубины своего духа и легенду об отце Зосиме, и бессмертный тип подлого лакея Смердякова. Вот что ужасно! Кто же он сам? Кто он, наш мучитель и друг, Достоевский? Ангел сумерек или ангел света? Где же сердце художника? В христианском смирении отца Зосимы или в гордости, доходящей до сумасшествия, нигилиста Кирилова, в целомудрии Алеши или в сладострастии Ставрогина, в жалости Идиота или в презрении к людям Великого Инквизитора?.. Где он? Ни там, ни здесь. А может быть, и там, и здесь! Страшно, что в сердце человеческом могут существовать такие смежные бездны добра и зла, такие невыносимые противоречия…
Русские критики–реалисты! Что им было делать с подобным характером? Одни считали его гуманным проповедником вроде Жорж–Занда и Диккенса, другие — «жестоким талантом», чем‑то вроде литературного Торквемады. И те и другие стояли перед загадочным явлением поэзии, живым созданием Бога, как люди с голыми руками, без лестницы перед отвесной гранитной скалой. Они даже не подозревали, с кем имеют дело. Их тоненькие эстетические и нравственные рамочки, хрупкие, как стекло, ломаются на этой каменной, первозданной глыбе. Бедные критики–реалисты!
Один русский писатель, постигнутый трагической судьбой, утешал себя мыслью, что не погиб еще тот народ, который на самые безотрадные явления истории отвечает таким явлением, как Пушкин[1151]. Все оскорбления, все удары железом, как из неистребимого кремня, извлекают из сердца народа великодушный, обезоруживающий ответ, искры гения — Пушкина 30–х годов, Толстого — 80–х!
Я думаю, многие среди нас из унылых, бесцельных разговоров на петербургских журфиксах о положении русского общества, из наших современных храмов Мельпомены, где даются пьесы, унизительные для русских актеров и еще более — для русской публики, выходили с камнем на сердце. Вот в такие минуты отчаяния достаточно произнести одно имя — Лев Толстой! — и сразу становится легче… Слава Богу, он есть у нас! А пока у народа есть один такой человек, несмотря ни на какие испытания, народ не имеет права отрекаться от надежды, что ему принадлежит великая будущность!
И в Толстом, как во всех современных людях, — то же мучительное раздвоение. Рядом с бессознательной, доныне еще не исследованной творческой силой в нем скрывается утилитарный и методический проповедник, нечто вроде современного пуританина. В «Исповеди» он вполне искренно признает величайшие поэтические создания всей жизни своей печальным недоразумением, считает их безнравственными, отрекается от «Войны и мира», от «Анны Карениной». О, конечно, это святотатственное отречение, эту хулу на собственный гений, то есть на Духа Божия, живущего в нем, написал не великий свободный поэт, а ограниченный и добродетельный пуританин. Художник тратит время на популярные брошюры о пьянстве, с наивным жаром квакера составляет, подобно методическому и упрямому норвежцу Бьернсену, практические руководства к целомудрию молодых людей, предисловия к трактатам о беременности, о вегетарианстве, серьезно уверяет, что люди курят табак, чтобы заглушить совесть[1152]. Но если совесть людей такова, что не может противостоять даже табачному дыму, стоит ли так много хлопотать о ней? На всех этих практических брошюрах лежит печать какого‑то ледяного и унылого педантизма. Польза! Польза! Чей светлый ум не помрачало это слово в наш век?.. Мнимое человеколюбие, нравственное квакерство у холостяка отнимает трубку, у работника — чарку вина, суживает и омрачает без того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человека, придает ей характер какого‑то филантропического, безотрадного и добродетельного приюта для калек.
Не таковы истинные пророки любви. Спаситель любил и ароматы мирры, пролитые на его ноги из алебастровой вазы. Он, предвидящий Голгофу, не уходил от пира людей — и благословляет в Кане Галилейской вино и мирное веселие, и счастие новобрачных. Вот где незаменимая прелесть Евангелия: в нем нет и следа нравственного педантизма, пуританской сухости. Это — книга величайшей свободы и радости, книга бескорыстной поэзии.
От утилитарного ригоризма, от этого вечного, унылого припева: «польза! польза!» — сердце человеческое холодеет и сжимается. Не ученики Иисуса, а фарисеи были мрачными и боязливо добродетельными, как члены современных английских и наших «толстовских» обществ поощрения трезвости. В Евангелии всюду — божественная улыбка. Люди для Спасителя как будто маленькие дети. Можно ли у детей отнимать их веселие! Он так жалеет их, что вместе с ними радуется над кубком вина и вместе с ними плачет над гробом Лазаря.
То, от чего пуританин Толстой отрекается с ужасом, как от преступления, то именно и оправдывает его перед судом человеческим и перед Высшим Судом. Он не уверит нас, что новое сочинение о беременности нужнее людям, чем «Анна Каренина». Его брошюры о пьянстве и о куреньи табака скоро отойдут в область литературно–исторических анекдотов. Но никогда не перестанут потрясать душу людей такие драгоценно–бесполезные страницы, как смерть князя Андрея в «Войне и мире», ибо воистину нужно людям только бескорыстное и бесполезное.
Впрочем, о подобной красоте нельзя говорить… Надо пройти мимо в молчании. Наперекор критикам–публицистам, объявившим «Анну Каренину» реакционной, наперекор пуританскому отречению самого художника мы все, русские люди, знаем, что это такое и чего это стоит. Или, лучше сказать, не знаем, но предчувствуем. Когда сердце человеческое устанет от современного позитивизма и возжаждет неутолимо новой веры и обратится к Богу, только тогда люди вполне оценят, что он сделал для них, этот сам себя не познавший гений.
Мы отчасти предугадываем значение двух наших писателей–мистиков, Толстого и Достоевского, видя, как они действуют на современных людей Запада. До сих пор мы только брали у Европы, ничего ей не возвращая. Теперь мы замечаем признаки нашего влияния на всемирную поэзию. Это первая победа русского духа. В Толстом и Достоевском, в их глубоком мистицизме мы почувствовали свою духовную силу, но еще не доверяем ей и удивляемся.
Пушкин показал нам «русскую меру красоты». Толстой и Достоевский показали Европе русскую меру свободного религиозного чувства. Их христианство так же, как пушкинская красота, вылилось из самого сердца народа. А только движение, исходящее из самого сердца народа, может сделать литературу поистине национальной и в то же время всечеловеческой.
От великих перехожу к поколению современных литературных эпигонов. Все их несчастие определяется словами: после великих. Они родились между двумя мирами. Бездна отделяет их от прежних наивных реалистов вроде Писемского, Глеба Успенского, даже Островского. Они взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание — у Толстого и Достоевского. Все эти элементы нового идеального искусства они сделали более сознательными, пытались ввести даже в критику, обнажили от посторонних реалистических наслоений, обострили и ослабили. В эпоху крайнего торжества литературной пошлости и художественного позитивизма они не имеют силы бороться с надвигающимся варварством. Произносят то, что нужно, слово истины, но тихим голосом, так, что далекая толпа не может услышать. Как будто у них в груди не хватает дыхания, в жилах — крови. Слабые и нежные дети вечерних сумерек!
Воображение Гёте как символ подобных трагических поколений создало во 2–й части «Фауста» Гомункула, страшное существо, полудетское, полустарческое. Гомункул утомлен опытом и мудростью, не начиная жить. Знает все, видит тайны мира, но отделен от мира тонким кристаллом вагнеровской реторты. Говорит глубокие, нужные людям истины, но слабым детским голосом. Боится природы и жаждет ее, хочет вырваться на волю из реторты, хочет жить и не может родиться. Порхая над классической Вальпургиевой ночью, он видит богиню здоровья и жизни, прекрасную, нагую, только что вышедшую из лона соленого моря. И маленькое существо затрепетало от любви к ней, зазвенело кристаллическим звуком реторты и полетело к ее ногам. Но, — увы! — реторта разбилась о подножие богини, и первая минута его жизни была минутой смерти.
Может быть, современное поколение русских писателей–эпигонов возрастет и окрепнет. Во всяком случае, они теперь в России — единственная живая литературная сила. У них достаточно в сердце огня и мужества, чтобы среди дряхлого мира всецело принадлежать будущему.
Своими неопытными, еще слабыми руками они пытаются поднять слишком тяжелое для них знамя грядущего идеализма.
В чем бы ни обвиняли современное поколение, как бы над ним ни смеялись, оно исполнит свое героическое призвание — умереть, передав следующему, более счастливому поколению искру новой жизни.
V. ЛЮБОВЬ К НАРОДУ:
КОЛЬЦОВ, НЕКРАСОВ, ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ,
Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ, КОРОЛЕНКО
Прежде чем я перейду к поколению современных русских писателей–идеалистов, я должен сказать несколько слов о другом могущественном литературном течении, также вполне современном, имеющем огромную будущность, которому лишь по недоразумению большинство наших критиков придает такой резкий, утилитарный и реалистический характер. В сущности это течение очень близко к идеализму. Я разумею народничество.
Песни Кольцова в нашей поэзии едва ли не самое полное, стройное, доныне еще мало оцененное выражение земледельческого быта русского крестьянина. Мы здесь имеем дело не с человеком, только любящим народ, то есть сходящим к нему, а вышедшим из него, не порвавшим с ним глубокой сердечной связи: можно сказать, что устами Кольцова говорит сам, тысячелетия безмолвствовавший, русский народ. Певцы, нисходившие к нему, говорили, что он несчастен.
Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бичевой…
Где народ — там и стон…[1153]
У Кольцова есть крик негодования, беспредельная жажда свободы, даже, — если хотите, — возмущенный крик ярости и боли, но беспомощных стонов и этого жалобного плача, которым полны вышеприведенные анапесты интеллигентного поэта, у Кольцова нет. Конечно, никакие стоны интеллигентных певцов не могут выразить той глубины затаенного, высокомерного и молчаливого страдания, которое он носит в душе своей. Эта скорбь, скорбь народа — воистину ничем не меньше нашей мировой скорби, байроновской «тъмы»[1154].
Тяжелей горы,
Темней полночи Легла на сердце Дума черная…[1155]
И все же он не стонет. Он не хочет жалости, он только жаждет воли.
Чтоб порой пред бедой За себя постоять,
Под грозой роковой Назад шагу не дать:
И чтоб с горем в пиру Быть с веселым лицом,
На погибель идти —
Песни петь соловьем [1156] \
Такая сила и гордость были еще только у одного поэта на Руси — у Лермонтова… Не происходит ли великое и добровольное смирение народа, о котором так много, и даже слишком много, говорил Достоевский, от сознания этой страшной внутренней силы, от исторического, никакими несчастиями неистребимого сознания грядущей победы?
Снаряжу коня…
Полечу в леса.
Стану в тех лесах Вольной волей жить.
С кем дорогою Сойдусь, съедусь ли. —
Всякий молодиу Шапку до земли [1157] .
Разве это стон? И ведь у каждого из тех мужиков, которые стояли у парадного подъезда и которых пожалел интеллигентный поэт, была же где‑то в глубине души такая же чудная русская гордость и сила. Не нам жалеть народ. Скорее, мы должны себя пожалеть. Чтобы самим не погибнуть в отвлеченности, в пустоте, в холоде, в безверии, мы должны беречь кровную связь с источником всякой силы и всякой веры — с народом.
Вот что замечательно: истинно народный поэт Кольцов, — по своему духу гораздо ближе к Лермонтову, величайшему мистику, одинокому мечтателю, презиравшему идеалы пользы и влюбленному в неземную красоту, чем к практическому Некрасову, который всю жизнь сам так мучительно и страстно хотел быть близким к народу.
И сила есть — да воли нет…
И друзья мои, товарищи
Одного меня все кинули…
Гой ты, сила подо донная!
От тебя я службу требую —
Дай мне волю, волю прежнюю.
А душой тебе я кланяюсь [1158]
Так поэт любил волю, он готов душу отдать темным силам зла, только бы купить себе утраченное блаженство воли! Разве это не гордое возмущение Лермонтова?
Интеллигентный певец народа считает идеалы красоты и поэзии так называемого «чистого (?) искусства» противоречащими деятельной любви к народу:
С твоим талантом стыдно спать,
Еще стыдней в годину горя Красу долин, небес и моря И ласки милой воспевать [1159]
Он стыдится петь вечное, то есть любовь и красоту, в то время как народ несчастен. Но сам народ, который все‑таки больше страдает, чем за него страдают, не стыдится красоты, а любит ее как жизнь, как свободу, как свою силу, как хлеб насущный. Красота для него вовсе не роскошь и не отдых, она для него — солнце жизни, вдохновение в его песнях, молитва в его страданиях. О нет, он не стыдится красоты. И, право же, народ поет весну и цветы, и красные зори, и даже ласку милой — все, что в жизни сладко, все дары Божии, поет не хуже, а гораздо лучше, сильнее и музыкальнее, чем, например, Фет, столь нелюбимый народниками. И заметьте, что ведь поет он их именно бескорыстно, не думая ни об еде, ни о пользе, а чувствуя блаженство красоты и освобождения от земных цепей. Мужик, тот самый мужик, во имя которого у нас считали нужным стыдиться красоты, творит свои песни так же, как Пушкин их творил, —
Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв… [1160]
И посмотрите, как в древних былинах, в песнях, в стихотворениях Кольцова самые прозаические подробности жизни, земледельческого быта — хлеб, деньги, свадебная пирушка, даже семейные раздоры — все превращается в красоту, «в чистое золото поэзии», по выражению Белинского[1161]. Как же народу не любить красоты? Он сам — величайшая красота! Разве и Пушкин не заимствовал всей своей божественной крепости и силы из этого вечного, неиссякаемого источника русской красоты, из духа народного, из речи народной? Кто поймет и полюбит красоту в Пушкине, тот полюбит не что‑то чужое, далекое и враждебное народу, а самую душу русского языка, то есть русского народа. Как все великое, как все живое, красота не отдаляет нас от народа, а приближает к нему, делает нас причастными глубочайшим сторонам его духовной жизни. Бояться или стыдиться красоты во имя любви к народу — безумие.
На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельские Не насмотрятся,
Люди сельские Божьей милости Ждали с трепетом И с молитвою [1162].
И поэт рассказывает нам, какие «заветные, мирные думы» пробуждаются у них с весною. Первая их дума: «хлеб из закрома насыпать в мешки, убирать воза». А вторая их была думушка: «из села гужом в пору выехать». Как видите, думы самые практические — хозяйственные и торговые. Конечно, хлеб для народа — величайшая забота. В песнях Кольцова хлеб играет вовсе не меньшую роль, чем забота и скорбь по поводу экономического разорения народа — в стихах интеллигентных поэтов. Как рождается хлеб — вот в сущности реальное содержание лучших и самых поэтических песен Кольцова.
Но замечательно, что в заботах о насущном хлебе, об урожае, о полных закромах у этого практического человека, настоящего прасола, изучившего будничную жизнь, — точка зрения вовсе не утилитарная, экономическая, как у многих интеллигентных писателей, скорбящих о народе, а, напротив, самая возвышенная, идеальная даже, если хотите, мистическая, что, кстати сказать, отнюдь не мешает практическому здравому смыслу. Когда поэт перечисляет мирные весенние думы сельских людей, третья дума оказывается такой священной, что он не решается говорить о ней. И только благоговейно замечает: «Третью думушку как задумали, Богу Господу помолилися». И потом мы видим, что эта страшная, священная дума народа — о том, как бы засеять землю и дождаться нового урожая. Все та же дума о хлебе насущном! Мы, интеллигентные люди, много говорим о насущном хлебе: «Прежде надо накормить голодный народ, а потом уже заботиться о высшей идеальной культуре».
Для народа страшная дума о хлебе неотделима от еще более страшной и великой думы о Боге. Бог дает ему хлеб.
Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послал Господь За труды людям;
Выше пояса Рожь зернистая…
Словно Божий гость На все стороны Дню веселому Улыбается[1163].
О, как это не похоже на мертвые разговоры мертвых людей об экономическом благосостоянии народа, как это не похоже на нашу скучную, бесплодную, журнальную полемику по мужицкому вопросу, из которой ни одного живого зерна не родится. Когда мы говорим о хлебе, у нас в душе какая‑то недоверчивая тревога, мы становимся прозаичны и сухи, чувствуем, что «ложь в нас есть», с мефистофельской улыбкой противопоставляем мечтам идеалистов цифры статистиков. Мы отделяем бездною вопросы о насущном хлебе для народа от вопросов о Боге, о красоте, о смысле жизни. Но народ не может, не смеет говорить о хлебе, не говоря о Боге. У него есть вера, которая объединяет все явления природы, все явления жизни в одно божественное и прекрасное целое! Для него нет прозы, потому что нет, как у нас, сытых людей, говорящих о хлебе, лжи и раздвоенности в его сердце. Для него самое рождение хлеба — благодатное и неисповедимое чудо:
Выйдет в поле травка…
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться В золотые ткани…
С тихою молитвой Я вспашу, посею,
Уроди мне, Боже,
Хлеб — мое богатство[1164].
И мотив этот повторяется всюду. Бог рождает хлеб. Вот где глубочайшая божественная основа народного миросозерцания, народной поэзии.
Слишком часто наше интеллигентное народничество упускало из виду эту идеальную сторону русского земледельческого быта, слишком часто оно боязливо отворачивалось от красоты и поэзии, признавая их барскою роскошью, слишком часто становилось на исключительно экономическую, мертвящую точку зрения, забывало в своих деловитых исследованиях, что дать народу Бога — это значит дать ему хлеба. Горек будет хлеб, если мы дадим его только по утилитарному, статистическому расчету, только в холодном разумном сознании экономической необходимости, без умиления, без сочувственной, братской веры в то, что у народа есть самого святого:
Видит солнышко,
Жатва кончена:
Холодней оно Пошло к осени,
Но жарка свеча Пред иконою Божьей Матери [1165] .
Если в душе интеллигентных людей навеки потухнет мерцание этого божественного света, то уже никакая статистика, никакая политическая экономия, никакие заботы о хлебе насущном не возвратят нас, холодных, безбожных и мертвых, к живому сердцу народа. Только вернувшись к Богу, мы вернемся к своему народу, к своему великому христианскому народу. Другого пути нет. И конечно, тогда мы не устыдимся ни красоты, ни Пушкина, ни поэзии, ни европейской культуры, ни той же статистики и политической экономии, ибо все это нужно и народу не меньше, а больше, чем нам, или по крайней мере будет нужно.
Некрасов иногда становится на точку зрения, чуждую великому и свободному искусству, утилитарную, исключительно экономическую, и тогда его поэзии превращаются в холодную прозу, его могучая лирика — в журнальную сатиру. Именно это служение злобе дня, то есть слабую сторону Некрасова, превозносили наши реалистические критики. Они совершенно упустили из виду, что есть другой Некрасов — великий и свободный поэт, который помимо своей воли творил «не для житейского волнения, не для корысти, не для битв», Некрасов — идеалист, Некрасов, как более или менее все русские люди, — мистик, Некрасов, верующий в божественный и страдальческий образ распятого Бога, самое чистое и священное воплощение духа народного. Он тоже имел силу, как Достоевский и Л. Толстой, любить русскую землю мировою, всечеловеческой любовью. И в этом смысле он вовсе не журнальный «боец», не служитель злобы дня, а такой же вечный поэт, как Пушкин, как Лермонтов. Мы имеем право, мы должны гордиться Некрасовым и перед Европой. Он — один из самых сильных русских художников, один из представителей оригинальных задатков русской культуры. Он навсегда останется велик тем, что открыл новую красоту, нашел в струнах современной лиры новые, до него еще никому не ведомые звуки песни жгучей, беспредельной любви к народу. Вот в чем его сила!
Храм Божий на горе мелькнул,
И детски–чистым чувством веры Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль, —
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали Ни Римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой Святое бремя приносил —
И, облегченный, уходил!
Войди! Христос наложит руки И снимет волею святой С души оковы, с сердца муки И язвы с совести больной…
Я внял, я детски умилился,
И долго я рыдал и бился О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений предстоящих Пред этим скудным алтарем[1166]!
Вот истинный Некрасов, бессмертный русский поэт! Это чистейшее откровение духа, то есть самая возвышенная и свободная религия. И заметьте, как в этих строках он далек от мелких насущных вопросов жизни, от злобы дня, от цифр и деловой статистики. Поэт достигает великой красоты, служит ей бескорыстно, как Пушкин, как Лермонтов, как служили и будут ей служить все истинные поэты на земле. Некрасов против своей воли доказал, что Пушкин, не понятый реалистическими народниками, был прав. В самом деле, поэты —
…рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…[1167]
Родина всю жизнь, до последнего вздоха, сливалась для него с таинственным и чистым видением покойной матери. Это высочайший символ любви к родной земле, какой только есть в русской поэзии:
Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой — величаво–безгласная,
Молода, умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне При волшебно светящей луне.
Да! Я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Но робеть перед правдой–царицею Научила ты музу мою;
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения Ты, чистейшей любви божество…[1168]
И поэт жаждет мученической смерти, чтобы доказать свою любовь к Ней — все равно к Матери или к Родине — эти два великих, многострадальных образа для него сливаются. Разве такая поэзия — не религия?
Много суетного, болезненного и даже порочного в Некрасове–журналисте, скептическом современном человеке, деловитом издателе, сатирике, пишущем хлесткие стихи на злобу дня. Но те, кто говорят, что он — не художник, останавливаются на шероховатой, прозаической и холодной поверхности, не умеют проникнуть в живую глубину поэзии. Там, за полемикой, утилитарным уродством, суетой и грязными петербургскими сумерками, в глубине души его не потухает тихий, всепримиряющий свет народного евангельского идеала, о котором Кольцов так хорошо сказал:
Но жарка свеча Поселянина Пред иконою Божьей Матери.
И Некрасов сам это чувствовал. В безверии, в отчаянии, на краю могилы он протягивает к Ней, к Матери, свои руки и знает, что Она исцелит его и убаюкает, знает, что беспредельная любовь к родине — его сила, его оправдание перед людьми и перед Богом, его красота. И с вдохновенною гордостью восклицает он, прощаясь с жизнью:
О, Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат Мои вины людская злоба —
Не плачь! Завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами Порваться долго ты не дашь Живому, кровному союзу!
Не русский — взглянет без любви На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…[1169]
Он прав. И никакое равнодушие поклонников так называемого чистого искусства, никакие несправедливые нападки мнимых эстетиков не уничтожат этого страдальческого ореола!
К сожалению, наши критики–реалисты мало оценили вечную сторону поэзии Некрасова. С ревнивой мелочностью они прилепились к его полемике и сатире, к его сухому и прозаическому взгляду на жизнь, к отрицанию красоты и злобе дня. Последующие народники, гораздо менее талантливые и умные, сняли с него божественный и мученический ореол, терновый венец, ограничили и сузили могучую, страстную любовь Некрасова, с высоты вдохновенной поэзии свели ее к исключительному преобладанию деловой статистики и политической экономии. Правда, они говорят о любви к народу, но нет в их речах, в их скучной, холодной полемике ни огня, ни трепета живой любви. Явилась какая‑то особая, вовсе не народная, а мужицкая литература — условная, мертвая и сентиментальная. Критики противоположного эстетического лагеря выражали довольно странный и комический протест, уверяя, что мужик им надоел, что мужик, наконец, их просто душит и назло народникам до небес превозносили весьма поверхностные, эпикурейские вдохновения Фета. Реакционное, бездарное поклонение мнимым идеалам чистого искусства наводнило русскую литературу не меньшим количеством слабых и уродливых произведений, чем бездарное народничество.
Но по некоторым признакам можно заключить, что в русской литературе то течение, которое я называю любовью к народу, до сих пор — жизненное и глубокое. Оно не связано необходимо с грубым позитивизмом и практическою сухостью, с непониманием красоты.
Как только писатели пытаются изобразить не сословного представителя — мужика в драных лаптях и полушубке, а живую душу человека в народе, как только начинают любить народ религиозной всечеловеческой любовью — не сто миллионов экономических единиц, а воплощение «Царя Небесного в рабском виде», по выражению Тютчева[1170], тотчас же сами собою у них являются вдохновение, и огонь, и сила, и красота. Без красоты не бывает у людей ни одного великого чувства, как без света не бывает могучего пламени[1171].
Первый рассказ г. Короленко «Сон Макара» — его лучшее произведение. Религиозное вдохновение окрыляет поэта. Раз в жизни трезвый, умный этнографический наблюдатель отдался этой силе, и посмотрите, что она сделала с ним, как охватила и унесла на такую высоту, на которой он никогда не был и, может быть, никогда не будет.
«Сон Макара» стоит совершенно одиноко в молодой народнической литературе. Как лучшие рассказы В. М. Гаршина, — это лирическая поэма в прозе. Когда вы давно ее не перечитывали, в душе остается неизгладимое воспоминание о ней, как о величавом сновидении, как о торжественной и грозной мелодии, подобной шуму лесов над сибирскою тундрой.
Вот — чистейшая религиозная легенда, детская, наивная и глубокая, как лучшие легенды прошлых веков.
Один из «малых сих», даже не русский мужик, а якут — глупый, грязный, уродливый — в загробном мире, на страшном суде перед Отцом Светов, перед неизреченной Справедливостью и Разумом вселенной. Вы предчувствуете, что единое слово, единый взор Судии сразу уничтожит, раздавит, возвратит к небытию это жалкое существо. Что он может возразить, что он может привести в свое оправдание? Он понурил голову, молчит и ждет приговора. Как затравленный зверь, и здесь, в загробном мире, он по старой привычке пускается на свои крохотные, земные хитрости, он думает обмануть Всеведущего. И его обличают… Теперь уже нет никакого сомнения, что он погиб безвозвратно. И вдруг в последнюю минуту из какой‑то страшной, неведомой глубины человеческого духа подымается не мольба, а крик свободы, безумная жажда не справедливости, а любви.
Когда библейский патриарх на своем гноище, из праха и пепла, когда Фауст Гёте, Манфред или Каин Байрона обращаются с этим криком возмущенной совести к Верховному Судие, вы чувствуете, что они имеют право на голос. Как высшие духи от лица человечества, от лица всего мира, должны предстоять они перед Невидимым. Но дикий полузверь из глубины обледенелых тундр, пьяный, уродливый, грязный якут, имеет ли он такое же право на крик свободы и возмущения, как древние титаны человеческого духа? Да, имеет!.. И даже еще большее право, потому что он — бессилен, дик, безобразен, и наперекор всему этому он — человек, а не зверь, он — образ и подобие Божие на земле. Воистину нет такой глубины падения, из которой человек не имел бы права воскликнуть к Своему Отцу: «Господи, не суда Твоего хочу, а любви Твоей!»
Такие произведения, как «Сон Макара», показывают, что дух жизни, дух русского народа еще не отлетел от нашей молодой литературы. Только на поверхности — упадок, омертвение, холод, а там, в глубине, дремлет Бог знает сколько нетронутых и невидимых сил. Только что наши поэты, даже как будто случайно, даже мимоходом, коснутся вечных евангельских идеалов народа, — у них является неожиданное могущество, как у Антея[1172], когда он касается родной земли: словно живая, теплая кровь вливается в их жилы… И они воскресают.
Такое же чудо происходит иногда и с другим современным народником, Глебом Успенским.
Наши критики–реалисты превознесли его до небес. Наши эстетики смешали его чуть не с грязью или же высокомерно молчат, игнорируя его существование.
Несомненно, что убийственное для всякой поэзии утилитарное поветрие коснулось Гл. Успенского в большей мере, чем Некрасова. Успенский как будто не смеет отдаться вдохновению, пишет под гнетом «злобы дня», пускается в полемику, вместо того чтобы трогать сердце читателя, думает доказать цифрами и данными статистики то, что можно доказать только
любовью и творчеством. У него есть тот непреодолимый стыд красоты, который я отметил в Некрасове, который свойствен и многим другим русским писателям. Впрочем, недостатки Успенского слишком ясны, чтобы стоило долго о них говорить. Каждый поверхностный читатель может их легко определить. Я думаю, что даже поклонники Гл. Успенского согласятся с тем, что у него нет ни одного стройного, гармонически–прекрасного и законченного произведения, какие есть, например, у Некрасова.
Но, повторяю, и с ним происходит то же чудо, как с другими народниками, и он превращается в истинного поэта, и его увлекает та же великая, божественная сила любви к народу.
Все, что Глеб Успенский говорит о гармонии, о красоте земледельческого быта («Власть земли»[1173]), — превосходно. Это настоящий комментарий к одной из лучших песен Кольцова — «Урожай». Все это вытекает не из политико–экономических соображений, а из творческого духа поэта, близкого к народу. Здесь Успенский как будто преодолел вечный аскетический «стыд красоты» и сердцем понял, что она — не эпикурейство, не роскошь, а живая потребность всех людей, одна из глубочайших основ народной жизни, как и всякой целостной жизни. Вы вдруг невольным удивлением чувствуете, что Гл. Успенский, между прочим, и за красоту любит народ, за красоту и гармонию его величаво–патриархального быта.
Да, всю жизнь этот современный интеллигентный человек путешествовал из конца в конец России, наблюдал, жадно прислушивался к разговорам мастеровых, монахов, землепашцев, раскольников, деревенских кулаков, нищих и всюду, тревожный, скорбный, ничем не удовлетворенный, искал он как поэт, как научный исследователь правды Божьей в русском народе конца XIX века. Правда Божья! Если бы он никогда не переводил этих двух великих народных слов на интеллигентный, утилитарный язык, разумея под ними одну только правду земную, одну только правду социальную и экономическую, оторванную от правды Божьей.
У народа эти правды слиты в одно нераздельное целое и такими нераздельными являются они в лучших произведениях Глеба Успенского, например в очерке «Парамон Юродивый»[1174].
В провинциальном городке, в обыкновенную буржуазную семью приходит человек не от мира сего, юродивый Парамон, настоящий угодник Божий из народа. Сытые, тупоумные чиновники боятся или презирают его. Но дети изумлены, очарованы его силою, подвижническим терпением, нежностью, его поэзией и красотою.
Вот — величайший образ, созданный Гл. Успенским. Искатель правды Божьей, страстотерпец, удрученный железными веригами, долго этот
младенчески–кроткий и суровый образ русского народа не изгладится из нашей памяти.
Цифры, журнальная полемика, утилитарная трезвость и сухость — все это на поверхности, как у Некрасова, все это лишь современная одежда, а там, в глубине, — простой русский человек, под одеждой — мученические железные вериги и язвы, и кровь от них. «Кнутом иссеченная Муза» Некрасова в унижении сохраняла признак власти, она была гордой. У Глеба Успенского нет такой силы. Но зато в этих кротких, как будто потухших глазах, в этом усталом лице — тихая жалость к людям, точно непрестанный упрек кому‑то, точно мольба за них. Холодное, безбожное поколение наших дней может пройти мимо такого человека равнодушно и бросить банальную укоризну: «Это публицист, а не художник!» — не понимая, что наперекор всем рамкам и законам эстетики в мученической любви к народу не может не быть поэзии, не может не быть красоты.
В том же литературном течении ближе всех к Успенскому стоит один современный критик, который имел и до сих пор имеет большое влияние на молодое русское поколение. Я разумею Н. К. Михайловского.
Едва ли не самый низменный и уродливый мир человеческих пороков — неблагодарность. К сожалению, надо сознаться, что этот порок свойствен русским современным публицистам.
Увы! Мы имели еще недавно случай наблюдать классический образчик неблагодарности в отношении одного молодого и смелого рецензента (имени его я не буду называть) к Н. К. Михайловскому. Когда переступается известный предел полемической злобы, люди всех партий, всех направлений соединяются в чувстве нравственного возмущения. Видя, как молодой человек, случайный пришелец, подымает руку на человека, постаревшего в литературе, на деятеля безукоризненного, вся жизнь которого отмечена печатью высшего рыцарского благородства, все испытали это непреодолимое чувство нравственного возмущения[1175]. Нет, нехорошо, нехорошо это было и унизительно даже не для достоинства литературы, а просто для человеческой природы: ибо, повторяю, в одном лишь из всех наших пороков — в неблагодарности — есть какое‑то противоестественное, несвойственное человеческой природе — безобразие. Только то поколение, которое научится ценить доброе и прекрасное в своих предшественниках, прощать их недостатки и признавать их силу, имеет право надеяться на будущее. Живое взаимодействие, примирение прошлого и настоящего — вот величайшая основа всякой культуры.
Много спорили о так называемом «субъективном методе» Михайловского. Доказывали его полную научную несостоятельность. Но кроме способности точных знаний, кроме чисто философской абстрактной деятельности разума в человеке есть другая великая сила, создавшая все искусства, все религии, зажигающая искры вдохновения в ученых и философах, — сила творческая. Метод субъективный есть метод творческий.
Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере[1176] он идеалист. Это все тот же непотухающий огонь любви к народу, который можно проследить у Гл. Успенского и у Некрасова, и еще раньше у Белинского, Добролюбова, Писарева. Когда приверженцы эволюционной теории утверждали: человек — «палец от ноги» общественного организма, когда мнимые дарвинисты проповедовали: поедайте друг друга, способствуйте благодатному закону естественного подбора, тогда и самый невежественный, самый жалкий из людей, носящих образ и подобие Божие, имел бы полное нравственное право восстать на царей разума, на богов точного знания и сказать им в лицо: «Да погибнет вся ваша наука, если она должна привести меня к такому злодейству». Вот почему дилетант Михайловский говорил смело и гордо, говорил как власть имеющий, как человеку прилично говорить даже с богами–олимпийцами современной науки! Он не мог и не должен был иначе говорить. Вся оригинальная сила его произведений — в их глубокой и пламенной субъективности.
Но если он не ученый, не поэт, в чем же, наконец, его значение? У Михайловского есть одна превосходная статья о Лермонтове[1177]. Критик отмечает в Лермонтове черту необычайной героической воли, несокрушимую гордость и силу, что‑то царственное, «признак власти».
Я думаю, что и в безукоризненно чистой и прекрасной литературной жизни таких людей, как сам Н. К. Михайловский, есть нечто героическое. Вот в чем сила таких людей, вот в чем тайна их обаяния. Это не поэты, не ученые, не философы. Литературой, словом они не могут выразить лучшего, что в них есть. Слово только тогда достигает полноты своего действия, когда оно само для себя награда и цель, для них же слово — только орудие для работы или меч для борьбы, а цель — сама жизнь, то есть действие воли на волю других людей.
Явление редкое в конце XIX века — человек, абсолютно чуждый сомнений. Чтобы так безупречно верить в какую бы то ни было святыню, надо иметь силу.
Мы живем в странное время, похожее на оттепель. В самом воздухе какое‑то нездоровое расслабление и податливость. Все тает… То, что было некогда действенным и белым как снег, превратилось в грязную и рыхлую массу. На водах — совсем тонкий, изменнический лед, на который ступить страшно. И шумят, и текут мутные, вешние ручьи из самых подозрительных источников.
Среди этой мучительной, грязноватой русской оттепели и распутицы отрадно смотреть на спокойную силу, незыблемую твердость и незапятнанную чистоту таких людей, как Михайловский. Вот человек! За 25 лет работы он не изменил себе ни одним движением, ни одним помыслом, ни одним чувством и не изменит до последнего вздоха.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему[1178].
И он посвятил этой святыне воистину рыцарское служение без страха и упрека. Слава таким безукоризненным «рьщарям Духа Святого», по чудному выражению Гейне. Их немного у нас на Руси, их с каждым днем все меньше, и мы не умеем их оценить. Я знаю, наши эстетики проходят мимо таких людей с пренебрежительной улыбкой. Эстетики! Богиня красоты могла бы сказать им, как некогда Учитель сказал фарисеям:
«Люди эти чтут меня устами своими, а сердце их далеко отстоит от меня»[1179]. В рыцарском служении Михайловского, так же как в «бледной, кнутом иссеченной музе» Некрасова, есть высшая красота любви, и мертво, и холодно сердце у тех, которые не знали ее.
Но вот вопрос: не следует ли лучшим представителям прошлого, например Н. К. Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что‑нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: «Кто же эти молодые? Укажите на них… Что они говорят? Я их не слышу, я их не знаю…».
Да, голос их слаб. Но, хотя бы это был шепот, он есть. Мы, слабые, ничтожные люди, сегодня шепотом говорим друг другу на ухо то, что гений будущего заставит людей возвещать на кровлях и площадях народных. Разве в первый раз великое начинается с малого, с отвергнутого и осмеянного?.. Помните евангельскую притчу о горчичном зерне. До сих пор можно сказать, что в сердцах человеческих Божественный Идеализм подобен этому зерну горчичному, «которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его»[1180].
Чем свободное удовлетворение мистической потребности современного человека противоречит идеалам Михайловского, Глеба Успенского, Некрасова, идеалам любви к народу? Всему, что можно сказать против внешних форм, в которые облекался божественный идеализм; никто так не будет сочувствовать, как люди, стремящиеся к его возрождению. Но нельзя сказать, что мистическое чувство нераздельно и необходимо связано со своими ограниченными историческими формами. Только освободившись от них окончательно, приобретает оно для человечества то значение, какое должно и будет иметь. Один из глубочайших родников всемирной поэзии — любовь к народу — не может проистекать ни из какого утилитарного расчета, ни из какой политико–экономической необходимости, а только из свободной веры в евангельскую святыню народа, только из божественного идеализма.
Жизнерадостному Гёте случалось говорить: «Немецкий писатель — немецкий мученик»[1181]. С гораздо большим правом можно сказать: русский писатель — русский мученик.
В. М. Гаршин был в полном смысле мученик современной русской литературы. Те, кто хоть раз в жизни видели Гаршина, едва ли забудут его.
Подобные лица для людей слишком искренни. В глубоких глазах его никогда не потухал тревожный, упорный и как будто недоумевающий вопрос. С этим вопросом, с ласковой улыбкой на прекрасных губах, своим тихим голосом он обращался равно ко всем. И все любили его, словно предчувствуя, что он ненадолго с нами, что это — слишком чистое для людей создание Божие.
Кто не помнит впечатления от самоубийства Гаршина? После мучительной борьбы со страхом приближающегося безумия он бросился через перила в пролет грязной петербургской лестницы. Какая смерть! Это настоящая современная трагедия, напоминающая бред из романов Достоевского.
Мы видели это знакомое прекрасное лицо уже на катафалке в сиянии погребальных свечей, в маленькой часовне, переполненной народом. Петербургская толпа с особенным вкусом умеет хоронить своих литераторов.
Собралась молодежь. И судьба представителя нашего скорбного поколения казалась тогда для всех нас зловещим предзнаменованием…
Помню, вокруг лица усопшего были свежие цветы — и они шли к нему, как идут к молодой девушке. Он лежал тихий, почти радостный. Тревожный вопрос, на который он всю жизнь искал и не нашел у людей ответа, потух в глазах его. Недоумение исчезло, и великое спокойствие было на бледном лице… Русский писатель — русский мученик!
Все произведения Гаршина могли бы уместиться в одном томике. Но зато эта маленькая книга едва ли когда‑нибудь исчезнет из русской литературы. В ней есть художественное совершенство, то есть единственное, чего время и обстоятельства не могут разрушить.
Гаршин даже после своих великих предшественников — смелый новатор. Он бесповоротно и окончательно порвал с условными традициями бытового реалистического романа, владычество которого наполняет середину XIX века и только теперь на наших глазах понемногу начинает слабеть. Во всем, что он написал, от первой до последней строки, — ни одного неверного звука. Абсолютная, беспредельная искренность, которая вызывает беспредельное доверие читателя. В такой поэзии есть что‑то священное и страшное, как в исповеди. Он создал язык особенный, еще небывалый, поражающий краткостью: из прозы Гаршина, как из лирического стихотворения, как из песни, слова не выкинешь. В конце века, несмотря на подавляющее влияние предшественников, великих создателей романа, Гаршин возвращается к идеальной форме, преобладающей в начале XIX века, — к лирической поэме.
Но романтики начала века воспевали идеальных героев — гречанок, демонов, пиратов, фей. Гаршин для своих лирических поэм в прозе, которая, впрочем, совершенством музыкальной формы не уступает лучшим стихам, избирает героев менее всего идеальных: это — неисцелимо больной, и притом самой уродливой болезнью — гангреной от флюса, проститутка, раненый, покинутый на поле сражения рядом с гниющим трупом, сумасшедший. На грубую и жестокую действительность Гаршин не набрасывает поэтической дымки. Он ни перед чем не останавливается, ищет правды, какой бы она ни была чудовищной, срывает все покровы, обнажает все язвы. Рядом с лирическим поэтом в нем беспощадный физиолог и натуралист. Получается действие, еще в литературе небывалое. По контрасту обаятельного изящества формы с невыносимым ужасом внутреннего содержания — мы встречаем нечто подобное только в новеллах Эдгара Поэ.
Первый рассказ Гаршина на военную тему «Четыре дня» явился после Толстого. Но — несомненный признак большой силы — он произвел впечатление новое, независимое от автора «Войны и мира» и «Севастопольских рассказов».
Гаршин прежде всего хочет выразить чувство, им самим испытанное: ужас перед бессмыслицей и уродством войны. Как поэт, как лирик, он жертвует всем для охватившего его страстного порыва. Он идет прямо к цели, не тратя ни одного лишнего слова. Он отстраняет психологические мотивы, изображение характеров, мелочи обстановки. Я не знаю, кто этот раненый, забытый на поле битвы, каково его прошлое. Я только знаю, что он такой же человек, как я. И мне довольно. Я ставлю себя на его место или, лучше сказать, автор, забыв мою личность, забыв личность героя, заставляет меня переживать свои собственные ощущения. Он дает мне очень немного, но все, что дает, действует неотразимо. Я никогда не забуду, с каким чувством этот интеллигентный, добрый человек, отправившийся на войну убивать людей из принципа современной нравственности, втыкает свой штык в тело ни в чем не повинного турка. Уголок неба, кустарник, клочок земли — вот вся обстановка. Отрывки воспоминаний. Здесь главное: два символа, два человека, живой и мертвый, палач и жертва, Люди и Война. Мало–помалу этот зловонный, распухший под знойным солнцем труп в солдатском мундире с блестящими пуговицами делается воплощением всего ужаса и безобразия Войны. Раненый рядом с трупом — воплощение разумного человечества, начинающего войну во имя стихийной любви к родине. Таким образом, все, что испытывает безличный, безымянный, неведомый человек, получает для нас глубокое значение, и натурализм в описании страшного хода тления порождает ряд поэтических символов. Реальная повесть превращается в лирическую поэму.
Достоевский, Гончаров, Толстой действуют целыми массами, громадными размерами своего художественного полотна, всею площадью поэтического кругозора. Гаршин, напротив, до последних пределов суживает и ограничивает поле своих действий. Он дает minimum образов и впечатлений, экстракт из обширного материала, которого хватило бы другому на целый роман. Он не расширяет своей идеи, своего чувства до сложной человеческой драмы, он упрощает и сосредоточивает их в один художественный образ. Действие такой сосредоточенной лирической силы ограниченнее, но глубже, чем действие эпоса. Подобное произведение входит в сердце читателя как острие. Оно гнется, кажется слабым и хрупким. Но поэту и не нужно подавляющей силы. Дело в том, что на самом конце острия есть у него капля смертельного яда. Это — яд мысли, яд того неразрешимого сомнения, которое довело Гаршина до безумия. И ему достаточно слабого, почти нежного укола, чтобы яд вошел в кровь и отравил самого читателя.
Таких лириков мало интересуют индивидуальные особенности человеческих характеров. Гаршин иногда совсем покидает людей. В чудесной поэме «Attalea princeps» героиня — роскошная пальма. Ей хочется на волю из‑под стекла оранжереи. Но слишком нежное растение юга не выдерживает нашей суровой северной свободы. В каждом слове рассказа вы чувствуете тот же возвышенный символизм, как в последних произведениях Тургенева. Реальная действительность для Гаршина — холод, который губит «Attalea princeps». Он сам похож на это грациозное, слишком нежное растение, созданное не для нашего беспощадного неба. Борьба гибких зеленых листьев с железом, безнадежная и неутолимая жажда свободы — все это символ трагической судьбы самого поэта. Такая же лирическая поэма в прозе — «Красный цветок». Никто еще не описывал сумасшедший дом с более ужасающим реализмом. Гаршин всей своей жизнью заплатил за страшный психиатрический опыт.
Зло мира заключено для безумца в этом таинственном символе крови, невинно проливаемой, в Красном цветке. Кто дерзнет сорвать его, уничтожит зло на земле, но сам погибнет. Сумасшедший герой приносит великую и бесполезную жертву, срывает цветок и умирает за людей. Как жажда свободы в «Attalea princeps», здесь великое самопожертвование любви приводит к прекрасной, но никому не нужной смерти безумца. С какой нежностью и скорбью поэт развенчивает идеал любви, идеал свободы!
Сердце Гаршина, как сердце этого безумного подвижника, жаждет неумолимо чудесного, жаждет Бога. Но недаром он написал гимн хотя бы недостижимой Свободе в «Attalea princeps». Его мысль, его миросозерцание вышли целиком из великого освободительного движения шестидесятых годов. Утилитарная теория земного счастия, земной свободы не удовлетворяла религиозной потребности его сердца. Он сделал все, чтобы убить эту глухую потребность, боролся с ней до последней капли крови, но не победил. Поэт, имевший несчастие родиться в эпоху и в стране, где отрицание сделалось синонимом умственной независимости, был создан для веры, и только вера в бесконечный идеал могла спасти его. Но мистическое чувство, как почти все люди его поколения, он считал трусливым отступничеством, рабством, возвращением к старым цепям. Роковая ошибка! Его душа, слабая и женственная, не вынесла этого мучительного раздвоения. Трагическое противоречие XIX века, которое мы уже видели в Толстом и Достоевском: потребность верить — невозможность верить, в Гаршине доходит до последней крайности, до пределов безумия.
Незадолго перед смертью он прочел рассказ Чехова «Степь» и с радостью приветствовал новый талант. Он искренно восторгался его непосредственным чувством природы, здоровьем, спокойною любовью к жизни, уверял, что «Степь» как будто исцелила и на минуту заставила его позабыть страдания[1182].
В самом деле, Гаршин глубже, чем кто‑либо, по закону психологической противоположности должен был почувствовать силу Чехова. Трудно найти больший контраст художественных темпераментов.
Гаршин не интересуется людьми и мало знает их. Чехов любит и знает людей. Гаршин погружен в себя, сосредоточен в одном неразрешимом вопросе о правде, о жизни и смерти; Чехов с беспечностью художника отдается многозвучным, разнообразным впечатлениям природы и жизни; Гаршин, как Достоевский, — поэт Петербурга, он вышел из душной комнатной атмосферы, он жаждет и боится, как «Attalea princeps», вольного воздуха, он далек от природы; для Чехова природа — источник всей его силы, крепости и здоровья, он — не петербургский. Автор «Степи» — из глубины России. Гаршин почти исключительно рисует один характер раздвоенного и болезненного человека. Чехов лучше всего умеет изображать людей простых, непосредственных, мало думающих и глубоко чувствующих; Гаршин сам болен; у Чехова избыток даже слишком крепкого, может быть, к несчастию для него, несколько равнодушного здоровья. Благодаря своему здоровью он мало восприимчив ко многим вопросам и течениям современной жизни.
И, несмотря на эту полную противоположность темпераментов, вы сразу чувствуете, что Гаршин и Чехов — дети одного поколения.
Чехов, подобно Гаршину, откидывает все лишнее, всю беллетристическую шелуху, любезную критикам, возобновляет благородный лаконизм, пленительную простоту и краткость, которые делают прозу сжатою, как стихи. От тяжеловесных бытовых и этнографических очерков, от деловых бумаг позитивного романа он возвращается к форме идеального искусства, не к субъективно–лирической, как у Гаршина, а маленькой эпической поэме в прозе.
Некоторые люди как будто рождаются путешественниками. У Чехова есть эта жадность к новым впечатлениям, любопытство путешественников. Ум его трезвый и спокойный, может быть, для современного поэта даже слишком трезвый и спокойный. Но его спасает художественная чувствительность, неисчерпаемая, очаровательная, как у женщин и детей, и (к счастью, для слишком здорового, равнодушного художника), можно сказать, болезненно–утонченная. Он замечает неуловимое. На нервах поэта отзывается каждый трепет жизни, как малейшее прикосновение на листьях нежного растения. И эта жадная впечатлительность вечно стремится к новому и неиспытанному, ищет никем не слышанных звуков, невиданных оттенков в самой будничной знакомой действительности. Чехову, как и Гаршину, не надо обширного полотна картины. В мимолетных настроениях, в микроскопических уголках, в атомах жизни поэт открывает целые миры, никем еще не исследованные. Ум художника спокоен, но нервы его так же чувствительны, как слишком напряженные струны, которые при малейшем дуновении издают слабый и пленительный звук.
Иногда взбираешься по скучной петербургской лестнице куда‑нибудь на пятый этаж, чувствуешь себя раздраженным уродливыми и глупыми житейскими мелочами. И вдруг на повороте из приотворенных дверей чужой квартиры донесутся звуки фортепьяно. И Бог знает, почему именно в это мгновение, как никогда прежде, волны музыки сразу охватят душу. Все кругом озаряется как будто сильным и неожиданным светом, и понимаешь, что никаких в сущности огорчений, никаких житейских забот нет и не было, что все это призрак, а есть только одно в мире важное и необходимое, то, о чем случайно напомнили эти волны музыки, то, что во всякое мгновение может так легко и неожиданно освободить человеческое сердце от бремени жизни[1183].
Так действуют маленькие поэмы Чехова. Поэтический порыв мгновенно налетает, охватывает душу, вырывает ее из жизни и так же мгновенно уносится. В неожиданности заключительного аккорда, в краткости — вся тайна непреодолимого никакими словами музыкального очарования. Читатель не успел опомниться. Он не может сказать, какая тут идея, насколько полезно или вредно это чувство. Но в душе остается свежесть. Словно в комнату внесли букет живых цветов, или только что вы видели улыбку на милом женском лице…
Этим разрушением условной беллетристической формы повести или романа, этой обнаженной простотой и сжатостью прозы, напоминающей стихи, любопытством к неизведанным впечатлениям, жадностью к новой красоте Чехов примыкает к современному поколению художников. Мы видели, что Гаршин действует символами. Чехов — один из верных последователей великого учителя Тургенева на пути к новому грядущему идеализму, он так же, как Тургенев, импрессионист[1184] [1185] [1186]. К тому же течению примыкает и современная стихотворная поэзия, из многих талантливых представителей которой я возьму как наиболее характерных для моего исследования К. М. Фофанова и Н. М. Минского.
На одной из художественных выставок я наблюдал с удовольствием крайнее недоумение рассудительных буржуазных лиц перед одной картиной Репина. Это был портрет Фофанова. Художник удачно поместил фигуру поэта на легком дымчато–лазурном фоне. Фофанов гордо и наивно подымает к своему лирическому небу уродливое и вдохновенное лицо. Какое странное видение для петербургских чиновников и практических барышень! На устах у многих из них я заметил недоверчивую, даже насмешливую улыбку. А между тем на этом изможденном лице было то, чего нет и никогда не будет на многих цветущих здоровьем, благоразумных лицах. Чувствовалось с первого взгляда, что это «Божьей милостью поэт».
Перечтите помещенные года два тому назад в «Русском обозрении» письма Фета[1187]. Вы познакомитесь с весьма интересным типом русского эстетика и эпикурейца. Оказывается, что автор «Шепот, робкое дыханье» весьма деловитый и опытный помещик. Как он солидно и практично рассуждает о хозяйстве, о капиталах, о процентах. В его деловитых взглядах довольно странная для поэта практическая сухость. С первых слов этих автобиографических писем вы чувствуете, что перед вами человек, слишком щедро одаренный житейской мудростью, очень себе на уме и менее всего наивный. Но в скучном, никому не интересном помещике таится другой Фет, которого мы знаем и любим. Очевидно, между Фетом–человеком и Фетом–художником нет никакой внутренней связи и, конечно, это не служит ко благу художника. Так называемое, и едва ли основательно, реакционными критиками прославленное «чистое искусство» Фета — только благородное и невинное украшение помещичьего досуга (otium), дилетантизм человека, проводящего в деревенском уединении между Шопенгауэром, Горацием и хозяйственными счетами приятную жизнь. Да, умеренное эпикурейское служение искусству не требует самопожертвования и героизма, но едва ли наши реакционные эстетики не преувеличили значения и долговечности подобного искусства.
Фофанов прежде всего не эпикуреец, подобно Фету, с которым только по внешности он имеет некоторое сходство. Красота для него, может быть, губительное и страшное наслаждение, но во всяком случае не мирный отдых, не роскошь. Фофанов, подобно Гаршину, мученической любовью полюбил красоту и поэзию, для него это вопрос жизни и смерти.
Если вы ищете здоровья в искусстве, вам не надо и заглядывать в произведения Фофанова. Я не знаю в русской литературе поэта более неровного, болезненного и дисгармонического. Ничего не стоит вышутить и обнаружить его комические стороны, едва ли у него найдется и одно стихотворение, от первой до последней строчки вполне выдержанное. Холодно или враждебно настроенный критик выберет из произведений Фофанова множество диких и нелепых стихов. Но рядом с ними встречаются проблески вдохновения высокого. Это — поэзия резких и мучительных диссонансов. Это — поэт городской, порождение тех самых безнадежных петербургских туманов, из которых вышли полубезумные и таинственные герои Достоевского. За каждым его вдохновением вы чувствуете смутный гул никогда не засыпающей столицы, похожий на бред, в сумраке белых ночей, одиночество бедных меблированных комнат, которое доводит всеми покинутых людей до отчаяния, до самоубийства, декорацию грязных улиц Петербурга, которые вдруг, в известный час вечера, при известном оттенке туманной зари, смешанном с голубоватым отблеском электричества, делаются похожими на фантастический и мрачный сон. Вы начинаете верить, что это — вовсе не шутка, когда поэт говорит о страхе безумия, о своей болезни, о нищете, о гибели, что в самом деле в руке, писавшей подобные строки, была лихорадочная дрожь, что поэт, говорящий о голоде, знает по опыту, что такое голод. Между рифмами вам слышатся живые стоны живого человека. Вот, что всего дороже в поэзии, вот, за что можно все простить. За эти капли теплой человеческой крови, прямо из сердца упавшие на страницы книги, можно простить и дикость образов, и неуклюжесть формы, и наивные описания тропической природы, составленные по школьным учебникам географии.
Столица бредила в чаду своей тоски,
Гонясь за куплей и продажей.
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей,
Движенью пестрому не виделось конца,
Ночные сумерки сползали.
И газовых рожков блестящие сердца В зеркальных окнах трепетали[1188].
Это — где‑нибудь на углу Большой Садовой, это — самые прозаические магазины Гостиного двора. Вообразите себе в будничной толпе что‑то вроде средневекового миннезингера — поэта с бледным, изможденным и страстно–мечтательным лицом. Как он верит в свое божественное назначение! Нужна сила, чтобы с таким забвением окружающей действительности проповедовать в современной петербургской толпе:
Вселенная во мне, и я в душе вселенной,
Сроднило с ней меня рождение мое,
В душе моей горит огонь ее священный.
А в ней всегда мое разлито бытие.
Покуда я живу, вселенная сияет,
Умру, со мной умрет бестрепетно она;
Мой дух ее живит, живит и согревает,
И без него она ничтожна и темна[1189].
Попробуйте не согласиться с поэтом или осмеять его. Вполне безоружен и вполне неуязвим, он даже не поймет вашего смеха, и в том его красота и цельность, что он не понимает возможности сомнения или комизма. Он говорит как наивный ребенок и «как власть имеющий», как человек не от мира сего. Я согласен, что это неровные, если хотите, парадоксальные стихи. Но они выстраданы, в них есть трепет жизни. Это не идеально совершенная, тонкая филигранная работа лирика–эпикурейца, дилетанта–помещика Фета. За каждый стих, за каждое, может быть, неумелое слово поэт заплатит всей своей кровью, нищетой и слезами, жизнью и смертью. Разве вы не чувствуете, что это человек искренний? Вот что пленительно! И Гаршин был искренним, говоря о своем сумасшествии, и Надсон, говоря о своей смерти. Может быть, это люди слабые и даже от слабости погибшие. Но они все‑таки дали искусству что‑то небывалое, что‑то свое, они довели до последних пределов нашу современную скорбь и нашу потребность веры. Фофанов, подобно Гаршину, почти не знает людей, мало знает природу. Его картины однообразны: вечно «янтарные зори», «бриллиантовые звезды», «душистые росы», «белые ночи» — в сущности довольно устарелый арсенал. Но ведь подобного лирика привлекает не сама природа, а то, что лежит там, за пределом ее. Как неловко он смешивает черты пейзажа, подмеченные где‑нибудь на Черной речке или в Новой Деревне, с фантастическими оттенками своего внутреннего мира, с царством фей. Все предметы, все явления для него в высшей степени прозрачны. Он смотрит на них как на одушевленные иероглифы, как на живые символы, в которых скрыта божественная тайна мира. К ней одной он стремится, ее одну он поет! В современной, бездушной толпе это больше чем мистик, это — ясновидящий, один из тех редких и странных людей, которых древние называли vates[1190].
Нигде так не чувствуешь прелести весны, как в Петербурге. Надо прожить семь, восемь месяцев в душной комнате без воздуха, без солнца, без листьев, чтобы понять, какая это радость, какое умиление — наша северная весна.
Городскую поэзию Фофанова можно бы сравнить с благоуханием только что распустившихся деревьев между стенами петербургских домов. Среди болезни, лихорадочного бреда, нищеты, спертого комнатного воздуха, тяжелого сплина, близкого к сумасшествию, вы чувствуете вдруг эту робкую, беспомощную ласку неумирающей поэтической молодости, вечной весны.
У немногих счастливых и здоровых поэтов она кажется такой упоительной!
Представитель другого течения в современной русской поэзии — Минский. Фофанов непосредственный, почти бессознательный талант. Влияние культурной среды на него ничтожно. И, если хотите, в этом — непоправимая слабость Фофанова, которая навеки ограничивает круг его деятельности. Он никогда не вырвется из заколдованного сна, из царства
фей, не вступит в современную умственную жизнь. Минский — поэт мысли, и как ни странно сочетание этих двух слов, оно вполне возможно в новой литературе, — поэт–критик.
Развитие его таланта весьма характерно для истории современного поколения. Начал он с подражаний Некрасову, с так называемых «гражданских» мотивов поэзии. Это была довольно неудачная и слабая попытка. В его «Песнях о родине», в «Белых ночах» едва ли найдется хоть одна строка, которая могла бы напомнить могучую, страстную и гневную поэзию Некрасова. Все в этих гражданских монологах — холодно и напыщенно. А между тем из произведений Минского только «Песни о родине» и «Белые ночи» имели внешний успех. Критики–публицисты почувствовали здесь родственную банальность, студенты и курсистки лет пятнадцать тому назад переписывали из «Вестника Европы» в отдельные альбомы и тетради:
О родина моя, о родина терзаний[1191]!
Но вот искренний, оригинальный поэт проснулся в холодном гражданском риторе, и Минский, свернув с гладкой, большой дороги, нашел свою уединенную, тернистую и опасную тропинку. Это глубоко современное внутреннее перерождение, хорошо знакомое людям 80–х годов, он сам описал в интересной книге, потерпевшей полную неудачу, осмеянной и, так сказать, растоптанной всеми литературными партиями. Она озаглавлена несколько вычурно «При свете совести»[1192]. Несмотря на газетно–журнальные гонения, книга эта обратила на себя внимание немногих чутких людей, и, кто знает, может быть, она послужит любопытным документом будущему историку русского мистического движения в конце XIX века. Меня мало интересует метафизическая система Минского — этот странный вымысел поэта, оригинальное возрождение пламенного гностицизма древней Александрии III и IV века в современном Петербурге, между Бурениным и Скабичевским. Но мне кажется глубоко искренней и весьма знаменательной для умственной эпохи, переживаемой нами, исповедь поэта. Здесь та же скорбь, то же мучительное беспокойство и страстная потребность нового идеализма, как у всех молодых писателей — у Гаршина, Фофанова, Чехова. То, что было святыней прошлого поколения — народнический реализм, гражданские мотивы в искусстве, вопросы общественной справедливости, — вовсе не исчезает для людей современного поколения, подобных Минскому: они только переносятся на более широкую арену. Вопросы о бесконечном, о смерти, о Боге — все, что позитивисты хотели насильно отвергнуть, все, что является у Толстого, Тургенева, Достоевского в такой обаятельной художественной форме, возникает снова, но уже без прежней красоты, почти без образов, во всей своей трагической наготе, обостренное, невыносимо–мучительное — в философском трактате, похожем на исповедь, и в философской лирике, похожей на страницы из дневника человека, больного медленной, но смертельной болезнью.
Это — старая, неизлечимая болезнь XIX века. Предвидел и точно рассказал ее симптомы, еще в тридцатых годах, самый благородный и возвышенный из русских лириков–философов — Е. А. Баратынский.
Все мысль, да мысль! Художник бедный слова!
О, жрец ее! тебе забвенья нет:
Все тут, да тут: и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова[1193].
И поэт, мученик мысли, завидует беззаботному артисту–эпикурейцу, который черпает забвение в чувственной красоте, владеет красками, звуками, мрамором.
Есть хмель ему на празднике мирском,
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная [1194].
Разрушительная, безнадежная и все‑таки вдохновенная диалектика преобладает у Минского над непосредственным чувством.
Эта поэзия не обещает никакой радости, не заботится о том, чтобы пленить или понравиться; нет, она, скорее, уязвляет сердце, причиняет ему боль. Ее вдохновение в тонкой, незаметной для толпы, высшей иронии, в ненависти к старым богам! Мысль в такой поэзии является без покровов, без образов, почти без красоты, холодная, обнаженная, по выражению Баратынского, «острая, как луч», и дерзновенная. И все в жизни перед ней отступает, все разлагается и бледнеет — любовь, вера, сама поэзия. Но, в конце концов, после иронии, после отрицания, в душе поэта остается то, чего мысль не могла разрушить, то, перед чем сама она разлагается и бледнеет: это — скорбь о невозможной святыне, безнадежная потребность веры, неутолимая жажда Бога:
Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном,
Тоска неясная о чем‑то неземном,
Куда‑то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робких свет И жажда жгучая святынь, которых нет;
Одно лишь это чуждо тленья…
И потому не тот бессмертен на земле,
Кто превзошел других в добре или во зле,
Кто славы хрупкие скрижали Наполнил повестью бесцельною, как сон,
Пред кем толпы людей — такой же прах, как он, Благоговели иль дрожали.
Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли Какой‑то новый мир мерещился вдали,
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал Среди пустыни бесконечной[1195].
Публика наша до сих пор с младенческим недоумением внимает философскому языку. Она или чувствует, или рассуждает, но не научилась мыслить. Самая глубокая и страстная поэзия мысли ей почти недоступна. Наши критики не умеют отличить рассудочность риторики от выстраданной идеи поэта–философа.
Лучшая похвала такому писателю, как Минский, та, которой Пушкин почтил непонятого и отвергнутого русской критикой Баратынского: «Он оригинален, ибо мыслит… он шел своею дорогою, один и независим»[1196][1197][1198].
В другом месте Пушкин замечает: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, то есть наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам». Пушкин писал это в 31–м году[1199]. Через 60 лет можно повторить его отзыв в применении к современной русской литературе. Мы выйдем из этого всеобщего недоразумения, если наконец прекратится порабощение искусства бесплодными евнухами поэзии, — критиками–публицистами, если раздастся искренний голос художника об искусстве.
С. А. Андреевский по своему художественному темпераменту — истинный поэт–критик. В его стихотворениях есть иногда женственная прелесть и грация, но все‑таки он более самостоятельный и оригинальный художник в своих критических работах. Его превосходные монографии русских писателей — Тургенева, Лермонтова, Толстого, Баратынского, Некрасова, Достоевского[1200] — похожи на портреты, набросанные быстрыми, воздушно–легкими штрихами карандаша, но удивительные по живому сходству с оригиналом, изящной простоте и проникновению в личность писателя. Если хотите, это — все тот же глубоко современный род литературы, сжатые маленькие поэмы критические. Во всяком случае, как не похожи они в своем благородном, художественном лаконизме на многословные, отменно длинные и тяжеловесные трактаты наших присяжных критиков–публицистов, пишущих слогом политических передовых статей. Впечатление от прекрасного можно передать только прекрасным языком, а не уродливым, бездушным «волапюком»[1201] газетно–журнальных отчетов. Когда, например, г. Скабичевский восторгается Некрасовым или
Лермонтовым, он употребляет такой стиль, как будто говорит о подоходном налоге в России или о последнем заседании Городской Думы.
На художественном языке очерков Андреевского вы чувствуете как бы отблеск и благоухание поэзии того писателя, которым он занимается. За любимой книгой он всегда видит живого человека, родственного ему, страдающую душу писателя. Не публицист говорит о представителе отвлеченных идей, а человек о человеке, художник о художнике. Правда, у Андреевского нет объективного и строго научного анализа. Но зато глубокое вдохновение такой субъективно–художественной критики — живая любовь. Только любовь делает возможным проникновение в душу поэта.
Сколько было написано о Лермонтове, как ожесточенно публицисты спорили об его общественных и политических идеях, как тщательно и кропотливо добросовестные издатели сравнивали черновые наброски, как много было потрачено бумаги на яростную полемику между серьезными профессорами и журналистами по поводу незначительных вариантов! И все эти исследователи ходили вокруг художника, никто не постарался и не сумел войти в его внутренний мир, никто не вступил, — по выражению Гёте, — «на его почву»[1202], ни для кого Лермонтов не был попросту живым, родственным и близким человеком. Но поэт подошел к поэту — и тайна открылась. Он сказал искреннее и потому глубокое слово. В самом деле, едва ли не лучшее, что написано на русском языке о Лермонтове, — маленькая художественная монография Андреевского[1203]. После мертвой книжной эрудиции вы как будто говорите с человеком, лично знавшим Лермонтова, полюбившим живого поэта, а не отвлеченного представителя газетно–журнальных идей, пригодных для полемики.
Такой критик, свободный в своих суждениях, стоит выше враждующих литературных партий и лагерей. Сочувствие жизненной трезвости, сатире, могучему гражданскому вдохновению Некрасова не мешает Андреевскому понимать и далекую от повседневной жизни философию Баратынского, и мистицизм Лермонтова, огорченного своим божественным происхождением. Он высоко ценит социальные мотивы Достоевского и не объявляет Л. Толстого реакционным писателем за его сомнения в идеалах человеческой культуры.
Новый критик обладает качеством едва ли не самым редким в русской литературе — искренним уважением к нравственной свободе писателя, высшей культурной терпимостью. Пусть литературные лагери враждуют, спорят и уничтожают друг друга в бесконечной и бесплодной полемике. Поэт занимает поэта. Один дружественный знак, одна улыбка разрушают преграды, воздвигнутые яростными журнальными партиями.
Они — дети одной великой семьи. Здесь царствует полная свобода и полная терпимость. Эту художественную терпимость Андреевского должно приветствовать как явление, еще небывалое в русской современной литературе.
Но терпимость вовсе не предполагает отсутствия страстного личного отношения и личного вкуса. Так же как во многих из его современников, в Андреевском чувствуется охлаждение к утилитарному и позитивному искусству, признаки того же мистического веяния, которое пронеслось над всей европейской литературой. Как писатель относится к вечным вопросам о Боге, о смерти, о любви, о природе, всего более интересует нового критика, то есть именно та сторона поэзии, мимо которой прежнее поколение публицистов проходило с равнодушием и непониманием, как будто все общественные идеалы, земная справедливость и равенство не основываются на этих вечных, легкомысленно отвергнутых и теперь с новою силою, с новою болью вернувшихся вопросах.
Тот же характерный поворот к философскому настроению я должен отметить и в другом современном критике — В. Д. Спасовиче.
По времени своей деятельности, по своим годам Спасович принадлежит к прошлому поколению. Но все‑таки я не могу считать его стариком. По своей неутомимой энергии, удивительной отзывчивости на самые последние потребности жизни, по избытку увлечения и неувядаемой поэзии он молод. По крайней мере эта молодая старость более похожа на страстную и вдохновенную пору жизни, чем молодость многих современных юношей. Вот почему я с полным правом могу отнести Спасовича не к прошлому, а к новому литературному поколению.
Работы его о Байроне, Мицкевиче, Словацком, Лермонтове, Пушкине написаны превосходным языком[1204]. Вот первый и несомненный признак критического таланта! Необходимое условие художественной критики — художественная, а не ремесленная форма самой критики.
В языке Спасовича вы чувствуете не совсем великорусский акцент, который не только не портит, а, напротив, придает оригинальную свежесть и простоту его стилю. Этот акцент стирает условную, мертвую эмаль нашего современного литературного языка и приближает его к источнику всякой крепости и силы, к духу живой народной речи, ибо все‑таки чистая стихия русского языка — общая, древнеславянская стихия. У Спасовича нет этой, любезной всем банальным писателям, предательской гладкости языка, удобной для выражения таких же гладких и бесцветных мыслей. Он, не заботясь о своем красноречии, страстно и нетерпеливо хочет высказать мысль, не ищет образов: они, сами невольно слетая с его языка, напоминают меткие народные пословицы. Среди обширной эрудиции, среди ученых цитат, ссылок, точных и упорных исследований в этом сильном языке вспыхивают искры поэтического вдохновения: так под огромным тяжелым молотом кузнеца, который думает только о работе, а не о красоте, сами собой вспыхивают дивно–прекрасные огненные искры!
И, несмотря на прелестный и наивный славянский акцент, несмотря на простоту и близость к живому духу народа, вы чувствуете в критике огромную образованность. Прочтите замечательное исследование о Байроне. Про эту статью можно сказать то же, что Пушкин говаривал о статьях Вяземского — вот критика европейская[1205]. Явление неоценимое в современной русской литературе! Больше всего нашим публицистам, даже самому талантливому из них, Белинскому, недостает европейской образованности. Уж нечего говорить о современных рецензентах. Эта высшая степень культурности придает Спасовичу столь редкую у нас философскую широту и свободную терпимость критических взглядов.
Так же как все люди нового поколения, Спасович — идеалист. Его не удовлетворяет ни условный народнический реализм наших критиков–публицистов, ни позитивное искусство. С глубоким сочувствием отмечает он в Байроне, Мицкевиче, Лермонтове божественный идеализм, мятежный, дерзновенный и освободительный, стремящийся к великому обновлению человечества.
По тому же пути, только в другой области, идет Влад. С. Соловьев. На примере Соловьева видно, как в новом человеке возможно это сочетание глубокого религиозного чувства с искренней и великой жаждой земной справедливости. До сих пор русские публицисты считали мистическое чувство явным признаком реакционных симпатий и, как бы оно ни было свободно, признавали его в некотором роде изменой либеральному знамени, даже отступничеством. Предрассудок, понятый во внешних сословиях нашей общественной жизни. Это наследие великого либерального просвещения XVIII века. Конечно, не художественный пантеизм Гёте и не божественная скорбь Байрона, а католический догматизм в Западной Европе слишком долго служил знаменем всех омертвевших, средневековых начал. Исторические формы божественного идеализма слишком долго были опасным орудием порабощения и унижения человеческого духа. В России великое и плодотворное движение шестидесятых годов, благодаря особенностям русского народного темперамента, сопровождалось трезвостью утилитарной и позитивной, практической, деловитой сухостью, отрицанием красоты и поэзии, то есть высшего расцвета европейской освободительной культуры, наконец, презрением к величайшим вопросам жизни, то есть к вопросам религии и христианской нравственности.
Но развенчанная прозаическая, утилитарная свобода и утилитарная справедливость никогда не пленят сердца человеческого. После многих лет, как в молодые годы у Пушкина, у Белинского, у всех лучших русских людей, любовь к народу и общественная справедливость снова являются у Вл. Соловьева как идеал бесконечный и божественный, как святыня, как вдохновение, в ореоле красоты и поэзии.
Никакие позитивные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что‑нибудь бесконечное и бессмертное может зажечь душу человеческую, создать героев, мучеников и пророков. А ведь и до сих пор не одна промышленность, военные снаряды, пар, машины и электричество двигают народами, но и бескорыстное самопожертвование избранников Духа Божия. XVIII век и его ограниченный скептицизм неправы. Нет! Людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников.
Только бесконечное мы можем любить бесконечной любовью, то есть любить до самоотречения, до ненависти к собственной жизни, до смерти. А без этого солнца, без этой любви земля превратится в ледяную глыбу, хотя бы лед и застыл по всем геометрическим законам утилитарной и позитивной механики.
Без веры в божественное начало мира нет на земле красоты, нет справедливости, нет поэзии, нет свободы!
Несмотря на скуку, бездействие, порчу языка, газетно–журнальную анархию, отсутствие крупных талантов и непонятный застой, мы переживаем один из важнейших моментов в историческом развитии русской литературы. Это — подземное, полусознательное и, как в начале всякая творческая сила, невидимое течение. Тайные побеги новой жизни, новой поэзии слабо и непобедимо пробиваются на свет Божий, пока на поверхности достигает последних пределов торжество литературной пошлости и варварства.
Мы видели, что русские писатели предшествующего поколения с небывалою гениальною силою выразили, несмотря на внешний реализм бытового романа, неутолимую мистическую потребность XIX века. И в широких философских обобщениях, в символах Гончарова, и в художественной чувствительности, и импрессионизме, в жажде фантастического и чудесного у разочарованного, ни во что не верующего скептика Тургенева, и главным образом в глубокой психологии Достоевского, в неутомимом искании новой правды, новой веры Льва Толстого — всюду чувствуется возрождение вечного идеального искусства, только на время омраченного в России утилитарно–народническим педантизмом критики, на Западе грубым материализмом экспериментального романа. Современное поколение молодых русских писателей пытается продолжать это движение.
Перед нами — огромная, так сказать, переходная и подготовительная работа. Мы должны вступить из периода поэзии творческого, непосредственного и стихийного в период критический, сознательный и культурный. Это два мира, между которыми целая бездна. Современное поколение имело несчастие родиться между этими двумя мирами, перед этой бездной. Вот чем объясняется его слабость, болезненная тревога, жадное искание новых идеалов и какая‑то роковая бесплодность всех усилий. Лучшая молодость и свежесть таланта уходит не на живое творчество, а на внутреннюю ломку и борьбу с прошлым, на переход через бездну к тому краю, к тому берегу, к пределам свободного божественного идеализма. Сколько людей погибает в этом переходе или окончательно теряет силы.
Великая позитивная и научная работа последних двух веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немыслимо. Потому‑то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании еще небывалом с последними выводами научной критики и научного натурализма, как неистребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца.
Может быть, современное поколение перед этой огромной задачей сознательного литературного воплощения свободного божественного идеализма окажется бессильным, может быть, оно даже погибнет под ее тяжестью.
Однажды, во время Севастопольской кампании, русские солдаты шли на приступ. Между нашими и враждебными укреплениями был глубокий ров. Первые ряды пали и наполнили равелин телами мертвых и раненых. Следующие ряды прошли по трупам. Такие равелины бывают в истории. Через них иначе нельзя пройти, как по мертвым телам.
Впрочем, если даже современному поколению суждено пасть, ему дана радость, едва ли не единственная на земле, ему дано увидеть самый ранний луч, почувствовать трепет новой жизни, первое веяние великого будущего.
Когда Дух Божий проносится над землей, никто из людей не знает, откуда Он летит и куда… Но противиться Ему невозможно.
Он сильнее человеческой воли и разума, сильнее жизни, сильнее самой смерти.
Среди греческих трагедий есть, может быть, произведения более глубокие и сильные, чем «Эдип–Царь» Софокла (например «Скованный Прометей» Эсхила), но нет ни одного, в котором философская глубина и трагическая сила сочетались бы с таким неподражаемым изяществом, с такою благородною грацией и совершенством внешней формы. Тем, кто знает «Эдипа–Царя» в греческом подлиннике, вероятно, не раз приходило на мысль, что это — одно из самых законченных и безупречных созданий человеческого ума, какие только вообще есть у людей.
Недаром всеобъемлющий Аристотель, полноправный владыка двух миров — Науки и Поэзии, — считал эту трагедию высочайшим образцом среди всех других античных трагедий, которые до сих пор служат неподражаемыми и непревзойденными образцами красоты.
В известном смысле «Эдип–Царь» для греко–римского, дохристианского мира является тем же, чем «Фауст» Гёте для нашего времени, то есть наиболее глубоким и целостным воплощением религиозно–философских основ миросозерцания огромной эпохи в жизни человечества.
Над всей трагедией царит, как символическая статуя над храмом, образ чудовища с лицом женщины, с крыльями, с острыми когтями, с львиным туловищем, с опасной и загадочной речью — Сфинкс, воплощение Судьбы, того Непознаваемого, что язычники называли Роком.
Эдип, пришелец из Коринфа, юный герой, сразу победил Сфинкса. Эдип спас людей от его страшного и смертоносного очарования, разрешил его загадку. Таким он является в начале трагедии — отцом и спасителем народа, освободителем человечества от темных сил Рока, героем Разума и Воли. Народ в него верит, и сам он верит в себя, народ считает его чистым и мудрым, как божество, и сам он себя считает если не божеством, то равным ему.
Но Эдип — человек, и только человек. Победа разума и воли над Сфинксом–Роком временная. Правда, Сфинкс бежал, покинул терзаемый народ, но не совсем. По–прежнему соблазнительный и насмешливый, он поселился в сердце победившего его героя. Он скоро опять будет задавать его разуму неразрешимые загадки, опутает его сетью хитростей. Тогда для Эдипа его собственная жизнь сделается неразгаданною Сфинксом. Вот в чем ужас, вот узел этой трагедии: Сфинкс уже не извне, не в природе, а внутри, в душе своего победителя. Он страшнее всякого хищного зверя, потому что он теперь неуловим и бесплотен, как призрак, он — тайна жизни, тайна каждой человеческой совести. Пророк Тирезий имеет полное право бросить в лицо герою эту жестокую, но заслуженную насмешку: «Спаситель всего народа, спаси самого себя!»
«Умеешь Ты хитрые загадки разрешать».
Пусть он узнает, кто его мать, кто отец, в чем смысл жизни: в победе его духа над Судьбой или в победе Судьбы над его духом. Пусть человек разгадает загадку своего собственного происхождения, и окажется, что смысл жизни — преступление, отчаяние и ужас, что воля ничтожна перед вечным законом необходимости. Древний, коварный Сфинкс победил своего победителя, перехитрил разум человеческий, вовлек его в преступные соблазны и погубил.
Но в том, как побежденный герой гибнет, столько величия, что все‑таки трудно решить, что беспредельнее: воля Судьбы или воля человека; вы сомневаетесь, не есть ли побежденный победитель, жалеть ли его за гибель или, напротив, гордиться им, благоговеть перед его всепобеждающим духом.
Вот почему «Эдип–Царь» и теперь, после двадцати веков, все еще сохраняет свою бессмертную юность, вот почему мы имеем право сказать, что это произведение такое же всемирное, общечеловеческое, как «Фауст» Гёте или «Гамлет» Шекспира, хотя менее сложное и разностороннее.
Трагический образ победоносного героя, спасителя народа Эдипа, борющегося против Сфинкса, загадки собственного происхождения, против Судьбы, чудовища лютого, как зверь, окрыленного, как дух, обольстительного, как женщина; этот образ вечен, подобно Прометею, Фаусту, Гамлету, Дон–Жуану, Лиру, подобно всем трагическим образам, из века в век, от поколения к поколению преследующим человечество. Герой и Судьба, воля и необходимость, разум и тайна мира — таков смысл этой религиозно–философской и, как все великое в искусстве, символической трагедии. В самом деле, отнимите у нее символизм, и что останется? Трагическая случайность. С нашей, современной, точки зрения, Эдип ни в чем не виноват. Он ведь не знал, что убивает отца и женится на матери. Ни сознание, ни воля его не участвовали в отцеубийстве, в кровосмешении. Это в сущности не преступление, а только несчастие, только осквернение невинного человека, обманутого пророчествами богов.
Эдип гибнет не потому, что он виноват, а потому, что хотел быть слишком великим для человеческих сил, слишком дерзновенным противником Судьбы и разгадчиком загадок древнего Сфинкса. Он стремился к чрезмерному и невозможному, власть его превращалась в самовластье (как это видно в сцене с Креоном, с прорицателем Тирезием), он стоял выше всех людей, забыл свою человеческую природу, издевался над пророчествами богов, он сам хотел быть богом. Здесь перед нами открывается не трагическая случайность, а самая сущность жизни, роковая неизбежность гибели всякого героя, который надеется только на свою волю, на свою силу, на свое непреклонное и неистребимое «я» при столкновении с тайною мира, с когтистым женоподобным чудовищем, предлагающим свои вечные загадки. Не так же ли гибнут и Фауст, и Манфред, и Гамлет, и Дон–Жуан только потому, что они восстали на закон необходимости и смерти, потому что они возжаждали «сверхчеловеческого»?
Но и самая гибель героев едва ли прекраснейшее, что есть на земле.
Кроме религиозно–философского значения эта трагедия обладает неисчерпаемым художественным обаянием. По силе и тонкости психологического анализа среди всех других греческих трагедий она стоит особняком и приближается к новой европейской драме.
Поэт с изумительным искусством, уже никогда с тех пор не повторенным, сжимая действие, сосредоточивая целую жизнь героя в несколько страшных часов, не изменяя ни разу места действия, показывает нам последовательно все ступени человеческого бытия, начиная от высочайшего блаженства, кончая таким несчастием, какое только доступно людям на земле. Герой становится отверженным, всеми проклятым злодеем, богоравный царь — бездомным бродягою, мудрец, прозревавший в тайны Сфинкса, — жалким слепцом.
Для меня, по крайней мере, ужас и очарование этой трагедии главным образом заключается в неотвратимой и медленной постепенности, с которой надвигается разгадка тайны. Это страшное, как смерть, приближается шаг за шагом, вырастает из крошечного зерна незаметно и неумолимо и, наконец, охватывает и поглощает жертву. В начале трагедии Эдип на высоте славы и могущества; народ его боготворит. Хотя город и поражен несчастием, моровою язвою, но никто не сомневается, что Эдип умилостивит богов, что он, спасший их от чудовищного Сфинкса, спасет и от новой беды.
Первая тень, первый намек на подозрение мелькает в словах Тирезия. Эдипа раздражают боязливые недомолвки прорицателя. Между ними разгорается спор, царь оскорбляет пророка, и тот называет его убийцей царя Лайоса.
Страшный узел завязан и никакие человеческие силы его не распутают.
Эдип не чувствует ни малейшей тревоги. Он возмущен оскорблением, подозревает Тирезия и Креона в заговоре против его власти и с величайшею ревностью сам, перед лицом народа начинает отыскивать истинного злодея, убийцу Лайоса.
И вдруг, в случайном намеке Иокасты, жены его, мелькает что‑то забытое и зловещее. Но все опять путается, и нить исчезает. Он продолжает искать с жадностью, со злобой на преграды, но без всякого страха. Что‑то неуловимое, напоминающее загадки Сфинкса, то приближается, то отступает, то заглядывает ему прямо в глаза, то совсем исчезает. Судьба смеется над ним, чудовище играет с ним, как кошка с мышью. Сфинкс расставляет свои хитрые сети, Эдип хочет разорвать их, борется и еще более запутывает. А между тем сила улик и очевидность преступления все растут и растут с медленной, неотвратимой постепенностью. Эта игра судьбы, эти недомолвки, намеки, засады, насмешки, предчувствия, отвратительные подозрения доводят его до бешенства, он теряет самообладание, сам призывает окончательную развязку. Лучше упасть, чем висеть, зная, что все равно упадешь в бездну. В самой горечи страдания есть опьянение, есть сладкий и мучительный восторг, которые увлекают Эдипа вперед и вперед, не дают ему опомниться. На самом краю бездны он имеет еще силу бросить судьбе вызов. И в это мгновенье обнажается тайна. Он — отцеубийца, он осквернил ложе матери. Тогда только Эдип останавливается, но уже поздно. Теперь несчастный более не ищет разгадки, разгадка сама идет к нему навстречу.
И отвага, и гордость ему изменяют.
Он хватается за каждый сучок на краю бездны, жаждет ослепить себя, хоть призраком защитить от ужаса, обмануть свое сердце и совесть.
Но спасенья нет. Когда он говорит, что верит надежде, он уже ей не верит.
Еще один, последний, удар, последнее слово разгадки, и все кончено. Тогда раздается трагический плач Хора над всякою жизнью человеческой, над всяким стремлением к благу, к истине, к счастью. Быть может, во всемирной поэзии, даже не исключая современной, не высказывалось никогда более безнадежного и страшного пессимизма. И эти глубокие думы выражены с детской наивностью, которая делает их еще неотразимее.
Последняя сцена отчаяния Эдипа, его ослепления, позора, проклятий богам написана с такою силой и беспощадностью реализма, что жалость и ужас, которые мы испытываем, граничат с отвращением — по крайней мере для наших слабых и болезненно–утонченных нервов.
Но гармония не нарушается, красота побеждает ужас, и последние сцены трагедии озарены примиряющей, почти христианской нежностью.
Здесь выступают грациозные, девственные образы Антигоны и Исмены, дочерей Эдипа. Он забывает себя, свое горе и свою гордость, думает только о своих бедных, отверженных и покинутых детях. Разве эта нежность, — это новое, еще слабо мерцающее счастие любви — после всех ужасов и страданий, не победа над самою судьбою, над древним чудовищным Сфинксом. Любовь дает истинное бессмертие человеческой воле, любовь побеждает слепую силу рока.
Автор перевода[1206] был бы вполне вознагражден за свой труд, если бы эта работа помогла углубиться в содержание великого произведения Софокла и отыскать тот именно нравственный смысл и красоту, которые наиболее нужны и близки сердцу каждого из русских читателей. Предлагаемое введение только слабый намек на возможность отыскать такой смысл и такую красоту, которая, несмотря на двадцать веков, отделяющие нас от Софокла, делает его произведение до сих пор живым и современным.
Бальзак, как он сам говорит в предисловии, смотрел на свой роман «Крестьяне» (Scenes de la vie de campagne. Les paysans) как на одно из значительнейших своих произведений[1207]. По убеждениям и темпераменту автор всецело принадлежал старому режиму; будучи страстным ревнителем католической церкви и монархии, он не хотел и, пожалуй, не мог видеть в современном обществе ничего, кроме вырождения и пошлости. Идея прогресса для него не существовала. Но вместе с тем он был слишком крупным художником, чтобы безучастно пройти мимо общественных задач, поставленных перед ним самою жизнью; и, действительно, он относится к ним в большинстве случаев искренно и чутко, так что нередко художественные образы писателя оказываются в полном противоречии с теоретическими взглядами мыслителя.
В предисловии к роману «Крестьяне» автор категорически заявляет, что цель его — разоблачить в этом произведении заговор слабых против сильных, мужика против капиталиста. Мужик, по мнению Бальзака, главный и самый опасный враг существующего порядка. Благодаря своей ничтожности он выше всех законов. Он страшен тем, что никто его не видит и не знает. В темноте незаметно и неутомимо подтачивает он основы государства. Мужик рано или поздно поглотит буржуазию, подобно тому как это сословие поглотило некогда аристократию. Романист берет на себя задачу выяснить господствующему классу грозящую опасность. Цель произведения — донос. Впрочем, к счастью, цель эта остается недостигнутой. В конце концов, крестьянин, несмотря на добросовестные усилия автора сделать из него изверга, неотразимо привлекает к себе симпатии не только читателя, но, кажется, и самого романиста.
Борьба между мужиком и крупным землевладельцем — вот главное содержание книги. В конце прошлого столетия замок Эг принадлежал знаменитой актрисе и куртизанке m‑elle Лагерр. Крестьяне, пользуясь небрежностью управляющего, мало–помалу приучились к различным вольностям вроде потрав, порубок леса, браконьерства. Легкомысленное, но добродушное существо, истинная представительница веселой будуарной философии XVIII века m‑elle Лагерр на все злоупотребления смотрела сквозь пальцы не столько из‑за какого‑нибудь гуманного чувства, как просто по небрежности и в силу популярного в то время принципа: пусть все пользуются жизнью — даже крестьянин. Революция еще более закрепила этот взгляд на нарушение помещичьей собственности как на законное неотъемлемое право мужика.
Но вот после смерти Лагерр в замок является представитель нового, девятнадцатого, века — капиталист, отставной генерал Монкорне, сын обойщика, разбогатевший во время службы в Померании, отважный солдат, но очень недалекий человек. Душа–карлик в теле гиганта, по выражению Бальзака. Генерал, привыкший действовать решительно, объявляет округе свое намерение преследовать по всей строгости законов браконьерство, кормившее добрую половину населения. Среди крестьян распространяется глухое недовольство. Кабак Тонзара, расположенный у самых ворот замка, становится центром волнения, служит чем‑то вроде революционного клуба, в котором происходят собрания заговорщиков. Притон этот обязан замку своим процветанием. На средства, полученные от помещика, Тонзар построил кабак. Жена его, умная и разбитная баба, пользуясь согласием мужа, извлекала многочисленные выгоды из связей с барскими егерями и лакеями. Семья Тонзара — образчик крайнего нравственного разложения — живет почти исключительно браконьерством и воровством.
В крестьянской среде, говорит Бальзак, начиная с 1789 года распространился грубый материализм. Впрочем, по мнению автора, высокий уровень нравственности возможен вообще только в богатстве и роскоши. Честный человек среди крестьян — исключение. Грубый физический труд, изнуряя тело, лишает мысль ее благородного, очищающего влияния. Исходя из этого представления о неизбежной безнравственности, тяготеющей над земледельческим классом, автор с очевидной тенденциозностью приписывает своим крестьянам такое изобилие пороков, низости и разврата, что робкий читатель может испугаться, если только он сразу не поймет, что все это делается именно с тою целью, чтобы его запугать. Вот один из бесчисленных примеров: автор дает понять намеком, что братья и сестры злополучного семейства Тонзар живут в противоестественной связи, что на эти отношения, известные родителям, никто не обращает ни малейшего внимания, как на явление вполне обычное (с. 51); но в дальнейшем развитии романа ни разу больше не упоминается эта подробность, бесцельная для плана всего произведения. Спрашивается, к чему могла служить романисту отвратительная и вскоре им же забытая черта, как не для намеренного запугивания читателя.
Мы не видим в романе настоящего землевладельца–крестьянина: перед нами проходят уродливой вереницей типы безземельного деревенского пролетариата, поставленного в самые исключительные условия. Если, действительно, несколько деревень сплошь населены полупьяными оборванцами и негодяями, изображенными Бальзаком с таким беспощадным натурализмом, кто же несет на своих плечах тяжесть громадного земледельческого труда, как население не умирает с голода? Неужели оно живет исключительно браконьерством в помещичьих лесах? Здесь невольно чувствуется какой‑то пробел. Мы не видим нормальных, незыблемых и веками освященных условий крестьянского труда, составляющих зерно деревенской жизни. Мужики Бальзака напоминают какую‑то фантастическую шайку старомодных итальянских бандитов. Разбойники могут существовать в данной стране сотнями, тысячами, как явление более или менее частое, но когда нас хотят уверить, что тридцать миллионов коренного населения состоит из праздношатающихся и пьяниц, мы вправе усомниться. Не эти ли самые праздношатающиеся и пьяницы настолько трудолюбивы и самоотверженны, что умеют доставлять французскому правительству несколько миллиардов годового бюджета? Итак, мы должны иметь в виду, что типы деревенского пролетариата, выведенные Бальзаком, страдают некоторою исключительностью, что среди них недостает среднего типа обыкновенного крестьянина–труженика. Наибольшей законченностью и художественной отделкой выделяется характер Фуршона, родоначальника и главы семейства Тонзар. Его цинизм, шутовство, лень и пьянство искупаются таким своеобразным, живым умом с чисто народной, юмористической складкой, что он невольно привлекает к себе симпатии читателя. С тонкой грацией написана та сцена, где Фуршон обманывает одного из остроумнейших французских журналистов, Эм. Блонде. Старик заставляет его увлечься охотой за воображаемой выдрой, выманивает деньги, притворяется идиотом и в самых льстивых фразах осмеивает барина, как настоящий сатирик.
Рельефно рисуется характер и убеждения Фуршона в той сцене, где он во время обеда, в присутствии генерала Монкорне, жены его — графини, аббата и журналиста, ораторствует, конечно не с целью произвести какое‑либо серьезное впечатление — для этого он слишком умен, — а с самым практическим намерением позабавить господ, чтобы выманить у них несколько грошей на водку. «Да, нечего сказать, славно мы живем; ходим в чем Бог родил, спим на голой земле, росой умываемся… Воздух да солнце — вот все, что нам осталось…» (с. 82).
«— Но Господь благословляет честный труд, — пробует возразить аббат, — если бы вы трудились, то жили бы не хуже других».
Тогда Фуршон приводит пример семидесятилетнего винодела Низерона: «Шестьдесят лет он долбил землю, вставал с петухами, трудился как вол, закалил тело и душу. А между тем он такой же нищий, как я. Этот праведник награжден за добрые дела той же самой каторжной жизнью, которой я казнюсь за свои пороки. А Низерон и водки‑то во всю жизнь ни разу не попробовал — святой человек, а какой ему от этого прок? По крайней мере я на своем веку повеселился вволю… (je me suis rigole, comme une joyeuse creature du diable). И вот мы теперь оба старики, у нас обоих седые волосы и ни гроша в кармане, ни корки на столе. Не говорите вы нам, господин, про честную работу. Что мужик ни делай, бейся он как рыба об лед, все‑таки схоронят его, как скотину, уйдет он ни с чем, как пришел, а вы, господа, и без работы будете сыты да богаты».
Журналист возражает в свою очередь: по мнению его, теперешнее положение крестьян не оставляет желать ничего лучшего: каждый свободен, не то что в старину, до революции. Закон предоставляет мужику приобретать землю, обогащаться, заниматься промыслами. Чего же больше?
«— Этикетки переменились, — отвечает Фуршон с горькой улыбкой, — а вино — старое. Сегодняшний день — младший брат вчерашнего. Так‑то, господин… Напишите‑ка об этом в ваших газетах. Разве мы свободны? Как были, так и остались крепостными, по–прежнему мы барские: барин‑то наш работа да нужда. Помещик ли, подати ли — нам от этого ни тепло, ни холодно, а знаем мы только одно, что высасывают из нас кровь не меньше прежнего.
— Но вы можете избрать себе какую‑нибудь другую профессию.
— Избрать профессию?.. Да куда же, позвольте спросить, я пойду? Чтобы перейти границу департамента, нужен паспорт, стоит он 40 су. Вот уже лет сорок, как я не помню, чтобы в моем кармане было сразу столько денег. А того, что есть, не хватит и на шесть дней пути. Тут и вся наша свобода. Сиди и долби землю, пока не издохнешь. Что тут говорить! Оставьте вы нас в покое, больше ни о чем не просим. А не то, смотрите, будет плохо! Посажаете вы всех нас по тюрьмам, придется столько народу кормить, что казна разорится. В тюрьмах‑то ваших, пожалуй, лучше живется, чем у нас в деревнях… Вы — богачи, мы — нищие, нам с вами дружбы водить не приходится. Как были, так и останемся врагами».
Старик откровенно признается, что в те времена, когда поместье принадлежало девице Лагерр, крестьянам жилось гораздо свободнее и легче. Актриса по крайней мере не скряжничала, не привлекала к суду за потравы, как это делает генерал Монкорне, представитель нового капиталистического века.
«— Смотрите, господин, — обращается он к изумленному генералу, — смотрите, будет плохо… Народ ропщет, вы можете дорого поплатиться за то, что не даете нам жить, как мы жили при г–же Лагерр».
Глубокое волнение овладевает стариком; он больше не шутит, и весь, как поэт, отдается своему чувству. Что бы романист ни говорил нам о порочности Фуршона, мы не можем вполне ему доверять, потому что художественные образы противоречат рассудочной тенденции автора. На подобный прорыв, на такое хотя бы временное увлечение не способны натуры глубоко безнравственные.
«— Проклятие бедных растет, — говорит Фуршон, — растет оно шире и выше, чем самое большое из деревьев вашего парка, генерал, а из дерева делается позорный столб на виселице. Никто никогда не говорил вам правды, — теперь по крайней мере вы услыхали ее хоть раз в жизни!».
Но проповедник снова превращается в полупьяного шута, кривляющегося для послеобеденного развлечения буржуа. Фуршон протягивает руку господам: «На водочку!» И все рады такому счастливому обороту дела. «Я дам вам сто су, только, ради Бога, уходите!» — восклицает г–жа Монкорне. Аристократические нервы ее неприятно потрясены: «Столовую заражал сильный мужицкий запах, так что графине пришлось бы удалиться, если бы Фуршон остался более в комнате».
Другие крестьянские типы в романе очерчены слегка, в профиль, хотя и в них очень ярко выступают влияния, чуждые земледельческому труду и деревенской жизни: все это не настоящие крестьяне, живущие землею, а либо старопомещичья барская челядь, либо городской пролетариат новейшей формации. Так, например, Катерина Тонзар, внучка Фуршона, рожденная и воспитанная в атмосфере деревенского кабака, в сущности ничем, кроме громадной физической силы и чисто крестьянского здоровья, не отличается от какой‑нибудь парижской поденщицы, промышляющей наполовину честным трудом, наполовину развратом. Бальзак с целью запугать читателя заставляет совершать Катерину невероятные поступки, уменьшающие правдоподобие самого типа. В одной сцене она помогает своему брату, развратному негодяю, в попытке изнасилования пятнадцатилетней девочки, причем автор оставляет читателя в полнейшем неведении относительно мотивов, побудивших Катерину к такому гнусному и совершенно бесполезному для нее злодейству; несомненно одно — делает она это не из‑за выгоды и не по глупости, так как отлично сознает ответственность. Ничем не мотивированное злодеяние понадобилось автору для посторонних целей, не имеющих ничего общего с правдивым воспроизведением действительности. От других типов романа, благодаря слишком сгущенным, мрачным краскам, веет также чем‑то фантастическим. Годенэ, скупой без золота, с надеждой на богатство, превратившейся в манию, тип весьма часто встречающийся, по наблюдениям Бальзака, среди французских крестьян. Курткюисс, карьерист–неудачник и фантазер, жестоко наказанный действительностью за мечты, пожертвовавший личным счастьем и семьей за мираж буржуазной обеспеченности, человек, «одержимый демоном собственности», похожий на несчастного, изнуренного страшной хронической болезнью. Ларош — работник, «проникнутый глухой, холодной ненавистью»; благодаря дурному поведению он нигде не может долго ужиться; он ненавидит работу, но должен выпрашивать ее, чтобы не умереть с голода; он все делает молча, с мрачным, угрожающим видом. У него нет ни клочка земли. Он томится завистью ко всем, кто чем‑нибудь владеет. Ларош — тип деревенского террориста, жаждущего разрушения во что бы то ни стало, разрушения, хотя бы и бессмысленного, бесцельного.
Бонебо, отставной кавалерист, удаленный от службы за распутство, едва ли не самый отвратительный портрет в галерее бальзаковских крестьян. Деревенский дон–жуан, предмет страстного обожания всех красавиц округи, он пьянствует на подачки своих многочисленных обожательниц. Завидное положение буфетчика или содержателя увеселительного заведения — вот заветная мечта бывшего кавалериста. В ожидании карьеры он проводит дни и ночи в кафе, биллиарде и самых грязных притонах разврата. Автор без всякой оговорки помещает этого изверга среди деревенских типов, между тем как в нем нет решительно ничего крестьянского. Он утратил даже чувство солидарности с простым народом. Когда Фуршон сообщает в кабаке известие, что по первому приказанию Монкорне двинут войска на мужиков, все этому верят. Бонебо с обычным хвастовством рассказывает случай из военной практики: «В бытность мою в Тулузе произошел бунт, войска двинулись на мужиков, началась резня. Смешно было видеть, как солдаты рубят безоружный народ. Конечно, сейчас же его усмирили. Десять человек сослали на каторгу, других рассажали по острогам. Что вы там ни говорите, а солдат всегда останется солдатом. По приказу начальства он имеет полное право рубить мужика!». Слова эти достаточно характеризуют отношение Бонебо к деревенской среде. Бальзак инстинктивно чувствовал, что уродливая коллекция его крестьянских типов не совсем правдоподобна; он собрал в одной части картины слишком много густых черных теней, чтобы общее впечатление — даже для его предубежденного глаза — не утратило реальности и жизненной правды. Втайне он осознает, что есть в деревне нечто светлое и хорошее, чего он не сумел или не хотел изобразить. В этом смысле интересна попытка писателя–реакционера отыскать в ненавистной ему деревенской среде высоконравственный, почти героический характер. Революционер и республиканец в античном вкусе, семидесятилетний винодел Низерон «тверд, как железо, чист, как золото», по выражению Бальзака. Он верил в республику Жан–Жака Руссо, в братство народов, в обмен возвышенных чувств, в неподкупный суд и приговор большинства. В настоящее время он всеми забыт и покинут, люди, сумевшие нажиться во время революции, презрительно характеризуют его банальной фразой: «Человек этот никогда ничем не доволен». Но в одиночестве он счастлив по–своему. Двенадцать лет французской республики представляются ему грандиозной эпопеей; он созерцает величие и самоотверженность «мстителя», не замечая убийств, злодеяний, грабежа. Народ является ему возвышенным героем, защитником освобожденной Франции против целой Европы. Крестьяне инстинктивно уважают и даже боятся Низерона. Они говорят про него: «Он не любит богачей, он — из наших». Впрочем, большинство относится к старику не вполне серьезно, смотрит на него как на мечтателя–идеалиста: «Бог с ним, пусть себе говорит, человек‑то он добрый, только в голове у него не совсем ладно». Но тем не менее в крестьянах чрезвычайно живо чувство солидарности с Низероном. Несмотря на значительную идеализацию старого винодела, тот факт, что он является олицетворением исторических традиций, связывающих революционное движение с новыми стремлениями французских крестьян, что, следовательно, движение это прошло не бесследно для массы земледельцев, представляет интересный материал. Личность Низерона, мужика–якобинца, не может быть такой случайной, оторванной от действительности, какой она является в романе Бальзака. Должно же быть в жизни французского крестьянина какое‑то малоисследованное и скрытое течение, выдвигающее Низерона. Но надо заметить, что автор выводит свой положительный тип с чрезвычайной осторожностью, ставит особняком и все время старается, чтобы от него упало как можно меньше лучей на окружающий мрак, как будто боится, чтобы отталкивающее впечатление всей картины не смягчалось этим светлым проблеском.
След новых идей мелькает во многих отдельных сценках, так, например, в одной из них кто‑то заявляет в присутствии крестьян, что генерал Монкорне сумеет усмирить «своих мужиков».
«— Каких это „своих мужиков”? — раздается из толпы негодующий голос.
— Небось мы такие же господа, как он».
Но находится скептик, сомневающийся в этом; он выставляет новый буржуазный критериум независимости:
«— Бездельники, разве у вас есть деньги, чтобы называть себя господами?».
Бальзак отмечает как явление вполне типичное и широко распространенное глубокий религиозный индифферентизм французского крестьянина. Начиная с 1789 года две трети населения Франции, уверяет он, не признают католической религии, не признают ее и крестьяне.
Вот что говорит сельский священник о своем положении: «Живу я хуже последнего пария, отовсюду окружен шпионами и все время должен быть настороже, чтобы не попасться в западню. Иногда мне приходит в голову мысль, что мужики, чего доброго, подстрелят меня из‑за угла».
В романе очень ясно проглядывает стремление автора идеализировать обитателей замка, противопоставить твердость их нравственных принципов глубокому развращению и порочности крестьян. Но это явное стремление завершается столь же явной неудачей. Ничего отрадного не отыскал он в пошлой жизни вымирающего барства, кроме внешнего благообразия, прикрывающего страшное внутреннее вырождение. Так, например, в Монкорне, отчасти нам уже знакомом, поражает полное отсутствие нравственных мотивов, которые могли бы оправдать его ожесточенную борьбу с крестьянами.
«— Я вижу, что нам предстоит настоящая война, тем лучше!» — восклицает он, с удовольствием потирая руки перед заманчивой перспективой разорить из чувства личной мести несколько и без того уже полунищих деревень. Особенное раздражение вызывают в нем крестьяне кличкою «мебельщика», данной ему по той причине, что один из его предков действительно разбогател на фабрикации мебели. Уязвленное самолюбие лишает этого мелочного человека последней искры здравого смысла.
«— Я — мебельщик! — кричит он, задыхаясь от бешенства, — негодяи, мерзавцы, если бы они знали, что я имел счастье вальсировать с королевами и императрицами!».
Вот самое задушевное, искреннее проявление его духовной жизни. На большее он не способен. Монкорне не столько злой, сколько глупый человек, а известно, что глупые люди готовы пожертвовать целым миром для удовлетворения оскорбленного самолюбия.
Жена его, чувствительная графиня, под изящным покровом женственной грации скрывает не меньше бездушия и пошлости. Она чрезвычайно брезглива к обнаруженной нищете и порочности, но без малейшего чувства отвращения переносит самую некрасивую циническую форму адюльтера, разделяя свои ласки поровну между супругом и молодым элегантным журналистом Эм. Блонде. Тем не менее графиня находит еще время заниматься аристократической благотворительностью, принимая нищих мужиков и раздавая им посильную помощь в великолепной прихожей, «мощеной белым и красным мрамором, с фаянсовой печкой, с длинными скамьями, крытыми пунцовым бархатом». Интересно, что сам автор наивно верит в прекрасную душу г–жи Монкорне и, очевидно, намечает параллель между ее утонченными светскими добродетелями и порочностью крестьянских женщин. Он уверяет нас, что молодая графиня очень серьезно отдалась филантропии, но через двадцать страниц, забыв вместе со своей героиней эту серьезность, сообщает, что она никак не могла долее медлить в деревне и заниматься филантропией, так как боялась пропустить первое представление в итальянской опере. Когда разговор идет о том, чтобы прижать мужиков, графиня поражает наивностью маленькой девочки, ровно ничего не понимающей в житейских делах.
«— Боже мой, неужели в этих историях с крестьянами кто‑нибудь рискует жизнью!» — восклицает она с простодушием. Но только что затрагиваются ее денежные интересы, она вся преображается и у нее является солидная практичность, ум, холодный, меткий расчет, достойный любого банкира. В то время как разгоралась глухая, ожесточенная борьба с мужиками, г–жа Монкорне гуляла в парке под руку с элегантным писателем и, погруженная в сентиментальную мечтательность, любовалась красотами природы. Но только что пришлось подумать о деньгах, она поставила вопрос трезво, смело и совсем не сентиментально:
«— Скажите, пожалуйста, сколько процентов дают два миллиона франков?
— В настоящее время около 80 тысяч, — отчетливо и также трезво отвечает ей возлюбленный.
— Наше имение не дает нам более 30 тысяч, кроме того, за последние годы оно потребовало много издержек». — И т. д. и т. д. В этом тоне идет весь разговор, отлично характеризующий то, что спрятано под обаятельною наружностью графини. Автор не догадался, что в читателе нельзя вызвать ничего, кроме глубочайшего отвращения к мнимой добродетели барства, противопоставляя подобный тип деревенской среде.
Но не послужит ли по крайней мере личность аббата олицетворением высшего нравственного принципа? Героический священник, самоотверженный пионер католической церкви, несмотря на полное презрение к нему паствы, несмотря на крайнюю нищету и одиночество, не теряет надежды одержать победу над крестьянами.
«— Одна только мысль поддерживает меня, — признается он в откровенной беседе с графиней, — мысль, что я когда‑нибудь преодолею упрямство крестьян и возвращу их в лоно католической церкви… Если мы, служители алтаря, призваны Богом к тому, чтобы говорить беднякам: „Умейте быть бедными!”, то есть „старайтесь, покоряйтесь и работайте!” — то вместе с тем призвание наше требует, чтобы мы говорили богачам: „Будьте разумны и благотворительны, набожны и достойны вашего положения… Пусть в каждом селении будет по два, по три человека, искренно желающих блага, и мы спасем Францию от страшных угрожающих ей бедствий. Изменитесь сначала сами, измените ваш характер и тогда уже начинайте изменять законы”». В сущности это старая песня о необходимости личного совершенствования. Но кодекс католической нравственности рекомендует по крайней мере некоторую совестливость по отношению к неизбежно страдающим, безмолвно покоряющимся беднякам, спасает от полного бездушия. Но, увы! Даже эти элементарные требования нравственности оказываются не по плечу представителю католицизма, даже эти правила являются неискреннею, риторическою фразою в устах иезуита.
«— Не следует слишком фамильярно обращаться с нищетою, — предостерегает он графиню, — я убежден, что причины ее таятся в неисповедимой воле Творца… Помогайте бедным, но держитесь при этом строгих правил благоразумия. Иначе вы рискуете оказать помощь врагам.
— Врагам! — наивно восклицает графиня.
— Конечно, и притом самым непримиримым врагам».
Крестьяне ненавидят этого иезуита: представитель религии любви, он
натравливает помещиков на крестьян, разжигает старинную вражду между обеими сторонами, проповедует сильным мира сего: «Берегитесь помогать бедным, они ваши естественные враги». Несмотря на все усилия автора, читатель невольно чувствует, что и этот человек так же мало основывает свою деятельность на каком‑нибудь разумном принципе, как остальные обитатели замка: Эм. Блонде — молодой писатель, праздный и тщеславный, удовлетворяющийся поэзией изящного великосветского адюльтера и презирающий «наше банальное время»; Зибиле — хитрый негодяй, управляющий; Мишо — честный, но тупоумный солдат, с лакейской преданностью благоговеющий перед генеральским чином своего господина, — все они поражают страшною внутреннею пустотой, отсутствием нравственного содержания.
От них веет чем‑то до такой степени затхлым и безжизненным, что сразу убеждаешься в неизбежном для них вырождении. Перед нами не живой организм с некоторой надеждой на выздоровление, но медленно холодеющий труп. «Пир Валтасара, — говорит Бальзак устами аббата, — навсегда, должно быть, останется символом преобладающего сословия, олигархии и касты, обреченной на гибель… Боже, если твоя святая воля в том, чтобы преобразовать общество, разрушив его, я понимаю, зачем ты поразил сильных мира сего таким страшным ослеплением».
Между двумя враждебными лагерями крестьян и крупных землевладельцев существует третий класс, одаренный громадной жизненностью, класс мироедов и кулаков, соединяющих в себе развращенность и бессердечие наследственной буржуазии с хищническими инстинктами и оригинальным, изобретательным умом молодого сословия, только что начавшего пробивать себе дорогу. Преимущество этого новейшего деревенского опустошителя состоит в том, что он гораздо ближе, чем крупный хищник, к жизни крестьянина. Скрываясь под маской дружбы и покровительства, он вступает с ним в лицемерный, предательский союз, мало–помалу овладевает его доверием, пользуется его содействием для борьбы с крупным землевладельцем. Кулак душит свои бесчисленные жертвы, требуя и получая от них благодарность. Крестьяне относятся к нему с подобострастным, суеверным благоговением, без малейшей иронии называют его благодетелем, чувствуя органическую неразрывную связь с мироедом, несомненно вышедшим из их же недр, воспитанным в их традициях, внушающим им невольное уважение в качестве талантливого представителя идеи собственности.
Мироед Ригу, расстриженный бенедиктинский монах, — один из самых живых типов, когда‑либо созданных Бальзаком. Искусство пользоваться благами жизни изучил Ригу с неподражаемым совершенством, доступным одному только католическому духовенству. Обладая выдающимся умом и дарованиями, он предпочел приманкам честолюбия деревенскую глушь и неизвестность; там, в уединении, он на свободе предался культу эпикурейской чувственности, окруженный самым утонченным комфортом. Бессердечный по отношению к чужим страданиям, он был проникнут безграничной нежностью к каждой ничтожнейшей подробности своих удовольствий. Ригу обедал один, жена и хорошенькая горничная Анета прислуживали ему безмолвно и раболепно, как жрецу во время священнодействия. Изысканные блюда приготовлялись с искусством, известным только в домах католических священников. М–me Ригу собственноручно приготовляет масло два раза в неделю. Без сливок не приготовляется ни один соус. Овощи кладутся в кастрюльку прямо с грядок, сохраняя весь свой аромат. Туфли этого мудрого эпикурейца только снаружи обложены толстою кожею, зато внутри обиты самою нежною овечьею шкуркою. Он носит верхнюю одежду из жесткого сукна, потому что оно не соприкасается с его кожей, зато белье шьется из тончайшего дорогого полотна. Анета — уже десятая по числу хорошеньких служанок, нанимаемая старым бенедиктинцем, льстившим себя надеждою достигнуть конца дней своих в сопровождении этих постоянно сменяющихся партий красивых горничных. Впрочем, Ригу не ограничивается одной Анетой. Неумолимый кредитор мужиков, забиравших у него землю взаймы, он превратил в свой гарем всю долину от Суланжи до Бри, не тратя при этом ни копейки и действуя единственно посредством отсрочки взысканий. Подобно неограниченному монарху, он не встречал ни в одной девушке или женщине ни малейшего сопротивления; недаром двери его дома устроены были так, чтобы не пропускать изнутри ни единого звука. Домашних он превратил в рабов, лишенных разума и воли. Ласкою и жестокостью, надеждой и озлоблением этот опытный эгоист из своей жены, Анеты и слуги Жана сделал трех верных собак, готовых умереть по знаку господина. Движением густых бровей он повергает их в смертельный ужас. «Здравствуй, старуха!» — одни эти слова из его уст, обращенные к жене, больше льстят самолюбию бедной женщины, доставляют ей больше счастья, чем если бы сам генерал Монкорне признался ей в любви. Ригу приковал к себе эти три несчастные существа множеством мелких обязанностей; он достиг того, что вся их жизнь превратилась в молчаливую работу и благоговейный страх, не оставляющий им ни одной свободной минуты для размышления, и в конце концов они стали находить даже некоторое удовольствие в неумолимо правильной смене трудов, они даже не скучали. Чтобы в уединении доставить приятную пищу своим дипломатическим талантам, Ригу решился извести ненавистного ему генерала Монкорне. Бенедиктинец держал в руках бесчисленные скрытые нити, управляя крестьянами как марионетками. Его забавляла эта невидимая кампания против замка, как интересная шахматная партия, где пешками были живые люди, офицеры скакали на настоящих лошадях, туры сверкали на солнце в виде настоящих башен, где коварная королева делала шах королю. Каждый день, вставая с постели, ростовщик смотрел из окна своей комнаты на великолепные пиры эгских обитателей, на весело дымящиеся трубы, на величественные двери замка и говорил себе: «Все это рухнет — я высушу эти ключи, я вырублю эти рощи!»
Крестьяне уважают Ригу. Как вообще все лица, получившие католическое воспитание, он обладает изумительною способностью притворства.
«— Как он, бедняжка, из‑за нас убивается! — говорят мужики, завидев его издали.
— Небось он сумеет защитить нас от начальства, — наивно радуются другие».
Многие относятся к нему с суеверным страхом, как к существу, одаренному сверхъестественным могуществом.
«— Вы — настоящий дьявол! — восклицает Мари Тонзар, испуганная его проницательностью. — У нас на посиделках девушки говорят, будто вы заключили с ним договор. Правда это?
— Правда! — с невозмутимою важностью отвечает Ригу».
Чтобы закончить тип западноевропейского культурного кулака, надо
прибавить еще одну мелкую, но характерную черточку: порвав реальные связи с католической церковью, расстриженный бенедиктинец не вполне чужд некоторого безотчетного уважения к религиозным догматам. В редкую минуту откровенности он признается: «Я не знаю, что во мне сильнее — мирянин или монах. Кажется, я не глупый человек, а между тем за себя не ручаюсь; перед смертью я, вероятно, примирюсь с церковью…».
Теперь перед нами стоит во весь рост этот сложный характер, продукт тысячелетней истории. Ригу не один; правая рука его и деятельный сотрудник Гобертен, крупный провинциальный деятель, подчинивший себе всю страну сложным генеалогическим разветвлением своей родни, «подобно гигантскому боа, обвившемуся с таким искусством вокруг дерева, что путешественник принимает его за одну из чудовищных форм тропической растительности». Тройственный союз — Гобертена, Ригу и еще одного влиятельного мироеда Судри — захватил в свои руки всю округу. Триумвират местных кулаков — вот единственная правительственная власть, пользующаяся послушанием крестьян. Настоящее правительство безоружно и бессильно перед кулаком, воцарившимся в деревне, грозящим истребить последние остатки здоровой крестьянской жизни.
Мужик недостаточно ясно осознает гибельное для него значение кулацкого заговора. Страсть к земле, отдающая его в руки ростовщику, составляет в нем едва ли не преобладающее чувство.
Чем ее объяснить?
Страстью этой живут, за нее умирают миллионы людей. Неужели же в ней нет ничего, кроме грубого эгоистического инстинкта собственности? Бальзак, несмотря на жестокое отношение к крестьянам, сумел дать необыкновенно простое и человеческое объяснение этого инстинкта, объяснение, в следующем, 1846 году подхваченное и развитое Мишле в его известной книге «Le Peuple»[1208]. «Странная, суеверная любовь к земле так велика у крестьян, что в тысяче кантонов, на три тысячи составляющих территорию Франции, никто из крестьян не продаст богатому помещику ни одного клочка земли. Чем больше денег предлагает ему крупный землевладелец, тем сильнее становятся смутные, неопределенные опасения мужика». Необходимы насильственные меры со стороны правительства, для того чтобы вырвать у крестьянина десяток гектаров плохой земли: он цепляется за них в продолжение нескольких столетий с непонятной жадностью и упорством. Неужели в этом мощном инстинкте, делающем из молчаливого плательщика податей и налогов человека отважного, смеющего спорить с капиталистом, в чем‑то ему не уступать и ставить свое идеальное право выше его могущества вполне реального, неужели в подобном чувстве нет ничего, кроме узкого мелочного эгоизма?
Крестьянин любит землю такой самоотверженной любовью за то, что она дает ему надежду на более осмысленное существование, на независимость, поддерживает в нем чувство личного достоинства, делает его хозяином, избавляет от необходимости идти в чужой город на фабрику, приковывать себя к ненавистной машине. Как бы ни был ничтожен клочок поля, он чувствует себя на нем таким же самостоятельным, полноправным владельцем, такой же цельной, неприкосновенной личностью, как соседний буржуа в своем великолепном замке. Землею он борется против капитала, осаждающего его со всех сторон, грозящего превратить его в безличного раба, в послушный винтик фабричной машины. Крестьянин не может назвать и перечислить все блага земли, он их только смутно предчувствует, его влечет к ним неопределенный, могущественный инстинкт. Если он продает последнюю корову или лошадь, чтобы прикупить земли у кулака и хоть немного увеличить свой участок, в этом действии, внушенном, по–видимому, одной только грубой алчностью, на самом деле немало настоящего идеального самопожертвования. Мужик лучше, чем кто‑либо, знает цену деньгам, и тем не менее он бескорыстно отдает их за мечту, за иллюзию независимости и свободы, воплощенных для него в земле: он не хочет и не может, не отказавшись от чувства собственного достоинства, уверовать в тысячелетний опыт, слишком красноречиво доказывающий, что эти деньги пропадут даром и послужат к тому, чтобы еще больше закабалить его кулаку. Если разоренный крестьянин отказывается продать свой участок богатому помещику, согласен лучше умереть с голода, чем выпустить не только из своих, но вообще из крестьянских рук драгоценный клочок земли (о чем свидетельствует сам Бальзак), неужели в его непонятном загадочном упорстве нет какой‑то затаенной, сильной идеи? Что же иначе дает крестьянину решимость презирать личные выгоды (он не продает земли ни за какие деньги) и самоотверженно, неразумно любить землю, обманывавшую его в продолжение нескольких столетий. В грубом апатичном мужике, сколачивающем копейку для покупки лишнего гектара, несомненно, живет страстный мечтатель, увлекающийся поэт: собственность является для него таким же чистым, бескорыстным идеалом, как для нас возвышенные образы поэзии.
Кажется, нет ни одного человеческого существа более оклеветанного, чем французский крестьянин. Самые пламенные из его заступников, как например Жорж–Занд и Мишле, мало интересовались им как реальной человеческой личностью, мало знали его и потому не могли оправдать: они окружили ореолом и обоготворили мужика, вместо того чтобы изучить и понять, что было единственным средством защитить его от всеобщей ненависти. Из этого возникло следующее в высшей степени странное явление: современный французский мужик, несмотря на то что сначала его обоготворили, потом оклеветали, писали на него доносы, издевались над ним, в сущности до сих пор остается таким же «таинственным незнакомцем», как во времена Руссо или Лабрюйера. Благодаря исследованиям Тайлора, Лёбокка и Мак–Ленана мы гораздо ближе знакомы с жизнью и бытом какого‑нибудь полинезийского дикаря[1209], чем с положением современного французского крестьянина, находящегося в самом круговороте европейской цивилизации.
Где же причины такого общего презрительного невнимания? Выставляют одно глубоко антипатичное свойство французского крестьянина: его скупость, холодную, бессердечную расчетливость, любовь к собственности. Но, как мы видели, эти свойства и составляют единственно возможное в его положении идеальное проявление страшно порабощенной человеческой личности. Без этой самоотверженной, героической любви к земле, к родному участку вся масса французских крестьян уже теперь превратилась бы в обезличенных, выродившихся и действительно обреченных на гибель рабов.
Крестьянин отстаивает не только каждый клочок своего поля, но и каждое самое ничтожное из своих прав, так как в них он видит единственную охрану своей личности. В одной сцене романа лесной сторож, преследуя старуху–крестьянку за порубку леса, намеревается войти в дом, куда она скрылась; но тем самым он нарушает неприкосновенность семейного очага — одно из священнейших прав, ревниво оберегаемое крестьянами. Обитатели переходят из оборонительного в наступательное положение; они готовы на все, сознавая себя вполне безопасными, как в неприступной крепости, в микроскопически маленьком, но, несомненно, им принадлежащем уголке личного достоинства, отвоеванном ценою тысячелетней борьбы.
«— Прочь из моего дома, или я задушу тебя, как собаку!» — в этом крике озлобленного хозяина так много непоколебимой решимости и веры в свое право, что сторож, представитель власти, невольно отступает.
Глубокая ненависть крестьян к Монкорне, завершающаяся кровавой катастрофой, вызвана нарушением так называемого права «glanage» — очень старого и популярного обычая в Бургони, состоящего в том, что наиболее бедным крестьянам, по преимуществу женщинам, старикам и детям, разрешается подбирать колосья, выпавшие из снопов, и гроздья, не снятые во время сбора винограда. Монкорне–миллионер, считая этот прелестный древний обычай (о нем упоминается еще в Библии, в книге Руфь) слишком разорительным, решился его уничтожить. Но общий взрыв негодования среди крестьян заставил его отступить. Сознание нарушенного права сразу объединило их. Они восстали, как один человек. Началась борьба. Решив до последней капли крови защищать право «glanage», крестьяне не раздумывают над тем, стоит ли оно таких усилий и жертв. Доведенные до отчаяния, они решаются на убийство главного смотрителя Мишо, наиболее ревностного исполнителя распоряжений Монкорне. Крестьяне делают роковой шаг вовсе не сгоряча, а отлично понимая всю тяжесть преступления.
Цель заговорщиков достигнута. Граф и графиня, испуганные убийством старшего смотрителя, решаются покинуть замок, продать имение и как можно скорее ехать в Париж. Военная команда не помогла. Обитатели замка бегут из деревни, как из вражеской страны. К несчастью, минутное торжество дорого обошлось мужику. Сердце его еще более ожесточилось. Материальными плодами победы воспользовался, конечно, не он, а кулаки: они‑то, по свидетельству автора, и толкнули крестьянина на последний преступный шаг, надеясь после борьбы в полной безопасности поделить между собою плоды победы. Расчет, как всегда, им отлично удался.
Ослепленный жаждой мести, Монкорне не брезгует даже шпионством, чтобы открыть убийц Мишо. Он посылает в свое имение искусного сыщика. Этот последний сталкивается с тем же могущественным чувством солидарности, заставившим Монкорне, вооруженного всеми средствами, доступными крупному собственнику, оберегаемому властью закона, отступить перед ничтожной горстью бродяг и нищих.
«— Никто ничего не выпытает у этих людей, — признается обескураженный сыщик. — Если, генерал, вы дольше останетесь в вашем имении и будете настаивать на требовании, чтобы крестьяне отказались от своих древних обычаев, то вам, пожалуй, придется разделить трагическую участь вашего главного смотрителя: они убьют вас… Мне здесь больше нечего делать. Крестьяне относятся ко мне с таким же недоверием, как к вашим сторожам». Итак, романист только отчасти достиг своей цели. Несмотря на тенденциозно мрачные краски картины, мы чувствуем в крестьянской среде присутствие громадной, хотя до сих пор еще мало исследованной, силы.
«— Трава остается невредимой даже в то время, когда деревья ломятся под ветром», — говорит Тонзар. Как хороши пророческие слова одного из бальзаковских крестьян, характеризующие не враждебную рассудочную тенденцию автора, а глубокую, бессознательную симпатию к народу, прорывающуюся помимо его воли в самых художественных местах романа: «Мужик страдает, но он не погибнет, будущность — за ним».
Точка зрения на народ знаменитого историка Мишле в его книге «Le Peuple» диаметрально противоположна всем убеждениям и взглядам Бальзака, а между тем некоторые весьма существенные выводы этих двух писателей вполне тождественны, — совпадение далеко не случайное: оно указывает, что в жизни французского крестьянина есть целый ряд явлений, заставляющих всякого внимательного исследователя, — с какой бы стороны он к ним ни подходил, — строить одну и ту же гипотезу, приобретшую благодаря этому значительную долю вероятности. Бальзак, — как мы видели, — дает в своем романе чрезвычайно ценное объяснение страстной любви крестьянина к земле: он видит в этой любви смутное сознание, что только клочок собственного поля может защитить бедняка от произвола крупного хищника. Таким образом, любовь к собственности, в наших глазах делающая французского крестьянина таким несимпатичным, отталкивающим типом, приобретает совсем иное значение: собственность в руках мужика–земледельца является идеальным оружием в борьбе за человеческое достоинство и независимость.
Тот же самый взгляд повторяется другим писателем, у которого с Бальзаком нет ничего общего. Когда сторонники двух враждебных лагерей сходятся в каком‑нибудь одном положении, мы имеем основание предположить, что в действительности есть какая‑то реальная причина, которая обусловливает сходство их выводов. «Как бы ни была ничтожна собственность, — говорит знаменитый историк, — она все‑таки придает человеку мужество. Крестьянин, который не мог бы себя уважать за свое общественное положение, уважает себя за собственность. Сказать мужику: ты будешь обладать землею — все равно, что сказать ему: ты не будешь поденщиком, не будешь рабом насущного хлеба, ты будешь свободен. Свобода — великое слово, содержащее в себе все человеческое достоинство: где нет свободы, там нет и добродетели».
«Материализм крестьянина служит темой для всевозможных сетований: „Нечестивый век, грубый народ!..” мужик не любит ничего, кроме земли, — в ней вся его религия: он обожает навоз своего поля». Но если бы земля не представляла для мужика какой‑то высшей ценности, разве он платил бы за нее такие безумные цены, разве он соглашался бы гибнуть за нее, увлекаясь несбыточными иллюзиями? Вас, умных людей, чуждых материализма, не обманешь землею: вы можете рассчитать с точностью до одного франка доход с полей. Но поймите же, что для мужика земля представляет бесконечно идеальную ценность, — в этом отношении он даже слишком идеалист, слишком мечтатель. В грязной, черной земле светится для крестьянина золото свободы, а для того, кто знаком с неизбежными пороками рабства, свобода является возможностью добродетели (стр. 63).
Любовь французского крестьянина к земле весьма отлична от чувства, с которым, например, русский мужик относится к ней; земля у нас до сих пор еще — стихия, управляющая человеком по своему произволу. Крестьянин любит ее и подчиняется ей, как моряк — морю, охотник — лесу. Не то — во Франции: там, благодаря наслоениям тысячелетней культуры, не осталось ни одного уголка земли, не обрабатываемой в продолжение многих веков постоянно сменяющимися поколениями земледельцев, там человек любит землю не как вольную, могущественную стихию, но как «дело рук своих». Крестьянин во Франции, по счастливому выражению Мишле, «сделал землю». Он положил в нее лучшую часть собственного существа — жизнь, силы, душу. Как же ему не любить ее? Он привязан к ней, как к живому человеку, как к любовнице, он видит в ней близкую, родственную личность. «Без страшных человеческих усилий откуда могла бы взяться земля на сожженных вершинах и скалах южной Франции?».
Такой чуткий опытный наблюдатель, как Бальзак, изучая в сороковых годах жизнь крестьянина, пришел к убеждению, что его странная любовь к земле объясняется жаждой независимости и личного достоинства. Мишле, изучая прошлое Франции, пришел к тому же выводу: «приобретение земли работником» — вот, по его мнению, самое существенное дело Франции (l’ceuvre capitale de la France). По авторитетному мнению знаменитого ученого — в этом главный смысл ее истории. «В самые тяжелые времена, когда даже богач беднел и был принужден продавать свое имущество, — бедняк покупал землю. Когда не было ни одного другого покупателя, — выступал оборванный мужик с червонцем руках и покупал клочок земли». После всевозможных разочарований он все‑таки готов пожертвовать ей всем, после тысячелетнего горького опыта он не теряет в нее веры. Так, например, в 1500 г., когда французская знать, разоренная итальянскими походами, обессиленная гонениями Людовика XI, принуждена была продавать свои имения, земли, переходя в крестьянские руки, как будто снова возрождаются и воскресают; наступает цветущая эпоха, названная в стиле монархической истории временем «доброго короля Людовика XII». Оно длится недолго. Начинаются опустошительные религиозные войны, сопровождаемые бедствиями и голодом. Снова государство отнимает на время земли у крестьян. Но только что междоусобица немного поутихла, мужик, как ни в чем не бывало, опять, клочок за клочком, начинает покупать землю. И вот в какой‑нибудь десяток лет Франция преображается: цена на землю благодаря непостижимому трудолюбию крестьян удваивается или утраивается. Наступает цветущая эпоха «доброго короля Генриха IV». Приблизительно около 1650 г. приобретение земли крестьянами останавливается: в то время как итальянские министры вроде Эмери и Мазарини возвышают налоги, придворная знать, пользуясь всевозможными привилегиями, освобождается от тяжести государственных повинностей. Тогда крестьяне, очутившись под двойным бременем правительственного гнета, снова принуждены продавать кровью купленные участки и превращаются в работников, батраков или бездомных нищих. Но энергия их не ослабевает. Они выжидают удобного случая, чтобы снова приобрести земли, так ускользавшие из их рук; они голодают, но все‑таки прячут гроши, чтобы собрать сумму, необходимую для покупки. А между тем уже к середине XVIII столетия расточительность высшего сословия достигает апогея. Оно вынуждено продавать свои земли, мало–помалу снова переходящие в руки крестьян. В 1788 г. аббат С. — Пьер замечает, что во Франции каждый поденщик имеет садик, клочок земли или виноградика. Незадолго до революции английский путешественник Артур Юнг с испугом и удивлением отмечает факт крайнего раздробления собственности во Франции[1210]. Наконец, революция, уничтожив остатки феодализма, узаконила право крестьянина владеть землею, право, купленное страшной, тысячелетней борьбой.
Даже в этом поверхностном историческом очерке открывается перед нами поистине трагическое зрелище: два противника — высший класс и крестьянин — борются не на жизнь, а на смерть: только что один ослабевает, другому становится полегче. Высший класс беднеет, — мужик покупает у него земли, обрабатывает их, мало–помалу становится на ноги, и благодаря его страшным усилиям экономическое положение страны подымается, но крестьянину мало толку от расцвета промышленности, искусств и наук, напротив, расцвет этот позволяет другому противнику, — высшему классу, стать на ноги и с новой, удвоенной энергией налечь на мужика; тогда тот опять слабеет, разоряется, выпускает из рук купленные земли. И длится это до тех пор, пока его бедность и запустение небрежно обрабатываемых земель не повлекут общего экономического кризиса страны, пока одним из последствий этого кризиса не явится обнищание самого высшего класса, недавно торжествовавшего свою мимолетную победу над крестьянином: знать ослабела, мужик снова покупает земли, и опять в продолжение целых столетий повторяется тот же цикл явлений. Мишле сравнивает крестьянина с утопающим, который хватается за выступ скалы, но волна откидывает его, он борется, снова подплывает к берегу, цепляется, пока новая волна не отбрасывает его. Крестьянина в этой ожесточенной борьбе спасала его героическая любовь и преданность земле: защищая землю, он защищал свое историческое существование; без этого ничтожного, но бесконечно для него дорогого участка он рано или поздно превратился бы в безличное, бесправное существо вроде раба античных государств и восточных монархий.
Мишле, впрочем, не скрывает от себя оборотной стороны медали. Как мы это уже видели в романе Бальзака, жажда собственности отдает беззащитного крестьянина в руки деревенскому кулаку. Земля возвращает с затраченного капитала не более двух процентов, между тем как кредитор требует с него восемь, т. е. вчетверо больше того, что может ему дать крестьянин. Таким образом, один год процентов отнимает у него четыре рабочих года. «Нечего удивляться, что Франции, бывшей когда‑то страной песен, вина и смеха, теперь не до веселия. Мужик — озлоблен. Если вы ему дружелюбно поклонитесь, он, не отвечая, только ниже надвинет шапку, если вы спросите дорогу, он обманет вас, обманет без всякой цели, единственно из удовольствия причинить досаду. Мужик день ото дня становится все более одиноким и раздраженным. Он ненавидит богача, ненавидит соседа, ненавидит весь мир. Один, покинутый на своем несчастном клочке земли, как на пустынном острове, он мало–помалу превращается в дикаря». Франция забыла крестьянина, зажиточный городской класс относится к нему с чувством отвращения, ненависти и страха, писатели или вовсе незнакомы с ним, или изображают его как существо более или менее фантастическое и чудовищное, даже представители социализма хлопочут главным образом о пролетарии, мало обращая внимание на двадцать четыре миллиона землевладельцев.
А между тем это заброшенное всеми человеческое существо где‑то и как‑то живет и чувствует всеобщее презрение. Такое ненормальное положение дел не может долго длиться. Автор категорически заявляет, что единственная возможность спасения для буржуазной интеллигенции заключается в сближении с народом. Интеллигенция должна сделать первый шаг к нему. Народ обладает громадным преимуществом перед классом образованных людей, — он обладает инстинктом, твердой волей, простотой. В интеллигентном человеке произошел роковой болезненный разрыв между мыслью и действием, намерением и исполнением, разумом и инстинктом. Следствием этого разрыва является мучительный недуг нашего времени — преобладание рефлексии, бесплодный скептицизм, ведущий к пессимистическому разочарованию и глубокой апатии, ослабление воли и чувства. Народ, благодаря особенным окружающим его условиям, почти совсем чужд этого недуга: он до сих пор, несмотря на все свои страдания, свеж и молод. Крестьянин — по выражению Мишле — «человек инстинкта». Слившись с народом, интеллигенция должна уничтожить возникшее пагубное противоречие между инстинктом и разумом.
Вторая часть книги, озаглавленная «Освобождение посредством любви» («De raffranchissement par Гашоиг») служит метафизическим комментарием этой мысли. Неизвестно, для чего понадобился автору ряд чрезвычайно темных абстракций и символов, которые не только ничего не выясняют, но, напротив, еще более запутывают вопрос, лишают его реального, жизненного характера и переносят на зыбкую почву.
Первая часть книги — «О рабстве и вражде» — «Du servage et de la haine» отличается совсем противоположным недостатком. Здесь автор чересчур узок, он поражает беспристрастного читателя глубокой национальной нетерпимостью, доходящей до шовинизма. Так, в предисловии он между прочим говорит: «тень смерти проносится над всей Европой от Запада к Востоку; солнце меркнет; Италия, Ирландия, Польша погибли, Германия клонится к своей гибели…». «О Германия, Германия!.. Англия… бессильные колоссы обманывают Европу своим блеском. Великие государства — ничтожные народы! Но Франция, если она только объединится, сделается сильной, как весь мир». Франции следует недоверчиво относиться к остальной Европе, так как все ей завидуют и желают зла. Главный недостаток интеллигенции — космополитизм, главное достоинство мужика — национальная нетерпимость. За что Европа должна питать к Франции такую непримиримую ненависть? За революцию. Очевидно, что здесь произошло какое‑то смешение понятий, притом, — надо признаться, — довольно грубое смешение. Вместо слова «народ» Мишле должен был подставить слово: высшие классы. Впрочем, это — не простая описка, а очень важная ошибка, связанная с самыми глубокими сторонами его миросозерцания. Конечно, никто не осмелится утверждать, что Мишле неопытный или слабый ум, не привыкший себя контролировать. А между тем посмотрите, до какой узкой, глубоко антипатичной нетерпимости доводит его фанатизм национального чувства. Эти ошибки великого ученого особенно поучительны в наши дни, когда национальная вражда так страшно обострилась, когда принципы общечеловеческого братства признаются отжившим предрассудком и мнимая «любовь к человечеству», поддерживаемая грубым милитаризмом, прикрывает самый мелкий постыдный эгоизм.
В наш гнусный век — рассуждает Мишле — вера исчезла, но отчаиваться Франции не следует, — вот по какой причине: «в народе, несмотря на его подвижность, существует одна незыблемая сила: чувство воинской чести (l’honneur militaire), постоянно возбуждаемое нашей героической легендой».
Тут начинается нестерпимая, трескучая риторика, свойственная всем подобного рода патриотическим гимнам. Упоминается между прочим и «ветер старого знамени», который, обвевая чело преступника, будто бы превращает его в добродетельного гражданина, упоминается «наша славная армия, на которую обращены очи всего мира». В каком‑то исступленном фанатическом восторге автор восклицает: «здесь только (т. е. во французской армии) сила соединилась с идеей (?), храбрость с правом…». Заключение стоит всего остального: «если мир будет спасен войною (?), вы (т. е. опять‑таки французские солдаты), вы одни должны спасти его. Святые штыки Франции, сияние, реющее над вами, нестерпимое ни для одного человеческого глаза, — пусть его ничто не омрачает»! Вот до чего договорился гуманный писатель XIX века, просвещенный историк в опьянении национальной гордостью. «Спасение мира посредством французской армии», «святые штыки», — заметьте, что это говорит не какой‑нибудь мелкий радетель узкого патриотизма, а мыслитель, несомненно, искренний, честный и даже весьма либеральный. Но что же делать: напиток Цирцеи превращает самых лучших людей в безобразных животных…[1211].
Мы видели, как в первой части книги симпатия к народу суживается до национальной нетерпимости, до шовинизма. Мишле отказывается просто любить крестьянина, ему нужен французский мужик против английского, немецкого или русского — он советует действовать «святыми штыками» и тем самым серьезно надеется «спасти мир». Во второй части книги это суженное и ограниченное чувство неожиданно расплывается в слишком широкие метафизические абстракции. Автору надо было доказать в сущности весьма простое, житейское положение: интеллигенции полезно сблизиться с народом. Казалось бы естественным обратиться к явлениям нравственным и экономическим, чтобы доказать эту мысль. Но автор пренебрегает подобным путем, может быть именно потому, что он слишком для него прост и естествен. Начинает Мишле издалека и прежде всего считает необходимым закутать вопрос в непроницаемый мистический туман.
Напыщенными и фальшивыми метафорами старается он изобразить трогательную простоту ребенка, советует бросить под стол книги и обратиться к матерям и кормилицам, чтобы «забыть и разучиться», советует признать, что «в колыбели столько же мудрости, как в знании целого мира». Умирающий — рассуждает автор — в одном отношении похож на ребенка: оба они одинаково близки к бесконечному. Далее весьма тщательно, но бесцельно трактуется средневековый схоластический вопрос о первородном грехе, причем автор серьезно доказывает, что подобного греха не существует. Неожиданно и без всякого перехода начинается сентиментальная декламация о необходимости покровительства животным. «Вся природа, — говорит Мишле, — протестует против человека, который презирает и мучит своих младших братьев — зверей, вся природа обвиняет его перед тем, кто создал и человека, и животных». Но фальшивая риторика достигает апогея в следующей главе, носящей характерное по своей вычурности заглавие «Деторождение гения — тип социального деторождения». Из этой главы мы узнаем, что в гениальной душе таится целый «нравственный город» («cite morale» — стр. 251). Одного только гения следует считать настоящим человеком, остальное человечество должно служить только пьедесталом для гения. Автор прибегает к странному приему — очевидной пародии аналогического научного метода: «душа гениального человека, — несомненно божественная, ибо она творит, как Бог, — есть внутренний город (la cite interieure), по образу и подобию которого мы должны создать город внешний, с тем чтобы он также был божественный». Так как в гении инстинкт и разум неразрывно слиты, то и в идеальном обществе эти две до сих пор враждовавшие способности должны гармонично слиться. Из чего, — вы думаете, — происходит необходимость жертвы в человеческом обществе? Жертва вытекает из подражания внутренней жизни гения: для высшего примирения он должен жертвовать одними душевными силами для других, — разумом для инстинкта, мыслью для действия или наоборот. В подражание этой внутренней жертве «нравственного города» (cite morale), т. е. гения, каждый член внешнего города, т. е. общества, должен жертвовать собою для блага сограждан. Как видите, получается что‑то необыкновенно сложное, искусственное и запутанное, тонкий схоластический силлогизм, напоминающий своей бесплодностью хитроумные измышления средневековых мистиков. Я прошу припомнить первоначальное простое положение автора, от которого мы теперь отделены целыми мирами: интеллигенции полезно сблизиться с народом. Неужели вся эта длинная вереница туманных абстракций и более смелых, чем разумных, аналогий к первоначальному положению прибавляет хоть на одну йоту доказательной силы. Мне кажется, что автор не только ничего не прибавил, но, напротив, затемнил и запутал вопрос не существовавшими прежде трудностями, созданными его фантазией.
Дело в том, что Мишле казалось делом рискованным попросту рекомендовать нам внимание к народной жизни; надо было позолотить пилюлю. Автор сам не доверяет глубине и ценности своего чувства: в глазах его простая симпатия к народу сама по себе, без прикрас и приправ, вещь слишком тусклая, неинтересная и неблагодарная. И вот он решает облагородить ее посредством священнодействия. Он окутывает мысль в таинственный метафизический покров; образ народа мелькает сначала в красивой антитезе младенца и умирающего, затем он ищет ту же идею народной простоты и инстинкта в глубине органического мира, в царстве животных, наконец, он поднимает ее на недостижимую высоту, в царство гения. Теперь только, после всех этих продолжительных мистических манипуляций, народ выходит из рук жреца облагороженным, оснащенным и бесконечностью в младенце и умирающем, он украсился колоритом грандиозного буддийского миросозерцания — в царстве животных, он принял изящную печать нравственного аристократизма в области гения: теперь только мы можем помириться с ним, и он достоин войти как возвышенная философская идея в умственный обиход просвещенного читателя.
В первой части автор ограничивает чувство симпатии к народу узкими национальными рамками; во второй — он расширяет это чувство до такой степени, что не боится включить в него животных; с одной стороны, рекомендует самую грубую расправу с соседом–немцем, с другой — требует места в общечеловеческом братстве для зверей. Чувство, способное делать такой чудовищный размах от национальной нетерпимости к метафизической абстрактной симпатии, очевидно, не достигает гармонического равновесия. Оно описывает, подобно маятнику, громадную дугу между двумя противоположными точками и только в продолжение одного момента находится в середине между ними, достигая жизненной правды именно в том месте, где автор дает историческое объяснение любви французского крестьянина к земле. Симпатии его к мужику не опираются на реальную почву: нет у них той силы и глубины, которые характеризуют живое чувство; он только старается и мучительно сознает, что надо полюбить народ, но сознание не переходит в действительную любовь. И вот, чтобы искусственно возбудить чувство, он употребляет всевозможные усилия: то посредством узкого национального фанатизма пытается согреть его и сделать как можно более конкретным, то пробует возвысить и облагородить свою симпатию, возводя ее на высоту абстрактного всеобъемлющего принципа, а между тем реальное, простое чувство, как вода под губами Тантала[1212], ускользает от него. Это интересное психологическое явление, довольно часто встречающееся в наше время, состоит в том, что жажда веры заменяет настоящую веру, потребность любви становится на место действительного чувства. Во всяком случае, характерно, что даже Мишле, личность крупная, притом непосредственно вышедшая из народа, подверглась распространенной болезни века: намерение он принимает за действие, мысль — за чувство.
А между тем под руками автора были реальные факты, подтверждавшие его положение о необходимости сближения интеллигенции с народом. Он указывает на крайнюю ограниченность и скудость жизненных впечатлений, выпадающих на долю достаточному городскому классу. «Что может знать богач? Его жизнь слишком легка и обеспечена, от него скрыты самые глубокие, значительные стороны действительности (les fortes et profondes realites). He вдумываясь, не углубляясь, он едва касается реальной жизни, скользит по ней, как по гладкой поверхности». В этом отношении богач достоин такого же сожаления, как нищий: бедность жизни и чувства иногда не менее мучительны, чем недостаток материальных средств. Мишле обращается к представителям буржуазной интеллигенции: «берегитесь!.. Если наша белая холодная рука не прикоснется к другой руке горячей, сильной и живой, никогда не сделает она настоящего, жизненного дела». Автор отмечает последовательное вырождение буржуазии вследствие преждевременного нервного истощения, разврата, отсутствия нормальной семейной жизни. Буржуазия должна сблизиться с народом, чтобы почерпнуть в нем запас свежести и здоровых жизненных соков. «Наша молодежь, — говорит Мишле, — вступает в брак, утомившись от всевозможных излишеств, причем жена оказывается такой же болезненной и изнуренной, как муж. Дети их или умирают, или медленно вырождаются. Второе либо третье поколение буржуазии будет таким же дряхлым и бессильным, как высший класс перед революцией». Эти простые слова, в которых чувствуется так много пророческого, гораздо сильнее и жизненнее доказывают мысль автора о необходимости сближения интеллигенции с народом, чем вся вереница его напыщенных метафор и туманных абстракций. К несчастию, на этой реальной почве Мишле, как мы видели, не способен долго удержаться.
В третьей части книги автор рассматривает средства для достижения того слияния с народом, необходимость которого он старался доказать в первых двух частях. Некоторые намеки на идеал видит он в древнефранцузской крестьянской общине. Это поклонение первобытным общинным формам, попытка отыскать в них красоту и справедливость непосредственного народного миросозерцания ставят Мишле в ряды настоящих типических народников, в значительной степени выкупая его абстрактные блуждания. Он с любовью описывает нормандскую рыболовную общину. Автор отмечает постепенное разложение старинных земледельческих коммун Морвана, Берри, Пикардии: «общины, — говорит он, — существовали в продолжение целых столетий, многие достигли благосостояния. Эти крестьянские монастыри объединяли иногда до двадцати родственных семейств под одной кровлей и под управлением одного выборного старшины». В настоящее время дух общинности угасает; по мере того как сами крестьяне стали выпрашивать у правительства позволения уничтожить последние уцелевшие следы общинного устройства, жажда индивидуальной собственности растет с каждым днем. Борьба за личное достоинство обостряет эту жажду, узкий буржуазный эгоизм делает ее несовместимой с условиями общинной жизни. «Во время моего путешествия в Лион, — рассказывает Мишле, — я посещал мастерские ткачей и по своему обыкновению осведомлялся о положении рабочих. Я спрашивал их, не могут ли они вступить в ассоциацию в области экономических и материальных отношений. Один из них, человек умный и высоконравственный, чувствуя с какой искренностью и любовью я предложил мой вопрос, заставил меня еще более углубиться в исследование предмета. „Зло, — говорил он, — в пристрастном отношении правительства к фабрикантам”. „В чем еще?” „В их монополии, деспотизме, требовательности…”. „Только ли в этом?” Две–три минуты он помолчал, потом, вздохнув, проговорил: „есть, пожалуй, и другое зло: мы не общительны (nous sommes insociables)”». Это простое слово лионского рабочего сильно поразило Мишле. Слово это, если только оно не случайный проблеск редкого нравственного чувства, очень характерно: из него можно бы сделать тот вывод, что простой человек во Франции инстинктивно понимает ненормальность крайнего индивидуализма и ожесточенной борьбы за собственность. Во всяком случае, интересно, что Мишле, приводя это мнение лионского рабочего, опирается на него как на реальный факт, выхваченный из жизни, чтобы разрешить свой вопрос о сближении буржуазной интеллигенции с народом. Автор с тою же целью ссылается на свой личный опыт, причем нельзя не пожалеть, что он не привел большого количества фактов: «неиссякаемый запас общительности, — говорит он, — таится в народе; запас, до сих пор еще никем нетронутый; я его чувствую повсюду в массах, когда спускаюсь к ним, прислушиваюсь и наблюдаю». Но даже в самых высоких, просветительских принципах нового века есть какие‑то элементы, противодействующие духу общительности: «богач холодно говорит бедняку: „ты требуешь равноправности — пусть будет по–твоему, но только с этих пор не проси у меня помощи: Бог велел мне исполнять по отношению к тебе обязанности отца, ты этого не хочешь, требуешь равенства и тем самым освобождаешь меня от моих отеческих обязанностей!”». Можно много возразить против слов богача, но вместе с тем они, несомненно, выражают целый ряд ходячих мнений и чувств, лежащих в основе буржуазного капиталистического строя и распространившихся под влиянием ложно понятых идей личной независимости.
В последних главах третьей книги автор исследует специально вопрос о средствах сближения интеллигенции с народом. Здесь он снова впадает в патриотическую риторику. «Что было бы, — спрашивает он себя, — если бы исчезла Франция? Нить симпатии, соединяющая народы, должна бы ослабеть и порваться. Гибель нашего отечества повлекла бы за собою уничтожение самого зерна той любви, которая оживляет земной шар, и планета наша вступила бы в период охлаждения и смерти…». Такую наивную веру в посланническую миссию народа можно простить какому‑нибудь древнеизраильскому прорицателю, но что сказать, когда подобное суеверие мы встречаем в одном из замечательнейших современных ученых? Национальное самомнение Мишле достигает апогея в следующих словах: «Если б можно было соединить в одну массу кровь, золото, бескорыстный труд, жертвы, принесенные народами всего мира для блага человечества, то пирамида Франции достигла бы неба… Тогда как ваша пирамида, народы, все, сколько вас ни есть, достигла бы лишь детского колена!». Едва ли умный француз прочтет, не краснея, подобные похвалы Франции.
Вот курьезный прием воспитания, который автор вполне серьезно рекомендует педагогам для возбуждения в молодом поколении патриотических чувств: следует взять питомца на большой праздник и с какой‑нибудь высокой кровли показать ему улицы Парижа, толпу, проходящую армию, штыки, трехцветное знамя; Мишле не брезгает даже эффектами праздничной иллюминации; учитель, выбрав надлежащий момент, должен сказать воспитаннику: «дитя мое, вот — Франция, вот — твое отечество». Далее перечисляется ряд памятников, которые нужно показать ребенку с теми же комментариями — Лувр, Марсово поле, Триумфальная арка и т. д. Но представьте себе, что после того, как мы добросовестно исполнили предписания автора, воспитанник наш, налюбовавшись зрелищем парижского праздника, перенесен куда‑нибудь в глушь Франции, в маленькую уединенную деревушку; с каким чувством может отнестись ребенок к полудиким, грязным обитателям деревни; глаза его, привыкшие к эффектам иллюминации и блеску праздничных мундиров, не будут ли поражены уродством этих странных существ, в которых он, конечно, не согласится признать своих братьев? Не почувствует ли он к ним отвращение и ужас? Взор его, избалованный внешней условной красотой героических фигур на барельефах, не сумеет отыскать в этих людях внутренней красоты; сердце, научившееся откликаться только на звуки барабанного боя и официально–патриотических гимнов, не откроется для жалости к непонятным страданиям?
Кроме патриотизма Мишле рекомендует еще другое средство для сближения с народом — добровольную жертву: «надо, — говорит он, — чтобы у той и у другой стороны (у интеллигенции и народа) сердце расширилось, сделалось доступным любви. До сих пор на демократию смотрели как на право или обязанность, как на закон, — и она, действительно, была лишь мертвой буквой закона… Примем же ее, наконец, как благодать! Вы можете мне возразить: зачем? Мы постановим такие мудрые, искусно придуманные, законы, что любовь окажется излишней. Но чтобы пожелать мудрых законов, чтобы исполнить их, надо прежде полюбить друг друга».
Итак, вот два средства, предложенные Мишле для примирения интеллигенции с народом: с одной стороны, самодовольный патриотизм, наивный восторг перед иллюминацией, штуками и памятниками, культ милитаризма и надежда спасти мир посредством побоища, устроенного Францией, высокомерное презрение к остальным народам; с другой — сентиментальное обращение к совести эксплуататоров. Очевидно, что и здесь, в конце книги, где речь идет о средствах примирения, мысль автора колеблется между двумя такими же крайностями, как и в первых главах, где он ставит вопрос о причинах, заставляющих искать этого примирения. И здесь и там чувство его описывает тот же гигантский размах между двумя диаметрально противоположными точками — узким патриотизмом и абстрактной любовью к человечеству, не будучи в состоянии найти равновесия и успокоиться на простой жизненной симпатии к народу. Автор не любит, а только хочет полюбить. Возникает грустный вопрос: неужели современный интеллигентный человек — будь он даже крупной, выдающейся личностью вроде Мишле — до такой степени искажен и расслаблен, что не способен к здоровому человеческому чувству, без всевозможных искусственных приправ вроде тех острых пряностей, которые употребляются для возбуждения старческого аппетита?
Впрочем, едва ли следует обвинять автора слишком строго за недостатки, которыми страдает не он один, которые являются только характерною чертою современного психического момента. Напротив, Мишле заслуживает благодарности за то, что дал блестящее историческое объяснение любви французского крестьянина к земле, во–вторых, за попытку, чрезвычайно оригинальную для западного человека, отыскать в старинной деревенской общине, как одном из остатков древнего народного миросозерцания, намек на идеал высшего строя.
По -видимому, все наблюдатели современной жизни согласны в том, что мы переживаем одну из самых тягостных и мрачных эпох умственной тревоги, блуждания, смятения, болезненно–страстных и все‑таки бесплодных порывов к неизвестному будущему, если и не самые страшные, то по крайней мере самые томительные дни, какие когда‑либо переживало человечество. Чем более приверженцы «вооруженного мира» уверяют нас в его ненарушимости, тем менее мы склонны доверять. Нам кажется, что это такая же зловещая тишина, какая бывает перед грозой. Мы сами хорошенько не умеем определить, чего боимся. Но непобедимое предчувствие сжимает наше сердце. Над всеми мыслями, над всеми страхами и надеждами преобладает одно смутное настроение, которое можно выразить словами: «накануне», «перед чем‑то». Горизонт политической жизни омрачается громадным, нелепым и таинственным чудовищем с чертами Апокалиптического Зверя, отвратительным и подавляющим, как предсмертный бред, имя которому Анархизм.
Литература отражает действительность как верное, иногда даже как пророческое зеркало. То, что в жизни еще смутно предчувствуется, в искусстве уже совершается. В этом отношении в высшей степени любопытно проследить первые шаги художественного анархизма, возмущения нарождающихся литературных школ против всех старых принципов и законов реализма, позитивизма, натурализма, почти нераздельно царивших в продолжение последних тридцати лет в европейских литературах.
Начало и конец нередко бывают сходны: недаром же многие критики обозначили это новое движение именем неоромантизма. В самом деле, то, что мы переживаем теперь, в конце века, многими чертами напоминает однородное движение в начале века, ровно 90 лет тому назад, наивный юношеский романтизм наших отцов и дедов, с тою разницею, что в те времена трагическим грандиозным фоном для таких же исканий, смятения, болезненно–страстных порывов к будущему, необъятных надежд и мировой скорби служил не анархизм, а наполеоновские войны, не взрывы динамитных бомб, а грохот пушек.
Стремления новейших романтиков должны были с особенною ясностью выразиться в наиболее восприимчивой для всяких преобразующих веяний области литературы — в Драме.
В самом деле, драматическое искусство — один из чувствительнейших показателей настроений, царящих в обществе, потому что сценическое произведение более всех других зависит от постоянного взаимодействия — личного творчества драматурга и преобладающих вкусов толпы, настроения зрителей. Этим объясняется, почему неоромантики, руководимые верным инстинктом, с особенною страстью направили свой боевой натиск против реалистических и более старых классических твердынь современного театра. Метерлинк — в Бельгии, Морис Бушор, Сильвестр, Бобур и многие другие — во Франции, Гауптман — в Германии, Ибсен — в Норвегии; все, точно сговорившись, направляют свои усилия к одному: к преобразованию старых общепризнанных сценических правил и вкусов публики, к возрождению Драмы на новых идеалистических началах.
Критики и театральные рецензенты давно уже почуяли опасность. Долго старались они отделаться замалчиванием или презрением. Но наконец один из верных защитников преданий Расина, Корнеля и Мольера, один из самых последовательных врагов художественного анархизма, французский академик Фердинанд Брюнетъер, почувствовал потребность стать в оборонительное положение против надвигающихся мятежных веяний неоромантизма. Он не делает настоящей вылазки, но укрепляет ворота цитадели, чтобы они могли выдержать натиск[1213].
Брюнетьер охотно уступает тем, кто утверждает, что все так называемые сценические правила давно устарели и потеряли значение. Расин и Корнель, строго соблюдая классическое правило «трех единств», достигают столь же великих эффектов, как Шекспир, который то и дело нарушает его. Софокл и Еврипид тщательно избегают соединять смешное с ужасным, комическое с трагическим, что составляет один из любимых приемов Шекспира. Следует ли характер подчинять положению героя или, наоборот, положение — характеру? И то и другое возможно, все зависит от темперамента, от личности поэта.
Итак, заключает Брюнетьер, никаких внешних правил для сценического произведения не существует. Но это еще не значит, что не существует и внутреннего закона, всеобъемлющего художественного принципа. В чем же состоит этот основной, первоначальный закон Театра (la loi du Theatre)? По мнению французского критика, сущность драмы — воля. «Все равно, разыгрывается ли перед нами трагедия или водевиль, — главное, чего мы требуем от театра, есть зрелище воли, которая стремится к некоторой цели и притом сама себя сознает. Роман и Драма не только не одно и то же, но даже диаметрально противоположны друг другу по художественным задачам. Герой эпоса или романа испытывает действие событий, окружающих его предметов; герой драмы прежде всего сам действует, воля его преодолевает препятствия, он должен быть „создателем собственной службы”». По мнению Брюнетьера, один из величайших грехов французской натуралистической школы заключается именно в том, что она смешала роман с драмой.
Препятствия, с которыми борется героическая воля, определяют все особенности, роды и достоинства сценических произведений. Если препятствия непреодолимы и герой неминуемо должен погибнуть в непосильной борьбе с ними, то театральное действие отольется в форму трагедии. Если препятствия и силы героя взаимно уравновешиваются, исход борьбы неясен, то возникает драма, а если герой сильнее препятствий и победа его для нас несомненна, получается комедия.
Люди не ведают зрелища прекраснее и поучительнее, чем развитие могущественной воли, сознающей себя, достигающей высшего героического напряжения перед моментом гибели, вот почему, утверждает французский критик, трагедия совершеннее драмы, неизмеримо совершеннее комедии, конечно, при соблюдении остальных равных условий, ибо даже талантливый водевиль лучше бездарной трагедии.
Итак, сущность драмы — борьба сознательной воли с препятствиями. Брюнетьер остроумно подтверждает этот, кстати сказать, не им первым найденный закон, многими примерами из истории Театра. Во все века, у всех народов драматическое искусство достигает наибольшего расцвета в эпохи героической борьбы, в эпохи великого напряжения воли народной. Недаром греческая трагедия — современница Мидийских войн[1214], в которых Европа впервые победила Азию. Эсхил, творец «Прометея», сражался с Персами, и в самый день Саламинской битвы[1215] — гласит легенда, выражающая глубокую сущность народного сознания, — родился Эврипид. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон принадлежат тому веку, когда воля Испании была законом всей Европы и Нового Света. А семнадцатый век во Франции — с Расином и Корнелем? В их созданиях отражается великое национальное усилие конца XVI века, направленное к государственному единению Франции, грандиозная политическая деятельность Генриха IV, Ришелье, Мазарини. Если французская трагедия, так же как испанская драма, принадлежит несколько позднейшей эпохе, не вполне точно совпадающей с моментом высшего напряжения народной воли, то это зависит от того, что не всегда действие великих причин вызывает мгновенное отражение в литературе, нужен бывает некоторый срок, чтобы действие вполне выяснилось. Но несомненно, что гениальные драмы Гёте и Шиллера находятся в тесной преемственной связи с национальным возрождением Германии в эпоху Фридриха Великого.
Обратный опыт еще более подтверждает его теорию, по мнению Брюнетьера. Те времена, когда воля человеческая ослабевает и развивается более пассивное, созерцательное отношение к действительности, особенно благоприятствуют роману, сущность которого — изображение действий, влияний внешнего мира, испытываемых героем. Вот почему расцвет романа никогда не совпадает с расцветом Театра; творчество, породившее эпос Одиссеи, давно уже иссякло, когда родилась трагедия Эсхила и Софокла. «Жиль Блаз» и «Фигаро»[1216], столь сходные по содержанию, принадлежат двум соседним, но глубоко различным эпохам национальной жизни. На Востоке, где воля человеческая всегда была подавлена, а созерцательная жизнь процветала, существует многообразный эпос, но нет драмы.
Все эти рассуждения направлены в сущности к одной цели: выяснить причины упадка современного французского театра, так называемый «театральный кризис», на который жалуются критики и даже драматурги. Эти причины Брюнетьер видит в ослаблении воли, переживаемом современным культурным человечеством. Трудно спорить с теми, кто утверждает, что французский театр 90–х годов гораздо ниже того, чем он был четверть века назад. «С другой стороны, философы и даже простые наблюдатели жалуются на то, что пружины человеческой воли ослаблены, все более теряют свою упругость, покрываются ржавчиной». Мы не умеем желать, не умеем бороться с препятствиями. Мы предаемся течению внешних событий и созерцанию. Этому немало способствует современный научный детерминизм, который, подобно азиатскому фатализму, сводит волю человеческую к нулю. А там, где нет великого напряжения героической народной воли, не может быть и великой драмы. Вот чем объясняются, по мнению Брюнетьера, причины современного «театрального кризиса» во Франции.
Другой талантливый французский критик, Жюль Леметр, в любопытной статье «Le mysticisme au theatre»[1217] с тою же грустью, недоверием и опасением за будущность театра, которыми проникнута статья Брюнетьера, отмечает победоносное вторжение нового мистицизма на сцену. «Никогда, — восклицает он с изумлением, — такое количество священников не появлялось на театральных подмостках, и ведь все это с похвальною целью дать им прекрасные, великодушные, обаятельные роли, которые должны привлекать наши симпатии и уважение!». Он приводит длинный список подобных пьес. С другой стороны, появились драмы уже с чисто религиозным содержанием, с сюжетами, заимствованными из Священного Писания, разыгрываемые марионетками Petit‑Theatre и китайскими тенями Chat‑Noir. Таковы, например, «Рождество Христово» и «Св. Цецилия» Мориса Бушора, «Путь к Звезде» и «Св. Женевьева Парижская» Анри Ривьера. К этому следовало бы прибавить некоторые «изотерические» поэмы, как например «Свадьба Сатаны» Жюля Буа, которую автор с полным убеждением предлагает нам как заключительную часть Елевзинских таинств[1218].
Что же, однако, все это означает? По мнению Леметра, новейший театральный мистицизм в конце концов есть не что иное, как «благочестие без веры»[1219]. Конечно, можно и не веруя смотреть на религиозную легенду как на прекрасный божественный символ. Не надо придерживаться какого‑нибудь определенного католического догмата, чтобы с искренним чувством призывать в мир спасителя «Приди, Мессия!» — вот крик, который у всех нас, верующих и неверующих, вырывается из самой глубины сердца.
И тем не менее это новейшее «благочестие без веры» — только модный утонченный род чувственно–эстетических наслаждений, которые не имеют ничего общего ни с положительными догматами, ни с нравственными обязательствами. Отнюдь не следует злоупотреблять изящным словом «мистицизм». «Вся эта мода, — говорит Леметр, — не что иное, как сладострастная игра, которая заключается в том, чтобы из религий извлекать как художественное лакомство все, что в них есть трогательного, возбуждающего, пластически–красивого и, наконец, чувственного. Недаром зрители „Рождества Христова” и „Св. Цецилии” — та же публика, которая создала успех шансонеточной певицы Иветты Гильберг»[1220].
И так же, как Брюнетьер, Леметр обращается к историческому прошлому театра, чтобы выяснить эту темную, загадочную будущность. XVII век во Франции нельзя упрекнуть в «благочестии без веры». Католическая религия была тогда душою общества и народа.
Что же, однако, мы видим? В комедиях Мольера, в трагедиях Расина и Корнеля почти полное отсутствие христианских идей, искренних религиозных мотивов. Может быть, это зависит от языческих элементов так называемого Возрождения. Но есть и другие причины. Современники Мольера и Расина, люди искренне религиозные, были бы неприятно поражены, встретив в театре, этом месте светских наслаждений, слишком прямое, слишком откровенное выражение своих самых священных чувств, самой глубокой, сокровенной части своего нравственного существа. Именно эта благоговейная религиозная стыдливость отсутствует у современных театральных мистиков.
Замечательно, что в средние века, в эпоху пламенной народной веры, так называемые «moralites»[1221] и «фарсы» осмеивали на площадях нравы монахов и клириков, но это никого не оскорбляло. Рядом, у ворот величественных соборов, перед целым народом разыгрываются мистерии в шестьдесят тысяч стихов! А в наши дни с уважением выводят священнические рясы на театральные подмостки «Gymnase» и «Пале–Рояля», между тем эти новейшие «мистерии» разыгрываются перед сотнею зрителей утонченных и развращенных. В сущности, такая же поверхностная мода граничит с грубым кощунством.
«Вот почему я не думаю, — заключает критик, — что мистическое „движение”, свидетелями которого нам, по–видимому, суждено сделаться, может иметь какое‑либо серьезное значение и будущность в театре или в других областях искусства». Оно только доказывает, что ум современного человека подобен археологическому музею или этой Villa Hadriaпа (вилле императора Адриана близ Тиволи), где умнейший из римских цезарей собрал кумиры всех богов, какие только когда‑либо почитались людьми. С тех пор как в нас уменьшилась вера в единого Бога, мы начали поклоняться всем богам.
На обвинение театральных мистиков в благочестии без веры неоромантики могли бы возразить Леметру, что желаемая ими реформа отнюдь не ограничивается стремлением к возрождению католической религии и средневековых мистерий с библейскими сюжетами, как это, по–видимому, предполагается рецензентом на основании пьес М. Бушора и ему подобных. Новый мистицизм гораздо шире. Такие писатели, как Метерлинк с своими «Тремя драмами для марионеток»[1222], очень далеко стояли от осмеянного католического «благочестия без веры», да и вообще от всякого благочестия. Остроумный критик упустил из виду, что можно быть искренним, даже глубоким мистиком, не будучи католиком. Разве нет мистических элементов у нового язычника Гёте, творца второй части «Фауста», у древнего язычника Эсхила, творца «Прометея», у Шекспира, который создал тип Гамлета, тип величайшего, вечного мистика, стоящего вне всяких ограниченных верований и догматов.
Представителем нового мистицизма в театре, не имеющего ничего общего с возрождением католической религии во вкусе Поля Бурже[1223], является Метерлинк.
Недавно автор «Принцессы Малейн»[1224] напечатал интересный этюд о «Будущности трагедии»[1225], который может служить символом его художественной веры. Статья написана в своеобразном мистическом духе, преднамеренно темным языком и скорее напоминает лирическую поэму в прозе, чем критический этюд. Метерлинк желает не более, не менее как возродить древнеязыческое учение о непостижимых Роковых Силах, управляющих судьбою человека, учение, которое составляло пафос античных трагедий. По мнению Метерлинка, предмет драмы — не воля героя, как думает Брюнетьер, а воля Рока. Но современный фаталист делает преобразование в языческом учении о Необходимости и вместе с тем придает ему еще более мрачный, безнадежный оттенок. Силы Рока находятся не вне человека, не в окружающей его вселенной, как представляли себе Эсхил и Софокл, а в нем самом, в сокровеннейших тайниках его сердца. Итак, задача новой трагедии заключается в том, чтобы изобразить ужас и величие этого внутреннего рока, который каждый человек со дня рождения носит в сердце своем, себе на погибель. Шекспир и Расин находили главный источник людских страданий в страстях, Эсхил и Софокл — в судьбе. Но греки смотрели на судьбу как на внешнюю непостижимую силу, они не углублялись в ее сущность, не обращались к ней с вопросами. Трагедия будущего должна принести нечто совершенно иное, должна исследовать силы Рока, как средневековые астрологи исследовали таинственную волю звезд. Вообще во всей художественной теории бельгийского фаталиста есть астрологический оттенок — странный, искусственный, но не лишенный своеобразной таинственной прелести. Итак, особенность нового театра сводится, по мнению Метерлинка, главным образом к тому, что драма уже не останавливается на проявлении человеческих несчастий, а стремится проникнуть в самые источники всякого страдания, всякого зла, хотя бы они лежали за пределами земной действительности.
«Это есть новое познание, — говорит Метерлинк, — это и есть Судьба, на которую мы смотрим уже не извне, а как бы изнутри. Существуют сокровенные силы, которые царят в нас самих и в то же время, по–видимому, находятся в соглашении, в заговоре с внешними событиями. Все мы носим в душе Врагов. Они знают, чего хотят, куда ведут нас… Только что совершилось несчастие, исполнилось неотвратимое, мы начинаем испытывать странное чувство облегчения, как будто в награду за то, что послушались вечного закона. Среди величайшей скорби утешительный таинственный голос хвалит наше послушание. После бури и смятения, после долгой борьбы наступает тишина в измученном сердце».
«Так Верховные Силы, — продолжает Метерлинк, — ожесточенно борются в душе человека, и мы иногда видим, хотя и не обращаем внимания на это (потому что глаза наши открыты только на несущественное), — мы видим тень этих роковых битв, в которые воля наша не дерзает вмешиваться. Случается, когда я беседую с друзьями, что среди шумного разговора и смеха по лицу одного из нас вдруг что‑то проносится, не принадлежащее здешнему миру. Сразу, без всякой причины все умолкают и смотрят друг на друга глазами духа. Потом с тем большею силою поднимаются на поверхность смех и речи, которые исчезли, как испуганные лягушки большого озера. Но невидимое уже получило дань. Что‑то в нашем сердце поняло, что какая‑то битва кончается, какая‑то звезда восходит или падает, что чья‑то судьба свершилась».
И Метерлинк восклицает с отчаянием, достойным древнего фаталиста или восточного философа: «Какая нам польза думать о своем „я”, на которое мы не можем иметь почти никакого влияния? Звезду нашу должны мы наблюдать! Она — счастливая или несчастная, бледная или лучезарная…».
«Но о Звезде опасно говорить, опасно даже думать. Потому что нередко это бывает предзнаменованием, что она скоро должна потухнуть… Наследственность, воля, судьба шумно громоздятся в нашем сознании, но повелевает нами только тихая Звезда».
Конечно, все это довольно неопределенно, и Метерлинк едва ли выяснил теорией внутреннего рока «будущность трагедии», как обещает заглавие статьи. Но приведенные выдержки интересны тем, что в них выражается в более сознательной философской форме смутное, поэтическое настроение, которое разлито в загадочных драмах Метерлинка. Это ключ к его символам. Вера в Звезду, чувство рока не внешнего, а внутреннего, чувство грозное и вместе с тем манящее, подобное бледному звездному сумраку, составляет неотъемлемое поэтическое открытие бельгийского мистика. Метерлинк первый попытался возобновить на современной сцене трагические эффекты грандиозных роковых настроений, которыми с таким неподражаемым искусством умели пользоваться греческие поэты.
Главное горе метерлинковских пьес заключается в том, что они гораздо больше действуют со страниц книги на читателя, чем с театральных подмостков — на зрителя. У неоромантиков является даже мысль, что актеры, воспитанные на старом репертуаре, не умеют исполнять новых идеалистических драм. Во Франции Бушор обратился к театру марионеток, художественно исполненных и роскошно одетых кукол, которые отлично выполняют роли символических лиц пьесы, с их медленными и резкими телодвижениями. Другие же критики смело утверждают, что ни куклы, ни профессиональные актеры, ни китайские тени вовсе не пригодны для нового мистического театра! Сами авторы, сами поэты неоромантической школы — вот кто сумеет передать и объяснить толпе художественным чтением со сцены прозу Метерлинка, воплотить эти сложные, смутные грезы, составляющие главный фон драматического действия, в высшей степени простого и наивного. Причем декорации должны быть тоже простые, нероскошные, тусклые, с таинственною полустертою окраскою, напоминающие сны ребенка, проникнутые наивным и глубоким символизмом, как произведения знаменитой английской школы живописи — прерафаэлитов. Недаром сам Метерлинк никогда не позволял играть своих пьес настоящим актерам, питая отвращение к их банальности, предпочитая некрасивым и непослушным людям красивые и послушные куклы. Но хотя новые мистерии и «пьесы для марионеток» не имеют желаемого успеха, по–видимому, эти попытки к обновлению театра вызваны истинною потребностью современной публики или по крайней мере современных драматургов.
Замечательно, что не в одной Франции, айв Германии совершенно самостоятельно, из другого источника возникло движение, направленное к идеалистическому преобразованию сцены. Судя по такому сильному и оригинальному таланту, как Герхард Гауптман, это движение имеет и в Германии будущность. Любопытно проследить отношение немецких критиков, большею частью принадлежащих молодому поколению, к представителям неоромантизма в Бельгии и во Франции.
Недавно, на страницах венского журнала «Neue Revue»[1226] Конрад Альберти напечатал критический этюд под заглавием: «Стремление к сказке», разумея возвращение к сказочным приемам в драматическом искусстве. Альберти относится к неоромантической школе нетерпимо и едва ли справедливо, притом не без некоторой доли современного, модного в Германии шовинизма. По мнению критика, это движение, начавшееся во Франции, есть плод скорее нервного возбуждения, чем потребности духовного обновления. «Новые ощущения, потрясения нервной системы по возможности неожиданными эффектами, вот к чему там (то есть во Франции) стремятся какой бы то ни было ценой. Иногда из этого выходит нечто, не лишенное значения и красоты, иногда бессмыслица. „La‑bas”[1227] Гюисманса показывает, до какой степени „сатанинского” безумия можно себя довести. Наш век, с его жадною торопливостью, слишком многого ожидал от разума. Упустили из виду, что Золя хотел только заложить основание дома, еще не помышляя о крыше. „Знание — Труд!” — эти два слова стали лозунгом. Знание должно было сделаться всемогущим и посредством социализма достигнуть нового мирового счастья, посредством натурализма — новой мировой поэзии. Причем забыли, что ни Искусство, ни Общество не могут быть мгновенными созданиями, что они, скорее, похожи на сталактитовые наслоения, образующиеся в течение многих тысячелетий».
«Для французов, — продолжает Альберти с некоторым национальным высокомерием, — для французов искусство и политика — только увлекательные игры, только средства для выражения темперамента. Французы не хотят понять, что все человеческое вечно останется несовершенным, но вместе с тем и вечно развивается. Как только они увидели, что наука не могла в двадцать пять лет разрешить социального вопроса, что натурализм не сумел обнажить глубочайших тайников нашего сердца, тотчас же отвернулись с пренебрежением от социализма, от естественных наук, от натурализма. Действия заменились чувствами: в политике — анархизм, в искусстве — неоромантика. В политике — фантастические мечтания о невозможной общине, в которой по уничтожении всех государственных и общественных уз люди живут (каждый своею отдельною жизнью) в мире и любви, сделавшись настоящими ангелами; в искусстве — не менее фантастические, драматизированные грезы о сказочных принцессах: под тенью дубовых лесов млеют они в объятиях своих возлюбленных и говорят таким языком, в котором звуки превращаются в краски, формы — в звуки».
Итак, возникновение неоромантизма и сказочного театра Метерлинка Альберти объясняет неизлечимым французским легкомыслием, привычкою бегать за первою попавшеюся модою, не стоящею в сущности никакого серьезного внимания.
Мы приведем собственные слова критика, проникнутые наивным шовинизмом, очень любопытным для характеристики современных литературных настроений в Германии. «Этот беднейший в поэтическом отношении из всех культурных народов (то есть Франции), — говорит Альберти, — не имеет никакого понятия о нибелунговых сокровищах мировой поэзии, ни о Шекспире, ни о Гёте. Грильпарцер и Раймунд для него неведомые имена!». По мнению Альберти, каждый германский университет мог бы с полным правом послать любого из своих первокурсников приват–доцентом по всеобщей истории литературы в Сорбонну! Итак, еще понятно и простительно, что столь поверхностный «литературно–невежественный» (!) народ, как французы, увлекается неоромантизмом. Но как мы, мы, «бесконечно образованные немцы» (wir, iibergebildeten Deutschen), могли увлечься этой парижскою модою, вот чего нельзя ни понять, ни простить.
Можно только заметить критику, что никакая наивность национального самолюбия не оправдывает безвкусия, с которым он на одну доску поставил Грильпарцера и Шекспира, Гёте и Раймунда.
С неменьшею строгостью отзывается о Метерлинке как о представителе неоромантического театра другой немецкий критик — Карл Краус. Он приводит с негодованием мнение молодого французского поэта Октава Мирбо: «Драмы Метерлинка стоят наравне, если не превосходят самое прекрасное, что есть у Шекспира»[1228].
«Все вообще французы, не исключая и Октава Мирбо, — восклицает Карл Краус, — столько же смыслят в Шекспире, сколько маленький „бельгийский Шекспир” (то есть Метерлинк) — в драматическом искусстве».
Отличительное свойство истинного драматического гения в том, продолжает Краус, что он умеет создавать людей. Шекспир — великий творец человеческих душ.
Метерлинк довольствуется марионетками и не хочет создавать характеры людей, потому что не может. «Мне кажется, — заключает немецкий критик, — что и здесь бессилие возводится в положительное качество». Вместо сложного психологического действия нам предлагают упрощенные до последней возможности впечатления, отсюда бесконечная монотонность диалога, утомительные повторения одних и тех же слов, беспрестанные «О!» и «Ах!», символы примитивных состояний души, главным образом удивления и страха. И в доказательство Краус приводит следующий диалог из «Принцессы Малейн».
Принцесса и кормилица выглядывают из слухового окна башни.
Малейн. Я вижу маяк!
Кормилица. Ты видишь маяк?
Малейн. Да, мне кажется, что это маяк.
Кормилица. Но, значит, ты должна видеть и город?
Малейн. Я не вижу города.
Кормилица. Ты не видишь города?
Малейн. Я не вижу города.
И так до бесконечности!
«Нет, мы вполне убеждены в том, — заключает Краус, — что подобные „символические фарсы” Метерлинка и его последователей представляют забавный спорт, которому можно предаваться, если чувствуешь к тому охоту, по воскресеньям в послеобеденное время, но который не имеет ровно никакого значения в литературе».
Гораздо более вдумчиво, серьезно и справедливо относится к Метерлинку Теодор Волъф в критическом очерке «Сказочный театр» («Магchensoiel»). По его мнению, несколько слов из «А Rebours»[1229] Гюисманса отлично выражают то, чем страдают французские неоромантики: «Природа сделала свое дело: она окончательно пресытила терпеливое внимание людей, утонченных отвратительным однообразием пейзажей, закатов и восходов». И вот эти дерзкие, но слабые, страстные, но больные мечтатели неутомимо ищут нового идеала, неожиданного, хотя бы противоестественного, — только бы нового, «очаровательно лживого» («quelque chose d.'exquisement faux»).
Метерлинк своим сборником стихотворений «Serres Chaudes» («Теплицы»)[1230] примыкает к болезненному течению, определенному Гюисмансом с такою цинической и вместе с тем простодушною откровенностью. Глубоко ошибаются те критики, которые, обманутые внешностью, считают его писателем простым и наивным. Все у него кажется простым, а на самом деле есть бесконечно сложный плод бесконечно сложной работы. Его мистицизм глубже и любопытнее, чем преднамеренное «сатанинское безумие» Гюисманса. Сказочный трепет ужаса и удивления — не модная игра для него, а удовлетворение интимнейшей потребности темперамента. Гюисманс слишком часто притворяется, Метерлинк по–своему умеет быть безыскусственным. «Гюисманс нагромождает ужасы и редкости, Метерлинк видит белые, тихие души детей, витающие в полночь над сказочными садами». Его драмы состоят из трех элементов, разнородных, иногда как будто противоречивых и, однако, сливающихся: из жажды невероятного, искусственного, из мистицизма и, наконец, из стремления к ясным, наивным, почти детским настроениям. Из этих трех источников возникли «La princesse Maleine», «Peleas et Melisande», «Les sept princesses»[1231].
«Вот мир, — продолжает Теодор Вольф, — в котором обитают одни дети. У Метерлинка все люди, равно седовласые, как и златокудрые, действуют, любят, смеются, плачут, как дети. Даже в их пороках есть что‑то детское, в их страстях и желаниях — что‑то младенчески–чистое».
«Они живут в стародавних сумрачных замках. Все здесь древнее, гнилое и шаткое. Всюду веет холодною сыростью. Внизу, под землею, темные таинственные погреба и подвалы. Солнечный свет никогда не проникает в эти мрачные покои, он едва озаряет сад, где развесистые, столетние дубы дают слишком густую тень. Во всех пьесах один и тот же мир, один и тот же час дня, между сумерками и ночью, и приблизительно одни и те же лица: старые короли, добрые и печальные, больные принцессы с больными ножками, с развивающимися кудрями, верные принцы, умирающие от любви покорной и меланхоличной, властолюбивые королевы с зелеными страшными глазами. И все они — дети».
Общий колорит, освещение в метерлинковских драмах — преднамеренно тусклое и нежное, как в картинах наивных итальянских мастеров, потемневших от старости, как у английских прерафаэлитов. Т. Вольф очень верно замечает, что во всем существе бельгийского мистика есть много общего с школой прерафаэлитов, этой необыкновенно утонченной, болезненной и поэтической манерой живописи.
Как бы то ни было, приведенные отзывы, строгие и снисходительные, не касаются внутренней художественной сущности Метерлинка, останавливаются на внешних чертах его таланта. Сам поэт гораздо лучше определил эту сущность учением о Роковых Силах в этюде, уже упомянутом нами, — «О будущности трагедии». Вместе с тем здесь обнаруживается главный недостаток новейших театральных мистиков: произведения до такой степени загадочны, что сами авторы, не полагаясь на них, чувствуют потребность выступать на сцену из‑за кулис, подробно объяснять публике и рецензентам, что именно они намерены выразить тем или другим символом. Вообще, когда поэт прибегает к введениям в свои драмы, к предисловиям, критическим заметкам о собственных пьесах, — это дурной знак. То, что не объяснено живыми образами в зрительной зале, он уже, конечно, не объяснит никакими предисловиями, никакими подготовительными статьями в газетах.
Должно заметить, что неоромантики слишком часто стараются убедить критиков, вместо того чтобы покорить зрителей.
Подобно Метерлинку, Морис Бушор дает публике художественное исповедание в объяснительном письме к критику Жюлю Леметру по поводу своей мистической драмы «Елевзинские таинства»[1232]. У автора немалые претензии. Он желает символическими образами, заимствованными из древнегреческих мистерий, выразить весь мировой процесс развития, причем в довольно странном сочетании сближает мифологию с христианскими догматами, философию неоплатоников с современной научной теорией эволюции. Олимпийский Зевс постоянно превращается, достигая высших и высших форм нравственной жизни и увлекая за собою в бесконечные пути к совершенству все тени усопших, все бесчисленные души, заключенные в Аиде. Хорошо знакомый нам как неисправимый поклонник красивых женщин Эллады и ветреный муж ревнивой Геры, Зевс, очищенный и просветленный в конце XIX века в духе наивных спиритических книжек Аллан Кардек, представляет довольно безвкусное порождение неоромантической фантазии. Жюль Леметр, имея доброту отнестись серьезно к философским стремлениям пиесы, заметил Морису Бушору, что всякое эволюционное объяснение вселенной (то есть как ряда ступеней нравственного развития, причем каждая является средством для последующей) предполагает неустранимую долю несправедливости. В самом деле, почему же те, кто родились раньше, должны страдать и погибать для благополучия тех, кто родился позже, почему тени, сошедшие в Аид до преображения Зевса Олимпийского в светлейшую форму, должны изнывать и томиться во мраке смерти и рабства?
На это Морис Бушор с торжественной важностью, как истинный жрец–мистагог III века, посвящающий в таинства Цецеры, отвечает критику, что в мистерии «освобождение даруется равно всем душам, заслуживающим его добродетелью, и ничто не заставляет думать, что тени, сошедшие в Аид ранее „transformation de Zeus'[1233] не участвуют в благодати нового закона. Души, выходящие первыми из Аида, суть как бы прекрасные первые плоды («Les premisses charmantes»), говорит Иаххос, будущее обильной жатвы. Я не мог на сцене показать необъятную толпу, но несколько „хоретов” должны изображать множество освобожденных душ. Ежели и здесь есть некоторая несправедливость, то лишь в том, что души, ранее сошедшие в Аид, долгое время ждут превращения Зевса — эволюции к высшей форме справедливости, так же, впрочем, как ведь и в христианском учении, где праведники старого закона долго томятся во тьме ада, ожидая Христа. Во всяком случае, это — minimum несправедливости. И даже этот минимум, как будто вытекающий из моей пьесы, не должен беспокоить читателя, так как он имеет основание предполагать, что эволюция Зевса и Закона есть нечто совершенно символическое… В моих „Елевзинских таинствах” я не допускаю никакого разрушения личности. Я никогда не примкну к чистому буддизму, потому что верю, что жизнь прекрасна сама по себе и божественна, когда она открывается нам в проявлении высших сил. Любовь–жалость, проповедуемая Сакья–Муни, кажется мне не средством для погашения всяких желаний, всякой деятельности, на которые буддисты смотрят как на источники человеческих страданий; напротив, любовь сама в себе кажется мне целью, истинною и божественною целью всех существ… То, в чем я никогда себе не изменяю, — заключает Бушор, — есть самое главное, а именно: закон любви, закон, который требует, чтобы своего ближнего мы возлюбили, как самого себя».
Для подтверждения такой прописной морали не стоило прибегать к «Елевзинским таинствам», тревожить Зевса Олимпийского. Вообще надо заметить, что все эти рассуждения, несмотря на туманную мистическую внешность, довольно‑таки поверхностны и банальны, что выступает еще яснее благодаря наивной и тщетной претензии на философское глубокомыслие.
Гораздо смелее и оригинальнее попытка Мориса Бобура (Morice Beaubourg) — символическая драма «L'image» («Образ»), которой он дебютировал в своем новом парижском театре L'GEuvre[1234] с большим успехом.
Подобно всем своим товарищам, и Бобур дает предисловие к пьесе, которое заключает следующими словами, полными гордой юношеской надежды: «Благодаря мне или другим, во всяком случае, театр идеалистический будет\» (le theatre idealiste sera!).
Морис Бобур до постановки драмы «L’image» был мало известен даже в литературных кружках. В книге «Enquete sur revolution litteraire»[1235] Жюль Гюре среди 64 героев неоромантизма, у которых он в 1891 году счел нужным справиться о предстоящем низложении натуралистической школы, не упоминается об авторе «L’image». Но мы находим его имя в «интервью» Барреса и Гервье. Они могут служить хорошими свидетелями, так как не злоупотребляют товарищескою услужливостью, господствующею в литературных кружках.
«Морис Бобур, — замечает Баррес, — прекрасно начал своими „Рассказами для убийц’[1236], и друзья ожидают от него еще более возвышенных странностей («des bizarreries superieures»)». Все это звучит несерьезно, похоже на мистификацию и оригинальничанье; одно уже заглавие «Рассказы для убийц» напоминает дешевую бульварную рекламу. Но вообще читателя надо предупредить, что здесь мы вступаем в подозрительную область, в пределы если не настоящего, то преднамеренного безумия, которое любопытно тем, что увлекает иногда людей, не лишенных истинного таланта… Гервье считает Мориса Бобура последователем великого американского новеллиста Эдгара Поэ, соединявшего самый дерзкий полет фантазии с холодным, утонченным психологическим анализом. Конечно, заглавие «Рассказы для убийц» только мрачная шутка и не имеет никакого серьезного значения. В предисловии автор посвящает эти пять новелл «неизвестному лицу», умершему в сумасшедшем доме. В конце концов, это довольно школьнический прием для запугивания и вместе с тем привлечения простодушных читателей; пожалуй, можно и здесь видеть признак детской беспомощности и незрелости таланта, но ведь романтики начала XIX века, среди которых, несомненно, встречаются сильные люди, тоже любили эти невинные ужасы, эти никого не устрашающие жестокости, злоупотребления кладбищами и привидениями. Только у романтиков конца XIX века все это не так уже зелено и молодо; здесь, напротив, чувствуется довольно зловещая примесь современной неврастении, капля опасного яда; во всяком случае, весьма трудно отличить, где кончается мистификация, где начинается болезнь.
Не особенно глубокая ирония новелл Мориса Бобура заключается в том, что убийство рассматривается, наперекор «буржуазной» нравственности, как естественное и вполне необходимое отправление всякого человеческого общества. Критик Баррес, человек с умом и образованием, поддерживая мистификацию рассказчика, написал к «страшным» новеллам изящное предисловие, где старается перещеголять его игрой в романтическую кровожадность и «сатанизм». «Что особенно мне нравится в этой первой книге Бобура, — говорит Баррес, автор homme libre[1237], — так это полнейшее презрение ко всему, что является для нас внешним миром. Обратите только внимание, как поэт смотрит на окружающее! Он постоянно пользуется против вселенной правом насмешки! (le droit de l’ironie)».
Баррес преувеличил значение первой книги друга. В своих мрачных фантазиях Бобур уступает по юмору Эдгару Поэ, по силе воображения — Гофману. Молодой писатель хорошо сделал, что не пошел дальше по этому пути, покинул иронию для откровенно лирических настроений, в которых он значительно сильнее. В 1893 году появился его новый сборник «Страстные новеллы» («Nouvelles passionees»); среди них особенно любопытна для характеристики поэта маленькая аллегорическая поэма в прозе под заглавием «L’Eau verte et froide» («Зеленая и холодная вода»). Здесь мы уже предчувствуем писателя, которому суждено дойти до необузданных крайностей неоромантизма.
Отважные пловцы хотят переплыть «холодные, зеленые воды», чтобы достигнуть Идеала. Посередине вод стеклянная огромная стена, и пловцы, сам поэт и его единственный друг, должны пробиться сквозь прозрачную страшную стену, сломать ее, чтобы увидеть цель. И вот с опасностью для жизни проникают они через нее, разбивая стекло. Колючие осколки режут, впиваются в сердце и мозг, и скоро все их тело — одна живая язва, но они не жалеют ни крови, ни плоти, ни сердца, ни мозга, стремятся все дальше и дальше на своей таинственной лодке по холодной, зеленой воде. «Гордые, как боги, — заключает поэт, — мы не чувствовали мук, потому что достигли наконец страны, для которой были созданы. Нас повели, как триумфаторов. Музыка гремела неистово. Нам бросали цветы. Среди толпы коленопреклоненных и обоготворяющих нас людей, над которыми мы высились, — жалких людей, без мысли, без гордости, которые не отваживаются плыть по зеленой, холодной воде, шествовали мы, добывшие лавры нашею силою, триумфаторы, победоносные!».
Эта «зеленая, холодная вода» (поэт называет ее также «пустою») есть не что иное, как символ натуралистической школы, которую идеалисты должны победить. Но гораздо менее ясно, в чем именно состоит Идеализм, требующий таких кровавых жертв. Новая драма «L’image» также не разрешает этого вопроса, хотя поэт и в предисловии к ней, и в самой пьесе не скупится на теоретические рассуждения. В конце концов все сводится к тому, что идеализм, как его понимает Бобур и, по всей вероятности, большая часть его единомышленников, есть резкое отрицание натурализма, а положительная сторона остается во мраке. Во всяком случае, как симптом литературных веяний драма любопытна, несмотря на огромные недостатки. Кроме того, «L’image» была принята литературной молодежью с таким восторгом, что на произведение это мы имеем право смотреть как на своего рода если не художественный, то психологический документ, объясняющий умственное настроение всех этих «людей завтрашнего дня», как сами они себя называют с гордостью.
В предисловии Морис Бобур, между прочим, говорит: «На основании моей драмы некоторые избранные умы причислили меня к неоплатоникам. Все равно — ирония или похвала — я с радостью принимаю это имя. Впрочем, с меня было бы довольно и старого имени „идеалист". Ибо что, собственно, я хотел создать? Идеалистическое произведение, то есть такое (потому что следует выразиться точнее), весь жизненный смысл которого, вся увлекательность, все действие, вся страсть проистекала бы из картины духовного кризиса».
Судя по этому заявлению, можно подумать, что идеализм Бобура не что иное, как полное торжество психологического метода, утонченного анализа в духе, несколько лет тому назад еще модного, теперь неудержимо стареющего и блекнущего Поля Бурже. Но Бобур энергически протестует против тех, кто вздумал бы смешивать его с водянисто–сентиментальными последователями Октава Феллье и Жорж–Занд, причем он, конечно, подразумевает таких «психологов», как Поль Бурже, Прево, Род и нескольких других своих товарищей, которые в погоне за дамским мимолетным успехом способны впадать в неокатолическое великосветское тартюфство. Бобур утверждает, что его идеализм не имеет ничего общего с напускным «романтизмом» этих господ, лезущих из кожи, чтобы попасть в так называемый высший свет, наряжающихся в католическую религию, как в безукоризненный смокинг для раута. С юношеским жаром и наивным высокомерием автор «L’image» восклицает: «Мой идеализм есть бесповоротное отрицание всего, что люди считают реальною действительностью, утверждение единственной правды Невидимого. Невидимое в моей драме есть „Образ”, „L’image” — нечто вроде таинственных платоновских идей или тех вечно рождающих творческих призраков, которые живут в стране „Матерей” (см. II часть «Фауста» Гёте)». Но это выражение «Образ» (image) символическое, оно может относиться ко всему внешнему миру, в нем заключена, если хотите, целая философская система, продолжает Бобур. Между прочим, интересно, что он поклоняется Ибсену, которого многие считают беспощадным реалистом, поклоняется ему за то, что источник всех драматических кризисов и развязок у Ибсена есть не внешний мир, а внутренний — человеческая совесть.
Вообще в предисловии Бобура нет никаких более точных указаний на то, чем должна быть новая идеалистическая драма, пришествие которой возвещает он с уверенностью «боговдохновенного пророка».
Обратимся же к самой драме.
«L’image» делится на три акта. В первом жена молодого писателя Марселя Деменьера Жанна приходит к убеждению, что муж любит уже не ее самое, а только идеальный Образ ее, созданный им во время первой непорочной влюбленности. Образ, который он до сих пор сохранил в своем сердце. Второе действие кончается тем, что Жанна уходит из дома, после того как муж поссорился со всеми друзьями, раздраженный их грубостью, непониманием его мистического идеала, после того как осыпал и жену беспощадными упреками за то, что она на стороне друзей. В третьем акте Жанна, несмотря на эту «идеалистическую» жестокость, безгранично преданная мужу, возвращается и делает попытку примирения. Но когда, доведенная до отчаяния, она высказывает мужу свою ревнивую ненависть к Образу, к собственному Образу, отнявшему у нее счастье и любовь, то Марселем овладевает припадок ярости: у него является безумнейшая мысль, что для полного торжества идеального вечного Образа Жанны, таинственной Идеи, ему следует уничтожить, стереть живой, несовершенный образ смертной женщины, любящей его простой человеческой любовью. И вот новый Отелло, мистическая ревность которого показалась бы простодушному шекспировскому мавру величайшей нелепостью, душит Дездемону, убивает Жанну, для того чтобы ее смертная природа, эта жалкая «несуществующая оболочка», не затемняла красоты вечного божественного Образа.
Такова в немногих словах сущность этой драмы.
Любопытно проследить некоторые из диалогов. Здесь мы встречаемся с бесконечными отступлениями в область философской и литературной критики.
В начале пьесы Жанна и Марсель разговаривают о драматическом произведении, которое начал молодой писатель, до того посвящавший себя исключительно роману. Жанна советует делать уступки вкусам публики, Марсель возражает ей с гордостью:
«Существует два романа, как и два театра: один, в котором публика заставляет автора служить своим мыслям и стремлениям, другой — в котором писатель, как истинный творец, подчиняет толпу… Я на стороне второго театра. Вот и все». «Чего же ты хочешь?» — спрашивает Жанна, и Марсель продолжает: «Дать что‑нибудь новое, поразительно новое (итг rude nouveau). Довольно с нас этих тысячелетних общих мест! Я хочу выразить жизнь, какою она мне является, единственную настоящую жизнь, которою живет самая глубокая внутренняя часть моего существа».
В характерах двух других действующих лиц, молоденькой парочки Жоржа и Антонины, друзей Марселя, идеалист Бобур обнаруживает сатирическую жилку своего дарования. Эти супруги смотрят на идеализм как на своего рода изящный, модный спорт аристократического Парижа. Антонина хвастает, что освободилась от создателей внешнего романа — Доде, Золя, Гонкуров, что изучила Платона, Плотина и Гегеля. Но в сущности экскурсии в область философского идеализма для нее — то же, что прогулка в лодке или верхом. Жанне эта игра кажется довольно противной. У нее нечаянно вырывается слово сочувствия великому натуралисту Клавдию Ружье (то есть Эмилю Золя), за что муж строго выговаривает ей: «Оставь бедного Ружье, он умеет смотреть только на то, что внизу, а ты обращай свои взоры к высшему, ибо там — счастье».
Некоторая уступка театральной технике, требованиям вероятности заключается в том, что Бобур, пытаясь выяснить психологический или, вернее, невропатологический кризис героя, заставляет Марселя рассказывать случай с живописцем, влюбившимся в портрет своей жены и сошедшим с ума. В сущности, это болезненно извращенные видоизменения древнего, как само человечество, и неумирающего мифа о Пигмалионе и Галатее. Марселю такая любовь не кажется безумием. У мужа и жены возникает про этому поводу страстный спор, еще более обостряющий отношения. Наконец, Жанна, томимая странною, тоже весьма похожею на безумие ревностью к несуществующей Галатее, к собственному Образу, задает мужу прямой вопрос, кого же он любит — ее или Образ. Этот диалог, заключение первого акта, — самая красивая лирическая часть пьесы, написанная простой сильною прозою, которая, по свидетельству видевших пьесу, со сцены действует даже драматически. «Чтобы ты любил меня, — говорит Жанна, — я должна быть не тем, что я на самом деле, лгать, вечно играть роль, сделаться тою, которой, как я чувствую, требует твое воображение. А это мне с каждым днем труднее и труднее, потому что ты становишься все утонченнее, все искусственнее, ты уводишь ту, другую, в призрачные миры, куда я едва смею за вами следовать, в неземные пределы, где я уже почти не надеюсь встретиться с вами. Скоро ты начнешь сравнивать „Ее” и меня, небесную подругу и земную. Я говорю тебе, что „Она” сделается наконец для тебя всем, и ты меня забудешь, как мертвую. Нет, нет, лучше же мне сейчас умереть, если я должна погибнуть. Я слишком горда, чтобы делить тебя с другою!.. О, Марсель, может быть, это покажется тебе безрассудным. Но, во что бы то ни стало, ты должен, ты должен мне ответить сейчас, кто для тебя дороже, она или я, кого ты больше любишь — мой Образ или меня?».
И она требует клятвы. Марсель не хочет и не может лгать, отказывается от клятвы.
Второй акт опять более чем на половину посвящен литературно–критическому диалогу. На сцену выступает сам прославленный вождь натурализма Ружье–Золя, и, надо отдать справедливость автору, он сумел выставить принципиального врага мистической молодежи с большим тактом и умом, без всякого шаржа и преувеличения. Ружье с увлекательным красноречием и силою в духе «Доктора Паскаля»[1238] проповедует как идеал всякого художника и ученого внимательное, любовное изучение жизни во всех ее проявлениях. «Середины нет, — говорит он. — Жизнь или смерть! Если не хочешь умирать, нужно, какою бы то ни было ценою, любить жизнь. А если предпочитаешь смерть, то, хорошенько подумав, выбирай самый прямой и скорый путь!».
К великой радости Жанны, Ружье–Золя почти удается обратить Марселя на путь истины. Но мгновенное отрезвление, по–видимому, только последняя нерешительность перед тою бездною сумасшедшего идеализма, в которую он бросается очертя голову.
Молодой писатель нападает на благоразумного натуралиста с внезапным ожесточением, с тою болезненною страстью, которая составляет, очевидно, сущность его темперамента. Он издевается над людьми, подобно Ружье, душу свою отдающими внешнему материальному миру, жалкому призраку, издевается над журналистом, презирающим философию, и над его родным братом, натурализмом, который никогда не смотрит вперед, а только назад или по сторонам, над этим уродливым фотографическим искусством, ремесленно подражающим действительности. Он доходит до такой ярости, что едва не выгоняет добродушного Ружье и вместе с тем высказывает Жанне такую ненависть, что и она вслед за изгнанным вождем натурализма принуждена удалиться из собственного дома.
Замечательно, что здесь представитель идеализма Марсель является настоящим безумцем, маниаком, тогда как натурализм в спокойных, разумных словах Золя–Ружье, — быть может, несколько узким, но несравненно более здоровым и человечным миросозерцанием.
Последний акт становится психологически правдоподобным только в том случае, если предположить, что муж, отуманенный грезами, и жена, запуганная мужем, оба окончательно потеряли рассудок. Они галлюцинируют, слышат, как Образ (l’image) идет по лестнице, открывает дверь и даже — предел безвкусия! — снимает верхнюю одежду. Марсель выражается как настоящий неоплатоник, ученик Ямвлиха и Порфирия, называет призрак «Идеей, преобразующей существо Жанны», и отвратительным, хладнокровным безумием старается соединить эти два существа, воплотить Образ в его тусклое отражение, в живую, бедную Жанну. С этой целью он и убивает ее. Потом, обнимая мертвую, целует с бесконечною нежностью, бредит, что они снова вместе гуляют в лесу, как в те дни, когда были женихом и невестою. На этом падает занавес.
Автор не дает драме никакого заключения. Мы так и не узнаем его личного отношения к мыслям и действиям героя — оправдывает ли он безумного Марселя или осуждает дикую крайность идеализма, которая ведь, в конце концов, является только формой самого необузданного эгоизма?
«Идеалистическая» прямолинейность и непримиримость Мориса Бобура дали большой, неожиданный успех в театре «CEuvre», где публика была та же самая неоромантическая, в достаточной мере изломанная и пресыщенная молодежь, из которой вышел и автор «Рассказов для убийц». Судьба драмы была бы, вероятно, иная перед обычною театральною публикою.
Как особенность мистицизма, исповедуемого Бобуром, надо отметить следующее свойство: он не прибегает к религиозному чувству, а идет по независимому пути. Несомненно, что реакция против натурализма у некоторых французских писателей последней формации, как например у Вогюе, Бурже, отчасти Рода, приняла религиозный, даже прямо католический оттенок, что дало повод Жюлю Леметру обвинить неоромантиков в «благочестии без веры».
Морис Бобур является представителем иного течения, не имеющего ничего общего с неокатолическою реакцией, скорее философского, платоновского, чем христианского идеализма.
Исключая несомненно свежий и оригинальный талант Метерлинка, надо сознаться: все эти попытки неоромантического театра в высшей степени слабы и поверхностны. Здесь философская тенденция не более как модная и тщетная претензия. От «молодой» школы пахнет уже тленом, пахнет старостью. В самом деле, какая бессильная и в сущности банальная любовь к противоестественному, к извращенному! Это — бесконечные повторения Бодлэра и Эдгара Поэ в ослабленных снимках, сделавшиеся общими местами. Если остановиться на этих диких и вместе с тем робких попытках, то неоромантическому театру нельзя предсказать серьезной будущности.
Мы видели, с каким напряженным вниманием следят немецкие критики за новою борьбою, вспыхнувшею в литературных кружках Парижа. В очень интересной статье о современной немецкой драме известный романист Фридрих Шпильгаген обвиняет новейшую критическую школу Германии в чрезмерной, раболепной приверженности к новым литературным течениям, приходящим извне — из Бельгии, Норвегии, России, Франции, — в погоне за модными крайностями натурализма и неоромантизма, в забвении старых национальных преданий великого классического века Гёте и Шиллера[1239]. Чем же объяснить подобное явление? В Германии мы ведь имеем дело с культурой, еще сравнительно свежею и бодрою, не дошедшей, как во Франции, до крайних пределов болезненной утонченности, с культурой, страдающей, скорее, некоторой сангвинической грубостью, еще неопытным народным самомнением, поклонением физической силе, милитаризмом. Шпильгаген объясняет все это беспокойное литературное брожение, смутное и, по мнению почтенного романиста, зловещее чужеземными влияниями, неискренним модничанием, игрой в «модернизм», щегольством молодых писателей, желающих блеснуть перед публикой парижскими «hautes nouveautes»[1240].
Но если мы ближе присмотримся к новейшей немецкой драме, то увидим, что корни нарождающейся неоромантической школы, быть может, гораздо глубже, здоровее и крепче в Германии, чем во Францией и Бельгии.
Талантливый, в настоящее время тридцатилетний, автор социалистической трагедии «Ткачи» («Die Weber») и романтической мистерии «Ханнеле»[1241] Герхарт Гауптман, человек, вышедший из простого народа и еще не порвавший связи с ним, внук рабочего на ткацкой фабрике Силезии, с наследственным темпераментом, полным здоровья, силы и свежести, заставляющим его нередко впадать в натуралистическую грубость, едва ли подвергнется обвинению в избытке болезненных культурных влияний. И однако Герхарт Гауптман в своей последней пьесе более глубокий мистик, чем авторы «Елевзинских таинств» и неоплатоновской мистерии «L’image». Течение нового романтизма захватило поклонника воинствующей социал–демократии с такой силою, что можно и теперь уже предсказать безошибочно: он не выйдет из этого течения, не переродившись, не сбросив старой натуралистической кожи. А между тем Гауптман, подобно суровому потомку норвежских шкиперов Генриху Ибсену, не имеет ничего общего с чужеземными влияниями, с роскошной, сладострастной тиной великого города, согретой болезненным солнцем поздней культуры.
Гауптман родился в 1862 году в Обер–Зальцбрунне, в Силезии. Дед его был простым бедным ткачом, отец — человеком обеспеченным, обладателем одного из хороших отелей в городе. Он постарался дать сыну Герхарту порядочное воспитание. Темперамент будущего поэта оказался неуживчивым, не переносящим школьной дисциплины и принуждения. Гауптман пробыл недолго в реальном училище, в Бреславле, и потом у своего дяди, где должен был изучать сельское хозяйство. В 1879 году по просьбе мальчика отец отдал его в бреславльскую академию художеств: Герхарт хотел посвятить себя скульптуре. Но оказался таким бездарным учеником, что его исключили. Опять начались скитания. Он побывал и в Иенском университете, где писал высокопарную классическую трагедию «Римляне и германцы» и замышлял роман из древнеафинской жизни — «Перикл». В 1883 году хотел предпринять большое путешествие в Грецию, но доехал только до Неаполя, жил на Капри, увлекаясь грандиозным образом Тиберия, потом в Риме, где снова принимался за скульптуру. Двадцати двух лет женился и окончательно посвятил себя литературе. Его первою книжкою была большая эпическая поэма, навеянная классицизмом, как и все прежние произведения, — «Жребий Прометидов»[1242]. Она не имела успеха.
Молодого писателя привлекал театр. Он предчувствовал, что там его сила и будущность. И вот, четыре года спустя после издания «Прометидов», то есть в 1889 году, он выступает с первою драмою под заглавием «Перед солнечным восходом» в Берлине, на сцене Lessing‑T heater[1243].
Недавно даровитый немецкий критик Гранихштетен посвятил Гауптману подробный этюд, в котором указывает как на первоисточники его поэзии на романы Золя, на учение материалистов и зрелище социальной борьбы. Тем не менее Гауптман пришел к тому же, к чему роковым образом приходят все истинно современные писатели — к новому мистическому миросозерцанию.
Гранихштетен справедливо замечает, что старые клички — натурализм, реализм — совершенно неприменимы к таким своеобразным, новым людям сурового северного типа, как Ибсен и Гауптман. По крайней мере их направление, даже в самых крайних, беспощадно реалистических попытках, не имеет ничего общего с бесстрастным, деловым натурализмом Э. Золя.
Немецкий критик полагает, что источников новых литературных стремлений — два и оба отрицательные. Первый — в самой литературе, а именно в устарелости, в невыносимой банальности отживших типов буржуазной драмы, исторического и общественного романа. Второй — жизненный, но тоже отрицательный источник — устарелость идей и принципов, завещанных Великой французской революцией, которые в виде научного позитивизма составляли доныне последнюю, единственную веру культурного человечества. С другой стороны, положительных основ для нового идеалистического творчества люди не успели еще найти.
«Мы стучимся, — продолжает критик, — с неутолимым любопытством в запертую дверь будущего, мы теряемся в поисках за руководящей идеей, которая подготовила бы нас к, быть может, грозным откровениям нового века, мы требуем определения нового миросозерцания, которое должно заменить наш устаревший доктринерский либерализм. У всех нас — ощущение сумерек перед наступлением неведомого дня. И в этих сумерках мы блуждаем, ищем, спотыкаемся, ощупываем, еще не имея никакой ясной положительной цели. Это блуждание, это искание, это ощупывание и примеривание новейших идей, эта вечная затаенная мысль — не стукнет ли наконец задвижка, не распахнется ли запертая дверь в будущее — есть отличительный признак современной поэзии, которой, по–видимому, суждено приобретать с каждым днем все более серьезное значение».
«Именно в таком настроении, воспитанный на Ибсене и новейших материалистах, с такими жадными порывами к будущему, нетерпеливыми требованиями нового, во что бы то ни стало нового, выступил Герхарт Гауптман на арену литературной борьбы».
Драма «Перед солнечным восходом» основана, подобно многим произведениям учителя Гауптмана — Ибсена, на роковом трагическом значении закона наследственности. Социалист Лот, мечтающий об освобождении человечества посредством науки, отказывается от брака с любимой девушкой на том основании, что ее родители — порочные люди, алкоголики, а он, безгранично верящий современной науке, считает себя не в праве сознательно сделаться родоначальником больного поколения.
Специалисты по нервной патологии справедливо заметили автору, что в своих драмах так же, как Ибсен, он злоупотребляет учением о наследственности, преувеличивает возможные выводы из него. В самом деле, учение о наследственности далеко еще не настолько разработано и выяснено, чтобы иметь в глазах даже фантастического приверженца науки такую подавляющую нравственную силу, какая необходима для трагической развязки в любовном романе социалиста Лота с несчастной Еленой.
Гауптман в драме «Перед солнечным восходом», так же как и в последующих: «Одинокий человек», «Праздник мира»[1244], «Ткачи» и, наконец, последней — «Ханнеле», — дает нам бесконечную галерею вырождающихся человеческих типов — развратников, алкоголиков, идиотов, помешанных. Все это написано мрачными, грубыми, иногда беспощадно сильными красками. Автор доходит до таких крайностей натурализма, которые и в чтении тягостны, а на театральных подмостках — невыносимы. Кровосмешение — один из любимейших мотивов Гауптмана. Юный автор классических трагедий «Римляне и германцы», «Тиберий» щеголяет цинической грубостью. Все, что есть у Золя самого резкого, превосходит та сцена Гауптмана, когда пьяный мужик в припадке зверской чувственности заигрывает с собственной дочерью.
А с другой стороны, в первой же пьесе, как будто предчувствуя свою будущую измену натурализму, Гауптман заставляет героя, социалиста Лота, в разговоре с Еленой (разговор, который, кстати сказать, представляет такую же литературно–критическую экскурсию, как и диалоги Марселя и Жанны в «L’image») протестовать против болезненных крайностей своих же собственных учителей. «Я чувствую жажду, — говорит Лот, — и требую от литературы чистого освежающего напитка. Я не болен. А то, что мне предлагают Ибсен и Золя, есть лекарство».
Нельзя сказать, чтобы сам Гауптман в первых драмах сделал попытку дать такой «чистый освежающий напиток» поэзии хотя бы, например, в изображении д–ра Фридриха Шольца, героя «Friedenfest» («Праздник мира»). Этот злополучный Шольц является чудовищным соединением всех душевных и нервных страданий, своего рода патологической редкостью, живым каталогом современной психиатрии: он алкоголик, паралитик, «параноик», неврастеник и имеет наклонность к прогрессивному параличу мозга, к идиотизму.
Самая сильная пьеса Гауптмана — «Ткачи» («Die Weber»). Он назвал ее «пьесой из сороковых годов». Это заглавие с историческим оттенком — громоотвод для театральной цензуры. В драме нет героя. Главное действующее лицо — народ. Гранихштетен, преувеличивая значение любимого автора, называет пьесу гениальной, ставит ее наряду с «Эгмонтом» Гёте, с «Вильгельмом Теллем» Шиллера, утверждая, что силою народных сцен драма Гауптмана превосходит даже названные произведения.
Громоотвод долго не помогал, а театральная цензура до самого последнего времени не допускала пьесы Гауптмана, хотя в ней нет никакой партийной, узкой тенденции, никаких полемических намерений.
Сущность драмы — восстание и борьба ткачей в маленьком местечке Петервальдау, доведенных до последней крайности уменьшением заработной платы, с богатым бессердечным фабрикантом Дрейсигером. Перед нами страшная картина бедности, болезни и голода, люди, подобные скелетам, мертвенно–спокойные и равнодушные ко всему или обезумевшие от ярости. Характеры выхвачены живьем из народа, очерчены резкими, сильными штрихами, с неподражаемым мастерством, иногда с мрачным ужасающим юмором. Сцена со стариком Баумертом, который велел зарезать любимую маленькую собачку, чтобы накормить домашних, и с величайшим спокойствием обсуждает свое отчаянное положение; сцена в деревенском кабачке Петервальдау, где веселится плотник, разбогатевший на гробах умирающих от голода рабочих, грозная и унылая песня ткачей, которая проносится над рассвирепевшей толпою и зажигает сердца, — все это расположено в такой искусной художественной последовательности нарастающих эффектов, что действует неотразимо.
Гауптман, не мудрствуя лукаво, с глубокою сердечною искренностью и теплотою передал здесь то, что в детстве сам слышал в родной Силезии от своего старого деда–ткача, испытавшего на себе все ужасы бедности и голода. Немудрено, что краски живы. Пьеса написана не литературным языком, а народным диалектом, которым говорят рабочие. Заключительная катастрофа разрушения фабрики и дома Дрейсигера по трагическому ужасу и величию, в самом деле, напоминает лучшие сцены «Вильгельма Телля».
Недавно, 25 сентября, «Die Weber» в первый раз были даны в Берлине на сцене Deutsche Theater с неожиданным, огромным успехом.
«Ткачи» были последняя дань Гауптмана чистому натурализму.
Драма «Ханнеле», уже известная читателям «Вестника» (см. 1894, № 3, с. 275—280), является резким поворотом к новейшему мистическому направлению. Пьеса особенно любопытна тем, что здесь можно проследить, как доведенный до невыносимых крайностей натурализм сам себя отрицает, сам себя умерщвляет, чтобы перейти в необузданную, фантастическую романтику.
Итак, мы видим, что Герхарт Гауптман, этот внук силезского ткача, совершенно иным путем пришел к тому же неизбежному перепутью, к тому же, по–видимому, роковому для современных писателей мистическому повороту, к которому приходят и утонченные, пресыщенные последователи Бодлэра и Метерлинка в грозовой удушливой атмосфере разлагающейся латинской культуры и в свежем северном воздухе титанически–крепкий норвежец Ибсен, и в затишье Ясной Поляны великий писатель земли русской.
От такого явления, захватившего все европейские литературы, еще мало выяснившегося, но уже огромного, удивительного по разнообразию, жгучей, болезненной остроте и упорству характерных симптомов, нельзя, конечно, отделываться удобным для поверхностной критики, но в сущности ничего не решающим термином «вырождение», «декадентство». Во всяком случае, будущее европейского искусства, быть может и культуры, зависит от этого еще темного, загадочного, иногда прямо зловещего, подобного грозной психической эпидемии, но несомненно могущественного движения.
Фридрих Шпилъгаген в вышеупомянутом этюде о новых направлениях современной немецкой драмы замечает:
«Не одни змеи в известные промежутки времени сбрасывают старую кожу и облекаются в новую; то же самое происходит и с литературами всех народов. По прошествии известного периода, продолжительность которого не поддается определению, они начинают испытывать недовольство старою одеждою, как бы она ни казалась великолепной, и меняют ее на новую, быть может менее блистательную, но зато соответствующую всем вкусам и потребностям нового поколения. Это сходство идет еще далее: как пресмыкающееся, так и народ в критический момент перемены кожи чувствует себя тревожным, даже прямо больным, и требуется высокая степень психофизиологической проницательности, чтобы решить, есть ли новая кожа причина болезни, или, наоборот, болезнь — причина новой кожи?».
Немецкий романист очень верно и метко определяет глубокую зависимость так называемого декадентства, болезненного смятения, всеобщего нового кризиса, переживаемого нами, с одной стороны, а с другой — нетерпеливых исканий нового идеала, с каждым днем все более жгучей, обостряющейся потребностями новой жизни, еще смутных и уже страстных дерзновенных порывов к неведомому будущему.
Но Шпильгаген делает крупную ошибку, считая виновником этого кризиса натурализм. Он не обращает внимания на то, что натурализм во вкусе Э. Золя есть уже нечто прошлое, если не пережитое, то переставшее быть знаменем молодых поколений. Даже говоря о сказочной мистерии Гауптмана, он не видит неоромантизма. Он думает, что все это буйное молодое брожение — только дело вкуса, дело моды, как будто только стоит вернуться к успокоительной старине, к очищающим классическим и национальным преданиям Шиллера и Гёте, чтобы преодолеть кризис, чужеземную болезнь натурализма и декадентства, занесенную из Франции.
Но болезнь глубже, чем думает Шпильгаген. Жизнь не хочет повторяться. Она лучше сама себя уничтожит. Змея не только меняет кожу, но и свою душу.
У новой поэзии должна быть и новая «змеиная мудрость».
ЗОЛЯ И ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЛЬ.
НЕНАВИСТЬ НАТУРАЛИСТОВ И ПАРНАСЦЕВ К НЕОРОМАНТИЗМУ
Замечательно, что такие, по–видимому, противоположные литературные течения, как безукоризненно изящная, академическая лирика «рагnassiens» («парнасцев»[1245], то есть обитателей классических вершин чистой поэзии), с одной стороны, а с другой — натурализм с его уличною грубостью и цинизмом, имеют много общего, даже родственного, быть может, потому, что оба выходят из коренных свойств одной и той же эпохи.
Что может быть по внешности различнее, чем натуралист Золя и влюбленный в белизну эллинского мрамора, неподражаемый по художественному совершенству и законченности формы недавно умерший автор «Poemes Antiques»[1246] Леконт де Лилль. А между тем это различие — внешнее. Как ни разнородны явления, философская сущность обоих писателей общая.
Прежде всего и тот и другой всеми произведениями выражают безграничную преданность современному точному знанию, бесстрастному, не зависимому от жизни, самодовлеющему как верховному, всепоглощающему принципу философии, искусства и жизни, — преданность той «научной науке»[1247], по выражению Льва Толстого, которую исповедуют Огюст Конт и Спенсер, Литтре и Джон Стюарт Миль. Этой характерной особенностью натуралист и парнасец — оба принадлежат к середине, так сказать, к сердцу XIX века, гордому и суровому, к великому расцвету позитивизма в пятидесятых годах текущего столетия.
Вся разница в том, что романист Золя, следуя своему темпераменту, избрал путь естественных наук, «натурализма» в полном смысле этого слова и увлекся мало разработанной психофизиологической теорией наследственности. Между тем как эпический поэт и лирик Леконт де Лилль предпочел путь современной классической филологии, сравнительного языковедения, истории религиозных систем и мифологий. Но ведь в сущности эти безукоризненно изящные «Poemes Barbares» или «Poemes Tragiques»[1248] — такие же точные исторические документы, основанные на глубоком объективном изучении первоисточников, всех подробностей быта, языка, религии, культуры чуждых веков и народов, как романы Золя — натуралистические документы XIX века. Или по крайней мере и те и другие имеют претензию быть ими. Если эта претензия у обоих художников и не всегда оправдывается, то, во всяком случае, они всегда желают быть объективными, научно бесстрастными зрителями мировых событий.
Художественное бесстрастие — вот вторая черта исторически обусловленного сходства натуралистов и «pamassiens». Бесстрастие, объективность творчества — вот их общее знамя, философская цель их поэтических вдохновений. И притом бесстрастие научное, позитивное, а отнюдь не метафизическое. Надо быть бесстрастным, чтобы знать, а не для того, чтобы наслаждаться высшею свободою духа, как ее понимали Марк Аврелий и Спиноза. Быть бесстрастным художнику гораздо труднее, чем ученому. И натуралист, и парнасец часто изменяли себе, выдавали себя читателю. Чтобы замести следы своего «я», чтобы скрыть проявления субъективности, оба прибегают к внешним приемам; натуралист — к беспощадной, преднамеренной грубости, цинизму изображений, как бы исключающему всякую мысль о более теплом, человеческом отношении автора к описываемым предметам; парнасец — к холодному, безнадежному веянию буддийской нирваны, всепоглощающего спокойствия, того, что Бодлэр называет «La тоте incuriosite»[1249]. Один груб до уличного цинизма, другой холоден и сух до страшной окаменелости индийских факиров для того, чтобы не выдать человеческого трепета своего сердца, чтобы не испортить неприкосновенного натуралистического или исторического документа. И оба не замечают, что их объективность граничит с мертвенностью, с добровольным фанатическим самоубийством души во имя научного бесстрастия.
Наконец, третье сходство натуралистов и парнасцев — их глубокое безверие, последовательное отрицание самой потребности веры, подлейший нигилизм по отношению ко всему «теологическому периоду человечества», как выражался Огюст Конт[1250]. Темперамент Золя более гибкий, впечатлительный и многосторонний. Вот почему в последнее время под влиянием болезненных, бурных веяний конца века его натурализм, по–видимому, колеблется. Он ищет новых путей в «Докторе Паскале» и «Лурде»[1251], — правда, с довольно неуклюжею и опрометчивою торопливостью, и нельзя сказать, чтобы с большим успехом. Патриарх натурализма не желает быть отсталым, он гонится за модою, за неоромантическою молодежью, но угонится ли он за нею — это еще вопрос.
Леконт де Лилль гораздо строже, суше, последовательнее и прямолинейнее. Он остался верным себе до смерти. Он лучше сумел сохранить величавую позу бесстрашного верховного жреца поэзии на своих парнасских вершинах, чем Золя в своей физиологической лаборатории. Леконт де Лилль как неумолимый исследователь природы делает безотраднейшие исторические опыты над душой народов, углубляется во все мировые культуры, во все великие верования только для того, чтобы показать их пустоту, их мимолетность и суетность, страшную бесполезность всех порывов человечества к Богу. Результат этих опытов — всепоглощающий нигилизм как плод высшего знания. Одно только остается после горького исследования и разрушения всех идеалов, всех культур — бесстрашная красота и бесстрашное знание. Это — буддийское утомление и равнодушие современной Европы, это — новая нирвана. Но если все в мире безнадежно и безотрадно, то человеку остается последнее утешение в том, чтобы по крайней мере спокойно и твердо знать, что все безнадежно и безотрадно.
Общность философских основ натуралистов и парнасцев доказывается, между прочим, и общностью их вражды к неоромантикам. Прежде всего неоромантизм есть святотатственный, отчасти метафизический, отчасти даже мистический бунт против позитивизма, воцарившегося в Европе с пятидесятых годов XIX столетия, по–видимому, так прочно, бунт против «научной науки». Во–вторых, это — смелое вторжение субъективности в область творчества своеобразного, нарушение основного закона, исповедуемого натуралистами и парнасцами, закона «художественного бесстрастия». И наконец, в–третьих, это — отречение от научного нигилизма, возврат к идеализму, к творческим, религиозным порывам человеческого духа, к неразрешенным и презренным позитивною наукою вопросам о Боге, о бессмертии, о бесконечности. Вот почему натуралисты и парнасцы, которые по внешним формам не имеют ничего общего, соединяются в страшной, как будто личной ненависти к неоромантикам, в нетерпимости старого поколения к дерзкой молодежи, отцов к непочтительным детям. Это борьба не только двух литературных школ (как например парнасцев и натуралистов), но и двух поколений, быть может, двух веков. Неоромантики еще слишком мало сделали, они больше говорят о том, что желали бы сделать. И все‑таки с ними уже считаются, их ненавидят как настоящую силу, между тем как именно силы‑то у них и нет…
СЮЛЛИ ПРЮДОМ О СТИХОТВОРНОМ ИСКУССТВЕ И СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИРИКЕ
Недавно один из самых последовательных «pamassiens», изящный французский поэт, академик Сюлли Прюдом, издал очень любопытную критическую книгу «Reflexions sur Г Art des Vers»[1252].
Это — личность характерная, и биография его вполне соответствует его литературному темпераменту. Теперь ему 55 лет. Он любил только раз, в своей молодости, несчастною любовью. Поэт вырос вдали от жизни, среди книг, в тишине строгой, добродетельной семьи, воспитанный матерью, теткой и дядей, оставшимся в холостяках, не ведая женского соблазна, чистый и целомудренный до старости. С каждым годом усиливалось в нем отвращение к резким чувственным проявлениям жизни, к физической грубой стороне любви. Это современный затворник, книги служили ему верною защитою от жизни, чем средневековым монахам толстые каменные стены и решетки монастырей. Его философская муза, как будто нарочно созданная для французской академии, так и осталась бледной и девственно–чистой. Книги спасли его от заразы века, книги его и погубили.
Рассуждения Сюлли Прюдома о стихотворном искусстве в одном отношении сулят больше, чем дают, а в другом — дают больше, чем обещают. Все, что он говорит о метрике стиха, не ново и притом относится исключительно к технической стороне французского стихосложения. Он предъявляет то же требование к поэтическому стилю, как Флобер и Мопассан к прозаическому; каждый предмет должен быть изображен с такой точки зрения, с которой до того еще никто на него не смотрел. Поэт избирает такое выражение своих чувств, которое отличается от всех других, несмотря на то что эти чувства у него общие с миллионами людей. Прюдом соглашается с мнением И. Тэна, что основные правила каждого поэта всецело вытекают из его темперамента. Он цитирует даже Гельмгольца (правда, довольно поверхностно), рассуждая о тонах гласных, но его замечания о цензуре, о «enjambement» — только повторения старого. По его убеждению, оригинальность поэта заключается в выборе сюжета. Следует избегать слов, предназначенных только для пополнения пробелов в числе стоп, не должно стирать различия между прозою и стихом, так как каждый из этих обоих родов подчинен особым музыкальным законам. Рядом с основными правилами метрической техники мы встречаем ценные заметки о символике речи, о различии стиля и синтаксиса, которое он сводит к различию индивидуума и народной массы.
Во всех подобных рассуждениях Сюлли Прюдом является неизменным консерватором, охранителем академических традиций стиля и стиха; он питает отвращение ко всевозможным поэтическим новшествам и особенно восхваляет Ламартина за то, что этот писатель остался верным «классическим преданиям».
Вообще надо заметить, что как эстетик Сюлли Прюдом не представляет ничего выдающегося. В художественных творениях отражается его спокойная, умеренная природа, боязливая и непредприимчивая, ненавидящая всякие излишества. Гораздо любопытнее другая часть книги, посвященная критическим заметкам о французских поэтах, товарищах и современниках Сюлли Прюдома.
Как убежденный парнасец, он в лирике сочувствует торжественному и полнозвучному стилю. Главная прелесть поэзии для него не в страстной силе и новизне содержания, а в необходимом музыкальном волшебстве формы. «Стих, — говорит автор, — должен быть великолепной царственной мантией, ниспадающей пышными складками».
Только те из французских лириков, которые достигли совершенства в этом искусстве «царственной» драпировки стиха, заслуживают снисхождения в глазах Сюлли Прюдома. Преувеличенное, можно сказать, суеверное поклонение внешней красоте формы, не духу, даже не телу музы, а только пышным складкам ее одежды — вот главная особенность «парнасцев». Дальше они не умели пойти. Это было некогда их силою, их молодостью, теперь это общее место, старость и, увы, может быть, в недалеком будущем — их смерть. Как бедно, как чуждо звучат эти академические речи устарелого «pamassiens» о царственной драпировке стиха. В них чувствуется бессильное раздражение лавровенчанного, но отходящего поколения против буйного анархического натиска новых неведомых и непочтительных пришельцев. Кто они, кто эти странные необузданные молодые люди, преступающие все классические законы? Куда они идут? Чего они хотят? В самом деле, положение одиноких, книжных людей, как Сюлли Прюдом, захваченных бурною волною новой жизни, трагическое. Они стараются убедить себя, что все по–старому, и чувствуют, что все изменилось, что жизнь, не спросясь, обошла их и никогда уже им не догнать ее.
Любимые учителя и товарищи Сюлли Прюдома — Шатобриан, «писатель, обладающий изумительной виртуозностью», Банвилль, Андре Шенье и Виктор Гюго, «самый смелый из всех». Парнасец забывает или прощает, что и Гюго в свое время был революционером, возмутившимся против классических традиций.
Ко всему молодому поколению, к неоромантикам Сюлли Прюдом при всяком удобном случае высказывает свою ненависть. В сущности вся эта книга «об искусстве стихосложения» задумана как боевой вызов стариков, как манифест против нарушителей классических преданий, против таких новаторов, как Поль Верлен, Стефан Малларме, Артур Рейнбо, Рене Жиль, Эдмонд Гаранкур, Морис Бушор и др., которые в своих журналах «L’ Ermitage», «Revue Blanche», «La Plume» выступили с шумом и самоуверенным задором, иногда не без таланта.
Перед нами странная картина. С одной стороны, на склоне лет, удаленный от жизни, осторожный, безукоризненный академик Сюлли Прюдом, каждый слишком грубый звук действительности оскорбляет его книжное мягкое сердце. Он с грустью смотрит, как идеалы «парнасцев» низвергаются молодым поколением и вызывает тень В. Гюго, чтобы передать ему классическое знамя, которое выпадает из его собственных слишком слабых рук. А с другой стороны — враги С. Прюдома — неоромантики, — того же самого В. Гюго провозглашают своим вождем, своим учителем. Еще недавно один из них обратился к прославленному поэту Франции с таким страстным боевым кличем, прося о помощи и союзе: «Мне кажется, что если бы В. Гюго мог услышать нас, молодых писателей, то вот что он сказал бы нам: „Благодарю вас! Вы поняли, что я создавал все, что есть у меня великого, на позор этим «школьным учителям», которые называют меня учителем под предлогом оказать мне почесть, спорят из‑за моих разбросанных членов. Благодарю вас за то, что вы оказываете мне не почесть, а любовь, и называете меня не учителем, а «отцом». Благодарю вас и за то, что вы нарушаете все правила, преступаете все границы, желая быть свободным”» (Адольф Ретте)[1253].
Эти слова являются прямым ответом С. Прюдому. Хотя последний и не называет никого по имени, книга его, однако, кишит злобными намеками. Не упоминая Золя, он говорит о писателях, которые сначала ставят себе известную программу, а потом объявляют, что они все видят и чувствуют именно так, как того требуют их эстетические воззрения. Сюлли Прюдом полагает, что можно иметь и другие руководящие начала, не заслуживая преследований и брани. Вместо того чтобы обновить язык, современные писатели его только исказили. Они уничтожают один догмат, чтобы тотчас же провозгласить другой. Они не сохраняют никаких различий, до сих пор отделявших прозу от стиха, и у некоторых из них типографические обозначения заменяют отсутствующий размер стиха. Громкие напыщенные фразы и преувеличенные чувства вовсе не доказывают лирического таланта. Если бы эти неистовые Роланды поэзии захотели выразить простые жизненные вещи простыми словами, то их вдохновение сразу бы иссякло и обнаружилась бы их жалкая банальность.
Нападки Сюлли Прюдома направлены и против того поколения поэтов, из которого вышли современные «декаденты» и «символисты». Ему ненавистен Бодлэр и даже Альфред Мюссе. Он относится к обоим великим писателям с грубым непониманием, с непочтительным высокомерием, которое более свидетельствует о бессильном раздражении, чем о художественном вкусе и справедливости критика. Особенную антипатию, смешанную с суеверным ужасом, чувствует этот «книжный монах» к человеку, в самом деле опасному и таинственному, вышедшему из глубочайших недр, из сердца жизни, к автору «Цветов зла»[1254].
Книжным воспитанием С. Прюдома и его жизнью или, лучше сказать, отсутствием жизни объясняется отвращение его к Бодлэру и Мюссе, людям жизни и страсти. Такому человеку не следовало выступать на арену борьбы: он оказался беспомощным, скорее повредил, чем помог своему лагерю, обнажил слабую сторону «parnassiens», их книжную отвлеченность, презрительное отношение к современной действительности, торжественную жреческую позу, которая превращается с годами в мертвую окаменелость.
ПОЛЬ ВЕРЛЕН И НЕОРОМАНТИКИ
От Сюлли Прюдома к Полю Верлену мы переходим, как из классической библиотеки в живой солнечный сад, полный если и не благоуханием цветов, то, может быть, еще более сладким ароматом увядающих осенних листьев. И увядание ведь жизнь.
Замечательно то обстоятельство, что Поль Верлен начал свою литературную деятельность в качестве «parnassien» сборником безукоризненно изящных, академических стихов «Poemes Satumiens»[1255]. Книга осталась почти незамеченной. Известность почти начинается с тех пор, как он отпал от школы парнасцев и пошел самостоятельной дорогой. Один из первых Верлен возмутился против безжизненной правильности своих учителей, против их суеверного поклонения академическим формам. Для новых темных демонических богов символизма, вызванных чарами Бодлэра и Эдг. Поэ, он отрекся от холодных мраморных кумиров Леконта де Лилля и Сюлли Прюдома. Он имел дух громогласно причислить себя к «отверженным» толпою, к проклятым «поэтам» (poetes maudits), как он сам называет небольшую группу своих единомышленников.
Если измерять силу поэтического дара тою властью, которая позволяет лирику передавать другим свои чувства, то надо признать, что Верлен в высшей степени обладает этою способностью, является одним из лучших поэтов Франции. Берет ли он на мандолине два–три нежных аккорда, запевает ли он родную песню детства или с пламенною верою кидается на колени перед образом Матери Божией, — он покоряет нас, заставляет разделить на мгновенье чувства «проклятого поэта».
«De la musique encore et toujours»[1256] — таков его творческий лозунг. Власть поэзии для него такое же необъяснимое чудо, как власть музыки. «Твой стих, — говорит он, — да будет окрыленною душою предметов, которая устремляется к иной любви, к иному небу».
Вот в чем огромная разница этих двух поколений, столь близких по времени, столь отдаленных по духу. «Парнасцы» так же, как их братья — натуралисты, стремились главным образом передать внешнюю прекрасную или точную форму вещей: это были живописцы и ваятели. Неоромантики желают выразить внутреннюю, таинственную сущность предметов, их мистическую, так сказать, музыкальную душу, вечный, творческий порыв жизни к неизведанному, неиспытанному, хотя бы и болезненному и преступному, только бы новому, хотя бы и несуществующему, только бы прекрасному. Они заставляют расписывать в тумане резкие скульптурные формы, нарочно стирают краски, превращают их в слабые оттенки, они влюблены в звуки и в запахи.
Поль Верлен — человек, не обладающий ни тем огромным научным образованием, ни тем могуществом таланта, которые делают Леконта де Лилля одним из величайших поэтов Франции. В природе этого нежного, задумчивого лирика, на котором всегда очень плохо держалась трагическая маска poete maudit, есть женственная мягкость, но и женственная слабость. Он отнюдь не выразитель, а только чуткий предвозвестник Нового Идеализма, один из бледных, чуть брезжущих лучей той зари, которую мы еще не имеем права назвать Возрождением. Главный недостаток Верлена — отсутствие умственной и нравственной силы, отсутствие философской глубины. Он ищет нового в старом, даже дряхлом, жизни — в могилах, возрождения в католицизме. Подобно большинству своих собратий, он не был достаточно крепок и здоров, чтобы бороться с каплей того духовного яда, которым их заразило разложение латинской культуры. Стоило ли возмущаться против Французской Академии, чтобы через несколько лет с покаянными слезами вернуться в католическую церковь? Что‑то надорванное и расслабленное чувствуется в обращении некогда гордого отщепенца, поклонника Бодлэра, «демонического» поэта в лоно средневекового мистицизма. Если неоромантики изберут такой путь, то, конечно, будущность не за ними!
«Автор, — говорит Верлен о самом себе в предисловии к «Sagesse»[1257], — не всегда был тех же мыслей, как теперь. Долгое время предавался он грехам и заблуждениям века, и заслуженная кара обрушилась на главу его. Но Господь в своем милосердии обратил его на путь истины. Как блудный сын католической церкви, последний по заслугам, но исполненный добрых стремлений, распростирается он в прах перед алтарем и призывает Всемогущего». И далее: «В молодости своей автор обнародовал некоторые легкомысленные и скептические сочинения. Но он надеется, что чуткий слух благочестивого католика не будет оскорблен ни единым словом предлагаемой книги».
В посвящении поэт следующей символической картиной изображает посетивший его духовный переворот:
Тихий Всадник, Рок, встретился мне в лесу И пронзил мое старое сердце копьем своим,
Сердце мое источило только каплю крови, упавшую на цветы,
И солнце ее высушило.
Тогда Всадник сошел с коня, и прикоснулся,
И пальцами своей железной перчатки впился в мою рану,
И под его холодной рукой родилось у меня новое сердце, Молодое, доброе сердце!
Тогда Всадник умчался в лес и на прощание крикнул:
«Будь мудрым, сын мой!»
Новая мудрость поэта в сущности стара как мир: это победа над похотью, отречение от жизни, то есть все, что повторялось человечеству в продолжение 5000 лет. Попытку Верлена обновить содержание поэзии можно считать неудачей.
Но у него есть простые вкрадчивые мелодии, нежные звуки, которые, не задевая ума, трогают сердце. От торжественных академических «а1еxandrins» «парнасцев», стянутым цезурою, он перешел к лирической коротенькой песенке, напоминающей иногда старинные народные баллады Нормандии и Бретани. В его мотивах сквозь покаяние и смирение чувствуется беспредельное отчаяние современного человека. Эта странная музыка, сладкая и безнадежная, как будто убаюкивает сердце для вечного сна:
«Я — колыбель, которую качают над открытой могилой, — молчание, молчание!».
РИШПЕН, ЕГО «ЭДЕМЫ» И ЛИТЕРАТУРНОЕ АКРОБАТСТВО
Какова бы ни была цена обращению Поля Верлена в лоно католической церкви, оно по крайней мере искреннее, оно вызвано живыми муками живого сердца. Бездушной игрой, модничанием отзывается обращение другого поэта, ненавистного «парнасцам», пытающегося примкнуть к новому движению, но едва ли имеющего на это серьезное право, — Жана Ришпен, автора «Blasphemes» («Богохульства»[1258]), книги громкой и пустой.
В настоящее время Ришпену 45 лет. Это автор весьма плодовитый. Он издал пять больших сборников стихотворений, шесть томов маленьких рассказов и новелл, семь романов, четыре театральные пьесы в стихах, две прозаические.
Десять лет тому назад в предисловии к «Blasphemes» Ришпен обещал своим читателям продолжение в следующем сборнике стихов, который должен был называться «Le paradis de l’athee» («Рай атеиста»). Эта книга недавно появилась под несколько измененным названием «Mes paradis» («Мои эдемы»[1259]) и с значительно измененным содержанием.
Если Ришпен не покаялся в грехах молодости, подобно Полю Верлену, то во всяком случае он на пути к тому, если вообще можно допустить, что этот человек, вполне лишенный серьезного нравственного содержания, может быть на каком бы то ни было духовном пути. С неоромантиками он не имел и до сих пор не имеет ничего общего. Скорее по замечательной внешней власти над стихом, по искусству и силе, с которыми он проделывает иногда совершенно бессмысленно, но все‑таки удивительные фокусы, он принадлежит к старой школе «парнасцев». Сущность его гораздо более академическая, чем можно бы подумать с первого взгляда.
В предисловии к «Mes paradis», предисловии, сделавшемся, по–видимому, обязательным для каждого современного сборника французских стихов, Ришпен объявляет своему другу Морису Бушору, что его «рай»
еще нехристианский. Автор полагает, что в человеке не одно, а множество самостоятельных «я», множество отдельных, иногда даже борющихся друг с другом сознаний и личностей. И у каждого из этих «я» есть свое удовлетворение, свой рай. Множественность земных эдемов, нередко совершенно противоречивых, но общий смысл которых сводится к многообразному эпикурейскому наслаждению, — такова сущность книги.
Сборник распадается на три части: первая озаглавлена «Напутствия» («Viatiques»), вторая — «В водоворотах» («Dans les remous»), третья — «Золотые острова» («Les lies сГог»).
Итак, я вправе, читатель,
Иметь возвышенную и ясную Добродетель гладиатора На арене! —
объявляет Ришпен во втором стихотворении. Но он не исполняет этой программы. У него нет трагического мужества гладиаторов, а есть только изумительная ловкость и смелость фокусника. С гораздо большим правом, самодовольно указывая читателю на свою книгу, он восклицает:
Voila que fleurit Вот расцветает
En corolles Венчиками
De paroles! Слов!
Voila que fleurit Вот расцветает
Le parterre de Г esprit! Цветник ума!
Цветы красноречия — вот чем не налюбуется поэт в собственной книге. Эта безобидная игра автора «Богохульств» sur le retour[1260] не имеет ничего общего с возвышенной и ясной добродетелью гладиатора на арене.
Игра становится все забавнее, фокусы все удивительнее. Поэт смело вводит нашу ладью в «Водовороты», тоже в сущности довольно безопасные и увеселительные, через которые нам необходимо проникнуть, чтобы увидеть обещанные «Золотые острова». Стихотворения написаны в красивой, строго выдержанной манере старинных французских баллад. И здесь игра в антиномии, в противоречия. В одной балладе поэт восхваляет чтение книг, в другой порицает. В одной изображает трогательными красками смиренную добродетель бедняка, а в другой советует ему возмутиться против богатых. Пьяница имеет свою песенку, так же как и трезвый, целомудрие прославляется с такою же убедительностью,
как и чувственность. 28 стихов одной баллады реабилитируют метафизику, 28 стихов другой отрицают и осмеивают ее как самообман. Поэт воспевает совершенство своей виртуозной техники, свою искусственность:
Тебя называют фокусником, виртуозом, акробатом,
Пусть! Не слушай. Учись своему искусству и совершенствуйся в нем.
Да будет для тебя твой тяжелый меч легким, как соломинка.
И тотчас же, не стесняясь, а, напротив, хвастая противоречием, он продолжает:
Но будь простым. Произведение должно быть великим
и торжественным,
Не имеющим ничего общего с пестрою шумною ярмаркой,
Произведение должно возвышаться как собор.
У читателя голова начинает кружиться от таких противоречий, от этих поэтических «водоворотов», и он теряет всякую надежду благополучно достигнуть «Золотых островов». Но должно его успокоить тем, что ведь все эти омуты, бездны и философские антиномии не серьезные, а игрушечные. Эти противоречия, из которых, по–видимому, и одного достаточно, чтобы погубить человека, не причиняют сердцу поэта ни малейшей боли, как зажженные свечи не причиняют боли фокуснику, глотающему их с приятною волшебною легкостью.
Как будто опасаясь, что противоречия будут недостаточно ясны, Ришпен заостряет их и с добродушною откровенностью выдает сущность своей природы в двух балладах «Медведи» и «Лира».
В одной он изображает свое священное призвание:
Далеко от праздников черни,
Пожирай ты свое сердце, упивайся своим безумьем,
Целуй свою Музу с непорочными сосцами.
Как знамя, ты должен держать свою лиру!
В другой с гораздо большею искренностью он рисует самого себя как жалкого угодника черни:
Прости, чистая лира!
Гремите, барабаны, трубы, оглушайте!
Муза — ярмарочная укротительница зверей,
Она должна водить медведя за нос.
В заключение этих «Водоворотов» поэт имеет право воскликнуть с гордой самоуверенностью: «Увы! во мне больше, чем два „я”! Во мне их десять, сто, тысячи, сотни тысяч!»
Ришпен — человек, несомненно, талантливый. В молодости он прошел через строжайшую умственную дисциплину (Ecole Normale), которая оставляла и на таких людях, как И. Тэн, свою неизгладимую печать. Но в жилах Ришпена течет буйная цыганская кровь, которою он очень гордится, называя себя мятежным, неукротимым и безбожным «туранцем» (turanien) в противоположность слабосильным, богобоязненным и малокровным «арийцам». Критики по поводу нечистивых по форме, но в сущности довольно безобидных «Blasphemes» уверяли, что Ришпен странствовал по ярмаркам, участвуя в труппе акробатов, и будто бы даже выступал на балаганных подмостках в роли силача — Геркулеса. Впоследствии, сделавшись другом Сары Бернар, он написал для нее пьесу «Нана Саиб» и появился на сцене театра «Port Saint‑Martin» в главной роли[1261]. В настоящее время автор «Богохульств» остепенился, вернулся к жене, живет в уединении, в семейной тишине, воспитывает детей и пишет стихи о «Золотых островах».
Его эксцентричность ограничивается только невинным обычаем облекаться в ярко–красный халат вроде кардинальской мантии во время работы.
Он остается и в литературе удивительным фокусником, акробатом, трагическим актером бульварных театров. Геркулесом, обнажающим великолепные мускулы перед толпою. Никто серьезного значения не придавал его кощунствам и проклятиям. Он богохульствовал, чтобы проявить силу своих легких. В самых, по–видимому, отчаянных, трагических позах он лукавил, улыбка фокусника не сходила с лица его. Это в высшей степени характерная для современной парижской богемы помесь ярмарочного цыгана и «normalien»[1262], акробата и талантливого поэта, с неменьшим совершенством, чем «парнасцы», владеющего внешней формой — стихотворной речью. Ришпен недаром изучал Виргилия и Горация. Он пишет прекрасные латинские стихи и в своих «Песнях уличных бродяг»[1263], несмотря на целый лексикон площадных ругательств и грубых гипербол, он остается «латинским» поэтом, щеголяющим полнозвучными рифмами и безукоризненной правильностью стиха. Гимнаст, загримированный древним титаном или сказочным диким туранцем, он до педантизма верен французскому академическому словарю: не переставить цезуры, не прибавить и не выпустить слога в симметрически построенных, изящных строфах.
В «Водоворотах» он отдал последнюю дань беспокойной цыганской крови, и отныне ладья поэта вступила в тихие, даже сонные воды «Золотых островов».
Он прославляет воспоминания детства, умеренную добродетель, безмятежные радости семейного очага, искусство, книги, науку и даже прелести хорошей кухни, все эти бесчисленные маленькие «эдемы» необходимы для удовлетворения столь же бесчисленных маленьких «я», заключенных в каждом человеке.
Когда он изображает себя («Les passions»), каким он был в своей юности, щеголяя неистовыми гиперболами, которые трудно читать без улыбки, то и здесь мы уже чувствуем, что все это лирическое буйство безобидное и скоропреходящее, что под ним добродушный и умеренный талант буржуа. Поэт вызывает на поединок вулкан и желает «схватить его за огненную гриву» и сразиться с ним, чтобы увидеть
…de nos deux fronts Lequel sera le plus tot chauve[1264].
Однако вулкан скоро потух, не причинив никому особенного вреда, и теперь «туранец» находит, что прежде всего необходимы три вещи, для того чтобы познать прелесть и цену жизни:
Faire un enfant, planter un arbre, ecrire un livre[1265].
«Какое счастье, — размышляет он, — быть отцом и знать, что будешь когда‑нибудь дедушкой и в своих малолетках переживать первые, лучшие годы жизни!».
Ришпен, прославляя цветущую силу и здоровье своего сорокалетнего возраста, пускается в полезные, может быть, но довольно странные для поэзии, гигиенические подробности и советы: «Надо быть сильным, — говорит он, — а отнюдь не толстым» (я смягчаю в переводе).
Он воспевает гимнастику, купанье, бокс, холодный душ как необходимые, составные части «земного рая» и, наконец, la soupe grasse («жирный суп») — символ всех остальных радостей семейного «эдема». Подражая Рабле, он воспевает вино в стихах, не переводимых на русский язык:
Le vin frais, qui tombe en douche Dans le trou qu on a sous le nez le trou bailie, il faut qu’on le bouche[1266]!
Поль Верлен отрекся от увлечений молодости, чтобы пасть в прах перед алтарем католической церкви. Обращение автора «Песен уличных бродяг» было несколько иное. Он прекратил свои «Богохульства», чтобы переплыть через «Водовороты» и достигнуть «Золотых островов», то есть успокоения на лоне буржуазной добродетели.
Нельзя сказать, чтобы и это второе «обращение» отличалось особенною новизною. Еще со времен старика Горация, воспевавшего в прекрасных одах приятный вкус порея и дешевого салата, нам хорошо знакомо эпикурейское «сагре diem»[1267][1268], и сделались довольно избитыми мудрые советы, подобные следующему.
Опьяняйся всегда ненасытно и безумно
Возникающей радостью, этим мгновенным Золотым островом,
Ты будешь рассуждать о нем потом, при воспоминании,
Но пока он пред тобой — радуйся, забудь все, опьяняйся!
Воспитанник «Нормальной школы», поклонник Вергилия и Горация победил‑таки буйного туранца и вывел его на торную дорогу общих мест.
Ришпен с роскошью своей полнозвучной формы и скудностью нравственного содержания, с своими бессильными порывами к новому и школьническим цинизмом, в самом деле, представляет печальное явление литературного упадка. Он вывел свою Музу на ярмарку, как «укротительницу зверей», облек ее в грубый и блестящий наряд. Наряд новый, душа его Музы — старая. Когда видишь, до какого нравственного ничтожества довело такого талантливого человека безграничное поклонение форме, унаследованное от «parnassiens», начинаешь оправдывать отвращение к старым путям, тревогу, безумные порывы и усилия неоромантиков выйти из заколдованного круга, открыть Новые земли, найти новый творческий идеал. В самом деле, не лучше ли погибнуть в поисках Неведомого, чем достигнуть тех Золотых островов, на которых успокоился Ришпен, или тех ледяных «парнасских» вершин, на которых в жреческой позе окаменел Сюлли Прюдом?
ЛИРИЧЕСКИЙ СПОРТ ГРАФА МОНТЕСКЬЮ — КАРИКАТУРА НЕОРОМАНТИЗМА
Но для того и другого — и для жреческой позы «parnassiens», и для атлетических фокусов Ришпена — нужна по крайней мере внешняя власть над формой, внешняя сила. А для таких литературных забав, как недавно вышедшая книга графа Роберта де Монтескъю Фезенсак, и силы никакой не нужно. О подобных пустяках и говорить бы не стоило, если бы некоторые критики не старались придать серьезного «социального» (!) значения этому высокомерному идиотизму великосветских спортсменов.
Недавно в «Journal des Debats» напечатана обширная критическая статья по поводу двух стихотворных сборников этого Монтескью Фезенсака. Несмотря на то что эта статья выдержана в модном газетном тоне современного скептического «persiflage»[1269], то есть легкомысленной насмешки рецензента над всем — над самим собою, над литературою, над автором, над читателем и над тем, что он, рецензент, знает, но о чем не хочет говорить, и над тем, чего он не знает и о чем не желает говорить, несмотря на этот противный теперешний тон, в статье сквозит настроение, любопытное с бытовой точки зрения.
Прежде всего рецензент объявляет, как о большом успехе на модных скачках: «В настоящее время очень интересуются графом Монтескью. Ему удалось привлечь внимание Парижа, этого рассеянного Парижа, который так быстро отворачивается от вчерашних знаменитостей и так легко забывает свои недавние славы. Дело в том, что Монтескью предпринял интересную попытку, значение которой, не оцененное по достоинству, я постараюсь определить».
По мнению критика, значение поэтических опытов Монтескью состоит в том, что, будучи членом высшего аристократического круга Парижа, он не побрезговал профессией писателя, удостоил выставить свое громкое имя на обложках стихотворных сборников. По всей вероятности, русские читатели не поверят, что подобные вещи могут говориться серьезно, сто лет спустя после Французской революции. А между тем этот лакейский восторг критика единственная, несомненно серьезная часть всего этюда. С таким же подобострастным восклицанием он сообщает нам, как в один достопамятный день движение (la circulation) на улице Saint‑Lazare должно было прекратиться: масса элегантных экипажей и карет столпилась перед дверями той счастливой залы, где сам граф де Монтескью Фезенсак читал лекцию — conference о другой никому неведомой великосветской поэтессе m‑me Desbordes‑Valmore. Граф юродствовал перед модною французскою чернью с неменьшим усердием, чем буйный туранец Ришпен. Граф через каждые десять слов с таинственным видом, подражая древним пифагорейцам, прикладывал палец к аристократическому лбу, произнося сакраментальные слова «Маг сказал», прикидываясь мистиком в духе Сара Жозефа Пеладан[1270].
Великие черты эпохи иногда с удивительной отчетливостью отражаются в уродливых, забавных подробностях нравов. Байронизм был знаменем времени, печатью ее не только таких гигантов поэзии, как Пушкин, Мицкевич, Лермонтов, но и комических крошечных фатов, тоже спешивших облечься в модный чайльд–гарольдовский плащ 20–х и 30–х годов. Таковы условия бедной человеческой природы! Глупость и бездарность отражают в своих громадных мутных зеркалах дух века, как талант и мудрость! И для наблюдателя эпохи иногда бывает любопытно и даже небесполезно взглянуть на эти карикатурные отражения. У глупцов, даже у таких великосветских спортсменов, каким является знаменитый граф де Монтескью Фезенсак, есть одно драгоценное свойство — наивность, непосредственность, с которой они плывут туда, куда уносит их течение. Добросовестный наблюдатель жизни знает, что это вовсе не урок известному направлению, а, напротив, иногда признак его силы и неотразимости, если не только умные люди, но даже глупцы не могут ему противостоять. Сильная буря увлекает и огромные корабли, и гнилые щепки. Посмотрим же на карикатуру неоромантизма, на то, чем, по словам критика «Journal des Debats», занимается весь модный Париж.
Граф Монтескью издал с необыкновенным типографским изяществом, на роскошной бумаге два больших сборника стихотворений: один под заглавием «Летучие мыши»[1271], другой под еще более таинственным — «Le Chef des Odeurs Suaves»[1272].
В предисловии к «Летучим мышам» автор говорит с удивительною ясностью, которая заставляет предвкушать аполитические прелести самой книги:
«Предлагаемый сборник есть сгущение ночной тайны (une concentration du mystere nocturne), на что намекает его уподобление Заимфу (священный покров карфагенской богини, см. «Саламбо»[1273]). Да примет же он (то есть сборник) таинственным образом поэтическое именование и описательную формулу Его (то есть Заимфа)…».
Конец этой чудовищной и безграмотной фразы невозможно передать на русском языке.
Предисловие к «Chef des Odeurs Suaves» еще лучше:
«Вот он, в руке земного садовника, этот букет, представляющий разделенными на двенадцать различных веселых игр (jeux floraux) одиннадцать родов разнообразных растений, садовых или подводных, душистых или пылающих, любовных или погребальных, смешанных, как на полях старинных книг, с насекомыми и птицами, раковинами и рыбами, дамами и ангелами».
Очевидно, граф Монтескью считает особым высшим аристократическим спортом писать так, чтобы не было ни малейшей возможности понять его мистических периодов.
Любопытна la table titulaire, то есть попросту оглавление книги. Здесь мы встречаем модные и многообещающие заглавия, как например: «Оттенки», «Мрак», «Полутени», «Таинства Луны», «Лунатики», «Eaux d’Artifice»[1274] (!), «Белая Месса», «Кандидаты», «Рыжие Луны», «Altera Alteria»[1275], «Сизигии» и т. п.
Тот же любезный критик, который придает важное «социальное» (!) значение нелепым писаниям Монтескью, откровенно признается, что в них, собственно говоря, нет ни человеческих чувств, ни мыслей, ни образов. Граф считает себя даже выше правил французской грамматики. Попадаются такие стихи: «La rose de Noel a Fair religieuse»[1276][1277].
А вот непереводимый образчик варварского, раздирающего уши волапюка[1278], который выдается за новейший поэтический стих:
Les bluets et cette chicoree Sauvage et d’un bleu civilise Qua Wedgwood on dirait decoree En Kaolin idealise,
En imponderable petunse.
Эти пять строчек были бы сильным юридическим документом в руках людей, которые пожелали бы поместить графа Монтескью в сумасшедший дом. Чтобы изобразить цветок далии, он употребляет не более, не менее, как 26 эпитетов, 26 прилагательных подряд! Вот эти бессмертные строфы:
Lave, glace, sable, chine.
Panache, recouvert, ombre,
Ongle, rubanne, margine,
Avive, reflete, marbre.
Corne, borde, frise, pointe,
Eclaire, nuance, carne.
Frise, lisere, veloute,
Granite, strie, coccine… etc. etc.
Целые стихотворения состоят из бессмысленного подбора одних имен собственных, которые соединяются только потому, что образуют «оригинальные и красивые созвучия». Целиком их приводить нет никакой возможности, но вот для образчика три строки:
Centrenthus, Areca, Tegestas, Muscans,
Messenbrianthemum et Strutiopberis,
Arthurium, Rhapis, Arecas et Limnanthe,
Cocos…
и т. д. и т. д. до бесконечности!
Мы здесь не только за тысячи верст от всякого человеческого смысла, но и от грамматики: ни подлежащих, ни сказуемых! Это совершенно бессмысленное «экзотическое» сочетание букв. Когда же есть какая‑нибудь возможность понять его, то он оказывается человеком простосердечным и наивным. Так, например, в одном стихотворении он занимается вопросом, почему Наполеоны с нечетными номерами (Наполеон I и III) достигали престола, а с четными были отстраняемы от власти. Он дает читателям самые наивные советы, например:
Aimons les hortensias!
Будем любить гортензии!
В самом деле, почему бы нам и не любить гортензии?
Повторяю, о подобном вздоре смешно было бы и говорить, если бы критики серьезных изданий не посвящали Монтескью целых этюдов как своего рода знаменью времени, уверяя, что Париж занимается им, если бы они не пытались открыть в этой скучной бессмыслице даже какое‑то «социальное» значение (importance au point de vue sociale). Упомянутый мною рецензент «Journal des Debats» почти серьезно говорит о Монтескью как об одном из последователей Ш. Бодлэра, как о выразителе новейших стремлений в поэзии. И с легкой иронией, через которую сквозит, однако, дурно скрытая угодливость, критик заключает этот этюд следующими словами: «М. de Montesqieu a eleve la litterature a la dignite d’un sport» (Г. Монтескью придал литературе достоинство спорта). Если это и шутка, то, во всяком случае, шутка вполне современная, самого дурного вкуса. В самом деле, до какого легкомысленного бездушия, до какой скуки нужно дойти, чтобы посвящать целые критические обозрения подобным новейшим литературным спортсменам, как Монтескью, даже говорить о его «социальном» значении. Если это не любезная выдумка рецензента, что Париж может интересоваться таким вздором, то по крайней мере глупая мода (все бывает на свете, и нет пределов человеческой пошлости) заслуживает более откровенного презрения.
СЛАБОСИЛИЕ РОМАНТИЗМА КОНЦА XIX ВЕКА
Мы видели[1279], как театральные критики, защитники старых классических преданий французской литературы, — академик Фердинанд Брюнетьер и Жюль Леметр почуяли мятежные новые веяния идеализма, разрушительного по отношению к отживающим традициям театра, как, с одной стороны, они стараются найти незыблемую эстетическую формулу драмы для объяснения «театрального кризиса», для борьбы с опасными неоромантическими новшествами, с другой — указывают на современный мистицизм как на некоторый признак литературного вырождения, как на модное тартюфство, «благочестие без веры». В то же время немецкие критики с напряженным вниманием следят за всеми попытками французских неоромантиков. Фридрих Шпильгаген обвиняет молодую школу Германии в погоне за чужеземными модами, в забвении великих народных традиций Шиллера и Гёте. Но мы также видели, что одною случайною поверхностною модою отнюдь нельзя объяснить неопределимого, хотя еще смутного поворота от натурализма к мистицизму: Ибсен в Норвегии, Поль Верлен во Франции, Гауптман в Германии, Метерлинк в Бельгии, от различнейших точек отправления, различнейшими путями, при темпераментах, не имеющих ничего общего, при условиях быта, иногда прямо противоположных, стихийно и неудержимо приходят к одному и тому же, то есть к низвержению старых реалистических кумиров, к исканию новой красоты, нового идеалистического начала в искусстве. Одни пытаются найти утешение от чудовищной несправедливости современной жизни в сказочном бреду умирающего ребенка, подобно автору «Ханнеле», другие воскрешают, подобно Метерлинку, древний фатализм в обновленном виде, трагичнее, величавее учения Эсхила и Софокла о Роковых Силах, о божественной тайне Судьбы, управляющей миром, третьи, наконец, более слабые и женственные, подобно Верлену, возвращаются в опустевшие средневековые соборы, в таинственный сумрак, полный запахом ладана и отблеском разноцветных стекол, с отчаянием падают на пыльные холодные плиты перед алтарем и стараются и не могут пробудить в своем сердце потухший огонь детской веры…
Мы видели, как даже менее сильные, менее искренние таланты и те захвачены глубоким течением века, хотя, оставаясь на поверхности, среди грязной пены, этой мутной разлагающейся накипи современного литературного Парижа, они пользуются мистицизмом, легкомысленным «благочестием без веры», как бульварною рекламою, или, напротив, сами, зараженные модным ядом, преувеличивают, обостряют идеализм, превращают его в тяжелую форму нервной болезни, в извращенность «декадентов», в настоящее литературное безумие, где почти невозможно отличить болезнь от мистификации. Таковы «Елевзинские таинства» Мориса Бушора, безвкусное смешение греческой мифологии с христианскою нравственностью, такова полубезумная мистерия с неоплатоновскими претензиями — «L’image» М. Бобура.
Мы видели и то, до какого мертвенного окаменения или до какой пошлости доходят талантливые люди, не участвующие в этом идеалистическом движении, упорно идущие по старым путям художественного материализма, безграничного поклонения форме, подобно «парнасцу» С. Прюдому, замерзшему на своих классических вершинах, в книжном отвлеченном мире, или буйному «туранцу» Ришпену, нашедшему успокоение от всех вопросов века в «жирном супе», на Золотом островке буржуазной добродетели.
Все не мертвое, не пошлое, не академическое, все, что имеет будущность, уносится великим течением. Оно затягивает в свой могущественный водоворот и крупные, и меньшие таланты, и даже крошечные, никому не нужные, гнилые щепки — таких жалких, наивных и непосредственных глупцов, как литературный спортсмен граф Роберт де Монтескью Фезенсак. Уже и в мутно–темном, громадном зеркале человеческой глупости отразились первые слабые лучи неясного, неведомого утра.
Итак, мы видели неоромантизм во всевозможных, чрезвычайно разнообразных проявлениях, кроме одного, самого главного. Мы не видели того блестящего великого средоточья, который бы собрал в одном художественном фокусе все рассеянные лучи нового идеализма, мы не видели того сильного человека, того пророка, который заставил бы себя слушать, возвещая новых богов.
Вот чем отличается романтизм конца XIX века от такого же движения в начале столетия. Тогда были сильные люди, тогда были пророки, они возвещали миру неслыханное такими громовыми словами, что имеющие уши и хотели бы, но не могли их не услышать, тогда были еще титаны поэзии, как Байрон, Шиллер, Гёте, Мицкевич, Пушкин, сумевшие дать литературам не только новые романтические формы, но и новую бессмертную душу. Таких людей, таких маяков, указывающих человечеству путь к Возрождению, у неоромантиков нет или, может быть, должно сказать, еще нет. Это грустные, больные дети больного века. Их произведения не соответствуют их замыслам. Пока не явится истинный Провозвестник, Объединитель неоромантических стремлений, до тех пор они не перестанут быть загадочными и смутными, до тех пор нельзя будет решить с уверенностью, что это: муки рождения или муки смерти, конец старого или начало нового мира?
Неоромантики — средние или слабые таланты. А того, что проповедуется слабыми голосами, как бы оно ни было само по себе ново и справедливо, люди не умеют слушать.
Этим самоуверенным мечтателям, которым свойственно предаваться преувеличенным надеждам, не следует забывать, что в их рядах до сих пор не появлялось ни одного сильного вождя, а таков неизменный закон жизни: побеждают только сильные.
Материальное благоденствие человека на всех поприщах, польза, польза и польза — таков лозунг европейских народов в XIX веке. Мы смеемся над безумием прошлых веков, которые ценили божественное выше человеческого, бескорыстие выше полезного, идеальное выше практического. Дух беспощадного и безотрадного позитивизма все более иссушает родники творчества, дававшие людям в продолжение тысячелетий неизмеримые радости. И в этом мы полагаем наше превосходство над всеми веками и народами!
Польза, польза и польза! Нет такого пошлого и грубого невежды, который бы не понял боевого крика современной мудрости «для всех», этой затаеннейшей мысли Духа Черни, грозящего воцариться в мире…
Но перед нами, как великий и зловещий пример, — целая многовековая культура, основанная на самом строгом позитивизме в служении принципу Пользы. Имя этой воистину грандиозной культуры — Китай, сущность ее — окаменение, поражение человеческого духа медленною смертью.
С тем поверхностным легкомыслием, которое свойственно нашему европейскому самодовольству, мы смотрим на древнюю монархию крайнего Востока как на что‑то чуждое нам, варварское, низшее. Но, в самом деле, мы гораздо ближе к Небесной Империи, чем думаем. Дух европейского узкого и мертвенного материализма есть дух Китая. Польза, практическая польза, исключающая все бескорыстное, бессмертное и мистическое, — таков лозунг китайских позитивистов в продолжение целых тысячелетий. Если китайцам не суждено преодолеть современного кризиса, переживаемого, между прочим, в войне с Японией, то они погибнут вовсе не от азиатского варварства, как это наивно изображают европейцы, а, напротив, от высокой степени утонченной и ложной культуры. Горе этого во многих отношениях симпатичного и даже великого народа — вовсе не в грубости и бездарности, а в необычайной силе материалистического гения, рассудка и расчета, в отсутствии того творческого самозабвения, той вдохновенной, народной фантазии, того священного Прометеева огня, которыми так щедро наделила природа сравнительно более молодые арийские и семитские племена. Без этого огня никакая культура, никакое развитие внешнего благосостояния, государства, быта и комфорта не идут впрок человеку. Когда люди стремятся к одной пользе, то они и пользы не достигают, потому что существо человеческое чахнет и вырождается без порывов к божественному, к бескорыстному, к «бесполезному», как растение — без воздуха и солнца. Вполне последовательный, логический утилитаризм сам себя отвращает, сам себя убивает.
В парижской College de France известный французский синолог Эдуард Шаванн не так давно читал блестящую вступительную лекцию, в которой речь идет о малоизвестной нам, европейцам, огромной «социальной роли китайской литературы»[1280]. Оказывается (вероятно, к немалому удивлению людей, смотревших на Китай как на варварскую страну), что Небесная Империя — прежде всего царство науки, царство ученых. Как же эти просвещенные позитивисты, эти духовные вожди народа, конечно, желавшие в продолжение многих столетий своей родине только разумного и полезного, довели ее до окаменения, до нравственной смерти, в которых мы в настоящее время видим Китай? Нельзя заподозрить этих людей, среди которых есть и величайшие мудрецы, в непрактичности и тем менее в недостаточности власти, необходимой для воплощения их нравственно–политических идеалов. Где же причина упадка и вырождения, овладевших грандиозной, тысячелетней культурой, с такою страшною, неудержимою силою?..
Чтобы ответить на этот интересный вопрос, сущность которого весьма поучительна и для современной позитивной Европы, обратимся вместе с проницательным и талантливым французским синологом к более подробному исследованию могущественного воздействия китайской философии и литературы на дух народа.
I
Китай обладает великой литературой, и это обстоятельство в высшей степени замечательно: маньчжуры, монголы, корейцы и аннамиты оставили нам очень мало выдающихся памятников самостоятельного духовного творчества. Все менее талантливые народности дальнего Востока должны были подчиниться влиянию своих соседей, заимствуя у Индии религиозную систему буддизма, у Китая — политические и нравственные идеи, которые уже с незапамятной древности легли в основу частной и общественной жизни. За очень немногими исключениями маньчжурские и монгольские книги — переводы с китайского или с индийского.
Некогда Небесная Империя смотрела на все народы, окружающие ее, как на своих данников: эта претензия уже не имеет никакого основания в политической области. Но до сих пор Китаю принадлежит право считать себя духовным, по крайней мере литературным, вождем народов Восточной Азии.
Даже те из них, которые, подобно аннамитам, старались пойти дальше, брали все‑таки за образец китайских писателей: китайцы — всеми признанные классики Востока, так, напр., историческая литература аннамитов — только более или менее точный сколок с китайских летописцев.
Это необыкновенно широкое распространение литературы, между прочим, обусловливается особенностями китайского письма. Первоначальные письменные знаки прямо символизируют представления и понятия и нисколько не зависят от того или другого произношения. Их можно сравнить с нашими арабскими цифрами. Как число, изображенное цифрами, будет одинаково понятно немцу, французу, англичанину, русскому, знающим исключительно свой собственный язык, так текст китайский понятен каждому образованному человеку крайнего Востока, японцу, корейцу, аннамиту, магометанину из Кашгара не менее, чем урожденному гражданину Пекина.
Бэкон уже отметил это преимущество их письма. «У китайцев, — говорит английский ученый («Advancement of Learning»[1281], стр. 399— 400), — существует обыкновение писать „реальными знаками”, которые в своей совокупности выражают не буквы и слова, но предметы и представления. У них народы и провинции, говорящие на совершенно различных языках, имеют одну общую литературу, свободно понимают то, что написано на чужом языке, так как письменные знаки получили там более широкое распространение, чем язык».
Этим объясняется, почему путешественник, приехавший из Европы, начиная от Сингапура, всюду, на всех вывесках, на всех афишах встречает исключительно китайские письмена: смысл их понятен для народов, говорящих на самых различных языках, и он не перестает их встречать до самого далекого севера, до самой границы Русской Империи.
Для того чтобы составить себе некоторое представление о громадной величине географической области, доступной влиянию китайской литературы, обратимся к цифрам народонаселения. Доктор Дёджон, автор английской брошюры «On the population of China»[1282], утверждает на основании официальных данных, а именно рапорта министра финансов, что народонаселение всех 14 провинций Китая в 1886 году сводилось к цифре 325 707 299 человек. Так как в этом счислении не приняты во внимание еще 4 провинции, из которых одна имеет никак не менее 75 ООО ООО жителей, то население Китая превышает цифру 400 000 000. Но и при этом расчете не приняты во внимание ни Манчжурия, ни Тибет, ни Монголия, которые составляют, однако, часть империи, ни Корея, платившая дань Китаю, ни Аннам, ни Япония, где китайская литература прилежно изучается каждым образованным человеком.
Не только в пространстве, а и во времени китайская литература является могущественным орудием духовного объединения. Это последнее обстоятельство еще более замечательно.
Китай не всегда был единой монархией. Не говоря уже об отдаленной древности, мы видим, что с начала третьего века нашей эры до начала VII и потом с первых годов X века до середины XIII он раздроблен на два или несколько враждебных государства. Если, несмотря на все внутренние междоусобия, Китай всегда возвращался к своему единству, то этим он обязан отнюдь не географическим особенностям занимаемой им территории: существуют огромные, поразительные различия между провинциями юга и севера; на этих необъятных пространствах встречаются реки, достаточно широкие, горные возвышенности, достаточно значительные, чтобы служить естественными границами для самых различных государств, для самых противоположных культур.
И однако народное единство Китайской Империи никогда окончательно не нарушалось. Этим нация, конечно, обязана причинам высшего духовного порядка, своему могущественному объединяющему гению, главным выразителем и орудием которого является литература.
Литература укрепила незыблемое внутреннее единство Китая, она же дала ему силу бороться со всеми внешними врагами, помогла сохранить национальную независимость даже в те мрачные времена, когда Небесная Империя была под игом чуждых варварских народов. Сохранились ли хоть какие‑нибудь следы монгольского владычества, продолжавшегося целое столетие? Маньчжурская династия царствует с 1644 года до наших дней. Но что осталось при дворе в Пекине от этого некогда гордого и самостоятельного племени? Темные предания, или… маньчжуры на китайском престоле забыли все, даже свой язык! Волна хищников бесследно исчезла в океане более глубокой народности. Недаром китайцы не боятся никаких внешних завоеваний: невоинственный земледельческий народ в сознании спокойной силы своей чувствует, что в конце концов он все‑таки победит победителей, поглотит их, как соленое море поглощает каплю пресной воды, претворит врагов своих в самого себя, в кровь, плоть и душу свою!
Вот почему китайский народ с такою непонятною для нас, европейцев, беззаботностью относится к военным поражениям. Они знают, что мир сильнее брани.
II
Сами китайцы чувствуют, какая громадная сила заключена в их литературе, и недаром охраняют они ее с ревнивою страстностью. В этом смысле в высшей степени характерно отношение народа к одному из своих прославленных монархов, — императору Зин–Ше–Хоанг–Ти. Он царствовал в конце III века до нашей эры. Ему удалось беспрепятственно уничтожить феодальный строй, подчинив себе всех отдельных властителей, которые вели ожесточенную междоусобную войну в продолжение многих столетий. Этот император был таким же смелым правителем, как и полководцем. Желая установить совершенно новый порядок вещей, он решил истребить старые книги, опасаясь, чтобы их авторитет не послужил когда‑нибудь в руках ученых орудием против власти.
Он сжег книги, но не уничтожил мыслей. Немного лет спустя после его смерти текст произведений, которые он намеревался уничтожить, был восстановлен и приобрел в глазах народа еще более могущественный авторитет. Самая память об этом нечестивом книгоборце подверглась проклятью народному: ученые дали понять, что он был незаконнорожденным сыном, и против него были направлены всевозможные обвинения. Прославляли как Гармодия и Аристогитона человека по имени Кинг–Ко, который поклялся убить государя. И это — в такой стране, где безграничное почитание самодержца не только является внешним всеобъемлющим элементом быта, но удовлетворяет самой сердечной внутренней потребности всякого гражданина.
Те именно произведения, которым грозил остракизм императора Зин–Ше–Хоанг–Ти, сделались мало–помалу книгами каноническими. Следующие поколения писателей создавали произведения, пользующиеся немалым почетом; но никто из них и не думал оспаривать значения древних классических книг: в Китае не существует спора «отцов и детей», «прошлого и настоящего», — по той простой причине, что там решительно все, даже дети, на стороне отцов, на стороне прошлого.
В самом деле, этим древним текстам приписывают священный характер; им удивляются не за одну красоту: эстетические достоинства — вопрос второстепенной важности для китайца. Книги эти являются главным образом драгоценным сокровищем как совокупность всей человеческой мудрости. Только нечестивый вольнодумец может сомневаться, что в них заключен единственный источник всякой добродетели, всякого познания.
Если, впрочем, разрушительная попытка первого императора из династии Дзин в 213 году до нашей эры не достигла цели, ей тем не менее удалось нарушить неприкосновенность древних текстов и тем самым существенно изменить характер их. После запрещения текст главных классических авторов не сохранился в целости: остались только обломки, рассеянные случаем по различным местам империи, и отдельные части книг, уцелевшие в памяти ученых. Когда же началась работа воссоединения — «membra disjecta»[1283] древней мудрости, то новые редакторы безосновательно изменили древние тексты и ввели в них не одну новую мысль. Собрание Обрядов под заглавием Ли–Ка претерпело, кажется, из всех книг наиболее глубокие изменения в руках издателей II века до нашей эры.
Одна Книга Изменений (И–Кинг) осталась вполне неприкосновенной: это древнее руководство священных гаданий. Его спас от разрушения темный, малопонятный язык, который делал И–Кинг безопасным в руках политической оппозиции.
Что касается до других великих классических писателей, то книга Стихов (Ше–Кинг), книги Истории (Шу–Кинг) и Летописи феодального королевства Лу (Чоен–цие–у) если и меньше пострадали, чем Собрание Обрядов, все‑таки воспроизведены не всегда с непогрешимой точностью новыми издателями. Впрочем, и до времен императора книгоборца все эти тексты подверглись довольно значительным видоизменениям. Книга Стихов и книга Истории принадлежат неведомым авторам и, по всей вероятности, представляют плод коллективного народного творчества, а такого рода произведения никогда не являются сразу в окончательной, определенной редакции, необходимо, чтобы их привел в порядок издатель, сделав выбор среди разнообразных материалов, имеющихся у него под рукою, и навеки закрепил бы их внешние, еще нетвердые и колеблющиеся формы.
Таково именно было дело величайшего китайского мудреца Конфуция в конце IV и в начале V века до нашей эры. Автор его биографии, Зе–ма Дзиен, между прочим, утверждает, что Конфуций написал предисловие к повествованиям книги Истории и, начиная с эпохи Иао и Шоен и доходя до времени Му, князя Дзин, привел в порядок и установил связь между всеми событиями.
Тот же Зе–ма Дзиен по поводу книги Стихов делает следующую заметку: «…в древности существовало более 3000 стихотворений. Конфуций исключил все повторения и выбрал только из произведений, которые могут украсить обряды и обычаи народные… Он оставил всего 305 стихотворений. Летопись страны Лу подверглась меньшей переделке, но и сюда Конфуций ввел известное количество изменений, предполагающих нравственную оценку описываемых событий. Там, где другой просто написал бы: „князь такой‑то был убит таким‑то своим подданным”, он выражается: „сделался жертвой отцеубийцы”».
Конфуций прославился главным образом своим пересмотром и редактированием древних классических писателей. Китайские ученые ценят в нем великого истолкователя старинной народной мудрости.
Историческая критика еще не успела исполнить своей трудной задачи: не отделила древней основы текстов от позднейших вставок и добавлений и, таким образом, еще не восстановила картины первоначальной китайской цивилизации, которая писателями последующих веков изображается в исторически неточном, прикрашенном виде. В теперешнем своем состоянии, благодаря всем наслоениям и переделкам, тексты представляют не вполне верное, скорее, идеализированное изображение древности, но и самая тенденциозность нравственного поучения, просвечивающего сквозь все исторические события, заключает в себе немалый культурно–исторический интерес. Это не история, как она была на самом деле, а как народу хотелось бы, чтобы она была. Отсюда ясно, почему миросозерцание крайнего Востока помещает золотой век не в будущем, а в прошлом.
Но если даже принять в расчет иллюзию, производимую отдаленностью времени, все‑таки непонятно, почему классики пользуются таким незыблемым тысячелетним авторитетом.
Не следует ли предположить, что в них есть и нечто иное, кроме изображения великой национальной старины?
В самом деле, при внимательном изучении от этих страниц отделяется известное количество общих идей, скрытых под словами, оценивающими и изображающими и действия людей. Эти‑то именно общие идеи и до сих пор составляют основу китайского мировоззрения. Вот почему книги, в глазах ученых являющиеся только более или менее ценными историческими документами, становятся для народа, породившего их, священным наследием, сокровищницей национальных преданий: бессознательный, но и безошибочный инстинкт расы чувствует, как в этих книгах бьется самое сердце народа, сердце великих и мудрых родоначальников его. Главные идеи китайских классиков принадлежат к разряду тех, которые люди привыкли считать врожденными: они переданы наследственно через такое множество поколений, что начало их теряется в мраке незапамятной древности и кажется совершенно недоступным анализу. Ведь и у нас, европейцев, существуют некоторые метафизические понятия, которые представляются уму столь очевидными, что мы признаем их за абсолютные или по меньшей мере смотрим на них, как на верховные законы разума, как на его категории. А между тем, если вы на эту тему заговорите с образованным китайцем, вы не замедлите почувствовать, что между вашим умом и умом вашего собеседника — целая пропасть; вы почувствуете себя в положении человека, который пытается доказать геометрические теоремы тому, кто не желает признать первые аксиомы этой науки. И наоборот, — когда мы читаем китайских классиков, то нам открываются некоторые взгляды, совершенно новые для нас, а между тем эти именно воззрения и понятия являются основными формами, в которые отливаются их идеи.
Так, напр., идея сыновнего почитания родителей играет здесь первенствующую роль: отношение зависимости между сыном и родителями есть только простейшее выражение всеобъемлющего мирового закона. То же отношение, обозначенное тем же именем, существует между всеми живыми членами одной семьи и умершими, связанными узами какого бы то ни было, даже самого отдаленного, родства. Та же связь соединяет народ и монарха, — «отца отечества» и, наконец, самого монарха, Сына Неба — с Небом. Так как, с другой стороны, небо управляет всеми естественными явлениями, то всякое нарушение мировой гармонии — эпидемия, голод, наводнение — приписывается нарушению великого закона, на котором держится строй вселенной, — закона Сыновнего Почитания.
Сыновнее Почитание есть первоначальный закон, от которого зависит и правильное действие сил природы, и правильные отношения между людьми. Этот закон — символ таинственной связи, соединяющей последовательные человеческие поколения как звенья одной никогда не прерывающейся цепи. Эта идея есть краеугольный камень китайского миросозерцания, символ веры китайцев. Первые страницы, сумевшие выразить эту веру в сознательной форме, закрепленной и освещенной впоследствии молчаливым признанием и сочувствием многих веков, приобрели мало–помалу в глазах потомства смысл священный, цену неизмеримую.
Четыре трактата (се–шу), следующие непосредственно за пятью каноническими книгами, посвящены также развитию в форме более догматической и менее исторической тех же самых принципов и, таким образом, свидетельствуют об их огромном значении для жизни китайского народа. В этом сущность нравственного учения, изложенного методически в первой книге, так называемом Великом Наставлении (Та–хио), и во второй, озаглавленной Истинная Середина (Чунг–Юнг), а также в двух следующих в достопамятных беседах Конфуция (Лун–ю) и Менция с их учениками. Эти четыре трактата постоянно обращаются к текстам пяти канонических книг и стремятся разоблачить их глубокий сокровенный смысл.
Наконец, среди причин, обусловливающих огромный авторитет классиков, должно отметить значение, приписываемое им многочисленными священными обрядами и обычаями народными.
Для европейского читателя все мелочные церемонии, возводимые китайскими учителями в достоинство настоящих нравственных законов, кажутся невыносимо скучными, ненужными и бессмысленными. Мы решительно не понимаем, какое значение могут иметь подробнейшие, полные бесконечного педантизма правила о ношении траура, о различных способах кланяться, о том, как должен себя держать ученый–гуманист — дома, среди учеников, в собраниях, на улице, при дворе, при жертвоприношениях богам и т. п. Мы с детства привыкли к большей свободе во всех мелочах жизни, к более непосредственному выражению своих чувств. Нам кажется верхом нелепости и безвкусия заранее определять меру и форму печали, радости, любви, благоговения, т. е. именно того, что есть в существе человеческом самого неопределимого, вольного и таинственного.
Не так смотрят на это китайцы: по их мнению, тот, кто умеет хорошо себя держать, и думает, и чувствует хорошо. Не внутренним определяется здесь внешнее, как у нас, а, наоборот, внешним — внутреннее. Здесь сказывается глубокий бессознательный материалистический темперамент народного гения. В сравнении с ним европейский материализм — только безобидная детская игра. Вот люди, в самом деле умертвившие дух и поклонившиеся букве, форме, плоти, обряду, жертвоприношению, пользе, практическому расчету, безгранично презирающие все неопределенное, вольное, творческое, подвижное, разрушающее окаменелую форму во имя свободного, вечно мятежного духа. Таковы дети Небесной Империи! Их ум не выносит свободы, как наш ум не выносит абсурда. Китайцу легче умереть, чем переступить заповедную границу обычая и обряда. Для него не существует прелести запретного плода. Это такая глубина тихого, безнадежного и мертвенного благоразумия, о которой даже мы, люди «позитивнейшего» XIX века, не имеем никакого понятия!..
Китайцу обряды служат символами различных душевных состояний, он убежден, что если человек в точности исполняет обряды, то не может не испытывать соответствующих душевных состояний. Быть может, величайшая истина, постигаемая семитами и арийцами, что дух живит, а буква убивает, до сих пор остается совершенно непонятной для учеников Конфуция. По их глубочайшему и наивнейшему убеждению, наказания уничтожают порочность так же, как обряды порождают добродетель! Стоит лишь выполнить некоторые действия, свойственные мудрецу, чтобы сделаться мудрецом: и вот необъятная литература посвящается вопросу, как мудрый человек должен вести себя, держать себя в каждом данном случае жизни. Возникает и обвивается вокруг китайской народной жизни, как тысячелетняя тонкая и неразрывная паутина, громаднейшая казуистика добродетельной благопристойности.
Казуистический нравственный кодекс есть главный предмет, преподаваемый молодым китайцам.
Однажды во время своего путешествия по Небесной Империи Эдуард Шаванн, проезжая через бедное селение, заметил двух ребятишек трехили четырехлетних. Дети упражнялись в «официальном поклоне, при котором оба должны распростираться, касаясь лбом земли и проделывать целый ряд торжественных телодвижений». Стоя на пороге своего жилища, старик смотрел на детей и улыбался, любуясь, как эти крошечные люди с точностью выполняют обряды, переданные им по наследству столькими поколениями. В этой маленькой картинке — весь Китай с его безграничным уважением обычаям древности. «И в то мгновение, — говорит французский ученый, — я глубоко почувствовал могущество наследственных, неподвижных обычаев, передаваемых от отцов детям с незапамятной древности. Недаром же на священные книги, являющиеся прославлением древних обрядов, китайцы смотрят как на главную, необходимейшую основу воспитания».
III
Рассматривая все мелочи китайской жизни, проходя по улицам многолюдных городов Небесной Империи, читая газеты, беседуя с жителями, еще более убеждаешься в жизненном значении древних классических книг, даже в повседневном обиходе каждого мало–мальски образованного китайца.
Над дверями всех лавок, во всех театральных залах расклеены огромные афиши на красной и желтой бумаге. В большинстве случаев они призывают благоденствие в дом и покровительство добрых гениев, но нередко здесь встречается и напоминание об историческом событии. В одном храме близ Пекина вы можете прочесть следующие слова: «небо Мао, солнце Шун». Дело в том, что царствования Иао и Шун изображаются как наиболее счастливые книгой Истории: и вот высказывается пожелание, чтобы солнце их золотого века воссияло и ныне, чтобы люди снова могли жить под их благословенным небом.
В газетах, основанных в Китае несколько лет тому назад, в подражание европейским ежедневным изданиям, настойчивое влияние древней литературы чувствуется на каждом шагу. Не имея необходимой литературной подготовки, вы не поймете передачи самого крошечного происшествия; каждый газетный корреспондент считает себя обязанным испещрять свои отчеты разнообразными учеными намеками (тиен–ку), совершенно непонятными для профанов по части классической китайской литературы.
Слог, употребляемый в частной переписке, еще более проникнут всеобщим культом национальной древности. В Китае существуют многие руководства для составления писем на всевозможные темы: некоторые из образчиков приобрели знаменитость. Подобные сборники не имеют ничего общего с нашими руководствами переписки, предназначенными исключительно для людей образованных: напротив, это — в своем роде изящные образцы трудного искусства сочинять письма на каждый случай жизни, изобилующие цитатами и утонченными оборотами, причем не встречается ни одной фразы, которая не была бы искусным литературным плагиатом.
Если вы разговариваете с образованным китайцем или, еще лучше, если вы объясняете вместе с ним какой‑нибудь текст в книге, тотчас же с удивлением замечаете, какими глубокими познаниями по древней классической литературе обладает ваш собеседник. Он почти всегда помнит большие отрывки наизусть, и когда в разбираемой странице находится какая‑нибудь классическая цитата, все равно обозначенная или нет, он не преминет обратить на нее ваше внимания и указать вам точно, из какого места какой книги она заимствована.
И не один вкус, не одно личное расположение к литературе заставляет каждого китайца из хорошего общества приобретать громадные классические познания, но самые условия его общественного положения: недаром же он поднялся высоко над социальным уровнем земледельческих и ремесленных классов; в качестве истинного ученика Конфуция он презирает торговлю, которая в глазах его есть «последнее из занятий». В гражданском строе своего отечества он может только или быть чиновником, или готовиться к этому положению. Знание литературы и есть главное условие для всех, кто желает достигнуть какого бы то ни было официального положения в Китае. Класс мандаринов пополняется исключительно посредством ученого конкурса, одинакового для всех граждан Небесной Империи: экзаменующийся составляет комментарий к какому‑нибудь тексту, извлеченному из древних классиков, обнаруживая при этом свои литературные познания. Три ученых степени 1) сиеу–цай, — бакалавра, 2) киу–иен, — магистра, 3) дзин–ше, — доктора, которые необходимо последовательно приобрести кандидату на правительственные должности, отличаются друг от друга только трудностью испытания; но в сущности это одни и те же состязания, служащие критерием умственных способностей.
Так, например, испытание на степень доктора продолжается девять дней, разделенные на три срока, каждый в три дня. В первый срок экзаменующийся пишет сочинение в стихах и три диссертации на темы, заимствованные из четырех классических поэтов (се–шу). Во второй срок он сочиняет пять диссертаций на темы, взятые из пяти книг канонических (у–кинг); в третий — должен представить пять сочинений по вопросам, которые сам выбирает. Диссертации первого срока имеют наиболее решающее значение. После обнародования имен трех кандидатов, которые одержали победу, сочинения за первые три дня государственных экзаменов печатаются в маленькой книжке с желтой оберткой.
Испытание состоит всегда в развитии какого‑нибудь общего места практической морали или политической экономии, причем необходимое условие ученой диссертации — утонченно–риторическая обработка внешней формы.
В 1859 году из 6000 конкурентов, явившихся на испытание в Пекине, только 318 человек на весь Китай выдержали экзамен: причем все кандидаты были уже магистрами, т. е. составляли отборное меньшинство. На провинциальном экзамене на магистерскую степень в городе Учанг в 1870 году только 61 человек был принят на восемь, девять тысяч экзаменующихся, а в Пекине в том же году 183 на 12 478 кандидатов! Надо принять в расчет, что на магистерский экзамен допускаются только одни бакалавры, и тем, которые приобрели эту степень, приходится, конечно, восторжествовать над не меньшим количеством состязающихся! Кроме того, магистерские и докторские испытания производятся, за весьма редкими исключениями, через каждые три года. Эти цифры дают некоторое понятие о постепенно усиливающейся строгости выбора, который производится исключительно на основании одного принципа: знания классиков и умения комментировать их изречения.
Все выдающиеся люди современного Китая прошли эту трудную школу, за весьма редкими исключениями, все государственные деятели, все высшие чиновники обладают академическою степенью доктора или магистра.
Благодаря тому, что государственный литературный экзамен в теории единственная, на практике главная дверь, открывающая доступ к лестнице чинов, те, кто выдержал экзамен, как и те, кто к нему готовятся, пользуются необыкновенным уважением среди сограждан. Таким образом возник прославленный класс ученых, во все времена игравший столь выдающуюся роль в судьбах Империи. Он решает все общественные вопросы, составляет общественное мнение и является охранителем священных преданий старины. Вот почему в наши дни класс ученых сделался (что христианские миссионеры хорошо знают по опыту) — оплотом консервативно–национальной оппозиции против европейской культуры.
И частные лица, и правительство не щадят усилий, чтобы облегчить изучение классической литературы, которому китайцы придают, как мы видим, такое огромное значение. Вот для примера некоторые данные. В 1829 году чиновники провинции Коанг Тонг напечатали собрание новейших комментариев на классические произведения под заглавием «Объяснения классических книг, составленные во времена императорской династии Теинг». Издание весьма внушительных размеров, и если бы его перевести, образовало бы не менее 120 толстых томов in-8. В 1888 году высшие власти провинции Кианг Су издали новое собрание, которое служит продолжением первого, под заглавием «Продолжение объяснений классических книг, составленных во времена императорской династии Теинг». И это второе собрание не менее обширное, чем первое! Кроме Библии не существует в мире ни одного произведения, которое сделалось бы предметом таких громадных комментариев.
Заботливое отношение к литературе обнаруживается также в непрекращающихся новых изданиях классических книг во всех провинциях Небесной Империи.
Официальным рапортом государю от 31 октября 1891 года литературный канцлер провинции Шен Си сообщает, что, вступив в соглашение с губернатором, он собрал по подписке сумму, равняющуюся приблизительно 17 ООО рублей, чтобы напечатать безукоризненное по точности издание классиков. В другом рапорте от 3 января 1890 года некий Ма–Пей–яо, губернатор провинции Коанг–Си, пишет: «лучшее средство очищать и развивать нравственность всякого общества есть совершенствование литературного вкуса; чтобы достигнуть этой цели, необходимо иметь большой запас книг. Ввиду того, что превосходные издания классиков и других сочинений были напечатаны в соседних провинциях, следует принять их за образцы и учредить типографии в таких‑то городах».
IV
Китайцы не в одних теоретических рассуждениях, но и в живой практике смотрят на литературу как на могущественный рычаг для подъема нравственного уровня в жизни народной.
Недаром один из важнейших принципов конфуцианской философии утверждает, что добродетель в человеке прямо соответствует степени просвещенности. В течение целых тысячелетий принцип этот, в самом деле, успел проникнуть в жизнь и воплотиться. Конечно, чем мудрее человек, тем он и добрее. Но вот вопрос: совпадает ли ученость с мудростью? В глазах китайца совпадает, в наших — эти две вещи иногда диаметрально противоположны. Мы слишком часто видим на академических креслах и кафедрах ученых глупцов, мы слишком хорошо знаем, что ничего не может быть дальше от добродетели и злее, чем ученая глупость. Недаром Ж. — Ж. Руссо в припадке меланхолии и недоверия к благам европейской цивилизации создал знаменитый парадокс: чем невежественнее человек, тем он добрее!..
Незыблемая аксиома китайского правительства заключается в том, что обязанность императора и затем всех чиновников по отношению к подчиненным двойная: во–первых, кормить их (янч), т. е. обеспечивать их материальное благосостояние, и, во–вторых, просвещать их (киао), т. е. делать их способными к хорошим поступкам. Литература в Китае не отделяется от морали, вся она нравоучительна и тенденциозна. Как и для всех искренних позитивистов, бесцельная и бескорыстная красота, искусство для искусства кажутся китайцам верхом нелепости. То, что мы, русские, называем «писаревщиной», и есть в сущности «китайщина». Это циническое и грубо утилитарное отношение к поэзии, которое у нас в 60–е годы считалось таким передовым и модным, есть только одно из многочисленных проявлений нашей русской отсталости, нашей близости к первобытному младенческому сну Дальнего Востока. Это — наивный китайский позитивизм, подрывающий искусство в самом корне. Если бы писаревщина у нас развилась, она свидетельствовала бы о такой же эстетической смерти целого народа, о такой же духовной неподвижности и онемении, какие поразили Китай.
У литературы, у поэзии китайцев нет никакой цели кроме практической. В этом отношении их художественное миросозерцание отличается последовательным реализмом. То, что не приносит непосредственной пользы, в “их глазах не имеет цены.
Отсюда прямое следствие — глубокое убеждение китайцев, что люди наиболее практические, наиболее способные к управлению другими людьми — те, кто обладают обширнейшими литературными познаниями. Государственные экзамены — лучшее средство избирать должностных лиц. Подобно тому как учителя древнего стоицизма приписывали своему мудрецу все таланты, так и, по мнению китайцев, мудрый человек, т. е. тот, кто усвоил себе наставление древних учителей, один только знает, как должно вести себя в каждом случае жизни, и умеет управлять людьми; только мудрый может царствовать.
Это высокий и прекрасный принцип, с воплощениями которого, конечно, осуществилось бы на земле царствие Божие. Но горе в том, что китайское определение мудрости в высшей степени узко, неподвижно и мертвенно. Прежде всего оно исключает всякие знания, как математику, так и опытные исследования природы. Бесцельное и бескорыстное знание, наука для науки непонятны строго позитивному уму китайцев. Замечательно, что те практические изобретения, которыми они гордятся с незапамятной древности, широкое развитие того частного великого знания, которое неизмеримо шире и глубже всяких утилитарных и материалистических теорий, дает современному европейскому гению такую божественную окрыленность, гордую силу и свободу. Наука китайцев, проникнутая бескрылым и бездушным материализмом, лишена творческого фермента, священного Прометеева огня. У них нет строгого индуктивного метода, потому что нет опыта, а нет опыта, потому что нет источника всякого исследования, бескорыстного и забывающего всякую человеческую пользу, — самоотверженного любопытства к явлениям природы. Им недоступен тот бесполезный и бесцельный восторг знания, который, быть может, величайший и чистейший представитель арийского миросозерцания — Гёте называл «священным изумлением»[1284]. И здесь позитивизм, доведенный до последних логических выводов, подрывает жизнь в корне, убивает чистое знание, бескорыстную любовь человека к природе, выражающуюся в свободной науке, так же как бескорыстную любовь человека к прекрасному, выражающемуся в свободном искусстве. Китайское омертвение — страшный и великий урок тем европейским китайцам — позитивистам и утилитарианистам, которые, для удобства и комфорта, пытаются урезать, искалечить, сократить человеческое существо, втиснуть в прокрустово ложе пользы и расчета, обескрылить вечно мятежную, огненную Психею и превратить ее в добродетельную, покорную и ползучую тварь[1285]!
ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
СПб., 1897. ИЗД. П. П. ПЕРЦОВА
Новый сборник г. Мережковского составлен из вещей неравного достоинства. Наиболее удаются, на наш взгляд, талантливому критику характеристики и портреты из античного мира. Эти далекие века свободной, величественной красоты привлекают нашего автора как ослепительный мираж. В первой же статье сборника прелестные строки посвящены афинскому Акрополю. Очень хороши также портреты Марка Аврелия и Плиния Младшего; в последней статье поистине художественны и безукоризненно прекрасны переводы из античного классика. Тонкая прелесть и художественная сила языка г. Мережковского достаточно известны читателям. Из новых авторов лучшие характеристики достались Флоберу, — этому атеистическому язычнику без его гармонии, и Майкову: этой поэзии, в наше смутное время воскрешающей всю красоту древнего мира, у г. Мережковского посвящен краткий, но классически законченный очерк.
Книга издана очень изящно и при своей содержательности недорога по цене.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. СПб., 1897 г.
Секрет этой книги заключается в следующих словах ее предисловия: «В этом издании, — говорит г. Мережковский, — собран ряд небольших очерков (появлявшихся в печати от 1888 до 1896 г.) — как бы галерея миниатюрных портретов великих писателей разных веков и народов — для русской публики в значительной мере великих незнакомцев, ибо, кроме их имени, русский читатель до сих пор знает о них разве по отрывкам неудовлетворительных переводов или по безличным выдержкам из курсов литературы и справочных книг».
«За это соединение столь различных, по–видимому чуждых друг другу, имен в одну семью, в одну галерею портретов, могут упрекнуть автора в отсутствии систематический связи. Но он питает надежду, что читателю мало–помалу откроется не внешняя, а субъективная внутренняя связь в самом я, в миросозерцании критика, ибо — повторяю — он не задается целями научной или художественной характеристики. Он желал бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни. Это — записки, дневник читателя в конце XIX века. Субъективный критик должен считать свою задачу исполненной, если ему удастся найти неожиданное в знакомом, свое в чужом, новое в старом».
Так определяет г. Мережковский цель своей книги, представляющей, действительно, порядочную‑таки мешанину: тут рядом с Марком Аврелием и Плинием Младшим вы находите Кальдерона, Сервантеса, Монтеня, Флобера, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Майкова, Пушкина; курьезнее же всего, что в число великих писателей, тихих спутников г. Мережковского, попал вдруг и афинский Акрополь, так что оказывается, что Акрополь вовсе не пребывает в неподвижности близ Афин, а сопутствует г. Мережковскому в его земных скитаниях или покоится на полках его библиотеки рядом с М. Аврелием и Монтенем.
А мне глубоко жаль г. Мережковского. У него нет недостатка в начитанности и даре художественной изобразительности, вместе с тем владеет он и прекрасным слогом. Вы встречаете в книге его несколько блестящих страниц, показывающих, что он мог бы писать прекрасные исторические характеристики. Но, к сожалению, все эти качества г. Мережковского омрачаются невообразимым сумбуром, господствующим в его мыслительных отправлениях, — и рядом с двумя, тремя блестящими страницами вы натыкаетесь на десятки и сотни страниц, на целые статьи, поражающие вас или до смешного наивным ребячеством, или же непроницаемым туманом мистико–символо–декадентских фантазий. Входить в какой бы то ни было разбор или опровержение этих фантазий мы считаем делом совершенно излишним, да и невозможным: как вы будете разбирать или опровергать то, до смысла чего порою нет никакой возможности добраться? Впрочем, некоторая попытка в этом отношении была сделана в прошлом году, на страницах нашего журнала, при рассмотрении сборника г. Перцова «Философские течения русской поэзии»[1286] (см. «Н.(овое) Сл.(ово)», 1896 Г., № 9). Мы познакомили там наших читателей, между прочим, с содержанием статей г. Мережковского о Пушкине и Майкове. Статьи эти, кстати, вошли целиком в разбираемую нами книгу г. Мережковского, и нам остается лишь предложить нашим читателям, желающим познакомиться с г. Мережковским как мыслителем, обратиться к вышеозначенной книжке «Нового слова». Здесь же мы ограничимся только тем замечанием, что если у каждого барона имеется своя фантазия, то почему же не иметь своих фантазий и г. Мережковскому? Впрочем, по правде сказать, г. Мережковский служит вопиющим опровержением этой пословицы, потому что у него хотя и очень много нелепых и диких фантазий, но как раз все они чужие, и ни одной собственной.
(Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ.
ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
СПб. 1897. Д. Н. ОВСЯНИКО–КУЛИКОВСКИЙ.
ЭТЮДЫ О ТВОРЧЕСТВЕ ТУРГЕНЕВА. ХАРЬКОВ. 1896)
Вопросы теории литературной критики обсуждаются в последнее время на Западе, особенно во Франции, с большим оживлением. Все направления, сменявшиеся в критике с прошлого века, имеют видных представителей в современной французской литературе, и в попытках найти основы для соглашения или дать научное объяснение той или иной теории также нет недостатка. Критика занимает выдающееся положение в текущей литературе, и трудно спорить с недавним замечанием одного из известных критиков, который высказал, что ни роман, ни театр в наше время не дали ни одного произведения, которое могло бы быть поставлено выше «Порт–Рояля» или первых томов «Происхождения современной Франции»[1287]. Было также отмечено как явление характерное, что молодые писатели, которые в былые годы выступили бы на литературное поприще с томиком стихов, теперь дебютируют критическими этюдами или даже, как Эннекен и Рикарду, пытаются создать научно обоснованную теорию литературной критики.
У нас, где критика ходом вещей была поставлена в необходимость заниматься более общественными, чем литературными, вопросами и где именно поэтому она имела особенное значение, рассуждения о задачах критики всегда были заключены в круге полемики о том, какое место в критике художественного произведения должны занимать элементы публицистические. Общественные течения русской жизни находили себе в критиках литературных произведений авторитетных истолкователей и руководителей; но литературные формы никогда не стояли у нас в зависимости от критики. Если французы могут с уверенностью сказать, что классицизм был в известной степени созданием критики Ронсара, а из «Литературы» m‑me де Сталь[1288] вышел романтизм, то у нас едва ли было бы возможно свести какое‑либо литературное явление к непосредственному воздействию Белинского.
Историю критики у нас в связи с этим излагали лишь как историю общественного сознания; во взаимодействии с изящной литературой она не изучалась. Вопрос о целях и средствах критического исследования сводился к более общему вопросу о сущности искусства — и обсуждения методов литературной критики в себе не заключал. Между тем за последнее время в нашей критической литературе появился целый ряд опытов, то открыто примыкающих к тому или иному направлению в европейской критике, то возвещающих свою, иногда даже «самобытную» форму критического анализа. Образчиком таких новых направлений и удобным поводом для беседы о некоторых тенденциях и оттенках в современной литературной критике кажутся нам две книги, указанные в подзаголовке. Число их можно было бы умножить.
Первоначально наше внимание остановилось на этих книгах благодаря тому случайному обстоятельству, что они написаны не присяжными критиками. Писателям, известным в иной области литературы, научной или художественной, принадлежит у нас несколько выдающихся и чуть не самых оригинальных образцов литературной и художественной критики. «Гамлет и Дон Кихот» Тургенева, «Миллион терзаний» Гончарова, «Пушкин» Достоевского, «Поэт пошлости» Ал. Градовского, «Мопассан» Л. Толстого, «Мефистофель» Кавелина[1289] — как видите, довольно значительные основания ждать чего‑либо незаурядного от критического очерка, если он подписан именем известного поэта или ученого. Если бы они не чувствовали, что могут сказать о писателе или произведении нечто значительное, они не выступали бы в чуждой им области. Да и кому чужда эта область…
Мы не ошиблись в наших ожиданиях, но интерес, возбужденный в нас «Вечными спутниками» и «Этюдами о Тургеневе», направился в особую сторону. Результаты критического изучения показались нам в обоих случаях менее характерными, чем те различные способы исследования, которые теоретически защищает г. Мережковский, и те, которые практически применяет г. Овсянико–Куликовский.
I
Автор «Вечных спутников» задался оригинальной целью поставить на место критики — лирику. Его книга открывается небольшим предисловием, где автор объясняет название книги и намечает свой взгляд на задачу критики.
«Бессмертие» великих произведений искусства есть, как известно, их способность постоянно обновляться; «каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образцу и подобию своему. Несомненно, что Эсхил, Данте, Гомер для XVI века были не тем, чем стали для XVIII, еще менее тем, чем стали для конца XIX, и мы не можем представить себе, чем они будут для XX… Для каждого народа они родные, для каждого времени — современники и даже более — представители будущего». Итак, исключить влияние своей личности при изучении писателя невозможно; стало быть, кроме критики объективной, художественной и научной, может быть и есть критика «субъективная, психологическая, неисчерпаемая, беспредельная по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения».
Согласно с этим автор «Вечных спутников» полагает свою цель «не в том, чтобы дать более или менее объективную, полную картину какой‑либо стороны, течения, момента во всемирной литературе»; «цель его откровенно субъективная». Он «желает только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни».
В этих теоретических замечаниях нет достаточной определенности. Автор бросает новый термин и даже не останавливается на нем; он как будто думает, что этого довольно. Между тем если бы даже и признать особый «субъективный» вид критики, то надо предварительно указать ему его место, уяснить его истинное значение, его отношение к современной теории поэзии, его действительный смысл в изучении художественного произведения. Французские представители того направления, к которому как будто желает примкнуть в своей критике и примыкает лишь своей теорией г. Мережковский, ограничивают свою задачу именно этой беседой о себе. Они яснее в терминологии и называют свою критику импрессионистской, отождествляя ее с передачей впечатлений, возбужденных в них произведениями искусства.
Автор «Вечных спутников» называет свою критику субъективной и ждет от нее значительных результатов, именно в деле объяснения художника. Он думает этим путем даже «показать за книгой живую душу писателя».
Прежде всего — что значит это признание в субъективности? Какой реальный смысл оно имеет и как относится сам г. Мережковский к этой субъективности? Его указание на «откровенность» как будто ставит вопрос на настоящую почву: все критики в сущности субъективны, но почему‑либо притворяются объективными; они только не откровенны, — я же сознаюсь в субъективности. Но ведь мы знаем, что нет продукта человеческого духа, не носящего на себе в той или иной мере отпечатка личности своего создателя; мы знаем, что даже в астрономических работах делается поправка на индивидуальность наблюдателя; критику труднее отделаться от этого осадка, труднее выделить самого себя; совершенно объективной критики нет. Но г. Мережковский как будто говорит, что он мог бы быть достаточно объективен, но не хотел этого, так как имел иные цели. Цели эти не нашли себе у г. Мережковского ясной формулы.
Прежде всего желал бы он показать за книгой «живую душу писателя». Очень хорошо; от этого заманчивого желания, кажется, давно уже не отказывается ни один критик. Но что здесь субъективного? Критик собирается дать галерею литературных портретов; он предполагает показать в индивидуальности писателя «своеобразную, единственную, никогда более не повторяющуюся форму бытия». Да почему все это субъективно или должно быть субъективно? Почему для этого надо рассказывать о себе? «Показать за книгой писателя», настоящего, не выдуманного, можно только путем анализа отношений писателя к его книгам, а не сообщением своих настроений и впечатлений по поводу его книг. Г. Мережковский думает иначе; он называет свои очерки «галереей портретов великих незнакомцев»; он думает, что его этюд о Сервантесе дает более ясное представление о великом писателе, чем перевод «Дон Кихота». Он думает, что если Флобер мог быть у нас «великим незнакомцем» после переводных статей Золя, Брандеса, Пелисье, после неоднократных изданий его произведений в переводах, после оригинальных статей Арсеньева, Тур, Боборыкина и многих других[1290], то он обратится для русской публики из «великого незнакомца» в «вечного спутника» после заметки г. Мережковского, который даже не знал, что с тех пор как эта заметка печаталась в первый раз, вышло еще два тома переписки его «верного друга и тихого спутника»[1291], знакомства с которыми не видно в очерке г. Мережковского.
В дальнейших теоретических объяснениях автор не выпутывается из той же двойственности.
Из «галереи миниатюрных портретов» его критические очерки, — в которых он уже «не задается целями научной или художественной характеристики», — обращаются в «дневник читателя в конце XIX века».
Французские импрессионисты выражают задачу критики в тех же словах. Критик откровенный — по теории Анатоля Франса, самого крайнего из них — должен сказать: господа, я буду говорить о себе по поводу Шекспира, по поводу Расина, или Паскаля, или Гёте — повод довольно хороший… Le bon critique est celui, qui raconte les aventures de son ame au milieu des chefs d’ceuvre[1292][1293].
Что ж, возражать против этого нечего. Найдет такой критик читателей — благо ему. Победителя не судят. Успех его мог бы, правда, бросить тень на его субъективность; можно предположить, что его душа — душа довольно обыкновенная и в мире Паскаля испытала те же впечатления, что и души его восторженных читателей. Но для А. Франса истины все равно нет — обо всем на свете есть десятки равноправных истин, и думать, что один критик может быть более прав, чем другой, — смешная иллюзия. Он просто не признает объективной критики, как не признает объективного искусства. Есть одна истина: «On ne sort jamais de soi meme»[1294]. У г. Мережковского нет этой последовательности. Он верит в объективную истину, но думает, что раскрыть ее можно, именно «не выходя из своего я». «Субъективная критика, — читаем мы в статье о Сервантесе, — именно потому, что в ней есть сочувственное волнение, потому что она отражает живые впечатления читателя, в которых всегда до некоторой степени воспроизводится творческий процесс самого автора, может иногда открыть внутренний смысл произведения лучше и вернее, чем критика исключительно объективная, которая стремится только к бесстрастной исторической достоверности».
Может быть, так оно и есть. Но позволительно спросить, как доказать, что внутренний смысл произведения — действительно тот, который открыт субъективной критикой, как доказать, что она права? Что если два критика придут по этому пути к диаметрально противоположным результатам? Если г. Мережковский увидит в идее драмы Кальдерона «одно из оснований христианского учения», а Карьер — отрицание истинного христианства, то можно полюбопытствовать, кто из них открыл внутренний смысл драмы? Для того, кому ясно истинное значение субъективной критики, здесь нет вопроса, как нет вопроса для того, кто понимает роль субъективности в науке социологии. Но с точки зрения г. Мережковского эти вопросы вполне уместны — и ответа на них нет.
Приписав субъективной критике то значение, которого она не имеет и, — как мы увидим ниже, — иметь не может, г. Мережковский незаметно для самого себя извратил ее смысл. С ним приходится спорить, точно с защитником критического догматизма, который никак не может понять, «к чему говорить, что дважды два четыре, если тотчас вслед за тем прибавляют, что дважды два, может быть, и шестьдесят пять и что в сущности нет ничего известного». Критика не математика.
Правду сказать, мы никак не думали, что об этом придется напоминать г. Мережковскому.
Дважды два не может быть равно и четырем и шестидесяти пяти, а два критика, которым художественное произведение говорит различные вещи, могут быть оба правы. Вот в том‑то и дело, что никакого объективного внутреннего смысла, который можно было бы раз навсегда открыть хорошо и верно, в произведении искусства нет, и указание, будто субъективной критикой этот смысл раскрывается лучше и вернее, чем другим способом изучения, лишено содержания по той простой причине, что формулирование смысла, идеи художественного произведения может быть только субъективно. Если бы г. Мережковский ясно представлял себе все значение субъективности в критике, он не испугался бы за ее престиж и не навязал бы ей выдуманных добродетелей, от которых она сторонится. Дурную услугу оказывал ей ее неудачный защитник — и она имеет полное право сказать: избави нас Бог от таких друзей.
Попытаемся определить значение субъективного элемента в художественной критике. Для этого надо напомнить о некоторых чертах произведения искусства.
II
По известному формальному определению — у нас его выставлял еще Белинский — искусство есть мышление в образах. От мышления научного прозаическое художественное мышление отличается тем, что обобщение является в нем не в виде отвлеченной формулы, но в виде образа; образ — это воспроизведение единичного, конкретного индивидуального случая, имеющее свойство быть знаком, заместителем целого ряда разнообразных явлений. Для мысли человеческой, тяготимой разрозненностью мира и ищущей обобщающих форм для удовлетворения своей вечной и неумолимой «жажды причинности», поэтический образ является таким обобщающим началом, основанием, у которого группируются организованными массами необъединенные явления жизни. «Поэзия ставит нас в центр, от которого по всем направлениям исходят лучи, соединяющие нас с бесконечным», — говорит В. Гумбольдт[1295]. Прозаическое указание на факт не выводит нас за границы этого факта; в поэзии значение его расширяется.
Только у вас (у поэтов) мимолетные грезы Старыми в душу глядятся друзьями[1296].
Это значит: лишь преломившись в призме творческой мысли художника (a travers le temperament[1297]), явления индивидуальные («мимолетные») получают смысл обобщения, обнимают уже готовый в душе, но еще беспорядочный материал, являются во внутренний мир как нечто родное и желанное, — «старыми в душу глядятся друзьями».[1298][1299]
«Отдельный случай, — замечает в том же смысле Гёте, — становится общим именно потому, что он обрабатывается поэтом»[1300]. Общим, однако, он становится не в смысле только обыкновенной, ограниченной типичности. Портрет незнакомого человека, исполненный талантливым художником, наводит нас на мысль, что хотя мы не знали этого человека, но таких людей встречали. Здесь общность отдельного случая ограничена; от человека мысль переходит к другим людям — не дальше. Но и в этом простейшем случае обыкновенной типичности наглядно выступает существенный элемент художественного воспроизведения жизни: его иносказа–тельность; портрет лишь тогда удачен, когда в лице уловлена его характерность, когда он говорит не только об этом человеке, но и о таких людях.
Но иносказательность художественного образа идет дальше; образ и его значение могут принадлежать к различным и далеким друг от друга категориям.
Возьмем простейший случай — афоризм Гёте: «Das kleinste Haar wirft seinen Schatten»[1301][1302]. Прежде всего — что это такое: поэзия или проза? — И то и другое; вернее — или то, или другое — смотря по тому смыслу, который мы вкладываем в это изречение. Если это замечание есть простое указание на физический факт, — то это, конечно, проза. Но взглянем на этот научный факт как на поэтический образ — и пред нами раскрывается беспредельное поле тех обобщений, для которых он может служить иносказанием.
На вопрос, какой внутренний смысл, какая идея этого поэтического произведения, мы ответим, что, если бы эту идею можно было исчерпать в форме абстракции, поэту не было бы нужды прибегать к иносказанию. В прозаическом понимании частный случай остался бы частным; «возведенный в перл создания», опоэтизированный, он становится общим и иносказательным.
Еще пример. Мы читаем описание восхождения на высокую горную вершину. «Звезды стали являться на вечернем небе, — рассказывает путешественник, — и вдруг мне показалось, что они гораздо выше, чем были внизу». Простое указание на факт, который может быть объяснен научно. Но читатель почему‑либо находится в приподнятом, вибрирующем, творческом настроении, он останавливается и говорит себе: «Так и в области мысли: чем выше поднимаешься, тем выше кажутся звезды, тем очевиднее, что вершины познания недоступны». Другой найдет в пережитом другие впечатления, на которые также послужит тот же пример откликом. Он, во всяком случае, стал иносказательным, стал образом.
Bourgeois‑gentilhomme у Мольера удивился, узнав лишь на старости лет, что он всю жизнь говорит прозой[1303]. Как удивились бы многие люди, потешающиеся теперь над мосье Журденом, если бы они узнали, что очень часто были поэтами, не зная этого. Поэзия есть лишь способ мышления, доступный каждому и неизбежно употребляемый. Поэзия везде, где за немногими чертами определенного, замкнутого образа стоит многообразие значений. Мы видели, что по содержанию поэтический образ может ничем не отличаться от самой прозаической мысли, от незначительного указания на простейший обыденный факт вроде того, что «солнце
отражается в луже». Но раз этот факт — при посредстве поэта или без него — говорит не только о луже и солнце, но и о чем‑то ином, — мы перешли в область поэзии. Сообщение о ничтожном восприятии получает способность говорить о чем‑то совсем ином, например об искре Божьей в душе испорченного человека, о множестве явлений, бесконечно от него далеких.
Отдельный случай в руках поэта делается суггестивным, как говорит современная эстетика; он подсказывает, удачно переводит этот термин А–p Н. Веселовский; он получает свойство постоянно обобщаться, быть иносказательным, подходит под бесчисленное множество применений, — говорит А. А. Потебня[1304]. Факт, пройдя сквозь горнило художественной мысли, является в виде символа.
Поэт мыслит образами, а не придумывает их. Кто, имея готовое обобщение в виде отвлеченной формулы, переводит эту абстракцию в художественную форму единичного случая, тот не поэт. Его создание родилось на почве узко–рассудочной и имеет лишь один определенный смысл. Это не символ, а аллегория: это прозаическая схема, уже готовая идея, одетая в оболочку образа, не изменяющего эту идею, и не символизирующая ничего, кроме нее. Здесь нет движения мысли — от этого образа идея, быть может, сделалась нагляднее и общедоступнее, но не стала сложнее и развитее. Аллегория для прогресса мысли имеет одну цену с тавтологией.
Другое дело поэтический образ, символ. В нем воплощена колеблющаяся, неопределенная группа пережитых впечатлений, которая и для самого художника в виде отвлеченного обобщения не существует. «Ко мне приходят, — говорит Гёте Эккерману, — и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем „Фаусте”? Точно я сам знаю это и могу выразить!»[1305].
Очевидно, ни разъяснений, ни доказательств у художника спрашивать нельзя, его факты — в его впечатлениях, его тезисы — в его образах. Завершенное художественное произведение стоит пред творцом как самодовлеющее целое, уже ставшее ему чуждым. Осуждает ли он его, как А. Толстой «Анну Каренину», или влюбляется в него, как Пигмалион в Галатею, — создание художника есть нечто, от него теперь не зависящее и имеющее свою самостоятельную жизнь; иногда художник глубоко сознает это. Разбирая сцену с Шаховским (челобитье бояр о разводе с женою) в «Царе Федоре», граф Ал. Толстой указывает на отсутствие у царя личных мотивов в поспешном осуждении Шуйского. Он, однако, прибавляет: «Не смею утверждать, — что поспешность Федора происходит от одного негодования» (проект постановки трагедии «Царь Федор»)[1306].
Так объективируется готовый образ для самого поэта; он разбирает его, как посторонний критик. Он не может изменить его значение своими толкованиями, как не может переделать свое прошлое. Он в нем такой же судья, как и мы, и как бы ни были интересны его толкования, непреложным и обязательным приговором они для нас не являются. Ибо исчерпать всю беспредельность символических значений художественного произведения, раз навсегда раскрыть его внутренний смысл не может ни автор, ни читатель, ни критик. В этом главная ошибка г. Мережковского.
В истории нашей литературы сохранилось трогательное и для теоретика весьма интересное воспоминание о первой встрече восторженного читателя с автором. Это было пятьдесят лет тому назад; Белинский только что прочел «Бедных людей», просил Некрасова «поскорее» привести автора, и Достоевского привели к нему. Он заговорил — рассказывает Достоевский — пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами‑то, — повторял он, — что вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем как художник это могли написать, но осмыслили ли вы сами‑то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали… Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертою разом в образе выставляете самую суть, чтобы самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно!»[1307]. Вопрос о том, что художник понимает в своем произведении, сводится, конечно, к условному значению слова понимать. Но в одном отношении Белинский был не прав; ему казалось, что он понимает всю правду, которую можно вложить в рассказ Достоевского, между тем как он, конечно, понимал лишь часть ее, — быть может, и не вполне ясную для самого Достоевского. Не открыли внутреннего смысла рассказа Достоевского и мы, хотя с тех пор мы выросли на полвека, не откроют его, — надо надеяться, — и наши потомки. Иначе — надо признать, что произведение Достоевского нежизнеспособно. Ибо исчерпывающее понимание художественного произведения, возможность передать все его содержание в логических схемах, другими словами — прекращение его суггестивности, его иносказательность есть его смертный приговор.
Автор «Вечных спутников» думает, что можно открыть внутренний смысл произведения, но кем это было когда‑либо сделано? Может г. Мережковский указать на какое‑либо истинно художественное произведение с открытым, раз навсегда выясненным критикою внутренним смыслом? Едва ли. Объективного внутреннего смысла, идеи, в художественном произведении нет — есть лишь форма, неподвижный образ. «Искусство есть язык художника, — говорил Потебня («Язык и мысль»), — и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающем. Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать ’’идею” его произведения». С этой точки зрения Белинский был, конечно, прав. «Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании. Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно, условлено его внутренней формой, но могло вовсе не входить в расчет художника, который творит, удовлетворяя временным, нередко весьма узким потребностям своей личной жизни»[1308]. Заслуга художника не в том minimum содержания, какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание. Скромная загадка: «одно каже: свитай Боже, друге каже: не дай Боже, трете каже: мени все одно» (окно, двери и сволок) может вызвать мысль об отношении разных слоев народа к рассвету политической, нравственной, научной идеи, и такое толкование будет ложно только в том случае, когда мы выдадим его за объективное значение загадки, а не за наше личное состояние, возбужденное загадкою.
III
Читатель согласится, что это большое отступление было необходимо, чтобы выяснить, что вот, именно, такое личное состояние под прикрытием «воспроизведения творческого процесса самого автора» г. Мережковский выдает за «объективное значение загадки», когда утверждает, что сочувственным волнениям субъективной критики открывается «внутренний смысл» произведения, менее доступный для критики объективной.
Внутренних смыслов произведение поэтическое имеет столько же, сколько читателей. Г. Мережковский не напрасно называет свою книгу «дневником читателя».
Отношение читателя к поэтическому произведению отмечено яркой субъективностью; он оценивает его на основании неуловимо индивидуальных данных вкуса и критического такта, он пользуется ими постольку, поскольку подготовлен к этому всей своей душевной историей; он видит в нем то, что склонен видеть; он применяет этот символ так, как подсказывает ему его капитал впечатлений, его положение, его настроение; не найдя случайно точки соприкосновения, интереса, он проходит равнодушно мимо гениального произведения или пониманием своим лишь извращает его. Критик должен научить его правильно смотреть на произведение искусства — как, в свою очередь, искусство учит нас правильно смотреть на природу.
«Вечные спутники» действительно являются каждому веку, каждому поколению и даже каждому человеку в новом свете, — в ином духе. Но этим не определяется роль критики; свобода понимания — sub lege libertas, а не безудерж произвольных излияний и случайных точек зрения.
Круг можно изобразить на чертеже так, что он представится эллипсом или прямой линией. Кто может сказать, что такая точка зрения неправильна? Но, с другой стороны, что если нам станут представлять все круги только в виде прямых линий? И нет ли таких читателей, в положении или в самой натуре которых лежит возможность такого «своеобразного» понимания?
Есть анекдот об одном англичанине, который поехал в Рим, чтобы посмотреть на собор св. Петра с такого места, откуда ничего не видно. Он, собственно, видел уже этот собор, но по пути из Италии разговорился о нем с каким‑то соотечественником. «А видели вы собор с самого дурного места?» — спросил тот. — «Ах нет, — отвечал путешественник, — а разве есть такое место?» — «О да! Есть место, с которого вместо всей колоннады видишь всего одну колонну, очень любопытно». Англичанин, смущенный, как человек, сделавший ужасную оплошность, вернулся в Рим — смотреть на чудо искусства с такой точки, откуда ничего не видно.
Быть может, показывая в Лондоне друзьям свой дорожный альбом, чудак раскрыл пред ними страницу, на которой было изображено нечто странное, бесформенное и нестройное, и сказал: «Это собор св. Петра; до сих пор вы видели его в натуре или знали по фотографиям, но он был для вас лишь „великим незнакомцем”. Я, правда, и не хотел изобразить его объективно, цель моя — откровенно субъективная. Согласитесь, господа, что внутренний смысл великого создания искусства постигается из моего оригинального рисунка лучше, чем из объективных изображений».
Станет ли кто‑либо спорить с этим чудаком? Конечно, нет, — да и не о чем с ним спорить. Всякий пожмет плечами и скажет, что и он, — и тот немецкий критик, который усмотрел в дяде Гамлета образцового государя и человека, тяготимого кознями интригана племянника[1309], — сделали бы лучше, если бы просто отвернулись от гениального произведения, понять которое им не дано. Не потому, конечно, что они были субъективны, — но потому что дурно поместили свою субъективность.
Классический образец крайностей бесспорно субъективной читательской критики мы имеем в «Фаусте» Тургенева, — и это особенно ясно из превосходного анализа, которому подвергает повесть Тургенева г. Овсянико–Куликовский. Он дает две характеристики — он объясняет сперва книгу, потом ее читателя — и спрашивает себя, чем такая книга должна стать для такого читателя; выражаясь фигурой, употребляемой г. Мережковским, — какие новые звезды должна увидать Вера Приимкова, подойдя к тому просвету в небо жизни, имя которому «Фауст» Гёте.
Как бы ни были разнообразны толкования великой драмы, можно указать некоторые общепризнанные элементарные основы, от которых не отступают критики «Фауста».
Всякий знает, что «Фауст» это прежде всего история самого д–ра Фауста; он — центр пьесы, и драма в его душевной жизни, трагедия Гретхен, — лишь незначительный эпизод в этой кипучей жизни, заключительный смысл которой совершенно скрьгг от того, чье знакомство с «Фаустом» ограничивается его первой частью. Мефистофель — не традиционный черт суеверных переживаний, в которого не верят ни Фауст, ни Гёте, но олицетворение духа рефлексии, отрицания, присущего всякой сложной психике. Такова книга; обратимся к читателю.
Вера не анализирует «Фауста»; она не знакома с той духовной обстановкой, в которой он был создан, и не понимает, чем была драма для ее творца. Душа «наивная и страстная» и — до поры до времени «односоставная», она совершенно чужда рефлексии; ее душевные движения глубоки, но не осложнены побочными течениями внутренних противоречий и самоанализа. Нет ничего более чуждого ей, чем вопросы предельности знания, искания смысла бытия и полноты существования. Вера воспитана вне жизни; о любви она не знает даже из книг, — что, конечно, не могло истребить в ней несознаваемой потребности любить. Наконец, несмотря на воспитание, основанное на положительном знании и ограждении от
всякой фантастики, Вера сохраняет некоторые наследственные черты, которые ее покойная мать тщетно старалась вытравить естественными науками; это — предрасположение к таинственному, суеверие, боязнь «тайных сил» жизни.
Таков читатель, впервые познакомившийся с произведением Гёте. Уже наперед можно предвидеть, какова будет роль субъективных элементов в его понимании великой драмы.
И действительно, отношение Веры к «Фаусту» оказалось настолько своеобразно, что его едва ли возможно назвать пониманием художественного произведения. У нее есть некоторые верные догадки — она, например, как будто поняла, что Мефистофель есть «что‑то такое, что может быть в каждом человеке», но самые основы содержания драмы остались ей чужды. Подавленная и лишенная духовной свободы, она не увидела в «Фаусте» ничего, кроме того, что подходило к ее теперешним смутным порываниям, и в ее мятежную душу вошли лишь membra disjecta[1310] великой книги.
Главный образ драмы — сам Фауст — прошел для нее совершенно незамеченным; ей чужды его жажда познания, его рефлексия, его раздвоенность. Вторая часть драмы, столь безусловно необходимая для понимания самого героя, ей не нужна. Она заметила лишь героиню — «она узнала в себе Гретхен», как говорит г. Овсянико–Куликовский, — и Мефистофеля. Но что такое ее Мефистофель? Что общего у него с «частью той силы, которая желает добра и творит зло»[1311]? Очень мало. Ее Мефистофель во многом противоположен Гётевскому: «он не смеется, не хохочет, он не циничен, не сквернословит и не буффонит. Он, очевидно, не только не дух рефлексии, но и не дух отрицания вообще». Наконец, — «поэзия и не коснулась души Веры. Ее душа, действительно, пробудилась, но только не для поэзии, не для просветления и расширения мысли и чувства, а для совсем иных „чар и тайн”, аналогичных тем, силою которых Фауст продал душу Мефистофелю и ринулся в водоворот страстей и эгоистических стремлений — к миражу любви и счастья».
Такова субъективная критика Веры Приимковой; не много уяснила она нам в «Фаусте». Нам открылось содержание души Веры, и оно понятно: выражаясь языком химиков, реакция на «Фауста» — превосходный способ для определения некоторых сторон человеческой души, но самостоятельного и объективного анализа драмы этот процесс ни в каком смысле заменить не может. Из «стихотворения в прозе», где рассказано,
что испытал г. Мережковский при виде Акрополя, «внутренний смысл» Акрополя нам открывается в такой же степени, в какой открылся бы из симфонической картины, посвященной Акрополю. Эти вещи могут быть очень удачны, но это не критика, а лирика.
В наиболее удачных своих образцах субъективная критика представляет собой не анализ произведения, а его художественное воспроизведение, симпатическое переживание процесса творчества, уже совершенного другим художником. В этом воссоздании произведение искусства получает некоторое субъективное объяснение, но критики в настоящем смысле слова здесь, конечно, нет.
Есть особые виды искусства, где творчество ограничивается индивидуальным воспроизведением уже готового художественного создания. Таково творчество исполнителей в драме и музыке. Этих исполнителей недаром называют истолкователями, комментаторами произведений искусства. И в других областях искусства есть особые виды художественного творчества, имеющие исходной точкой не наблюдение живой действительности, а готовые произведения искусства и литературы; таковы лирические стихотворения, вызванные определенным пластическим образом или чтением книги; таково пользование чужим стилем для открытого подражания (у Пушкина — сцена из Фауста, подражания Данту, Корану) или для пародии, воссоздающей произведение искусства, — средствами другого: такова иллюстрация — пластическая, поэтическая или музыкальная. Мефистофель из поэзии — народной или индивидуальной — переходит в статую Антокольского, из статуи Антокольского в стихотворение гр. Голенищева–Кутузова[1312], возвращаясь, таким образом, в родную стихию поэзии. Сохраняя неизменной свою форму, свои образы, художественное создание является в каждом таком новом перевоплощении в новом свете.
И вот, критика субъективная или, вернее, импрессионистская не только аналогична с этими художественными произведениями — она принадлежит к их числу. Не случайно первые образцы такой «пластической» критики дал предтеча школы «парнасцев» Теофиль Готье. «Она не анализирует и не объясняет, — говорит Фагэ, — она показывает, она пересоздает или дает наперед впечатления, производимые самим художником, и, таким образом, достигает цели всякой критики: побудить прочитать или перечитать в известном настроении. Ту же цель, однако, имеет, несомненно, и увертюра и антракты к драме — напр., к „Князю Холмскому”».
Она предрасполагает, она настраивает, она, в известном смысле, толкует содержание литературного произведения; почему ее не называют
критикой? Очевидно, потому, что критика предполагает не только определенную цель, но и известные средства.
Характерно, что живая речь, столь чуткая к истинному смыслу слов, разве только cum grano salis[1313] может назвать Рубинштейна «критиком» Дон Кихота или бетховенской сонаты.
Индивидуальность нового творца устанавливает известное воззрение на художественное произведение; иногда эта точка зрения может быть до некоторой степени выражена в форме прозаического положения. Но кто избегает путаницы в понятиях, не скажет, что здесь есть критика. Г. Мережковский обещал в предисловии к своему «Отверженному» написать роман из жизни Леонардо да Винчи[1314]; но как бы ни был удачен этот будущий роман, автора его едва ли отнесут к критикам Леонардо да Винчи.
Не схоластическое различие слов занимает нас здесь. Субъективная критика может дать не больше художественного произведения, то есть и очень много, и очень мало; между тем претензии ее велики, и форма — форма прозаического исследования — вводит иногда в заблуждение доверчивого читателя: он склонен приписать ей объективный характер, которого она не имеет. По теории г. Мережковского, его «Пушкин» по методу создания ничем не отличается от его «Юлиана Отступника»: оба сотворены по образу и подобию автора. Но в критическом этюде о Пушкине должны быть и есть доказательства, а в романе об Отверженном их нет и не должно быть. Если бы г. Мережковский был верен своей теории, он мог бы считаться критиком Пушкина лишь в том же смысле, в каком были его критиками Репин, Чайковский, Опекушин. Тогда доказывать ему, что Пушкин не такой, — все равно что спорить с Rimbaud (автором знаменитого сонета «А noir, Е bleu, I rouge») о том, что А не черно, а бело[1315].
К счастью, это не так. Будут меняться взгляды на Пушкина, но некоторые черты, отмеченные в нем г. Мережковским, претворенные и усложненные новым пониманием, войдут, вероятно, в ту будущую широкую и всестороннюю характеристику поэта, которой мы, вероятно, еще не скоро дождемся. Одно можно предвидеть в этой книге: исторический и психологический смысл творчества великого поэта будет в ней постигнут не дилетантским наитием, не «сочувственным волнением» и переживанием его предполагаемых творческих настроений; результаты субъективных толкований войдут в нее лишь постольку, поскольку окажутся способными перейти в форму объективных положений.
IV
Ошибочные взгляды автора «Вечных спутников» на значение субъективной критики происходят от того, что он совершенно превратно понимает задачи критики объективной. Небольшая параллель, которую он проводит в своем предисловии между двумя видами критики, дает картину такого теоретического сумбура, какого мы — говорим это без малейшей иронии — не ожидали от чуткой мысли г. Мережковского. «Кроме научной критики, — говорит он, — у которой есть пределы, так как всякий предмет исследования может быть исчерпан до конца, — кроме объективной художественной критики, которая также ограничена, ибо раз навсегда может дать писателю верную оценку и более не нуждаться в повторениях, — есть критика субъективная, психологическая, неисчерпаемая, беспредельная» и т. д. Эта тирада — целое ожерелье недоразумений, противоречий, ошибок. Откуда взял автор, что «всякий предмет исследования может быть исчерпан» — да еще «до конца» исчерпан? Пусть он назовет хоть один исчерпанный предмет исследования, или он не знает, что категории, служащие исходной точкой исследования, вечно дробятся, множатся и перетасовываются, что поэтому всякий «предмет исследования» вечно обновляется и изменяется? Исчерпать предмет исследования, все равно что исчерпать океан: если бы это и было возможно, это значило бы только перенести океан на новое место. «Объективная художественная критика ограничена, ибо раз навсегда может дать писателю верную оценку и более не нуждаться в повторениях». Но почему автор думает, что задача объективной художественной критики ограничивается оценкой писателя? Неужто он смешивает объективную критику с догматической, и направление Буало и Дезире Низара[1316] воплощает для него всю объективную критику? Куда денутся Сент–Бёв и Брандес? Были они субъективны или тоже занимались тем, что ставили писателям баллы? Ограничить объективную художественную критику «верной оценкой» писателя не собирался даже такой страж критического доктринерства, как Брюнетьер. Затем, почему субъективная критика характеризуется как психологическая? Разве психологическая критика должна быть субъективна? Куда г. Мережковский поместит Тэна? Считает он его критику субъективной или не психологической? Наконец, о «неисчерпаемости и беспредельности» как о чем‑то составляющем исключительный удел критики субъективной говорить тоже нельзя. «Каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения». Совершенно верно, но что же из этого следует? Каждый век требует объяснения всего мира настоящего и прошлого в своем духе, но удовлетворяет этим запросам не только субъективная критика, но и объективная наука. В сущности г. Мережковский сам это знает; вот почему, заплетаясь по обыкновению в терминах, он говорит: «как бы ни были усовершенствованы способы исследования (произведений искусства) — анализ, критика, вкус (хороши эти три «способа исследования»), — всей глубины звездного неба исчерпать невозможно».
Итак, не осталось ни одной черты, характеризующей в объяснениях г. Мережковского оба вида критики. Субъективную критику он определяет в чертах, принадлежащих не ей одной, не указав никакой diferentia specifica[1317]. Задача объективной художественной критики представляется ему в совершенно ложном виде.
Несмотря на крайности исключительного индивидуального случая, Вера Приимкова может считаться типичным читателем, — одним из тех, кому для знакомства с «великими незнакомцами» нужны посредники. В чем, собственно, коренится ее ошибка и ошибка чудака англичанина?
Разумеется, не в их субъективности. Понимание художественного произведения свободно. Ein jeder sieht was er im Herzen tragt[1318][1319]. Но применение художественного образа не должно противоречить его содержанию, не должно противоречить намерениям творца, поскольку эти намерения выражены в самом произведении.
Нельзя понять «Фауста», не обращая внимания на самого Фауста. Самою сущностью каждого художественного произведения определяется некоторая постоянная точка зрения на него. Когда художник пишет картину, он по временам отходит на несколько шагов от нее и смотрит на нее с того места, на котором будет стоять зритель; и зритель, желающий понять картину, должен найти это место и стать на него. Толкований художника насчет «внутреннего смысла» его картины можно не принять, но его точка зрения обязательна, ибо лишь с этой точки картина имеет настоящий вид.
«Gedichte sind gemalte Fensterscheiben, —
говорит Гёте, —
Sicht man vom Markt in die Kirche hinein,
Da ist alles dunkel und duster;
Und so sieht’s auch der Herr Philister»[1320][1321].
Филистер не может понять храма. Он не знает, что цветные окна в готическом соборе вовсе не для того, чтобы заглядывать в храм с рынка. И, — продолжая сравнение Гёте, — поэтические произведения не для тех, кто их не умеет читать. Объективная критика именно учит читать; она не говорит, что надо видеть в картине; она показывает, откуда и на что именно в ней надо смотреть. Для понимания и применения образа остается еще безграничное поле, и дневник образованного и чуткого читателя, который умеет обогатить поэтическое создание новым и своеобразным пониманием, может быть очень интересен. Но дневник этот в раскрытии «внутреннего смысла» никогда не заменит истинной художественной критики — не той, которая у г. Мережковского занимается ненужным делом расценки писателей. Не в этом дело критика, а в уяснении тех сторон произведения, от которых должно отправляться всякое субъективное его истолкование. Выражаясь словами Потебни, заметившего, что «поэтическое произведение есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим»[1322], мы скажем, что задача критики не в том, чтобы варьировать эти подлежащие — это делает всякий читатель, — но в том, чтобы определить истинное содержание этого неизменного сказуемого. Вопрос о том, какие явления из пережитого критик объединяет в образе, данном нам поэтом, — вопрос второй и по значению, и по возможности дать на него содержательный ответ. Главный вопрос — почему явилось это произведение, для чего оно понадобилось поэту.
Для ответа на этот вопрос надо стараться определить отношения между автором и его произведением: показать, чем была книга для писателя; откуда произошел образ; какие его элементы поэт нашел в традиции — в языке, в готовых сюжетах, в господствующих формах духовной жизни — и что создал сам? Лишь предварительный точный ответ дает нам право объяснять произведение и его автора по–своему. Припомним для примера, что иногда «известный вопрос, тревожащий писателя, уясняется для него самого не одним актом сознания, не одним произведением, а последовательным рядом произведений, рядом, который нередко, как мы знаем относительно Пушкина и других, располагается в прогрессивном порядке, т. е. что ряд ответов на известных х становится все определеннее и яснее по направлению к концу». Только из сопоставления таких произведений, из биографических данных выясняется их действительное содержание. Дело чисто литературной критики — если она не занимается заманчивыми посторонними вопросами — не в том, чтобы показать за книгой писателя, но в том, чтобы книгу объяснить писателем, чтобы пропитать художественное произведение его создателем и тем углубить и усложнить его содержание, усилить его иносказательность. Для лирического стихотворения это безусловно необходимо; его ценность удесятеряется, когда оно рядом сопоставлений сделано моментом в истории души поэта, когда оно поставлено в неразрывную связь с другими его произведениями. Возьмите «Три пальмы» Лермонтова; попробуйте узнать, как разные читатели формулируют их идею. Один скажет: «кто недоволен своим спокойным существованием, тот поплатился за это»; другой прибавит: «да еще потеряет возможность приносить людям пользу» («и ныне все дико и пусто кругом»); третий скажет: «люди не думают о других людях; они уничтожили оазис без особой нужды»; четвертый говорит: «человек не понимает природы — пальмы поняты человеком и изрублены им на костер» (Андреевский)[1323]. И так далее без конца, без доказательств и без ошибок: таковы прерогативы импрессионизма в критике. Но тот, кто припомнит ряд других стихотворений Лермонтова и подметит в них аналогичные мотивы, кто углубится в эту вечно мятежную и полную неутолимых порываний душу, кто наполнит стихотворение личностью поэта, для того «внутренний смысл» стихотворения не исчерпается логическими схемами, а буржуазная мораль «всякий сверчок знай свой шесток» покажется такой неуместной в применении к этому безнадежному исканию полноты жизни.
Вот почему для чисто литературной критики все эти портреты, силуэты и характеристики писателя должны быть не самодовлеющей целью, а средством: средством понять его произведения, определить их значение, их место в истории мысли, — разумеется, не только в момент их создания: художественное произведение создается всегда, пока им пользуются.
Но в том‑то и дело, что критиков новейшего течения интересует не художественное произведение, а личность как таковая. — Gerade das Personliche reizt sie, — говорит Бар, один из немецких застрельщиков импрессионисткой критики, — die besondere Vision der Welt, die einem Kiinstler gehort, seine besondere. Art zu sehen, zu horen, zu fiihlen[1324][1325]. И автор «Вечных спутников» тоже желает показать душу писателя, «своеобразную, единственную, никогда более не повторяющуюся форму бытия».
Самое характерное в этих теориях критики — настойчивое желание муссировать значение индивидуальности писателя и его критика. В то время как историческое исследование все настойчивее выдвигает мысль об участии менее заметных тружеников в работе духа, о бессознательно коллективном характере творчества, в критике эта мысль стушевана. Писатель, вся сила которого в том, что он сумел кристаллизовать бесформенные творческие элементы, неясно бродившие в массе, представляется творцом из ничего. Трудно не согласиться с неизменным борцом против критического импрессионизма, который по этому поводу бросает ядовитый афоризм: «Nous nous croyons trop originaux[1326]». Да, мы слишком высокого мнения о нашей оригинальности; вот почему мы заменяем суждения впечатлениями, «критику» дневником читателя и исследования исторического положения писателя огульными указаниями на то, что он unicum. О перспективе нет и речи; с одной стороны, величаемый герой, точно суздальский генерал, пародируется среди ничтожеств; с другой — ничто не спасает его от ярлычка «великого»: великий Пушкин — и великий Майков, великий Сервантес и великий Плиний… Поэт, конечно, явление незаурядное, но для тех, кто относится к нему со вниманием, важно именно определение его действительной оригинальности, его netto, а не утрированное расписывание тех его, быть может второстепенных, случайных, даже выдуманных, черт, которые почему‑либо понадобилось выдвинуть критику–импрессионисту, чтобы характеризовать этим себя.
V
От критики теории следовало бы перейти к критике ее приложений. На опыте приложения теории импрессионистской критики можно было бы видеть, как неустойчивы ее основы и как неосновательны ее претензии; на образцах ее можно было бы показать, что если в ней есть что‑либо субъективное, то это только — ее теория. Поэтому мы были бы рады встретить в книге г. Мережковского образцы критики в духе тех теоретических положений, которые намечены им в предисловии: мы имели бы случай проверить теорию на ее приложениях, автор имел бы возможность залатать логические нехватки своей теории стройностью и блеском ее фантастических порождений.
Но, увы, обещаний, данных в предисловии, г. Мережковский не сдержал; можно только удивляться, как он писал это предисловие, уже зная содержание своих критических очерков. Статьи как статьи — одни интересны, другие бесцветны; есть удачные, есть неудачные; но субъективного в них столько же, сколько во всякой обыкновенной критике, которая не приходит с новым словом и не делает гордых признаний в своей откровенности.
Наоборот, статьи — точно в виде какой‑то иронии — усеяны доказательствами того, что автор старался быть объективным. Он склонен объяснять писателя его обстановкой. Нравственное содержание драм Кальдерона определяется для него вполне тем, что великий испанский драматург был монахом и воином, а в статье об Ибсене он напоминает, что, «несмотря на нашу любовь или ненависть, Ибсен переживет нас и наш мгновенный суд». Поэтому «будем осторожнее судить о нем». Осторожнее здесь значит объективнее — ни больше, ни меньше. И г. Мережковский осторожен. В его статьях нередки образцы самой неприятной объективности — банальности.
В них много общих мест, рассказанных «своими словами», и банальностей гораздо больше, чем открытий. Субъективный элемент в них, действительно, есть, но не в методе исследования, а в многочисленных мелких утверждениях, которые, выражаясь мягко, можно назвать «по меньшей мере субъективными». Это даже не парадоксы, ложность которых проявлялась бы в искусственной аргументации, это какой‑то вихрь неожиданных и ничем не доказанных афоризмов, догматическая форма которых не может скрыть их легковесности.
Этими мелочами исчерпывается субъективность г. Мережковского; большего в этом направлении он не ищет — и хорошо делает. Не потому, чтобы «субъективная критика» в ее чистом виде была неуместна — мы показали, что не думаем этого, — но потому, что мало хотеть — надо уметь и иметь право быть субъективным; надо чувствовать в себе силу заинтересовать собою.
Субъективное истолкование произведения искусства получает смысл и оправдание лишь в известных свойствах личности. Как романист — по выражению Гёте — получает разрешение обработать мир на свой образец (nach seiner Weise[1327]), так и критик преображает художественное произведение на свой лад. Es fragt sich also nur, eb er eine Weise habe[1328][1329]. Вопрос лишь в том, есть ли у него этот свой лад. Если мы не получаем объективного анализа писателя, то мы хотели бы видеть, как преломляется смысл его произведений в темпераменте индивидуальном и характерном.
Поэтому, повторяем, г. Мережковский, верно не чувствуя в себе этой оригинальности, хорошо поступает, не следуя своей теории. Только этим путем он может победить читателя, потому что критическое дарование его бесспорно. Ему вредит его беспокойная натура, его неустойчивость,
его вечная погоня за чем‑то новым. У него есть «выдумка»; он не открывает, — он угадывает какую‑нибудь значительную черту в творчестве писателя; но прежде всего он не ставит ее достаточно определенно: она не вполне ясна ему самому. Поэтому он не умеет провести ее до конца, развить ее, обосновать свою гипотезу. Тогда как человек по преимуществу книжный, он бросается в формальные различения и бессознательную — потому что он честен — игру словами.
Слово владеет им; форма увлекает его и влияет на его мысль. Выражения его утрированы и он, поклонник Пушкина, не может уберечься от плеоназмов; у него слабо развито чувство меры и нет чутья нюанса. Его сравнение сбивается на антитезу, его эпитет — всегда гипербола.
В творчестве Гончарова он находит, например, элементы спокойствия, трезвости. Черта подмечена умело; но тотчас же начинается wilde Jagd[1330], где автор не охотник, а жертва. Во–первых, трезвость эта сейчас же получает эпитет изумительной; во–вторых, если Гончаров трезв, то, значит, другие пьяны. Да, они пьяны: «Тургенев опьянен красотой, Достоевский страданиями людей, Лев Толстой жаждой истины». Опьяненным во всей этой деланной параллели является только г. Мережковский — он, действительно, опьянен фразой. Это в связи с его коренным недостатком: он не владеет материалом; он почти всегда делает не то, что хочет; его удел — разлад с собой. Теоретик и провозвестник субъективной критики, он дал ряд обыкновенных критических очерков, где субъективный элемент занимает незаметное место. Поклонник простоты, предпочитающий спокойную грацию «легкого, классически прозрачного стиля» Ренана «слишком красочному языку» Тэна, «уснащенному романтическими контрастами и образами», он сам пишет таким красочным языком, пред которым пестрота Тэна не покажется слишком яркой. Ненавистник утилитарной критики, он написал книгу, в каждой строке которой сквозит нравственно–религиозный прозелитизм. Характерно, что даже в этих коренных вопросах, столь владеющих им теперь, г. Мережковский не выказал должной самостоятельности. Противополагая «религию жалости и целомудрия» «вечному стремлению человеческой личности к беспредельному развитию, обожествлению своего я», он часто говорит о слиянии, гармонии этих двух непримиренных начал. Такое гармоническое сочетание он видит, например, в поэзии Пушкина. Но нигде у него нет даже попытки уяснить, что такое это слияние; два противоположных начала так и остаются раздельными. Их параллельное объяснение совершенно не затрагивает сущности нового, грядущего начала. Механическое сопоставление на месте творческого синтеза — явный признак внешнего, эклектического усвоения двух противоположных мировоззрений. И так во всем.
«Как долго и ожесточенно спорили критики о чистом и тенденциозном искусстве, каким ничтожным кажется схоластический спор при первом влиянии живой любви, живой прелести!» (статья о Майкове).
Вот, подумает кто‑нибудь, слова человека, который, действительно, стал выше спорящих сторон. Дело, конечно, не так просто — иначе оно было бы давно решено: ведь среди критиков — ну, хоть стоявших на стороне чистого искусства, — были люди, доступные веянию живой любви и живой прелести; однако они принимали горячее участие в споре. Верно, г. Мережковский нашел примиряющее решение и объединил им спорящие стороны. Ничуть не бывало, еще в прошлом году г. Мережковский сам принимал участие в этом схоластическом споре и горячо и красиво возражал против теории «парнасцев». Вспоминая лермонтовский «Кинжал», он говорил против употребления, которое дали этому кинжалу наши представители искусства для искусства, которые, «не позаботившись наточить его, покрыли хитрыми узорами и надписями, украсили, как ювелиры… и потом, считая задачу оконченной, повесили кинжал опять на прежнее место, чтобы он блистал не игрушкой, а удивительным произведением искусства, безвредный, но не бесславный». Сам же автор «предпочел бы, даже с чисто художественной точки зрения, влажные, разорванные ризы Ариона самым торжественным ризам жрецов чистого искусства. Да наконец, и великие люди древности, на которых любят ссылаться наши парнасцы, разве были они чужды живой современности, народных страданий и „злобы дня”, если только понимать ее более широко. Я уверен, что Эсхил и Софокл, участники великой борьбы Европы с Азией, предпочли бы, не только как воины, но и как истинные поэты, меч, омоченный во вражеской крови, праздному мечу в золотых ножнах с драгоценными каменьями».
Это было напечатано весной прошлого года в том же этюде о Майкове в «Философских течениях русской поэзии». В «Вечных спутниках» — через полгода — эта удачная и умеренная защита идейного искусства вытравлена самоубийственной рукой уже переменившегося автора; остались без противовеса одни горячие тирады против художника, который «во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству — философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания» и там «творит мерзость на святом месте».
Удивительной насмешкой над собой звучат эти слова в устах г. Мережковского. Неужто автору «Отверженного» может казаться, что его Юлиан создан «свободным созерцанием», а не под сильнейшим влиянием некоторого нравственного, философского и религиозного идеала?
Нам пришлось спорить с г. Мережковским и настаивать на слабых сторонах его книги; это может произвести неверное впечатление, будто этими указаниями исчерпывается наш взгляд на «Вечных спутников». Это не так. Обширная литературная начитанность автора дала ему возможность набросать в его книге несколько портретов выдающихся писателей, действительно очень мало знакомых нашей читающей публике, а его неподдельная любовь к ним производит приятное, подкупающее впечатление. Он сумел удачно осветить и поставить эти портреты, заинтересовать теми, кто на них изображен, и вызвать желание познакомиться с ними. В этом отношении могут быть полезны даже его яркие преувеличения. Он более популяризатор, чем исследователь, но он умеет говорить известные вещи, хотя недостаточно просто, но зато красиво и потому интересно; к тому же его увлечение оживляет читателя.
Значительно выше всех остальных очерков в «Вечных спутниках» — это этюд о Пушкине. Здесь г. Мережковский поднялся над средним уровнем своих прежних критических произведений, открыв читателям неожиданные стороны своего дарования, как когда‑то в «Вере»[1331] и потом в «Отверженном». Этот этюд о Пушкине не обнимает, конечно, всего мировоззрения и всей натуры Пушкина, которого нельзя исчерпать в одной идее; но эта идея намечена и проведена если не всегда доказательно, то убедительно, сосредоточенно и блестяще. Этюд написан очень умело и в противоположность другим очеркам г. Мережковского не рассыпается в мелочах; он строен, как априорное построение, смел и увлекателен. Читатель чувствует себя точно над бездной, через которую с самонадеянной твердостью лунатика ведет его автор по хрупким мосткам, переброшенным с одного камня на другой. Иногда их даже совсем нет, этих мостков; это автор «внушил» вам их призрачное существование. Надо отложить его книгу в сторону, забыть ее, одуматься и, удивившись своей покорности, сказать себе: нет, это не так, не совсем так…
Лишь в одном отношении г. Мережковский, — как мы уже указывали, — имеет право быть недовольным своим этюдом о Пушкине: его теорию субъективной критики он не поддерживает, а разрушает.
VI
Книга г. Овсянико–Куликовского не представляется нам совершенным образцом литературной критики. Она, например, чтобы назвать одну из ее слабых сторон, написана не то что тяжело, а как‑то тускло, без внешнего интереса, и средний читатель, которому она могла бы служить отличным объяснением некоторых образов Тургенева, едва ли осилит ее. Но основные достоинства ее так значительны, что говорить о слабых сторонах ее выполнения нет цели; как не было цели настаивать на достоинствах «Вечных спутников». И в той, и в другой книге нас занимает не материал для чтения, а метод и приемы критического изучения. С этой точки зрения там характерны и важны для исследования были именно недостатки, здесь — достоинства. Да и не только с этой точки зрения. Метод — первый критерий в оценке работы; сознательное отношение исследователя к своей задаче удваивает цену положительных сторон его труда и доказывает случайность и устранимость недостатков. Наоборот, разве лишь с точки зрения курьеза может быть интересно указание на положительные результаты, добытые лишь потому, что исследователь и не думал придерживаться тех бесплодных методологических приемов, которые рекомендует и считает своими.
Уже с предисловия к книге г. Куликовского виден человек, воспитанный в известной умственной дисциплине. Он не мечется, и из‑под его скромности не сквозит гордость — как из лохмотьев Диогена. Он не думает, что после его книги великий любимый писатель перестанет быть «великим незнакомцем»; он не собирается говорить о себе и намечает свою задачу в следующих чертах: «оттенить те стороны творческого дарования Тургенева, которые он считает основными, и разобрать те образы, им созданные, в которых его творческий гений выразился с наибольшей силой и яркостью». Г. Куликовский рассчитывает сделать лишь посильный вклад в литературу, посвященную критике, изучению и истолкованию произведений Тургенева.
Мы отметим в книге г. Овсянико–Куликовского некоторые стороны, которые кажутся любопытными с точки зрения требований, предъявляемых нами к литературной критике; мы остановимся на положении исторических и психологических элементов в его критическом исследовании и укажем некоторые его приемы.
Занимая среднее положение между искусством и наукой, критика, последней своей стороной, не входя в область наук исторических, примыкает к ним. Это естественный результат современного научного движения. Те неподвижные метафизические величины, с точки зрения которых обсуждалось и оценивалось когда‑то художественное произведение, сведены к психологическим — индивидуальным и групповым — процессам. Историко–сравнительные определения становятся на место априорных понятий, наполняя старые эстетические формулы новым жизнеспособным содержанием. «Красота» не находит себе исчерпывающего определения ни в «гармонии между идеей и формой», ни «вступлением явления в закон», ни «единством в разнообразии», ни «целесообразностью без цели»; изучение художественного произведения стало изучением процесса творчества и из формальной эстетики перешло в психологию; идея историчности душевной жизни выместила мысль о неподвижных, извне данных категориях. В связи с этим литературная критика должна была стать исторической и не перестает быть таковою. Узкая формула, выставленная Тэном, расширяется до неузнаваемости; элементы наследственности, среды, эпохи, как оказывается, не определяют всего богатства духовного творчества; но дух исторического — в самом широком смысле этого слова — понимания проникает в критику, статическая точка зрения сменяется в ней динамической. Понять писателя в его развитии, произведение — в процессе его создания, литературу — в последовательной смене ее форм: такова грядущая форма критического анализа.
Мало сказать, что книга г. Куликовского проникнута этой идеей развития; те несколько страниц, которые она посвящает характеристике ее роли в современном мышлении, показывают, как широко и сознательно он к ней относится; искреннее увлечение охватывает его, когда он живыми красками рисует благотворное ее значение. «Мыслитель, ум которого внутренне предрасположен к эволюционизму и трансформизму, который глубоко чувствует величие и плодотворность этой идеи, провидит ее великое будущее, никогда не скажет, что ничто не ново под луною. Напротив, для него — все ново, ничто не повторяется». Вместе с Потебнею он не только скажет, но всеми фибрами своего ума будет чувствовать, что «интерес истории именно в том, что она не есть лишь бесконечная тавтология» (Этюд о твор.(честве) Тургенева, стр. 31). «Живой дух» современной науки г. Куликовский приводит в связь с ее эволюционной точкой зрения. Мысль, усматривающая субстанции в явлениях, сущность которых образуют процессы, представляется ему моментом отжившим. Мыслить явления в их вечно переходном состоянии и всякое исследование начинать с вопроса о происхождении — таковы требования того склада ума, который, кажется, можно назвать умом будущего.
Какую форму принесут для такого ума вопросы художественной критики, легко сказать заранее. На первом плане станет для него вопрос о происхождении образа. Индивидуальность писателя будет для него не самодовлеющим «profil litteraire»[1332], но средством найти правильную точку зрения на его произведения.
Мы указывали уже, что в наше время писателем занимаются больше, чем его произведениями; обособленные esseys[1333], портреты и характеристики, не имеющие никакой иной цели, кроме художественного воссоздания отдельной — выдающейся или раздутой — личности, занимают законное место эмбриологии образов, изучают людей, но забывают творцов, и любовными похождениями Жорж Занд интересуются an und fur sich[1334] и гораздо больше, чем психологией ее творчества.
В лучшем случае обращаются к характеристике миросозерцания поэта, к его «религии», его воззрениям на вечные вопросы бытия, как к «определяющему моменту индивидуальности». Забывают, что в этом смысле поэт может быть и интереснее всякого другого крупного человека, и, под видом глубокого интереса к литературе, оставляют в стороне вопросы чисто литературные. «Jeder Mensch ist einmaliges Wunder»[1335][1336], и если мы в поэте станем искать только этой «неповторяющейся формы бытия», то наши изыскания могут отклониться довольно далеко от настоящей литературной критики. Вот почему глубоко прав г. Куликовский, указывая на то, что «обыкновенно при анализе и оценке произведений художественного творчества слишком мало уделяют места изучению самого ума, создавшего данное произведение, определению его свойств, его характерных черт», тогда как здесь «на первом плане должен быть поставлен вопрос о том, как апперцепирует данный ум, к какому типу или укладу мысли относятся его умственные операции».
Сообразно с этим требованием автор кладет в основание своих очерков психологическое определение творческой личности Тургенева. В противоположность Толстому это был художник объективный. Самонаблюдение в исходных пунктах и во всем направлении его творческой деятельности имело второстепенное значение. Субъективных, списанных с себя фигур он почти не дал. Эта объективность в творческом методе находится в теснейшей связи с «внутренней свободой» в Тургеневе. «Человек, находящийся под властью какой‑нибудь idee fixe[1337], фанатик, доктринер, сектант, утопист — все они слишком заняты своими мыслями, чувствами, стремлениями, слишком переполнены собою, чтобы интересоваться „живою правдою человеческой физиономии”, и общение с людьми иных мыслей, чувств, стремлений производит в их душе эффект не гармонии, а диссонанса. Наоборот, люди внутренне свободные, не порабощенные излюбленной идеей или мечтою, ищут дополнения, рады встретить контрасты, — их душа открыта для объективного отношения к вещам или людям. Таким именно и был Тургенев, как в жизни, так и в творчестве».
Ниже мы увидим, как мало склонен автор выводить из этого стремления мыслителя к внутренней свободе какое‑либо одобрение общественного безразличия. Здесь он выделяет значение этой черты в духовной жизни Тургенева лишь для уяснения того процесса, которым был создан один из наиболее спорных образов Тургенева — Базаров.
Вопросы происхождения тургеневских типов чрезвычайно трудны и сложны. Его «признания» немногочисленны и неопределенны. Его крупная фигура еще слишком близка к нам и слишком мало уяснена существующими о нем работами; поэтому выделить субъективные элементы в его образах можно лишь с большим трудом и осторожностью. Наконец, он не повторялся; его образы могут быть разделены анализирующей мыслью в категории, но в них нельзя найти таких упорных ударов в одну точку, как у Достоевского, таких «удвоенных» созданий, как Неточка или Нелли, Митя Карамазов и Рогожин, Настасья Филипповна и Грушенька, Видоплясов и Смердяков. Поэтому так недоступны тайны тургеневского творчества, в которые пытается проникнуть его новый критик.
VII
Два основных вопроса открывают изучение образа Базарова: во–первых, почему, и во–вторых, как он был создан.
Вот настоящее понимание задачи критики: для нас Базаров может быть чем угодно; очень интересно знать, чем из такого сложного образа воспользуется для себя критик и, как мы увидим ниже, г. Куликовский не отказывается иногда поделиться таким субъективным применением образа. Но исследование должно прежде всего раскрыть, почему Тургенев создал Базарова и чем последний был для своего творца. Для ответа на этот вопрос привлекаются биографические элементы. Кто был Тургенев и чем себе он представлял самого себя, когда ему для апперцепции, для объяснения тех или иных сторон исторической жизни понадобился Базаров. Ответ на это мы имеем в самом романе, где есть такой цикл образов с субъективной окраскою, как все три Кирсанова. Ясно, что, создавая Базарова, Тургенев «чувствовал в себе русского дворянина доброго старого времени, сознавал свою, дворянскую, общественную и политическую несостоятельность», сознавал и свою, личную, слабость. «Он как бы собрал в себе в эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекраснодушия, оторванности от почвы и т. д. и ощущал душевную потребность — увидеть и полюбить воплощение противоположных черт». «Он жаждал образа, в котором даны были бы задатки иного призвания, он лелеял и облюбовывал черты силы, практического, делового ума, черты натуры мощной, „наполовину выросшей из почвы”, „может быть — недоброй”». (Определения из писем Тургенева)[1338]. Художник субъективный, чтобы «отделаться» от такого тревожного искания, изобразил бы себя, и этот период его духовной жизни стал бы пережитым для него самого; художник объективного склада создает в таком случае образ противоположный себе, образ дополнительный. Такой антитезой и был Базаров для Тургенева. В силу такого же «стремления создать дополнительную для себя личность и вместе с тем найти в ней „настоящего”, — нужного для России человека» явился и Соломин.
Таков импульс к созданию Базарова — вернее один из импульсов. Можно с уверенностью сказать, что дело в действительности было много сложнее. Уже одно то, что одновременно с Базаровым Тургенев создал целый строй «отцов и детей» в картине широкого размаха, указывает, какой сложный мир мыслей бродил в нем в этот период, и наводит на предположение, что одной «жаждой контраста» не ограничивалась исходная точка в создании Базарова. Дальнейшие исследования выяснят эти запутанные вопросы, но путь их намечен этюдами г. Куликовского — ив этом их важное значение.
Толчок дан; поэту нужен Базаров; как вылепит он его? из чего? В творце готовы лишь априорные элементы: ему нужен другой человек, не такой, как он. Но из головы писать он органически не может, и первоначальной формой, в которую отливается эта неясная жажда образа с неизвестными свойствами, является готовая историческая фигура: «мне мечтался какой‑то странный pendant с Пугачевым»[1339]. Так «мечтался», как известно, Достоевскому Тихон Задонский при создании Зосимы, Чаадаев при создании Миусова и т. д. Наблюдения текущей жизни и новые замыслы, конечно, стирают впоследствии определенность исторической личности до неузнаваемости. В основание фигуры Базарова ложится замечательная личность молодого провинциального врача, произведшая на автора очень сильное и неясное впечатление, «поразившая» его. Это словечко Тургенева о неясности впечатления очень ценно: очевидно, Базаров служил ему не только для дополнения себе, но и для других целей, для объяснения и обобщения других впечатлений, очень сильных, но сразу не нашедших в нем готовых клеточек для объяснения. Некоторые черты этой фигуры получают воплощение в изображении натуры «сильной, властной, покоряющей, холодной, умной и недоброй». Это — отец рассказчика в «Первой любви», написанной перед «Отцами и детьми» и после знакомства Тургенева с «молодым провинциальным врачом». Это — «как бы этюд, набросанный в виду замысла большой картины». Г. Куликовский делает предположение, что Тургеневу могла напрашиваться мысль создать образ «русского Инсарова».
Таковы некоторые из сознательных элементов мысли в создании Базарова. Кроме них должны были иметь место элементы бессознательные, которые играли уже такую важную роль в первом движении мысли по направлению к «Базарову».
Определить подробности эмбриологии Соломина гораздо труднее. Остается, например, невыясненным, «имел ли Тургенев для изображения Соломина в своем распоряжении „натуру” (как для Базарова), встречал ли он людей соломинского типа». Но интересны другие указания: отражение в Соломине народных великорусских черт — сочетание сметки и практического смысла с своеобразным деловым идеализмом; интересно и может послужить материалом для особого изучения — предположение, что «первые впечатления и наблюдения, которые впоследствии должны были дать материал или отправные точки для создания Соломина, были собраны Тургеневым еще в раннюю пору его творчества, когда он присматривался к народным типам и старался уловить характерную складку великорусского народного ума». Автор склонен думать, что между «Записками охотника» и созданием фигуры Соломина есть некоторая связь, хотя, быть может, сам художник и не сознавал ее.
Мы указали на эти замечания г. Куликовского только с точки зрения их методологической ценности. Читатели его книги легко убедятся в значительности результатов, условленных этой правильной постановкой вопроса. Отметим мимоходом превосходный анализ смерти Базарова.
Г. Мережковский, «Пушкин» которого появился после этюдов г. Куликовского, верно, не был знаком тогда с этими этюдами. Иначе он не говорил бы так легко об «укрощении демонической гордыни нигилиста Базарова ужасом смерти».
Даже не останавливаясь на ходячем трюизме о «ничтожестве Базарова пред величием смерти», г. Куликовский рядом весьма любопытных соображений показывает, что в момент смерти Базарова «грозовой фантом смерти, связанный с известной формой мысли (формулой «смерть пришла», «она меня отрицает — и баста»), на миг мелькнул в сознании и исчез, и вместе с ним исчезли и его страхи… На его место стал другой фантом, другая субстанция — „личность”, „я”, и предсмертное движение мысли направилось по формуле „я умираю”». В изображении процесса «умирания» Базарова предметом художественной апперцепции была вовсе не смерть, не ужас смерти и не торжество ее, а сам Базаров, его натура, его ум, его «я», его торжество над смертью и всеми страхами ее.
Основывая характеристику Базарова на твердом базисе изучения личности его создателя, критик привлекает к исследованию произведения, по своему лиризму характерные для миросозерцания поэта. Обобщенные им в «одно поэтическое целое» «Отцы и дети», «Призраки» и «Довольно» получают новое истолкование. Ему кажется, что произведения эти «для грядущих веков, когда личность в ее отношении к обществу будет поставлена иначе и сама возвысится до иного самоопределения», останутся важным документом, великим памятником эпохи, характерными чертами которой были крайнее развитие личности в направлении эгоистическом, отсутствие гармонии между личностью и обществом, борьба противоположных интересов, — эпохи, когда на почве одностороннего индивидуализма, возвеличение личности, ее апофеоз шли рядом и чередовались с ее крушением, ее «ничтожеством».
Вот, что «подсказывают» эти три произведения критику.
Очевидно, это не насильственно вложенная в них идея, а одно из многих возможных их объяснений. Это субъективное «применение» — в его настоящем виде: оно не заменяет собою объективного исследования, а заканчивает его; оно не выдается за исчерпывающий внутренний смысл произведений; оно имеет определенный исторический отпечаток.
Еще яснее удачная постановка субъективных элементов в анализе фигуры героини «Первой любви». Свобода толкования произведения искусства, на которой настаивал автор «Вечных спутников», не возбуждает сомнений и в г. Куликовском. Разница только в том, что последний знает смысл и цену этой свободы, знает, как это явствует из его терминологии, и положение ее в науке. Г. Мережковский думает, что «каждому новому критику великих писателей прошлых веков может быть сделано одно возражение по существу: доступен ли был тот порядок философских идей и нравственных понятий, на основании которого судит современный критик, миросозерцанию поэтов более или менее отдаленных исторических эпох». Такого возражения никто, знакомый с современной поэтикой, сделать, конечно, не может. Но г. Мережковский в борьбе с выдуманным возражением смело вышибает давно открытые двери. «Бессмертные образы мировой поэзии, — вдохновенно провозглашает он, — служат для человечества как бы просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое поколение подходит к ним и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает новые миры, новые отдаленнейшие созвездия, незамеченные прежде, — зародыши неиспытанных ощущений, неосознанных идей; эти звезды и раньше таились в глубине произведения, но только теперь они сделались доступными глазам людей и засияли вечным светом».
Каким наивным и ненужным кажется это поэтическое объяснение тому, кто вместе с автором «Этюдов о Тургеневе» знает, что «художественные образы, как известно, не суть неподвижные формы: их обобщающая сила, размеры их применяемости, их способность возбуждать известный порядок идей изменяются от человека к человеку и во времени».
Но подвижность применяемости художественных образов не означает для него права видеть в образе все, что вздумалось видеть. Объективный анализ служит у него именно для определения содержания образа, для определения тех границ, в которых свободно понимание образа. На вопрос, что, собственно, апперцепировано художественным типом Зинаиды, он после исследования, где многообразие идей соперничает с тонкостью психологических определений, отвечает так: 1) психология богато и разнообразно одаренной души, подчинение ума власти женственности и вытекающая отсюда общая иррациональность натуры; 2) порядок мыслей, основанных на анализе этих психологических явлений и 3) известное отношение к женщине, к вопросу о ее призвании, положении, уме и т. д.
И, точно желая сказать, что здесь только вступает в свои права субъективное объяснение, автор прибавляет: «второе и третье могут быть весьма различны — смотря по человеку». Он даже рисует себе одного из таких субъективных критиков, стоящего на точке зрения обожателей Зинаиды; такому читателю образ Зинаиды послужит «преимущественно воплощением чар женственности». Но затем, — ни на минуту не выдавая своего воззрения на «объективное решение загадки», — он сообщает читателю, что говорит ему самому образ Зинаиды.
«Для пишущего эти строки он (этот образ) является стимулом, побуждающим мыслить в направлении необходимости освобождения ума женщины из‑под власти женственности. Пусть эта власть пока есть правило. Но мы не имеем никаких оснований, мы не имеем ни логического, ни нравственного права возводить это правило в закон. Из изучения психологической природы женщины подобного закона вывести нельзя. Такое изучение приводит к выводу, что слабые стороны женского ума коренятся не в нем самом, а зависят от его подчинения гнету женственности, и что он может быть освобожден систематической (из поколения в поколение)
культурою мысли, при помощи широкой постановки высшего женского образования… Мысль есть высшее, совершеннейшее начало духа. „Женственность”, как и „мужественность”, — одно из низших, биопсихических его укладов. Гнет этого низшего, коренящегося в порядке явлений физиологических над высшим психическим по преимуществу есть явление уродливое, внутренне противоречивое: в себе самом оно носит свое осуждение».
Эти строки — они не представляют собою исключения в книге г. Куликовского — характеризуют также отношение автора к публицистическому элементу в критике. Очевидно, никакая человеческая злоба дня ему не чужда. Если художественное произведение наводит его на соображения о том, как надо строить жизнь, в каком направлении должно двигаться, что, как явление общественное, заслуживает осуждения, — он не задумывается давать соответственные советы и не боится die Fabre bekennen[1340]. Глубоко понимая значение внутренней свободы, он не отождествляет ее с безразличием и знает цену определенности общественных воззрений. Идейность искусства не пугает его жупелом гражданской скорби. Наоборот, характеризуя Тургенева как художника объективного и приводя эту объективность автора «Отцов и детей» в связь с его внутренней свободой, он оговаривается, что к типу объективных художников он относится «вовсе не с той точки зрения, будто они воздерживаются от выражения (или «проведения») своих личных взглядов, симпатий или антипатий (нередко они их высказывают прямо или косвенно, и это ничуть делу не мешает), а исключительно с точки зрения сравнительно незначительного участия данных самонаблюдения в исходных пунктах и во всем направлении их творческой деятельности».
Мы не остановимся на характеристике или обсуждении общественных взглядов, выраженных в этой части критического исследования г. Куликовского. Для нашей цели достаточно отметить их присутствие.
VIII
Автор «Вечных спутников» называет субъективную критику психологической. На книге г. Овсянико–Куликовского он мог бы видеть, что эпитет этот гораздо законнее, определеннее и, главное, содержательнее в применении к критике объективной. Критика субъективная может жить впечатлениями, навеянными какой угодно стороной художественного произведения — эстетической, философской, общественной. Критика объективная должна опираться на ряд научных данных, которые в конце концов сводятся к психологии; ее эстетический догматизм будет черпать принципы из психологической эстетики, ее исторические объяснения будут корениться в истории мысли, ее характеристики будут заключаться в определении психических типов. И насколько неожиданны могут быть результаты такого научно–психологического исследования, показывает книга г. Куликовского.
Г. Куликовский, можно сказать, открыл в Тургеневе великого психолога. О психологическом значении образов, созданных Тургеневым, принято умалчивать. Слава «ловца момента», который, по собственному признанию, стремился преимущественно к изображению «образа и давления времени», скрывает его прозорливость в познании души человеческой. Он, художник по преимуществу объективный, считается лириком, сумевшим лишь мимоходом затронуть сочувственные струны в сердце читателя элементарными и однообразными изображениями женской любви; его манили другие задачи; его «новые люди» очень интересны как представители общественных движений, но психологических проблем поэт в них не ставит и не решает. Нам случалось даже слышать такое определение значения Тургенева в духе диалектической триады: Тургенев — социолог, Достоевский — психолог, Толстой — синтез того и другого. Даже г. Мережковский — и тот твердит, что Тургенев «меньше психолог, чем Лев Толстой и Достоевский». Он, впрочем, видит перевес творческих интересов Тургенева не на стороне бытовой истории, а в красотах природы: «Тургенев заглядывал в душу природы более глубоким и проницательным взором, чем в душу людей». Было бы очень интересно, если бы кто‑либо, хоть г. Мережковский, взял на себя труд проверить, доказать и развить это легкое и — пока не сделан этот опыт — лишенное содержания замечание. Пока же нам приходится считаться лишь с таким глубоким психологическим содержанием произведений Тургенева, которое раскрыто этюдами г. Куликовского. Суждения, будто Тургенев сравнительно с Толстым художник «поверхностный», «не идущий в глубь вещей, создающий образы», совершенно опровергаются анализом его объективных, — особенно женских, — образов со стороны их содержания. В чем заключается этот «анализ образа со стороны содержания»? Каковы средства при его выполнении и его результаты?
Ходячее мнение, как мы видели, отрицает значительность психологического содержания произведений Тургенева; «образы прелестные, но не основанные на глубоком изучении людей», очевидно, не дают ничего нового, не делают в душе человеческой никаких открытий и интересуют читателя по другим причинам: потому, что «прелестны» или потому, что воплощают известный исторический момент.
О том, что тургеневская Лиза «глубока» как натура, можно слышать часто, но о том, как глубоко ее изображение, как ясны неизведанные глубины ее души для самого поэта, не говорил никто до г. Куликовского. Психологический смысл фигур Тургенева менее доступен. Его герои здоровее и их душевная жизнь не бросается в глаза своими ненормальностями; их сложность не отождествлена с неразрешимыми противоречиями; их кризисы — не безысходные «надрывы»; их глубина и тонкость не граничит с болезненностью. К тому же в творчестве Тургенева, как удачно выясняет г. К. (уликовский), почти нет или очень мало так называемого психологического анализа. «Художник рисует, а анализировать предоставляет читателю, — но рисует так, что анализ, частью сознательно производимый читателем, частью же сам собою возникающий в его голове, оказывается именно таким, какого хотел автор». Художник мог бы, конечно, копаться в душе своих героев, вывернуть наружу их глубоко скрытые сердечные драмы и тем облегчить читателю его задачу. Он этого не сделал. «Облегчив труд читателя, художник в то же время отнял бы у него значительную часть самостоятельного творчества и его награды — художественного наслаждения». Но читатели Тургенева не оказались на высоте своего читательского призвания, и решив, что это все образы «прелестные» и «очень типичные», о психологии у Тургенева забыли. Об этом вспомнил г. Куликовский. Он первый увидел в них не только исторические фигуры, не только нивелированную массу «прелестных» девушек, но и сложные психологические индивидуальности, в которых поставлены и решены трудные проблемы; но приступил к изучению их с тех точек зрения, для которых можно найти опору не в бытовой истории и не в рассуждениях «от разума», но в научных данных; он стал определять их индивидуальность, классифицируя их и относя к различным психическим типам.
Говорят, что в вопросах психологии искусство идет впереди науки. Это верно лишь в известном смысле. Изображая сложные душевные процессы в обобщенном виде, искусство делает первый шаг в изучении психических явлений; но научного объяснения он не заменяет; самые результаты художественного обобщения суть лишь подготовка сырого материала для исследования и нуждаются в дальнейшей разработке.
В этой разработке первая ступень есть классификация, и образец такой классификации женских образов Тургенева мы имеем в книге г. Куликовского. Чтобы понять тот творческий процесс, результатом которого явился образ Лизы Калитиной, надо разобраться в сложных течениях этой глубокой души, надо выделить ее из массы и назвать известную совокупность признаков ее именем. Для этого надо уяснить себе, к каким психологическим группам, типам относится этот образ.
Первым принципом деления, разносящим женские фигуры Тургенева на две большие группы, является их психологическая последовательность, их внутренняя логичность. Это начало делит их на два типа: рациональный, ясный, и иррациональный, загадочный. Это деление основано целиком на научных психологических данных, и надо сказать, что трудно было найти более подходящий принцип изучения. Даже обыденная мысль подметила в «женской логике» преобладание элементов бессознательности в женском мышлении, и Тургенев, дав замечательное изображение всевозможных степеней и оттенков этой женской «загадочности», показал себя удивительным психологом.
Дав краткие характеристики образов относительно рациональных, проследив в них грацию пошлости и разделив на несколько новых категорий, где основанием служат неизменно элементы психические, г. Овсянико–Куликовский останавливается на трех фигурах, которые представляются ему «наиболее типичными для известных видов иррациональности женской природы». Это Зинаида (в «Первой любви»), Вера (в «Фаусте») и Лиза. Анализ образа Лизы основан на психологическом исследовании ее индивидуальной религии и ее этики. В этом анализе главные черты ее многосложного образа не представляются чем‑либо ненормальным; наоборот, они сведены к процессам, типичным для известного уровня и склада психики. Но, несмотря на то или именно поэтому, образ Лизы остается не только в высокой степени своеобразным; он становится чуть не ирреальным в своей исключительной душевной красоте.
«А mesure qu’on a plus cTesprit, on trouve, qu’il у a plus cThommes originaux. Les gens du commun ne trouvent pas de differance»[1341], — заметил Паскаль[1342]. Вольтер не соглашался с этим замечанием. «Оригинальных людей вообще очень мало», — возражал он, явно не понимая глубокой мысли Паскаля. Не об оригиналах говорил Паскаль, а о том возвышенном складе ума, который умеет во всяком незаметном человеке открыть индивидуальность. К этому сводится всякое психологическое исследование личности. Что же для этого нужно? Нужно уметь разнести индивидуальность по тем психическим категориям, к которым она принадлежит.
«Заурядные люди» Паскаля не «усматривают разницы между людьми» именно потому, что не имеют для этого достаточно богатого выбора
категорий. И наоборот: кто делит людей на типы, кто видит во всяком человеке отличительные признаки разнообразных групп, к которым этот человек может принадлежать, перед тем всякое конкретное явление стоит во всей полноте индивидуальных особенностей, тот «видит вокруг себя много оригиналов».
На место «esprit»[1343] Паскаля наша терминология поставит в этом случае именно ту «умственную свободу», которую отмечает в Тургеневе его критик. Широта воззрений, богатство категорий, стремление видеть истину в оттенках индивидуального случая — в теснейшей связи с этой свободой. Сюда же относится известная степень познаний: та степень, на которой знания складываются в особый тип.
Автора «Вечных спутников» часто «упрекают» в начитанности. Едва ли г. Куликовский читал меньше; но такой упрек по отношению к нему был бы смешон. Книжные впечатления не угнетают его; духовные влияния, отразившиеся на нем, стали органической частью его склада. Особенно глубоко влияние покойного А. А. Потебни, который гордился бы таким учеником, столь свободно и умело отнесшимся к его гениальным мыслям. Отбросив то, что к ней не подходит, и претворив в свое то, что ей родственно, мысль автора овладевает усвоенным материалом и обрабатывает его вполне оригинально. Начитанности нет следа в книге г. Куликовского, но она написана образованным человеком.
Эстетические принципы доброго старого времени не играют никакой роли в книге г. Куликовского. Красота не представляется ему субстанцией, с точки зрения которой критик судит произведения. Искусство для него есть «известный процесс мышления», красота — «интеллектуальное чувство», т. е. также процесс. «Тлен и прах красоты», «бренность искусства» с его эволюционной точки зрения — слова, а не факты: нет возможности «говорить о „тлене и прахе” тех творческих процессов, которые некогда развертывались в гениальных головах Эсхила, Софокла, Демокрита, Аристотеля, Эпикура и т. д., когда по прошествии длинного ряда веков в наше, столь богатое умственным творчеством время, эти процессы все еще оказываются в том или ином смысле живыми и действующими».
Но известного представления о том, что красиво, представления, зарожденного в нас традицией, чутьем, психологическими соображениями, — эти идеи не отрицают. Поэтому и автор не чужд иногда некоторого, вполне уместного критико–эстетического догматизма. Психологические основы играют здесь, конечно, первенствующую роль, но чувствуется за ними живое художественное чутье, приводящее к тем или иным выводам. Так, например, отступление в «Дворянском гнезде», посвященное прошлому Лаврецкого и истории его рода, он называет слишком большим. Эта оценка архитектуры романа, очевидно, покоится на понятии некоторой внешней симметрии, обязательной для художественного произведения. В нашей литературе, где законченность внешней формы заставляет желать многого даже у первостепенных мастеров, такие указания более чем уместны.
Критика, не заменяющая анализа игрой воображения, но не ограничивающаяся научным, объективным исследованием и открытая настроениям писателя, психологическая, потому что душевные процессы в писателе и в его созданиях исчерпывают содержание произведения; историческая по преимуществу, потому что только im Werden[1344], в процессе создания познается сущность явления; не чуждая элементов эстетического догматизма, потому что мы никогда не откажемся от права иметь художественные идеалы и судить произведение искусства с точки зрения этих идеалов; наконец, — поучающая, руководящая, потому что мы никогда не перестанем видеть в писателе человека и ценить в творце учителя жизни. Таковы элементы, которые до сих пор не соединялись сознательно в критическом произведении, и синтез которых должен составить содержание будущей критики, именно синтез, своеобразный результат гармонического слияния, а не грубая, механическая эклектика, безжизненная и бесплодная. Истина никогда не лежит между крайностей — она в другой плоскости, где‑то над ними.
В области критики еще нет творца, который определил бы, какую форму примет сочетание разнообразных элементов, необходимых — хотя и в различной степени — в критическом изучении. Но попытки такого сочетания показывают, что его время настало, и книги Фагэ у французов[1345], и у г. Куликовского у нас уже намечают эту ближайшую форму критики, достойную грядущего искусства. Это еще слабые и неопределенные опыты, но они показывают, в какую сторону надо идти.
I
Не всегда можно верить заглавиям книг; нельзя также вполне полагаться на предисловия. Книга г. Мережковского озаглавлена: «Вечные спутники — портреты из всемирной литературы», а уже первая статья в книге: Акрополь — недвижимость, предмет архитектурный, не могущий никому сопутствовать, и даже не многими лицами посещаемый. В предисловии сказано, что вечные спутники — это такие «великие писатели, которые всюду нас сопровождают, которые продолжают любить и страдать в наших сердцах, сохраняя кровную связь с человеческим духом; для каждого времени они современники, и даже более — предвестники будущего». Спрашиваем, может ли быть между ними помещен, как литературный портрет, известный только по одному своему имени — Longus, автор идиллии «Дафнис и Хлоя», неизвестно, — в каком веке написанной: не раньше II века (времен Марка Аврелия), а всего вероятнее в VI столетии, в эпоху императора Юлиана Отступника? Автор любуется в этой книге чертами общими и этой повести, и художниками раннего «ренессанса», например особенно модным в настоящее время Сандро Боттичелли, а также сочетаниями в ней детски–наивного с крайне соблазнительным, целомудренного с весьма порнографическим.
Поэма «Дафнис и Хлоя» — одна из милых безделушек времени упадка эллинизма, когда уже все знали, что Великий пан умер. Связь ее с нашим временем только та, что, как уверяет автор (стр. 25), умерший пан должен немедленно воскреснуть. Между писателями, которых г. Мережковский завербовал в свой отряд «вечных спутников», есть несомненно и второстепенные, например Плиний Младший. Но что представляет собой Плиний Младший? Это — типический представитель высшего римского общества времен упадка, бывший адвокат, потом высокий сановник; его художество — риторика; каждый день он возится с вощеными табличками и стилем, придумывает, оттачивает и записывает фразы для своих чтений и писем. Он — добряк и милосерд даже по отношению к рабам, что не помешало ему в Вифинии пытать диаконис или посылать на казни не отрекающихся от своих верований христиан. От него, так сказать, разит литературным тщеславием и самолюбием, а сам он представляет собою образец человека знатного, зажиточного и вполне самодовольного. Его нельзя обойти, когда изучаешь нравы римлян конца I века в их общественном и домашнем быту; но он ли человек, имеющий своеобразную душу? он ли предвестник будущего? Это — средний человек, и во многих отношениях ничтожный, а потому и не годится в «вечные спутники».
Поминается еще Аполлон Майков; его присутствие в этом отряде я объясняю себе тем, что он влюблен в греческую и отчасти в римскую древность; что он обожает этот мир за его неподражаемую пластическую красоту, которая имеет над г. Мережковским безусловную власть; что по той же причине ему дороги и близки к сердцу все жрецы этой античной красоты, в числе которых Майков занимает видное место. Из трех поэтов сороковых годов — поклонников чистого искусства — Фета, Я. П. Полонского и Майкова — первые два все‑таки мистики; для них мир есть признак и символ бесконечного, Майков же наиболее язычник, наиболее пластик. Г. Мережковский предпочитает его даже за то, что он ограничился одним только этим родом красоты, причем автор не спорит, затем что у Майкова совершенство формы переходит в изысканность, и красота формы преобладает над менее значительным содержанием. Выбор спутника, конечно, есть прежде всего дело личного вкуса; мы не стесняем г. Мережковского, но спрашиваем, почему он предлагает Майкова в обязательные компаньоны и другим лицам…
Ап. Майков, конечно, не чета Гончарову, который несравненно крупнее его по таланту; но и относительно выбора Гончарова можно было бы представить некоторые возражения. Гончаров дорог автору главным образом потому, что ему присуща античная любовь к будничной стороне жизни, — иными словами, редкая способность преображать одним своим прикосновением прозу действительности в поэзию и красоту, а эта способность обусловливается, в свою очередь, тем, что Гончаров с головы до ног — цельный и солидный оптимист; что у него в произведениях нет темных углов; что каждая его эпопея озарена светом разумной любви к человеческой жизни; что он человек удивительно трезвый и передает действительность, не стесняя ее красотою, как Тургенев, не проникаясь страданиями людей, как Достоевский, не увлекаясь даже жаждою истины, как Лев Толстой. В его произведениях есть особого рода трагизм, трагизм пошлости будничной, торжествующей над чистотой сердца и идеалами любви. По своему юмору он — прямой продолжатель работы Грибоедова и Гоголя.
Таким образом, из тринадцати статей, образующих книгу г. Мережковского, пять статей не подходят к заглавию книги, одна посвящена не человеку, а предмету архитектуры, одна — неизвестному лицу, три — писателям хотя и даровитым, но не первостепенным. Остается восемь человек бесспорно либо весьма талантливых, либо даже гениальных, которых автор берется измерять, так сказать, своим аршином, по–новому, им открытому методу, по способу особенной критики, которую он называет субъективною. Он противопоставляет эту критику двум другим общественным объективным критикам: научной и художественной. По мнению г. Мережковского, у каждой из этих последних критик есть свои пределы, потому что всякий предмет может быть исчерпан наукою до конца, а когда раз сделана художественная оценка достоинств и недостатков произведения, то повторение такой описи уже не потребуется. Нельзя никак согласиться с этим взглядом: великие произведения по содержанию своему, так сказать, бездонны и каждому последующему веку приходится сказать о них свое слово. Субъективная критика предлагается г. Мережковским, по–видимому, как новость. Он советует делать следующее: брать живую душу писателя, своеобразную, никогда не повторяющуюся форму ее бытия, изобразить потом действие этой души на ум, сердце и волю, на всю внутреннюю жизнь критика как представителя известного поколения и вникнуть в то, как понимает критик личность писателя.
Всякая достойная своего названия критика передает читателю произведение обдуманное и прочувствованное критиком, значит, — передает читателю эмоцию самого критика и, таким образом, она не может не быть субъективною. В наш век критика, притом постепенно совершенствуясь, сделалась в высокой степени психологическою, то есть она пытается разгадать живую душу писателя (sa faculte maitresse[1346], как выразился Тэн), и пользуется ее созерцанием, как ключом для уразумения его созданий; при этом одним из существеннейших элементов такого критицизма являются натура, темперамент и образование критикующего. Критика есть функция научная, а наука обязательно служит одной только истине. Она должна воспроизводить исследуемого писателя только таким, каким он известен в действительности, не прибавляя ничего от себя, но и не изъемля, и не откидывая в сторону ни одной черты, заведомо принадлежавшей писателю и подмеченной предшественниками критикующего. Только этими условиями: строгою заботливостью об исторической истине, отсутствием сочинительства, воздержанием от произвольного фантазирования и намеренного прикрашивания своего сюжета, — отличается критика как научная функция от свободного поэтического творчества. Можно, конечно, заинтересовать и увлечь публику романом или драмою, которых героями были бы Дант и Шекспир, но уже по внешней форме публика будет предупреждена, что она имеет дело с вымыслом, к которому нельзя предъявлять строгих требований. Не то бывает, когда под видом критической научной оценки предмета читателям предлагают нечто, не согласующееся с достоверно имеющимися об известном предмете данными. Такое произведение в его распространении похоже на выпуск в обращение поддельной монеты. Оно будет содействовать распространению ложных понятий о писателе в среде публики, в которой большинство людей верит напечатанному, не справляясь с источниками.
Приступая к вопросу о том, какого рода субъективизм практикуется г. Мережковским в его критике, мы становимся перед следующею дилеммою: либо г. Мережковский предлагает нам действительных писателей, как он их понял и прочувствовал, и тогда его субъективная критика именно такая, какой образчик мы имеем у величайшего из литературных критиков XIX века — Ипполита Тэна; либо, следуя советам и указаниям Оскара Уайльда, он измышляет писателей и представляет их такими, какими он бы желал их иметь, не стесняясь тем, какими они были в действительности.
Поставив таким образом задачу, постараемся ее разрешить по отношению к тем восьми великим писателям, которые остались в его списке после сделанных мною исключений.
II
Г–н Мережковский резко отличается от своих товарищей по критической профессии тем, что критики обыкновенно стараются быть систематически объективными, что они не ставят себя на показ, прячутся за излагаемый ими предмет, так что лишь по прочтении всего ими написанного можно только догадываться, какое они имели направление и к какой принадлежали партии. Напротив того, г. Мережковский не только не скрывает своих мнений эстетических или этических, религиозных или социальных, но даже открыто исповедует их, негодует или восторгается и волнуется, сильно волнуется, не оставляя ни малейшего сомнения в читателях, что его критика меньше всего художественная, а преимущественно этическая или социальная, и что он сам если не делом, то своими речами принимает живое участие в житейской толчее. Так как он откровенен насчет своих убеждений, то необходимо прежде всего уяснить себе, каковы эти убеждения, есть ли в них цельность и последовательность, и затем уже приступить к разбору того, в какой степени повлияло все это на изображение и характеристику тех лиц, из которых он составил дружину вечных спутников.
Задача эта не особенно легка: г. Мережковский — многосторонний человек, которого стремления не уравновешены, и понятия его никак не приводятся к одному знаменателю. В нем, можно сказать, сидит несколько разных лиц, несколько противоположных и борющихся наклонностей и направлений, которые, неизвестно как, в нем совмещаются и уживаются, хотя по естественному ходу вещей они казались бы совсем несовместимыми.
Прежде всего, и это главное, г. Мережковский есть чистокровный эстет, притом эстет античного эллинского пошиба, язычник и анти–галилеянин, человек, чающий нового возрождения язычества, то есть одинаково настроенный как Ницше, когда этот последний писал свое красивое юношеское произведение «Geburt der Tragodie»[1347]. Г–н Мережковский поклоняется Гёте, как язычнику, действующему по правилам олимпийской гигиены, способному принимать в себя из жизни одно только свежее, светлое, здоровое и красивое. Он и Пушкина любит за его непрерывную заздравную песнь Вакху во славу жизни. Умер Великий Пан, но мы, люди XIX в., знаем, что он должен скоро воскреснуть: «Если предвозвестники будущего возрождения не обманывают нас, человеческий дух от старой плачущей мудрости перейдет к новой мудрости, к ясности и простоте, завещанным нам Гёте и Пушкиным». Г–н Мережковский верит почему‑то, что задатки будущего языческого возрождения кроются в русском миросозерцании, то есть, точнее сказать, у Пушкина. Г–н Мережковский передает нам, как он обезумел от восторга, когда очутился в Акрополисе пред Парфеноном. Он весь проникся радостью, сопровождающею то освобождение от жизни, которое дает красота. Он и сказать бы не мог, что такое красота живая, вечная, — само собою разумеется, эллинская, когда душа и тело, идея и форма были нераздельное одно, когда художник был герой и, наоборот, герой был художник, когда оба творили, созидали красоту, когда они были два откровения одного и того же начала. Но то было и прошло; золотой век никогда не вернется, новый Парфенон никогда не будет создан каким‑нибудь новым эллином, богоподобным человеком на земле; если же современные люди мечтают о возрождении, то не в надежде сделаться такими юношами, какими были древние греки, а только в надежде, что они немного освежатся и несколько помолодеют, окунувшись опять в волны эллинизма.
Г–н Мережковский как жаждущий возрождения язычник есть вместе с тем убежденный сторонник аристократизма, в чем он не отстает от греков, от Гёте и от Ницше. Красота античная была результатом весьма утонченной культуры, обусловленной рабством простонародных масс, на плечах которых выстроился маленький мирок людей свободных, здоровых и досужих, во главе которых держались и спорили из‑за власти люди, превосходящие других по трем единственным основаниям всякой аристократии: породе, богатству и уму. Крушение этой высокой культуры последовало, когда появилась религия рабов, — религия христианская, утвердившая начало равенства, когда поднялась демократическая волна, затопившая общественные вершины; когда утвердилось повсеместно господство среднего человека, то есть масс, преобладание плебса. Никто не прочувствовал сильнее, чем Ницше, которого г. Мережковский называет, однако, безумным язычником, болезненного извращения вследствие этой перемены всех понятий и чувствований, переоценки всех идеалов, постановки на первый план того, чем особенно гнушался древний человек, а именно боли, страданий, смирения, самоуничтожения в аскетизме, отказа от всякого геройства, преобладания стадных качеств, свойственных одомашненным животным. Г–н Мережковский отрекается от Ницше, но он разделяет мировоззрение Флобера, а оно таково: я не христианин; французская революция не удалась потому, что она была в связи с религией жалости; идея равенства как настоящая суть современной демократии есть идея христианская, противоречащая началу справедливости. Ныне преобладает только милосердие, чувство — все, право — ничто. Мы гибнем от избытка чувствительности, от нравственной дряблости и т. д. Так как г. Мережковский в душе своей такой же язычник, как Гиббон, Гёте или Флобер, то его не могло поражать болезненно то, что любовь к природе подавлена была религиозно–аскетическим отвращением к ней «бледных людей в черных одеждах, видящих в этой природе только диавольский соблазн». Во всяком случае, не мог он не ощущать того, что мы уже второй десяток веков опускаемся в декаданс, в тусклую осень, не светящую и не греющую. Г–н Мережковский нимало не скрывает, что он ненавидит всеми силами души современную демократию; с таким же полным отвращением относится он к современной буржуазии или «мещанству». Он смешивает ту и другую, говоря о буржуазной и демократической середине, о добродетельной буржуазной скуке и о демократических буднях. Он с полным сочувствием выписывает из письма Пушкина к Вяземскому следующие строки: «толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. Он мал как мы, он мерзок как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок не как вы, — иначе». Индивидуализм г. Мережковского и его антиобщественное направление, вытекающее из стихийной его ненависти к преобладанию большинства, к так называемой черни, достигает своего кульминационного пункта там, где он, отождествляя поэта с героем («поэт есть герой созерцания, герой есть поэт действия») и вступаясь за поэта как жреца культа красоты, подымает настоящий бунт против идеи добра и религиозного чувства, проводя между ними грань, которую я считаю положительно невозможною. «Не страшно, — пишет г. Мережковский, — когда малые довольны малым, но когда великие жертвуют своим величием в угоду малым, тогда становится страшно за будущность человеческого духа. Когда великий художник, во имя какой бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного или небесного, во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству: философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость во святом месте, приобщается духу черни».
Указав на то, что г. Мережковский есть прежде всего созерцатель красоты, эстет в древнем духе и своего рода аристократ, я постараюсь доказать, что у него в душе таятся и другие еще элементы, далеко не согласованные с вышеуказанными и не подходящие к предполагаемому новому возрождению, а прежде всего что ему присуще галилейство, то есть порывистое и горячее человеколюбие, свойственное в особенности ранней поре христианства, первым его векам.
III
Я не думаю, впрочем, отстаивать несовместимость противоположных начал, например язычества и так называемого галилейства или христианства. Я полагаю, что они могут и должны быть согласованы. Я мог согласиться с г. Мережковским в том, что в нашем быту имеются одновременно два потока или порыва. Один — к слиянию с Богом вне границ нашего сознания, а другой — к героическому обожествлению своего «я». Историк литературы и критик должны ежеминутно справляться с обоими этими направлениями и миросозерцаниями, переходить от Эсхила и Софокла к Библии и к весенним золотым цветочкам итальянской поэзии XIII в., к «Fioretti» св. Франциска. Понятно также, что г. Мережковский как знаток истории не смешивает теперешнего христианства, уже значительно охладившегося и, так сказать, канализированного, то есть текущего по раз навсегда устроенному руслу, с тем огненным, как поток лавы, порывистым христианством первых веков, не считавшимся с условиями гражданского общежития, вследствие чего оно было тогда признаваемо антиобщественным и антигосударственным явлением, которого весьма слабое подобие имеется ныне в «непротивлении злу», в пассивной оппозиции — в духе графа Льва Толстого. С практической точки зрения можно сказать, что язычество и христианство существуют в каждом из нас, что они почти соприкасаются, так что порою трудно различить, где кончается одно и начинается другое. Для доказательства того, что они часто проникаются взаимно, сошлемся на прекрасно начертанный у г. Мережковского портрет язычника–декадента императора Марка Аврелия — великого стоика, который рассуждал таким образом: «может быть богов совсем нет, но и без них я должен исполнять свой долг». Этот человек долга исполнял его неуклонно, бесстрастно, с отказом от удовольствий, от личного счастия и с воздержанием от желаний. Он одолел смерть своим спокойным пессимизмом: ему удалось быть бесчувственным, подобно камням. Спрашивается, чем этот добрый до мозга костей, почти святой человек отличается от христианина? Оказывается, по мнению г. Мережковского, что только тем, что полное отречение от воли, от жизни и ее радостей уничтожало в нем самую добродетель, что он не жалостлив, что он не способен любить, иными словами, что он пессимист. Заметим, что наши чувства не в нашей воле, что пессимистическое настроение зависит не от характера, а от темперамента. Справедливо сказал г. Брюнетьер об Альфреде де Виньи, что человек рождается пессимистом, но не делается им впоследствии. Есть притом два разные вида человеколюбия. У одних любовь прямо сердечная, обилие ее таково, что она истекает, так сказать, естественно и неудержимо; такова она у Христа и св. Франциска; такова она была, по описанию А. Ф. Кони, у Ф. Гааза («Вестник Европы», 1897, № I)[1348]. У других людей та же любовь, но рефлективная, головная; сказал себе человек, что надо любить ближних, он их и любит по долгу совести; такова она у Льва Толстого. Любопытны в этом отношении признания Флобера, чистейшего эстета, который бежал от действительной жизни в область искусства, потому что, вникая в себя, заметил, что реально он не способен кого бы то ни было любить, что он сух, как могильный камень, что вид чужого горя не трогает его, а только страшно раздражает, и что только погружаясь в искусство, — он начинает воображением любить.
Г. Мережковский весьма точно определил двоякое значение слова «любовь» — у христиан и у язычников: «галилеяне утверждали, как и язычник Лонгус (автор «Дафниса и Хлои»), что Бог есть любовь. Но галилеяне понимали под любовью братскую жалость, а Лонгус — сочетание мужского и женского начала во вселенной — то, что мы теперь называем гением рода». В другом месте Мережковский повторяет за Дантом последний стих его Божественной Комедии: «L’amor que muove il sole e l’altre stelle»[1349]. Эти указания неполны. Ближайшее объяснение, как понимает г. Мережковский любовь, может быть получено только тогда, когда
мы сопоставим двух писателей из числа «вечных спутников», избранных им в руководители именно по этому вопросу о любви: один из них, испанец XVI века Кальдерон, а другой — Федор Достоевский, собственно, его характеристики обоих учителей основаны не на совокупности их произведений, а только на двух творениях, по одному от каждого из них: «Поклонение кресту» Кальдерона и «Преступление и наказание» Достоевского. По мнению г. Мережковского, Кальдерон и Достоевский проповедуют почти одно и то же; я постараюсь доказать, что они до того друг с другом расходятся, что компаньонами ни в каком случае быть по одному пути не могут.
Драма Кальдерона «Devocion de la Cruz»[1350] вся построена на идее, породившей столь распространенные в средние века в римском католицизме церковные индульгенции, злоупотребление которыми послужило главным поводом к тому, что от римско–католической церкви отложились протестантские исповедания. — Положим, что нет счета преступлениям тяжкого грешника, но он был усердный поклонник св. Иосифа или Богородицы, нашел себе в небесах влиятельных заступников и был прощен. Существовало глубоко укоренившееся представление о том, что при некоторой доле покаяния и при некотором количестве так называемых добрых дел, признаваемых таковыми церковью, можно войти в царство небесное.
Герой драмы Эзебио покинут младенцем в пустынном месте у подножия креста; у него на груди родимый знак в форме креста. Обладая этим прирожденным талисманом, он и в воде не тонет, и в огне не горит; разумеется, что в душе он питает бесконечное благоговение к выручающему его от всяких бед святому знаку. Он влюбляется в женщину, которая потом оказывается его же родною сестрою; убивает в поединке препятствующего этой любви ее и своего брата, проникает в монастырь, в который ее заключили, соблазняет ее, делается атаманом шайки разбойников. В конце концов шайка его разбита и он гибнет в сече; но так как он был поклонником святого креста, то силою этого креста он сподобился воскреснуть на одну минуту при приближении к нему мимо идущего монаха, исповедаться и получить разрешение грехов, после чего уже окончательно умирает. Таково содержание этой quasi–богословской чепухи. Она не имеет ничего общего со стихом Данта: L’amor que muove il sole e l’altre stelle. Бог не охраняет и не спасает тех, которые его не знают, которые не крещены. Удел некрещеных таков, что они неспособны жить по воле божьей, делать какое бы то ни было добро, и не имеют никакой заслуги, хотя бы положили душу за други своя. Само человеколюбие не имеет ни цены, ни заслуги, если оно не истекает из веры в Бога и не скажу — любви к нему, но поклонения ему. — Г. Мережковский отлично понимает, что содержание этой драмы способно, скорее, возмутить, а не увлечь современных людей, потому что она выражает собою даже и не язычество, а идолопоклонство в самой первичной его форме, то есть грубый фетишизм. Он и внушает нам, чтобы мы смаковали ее только эстетически, а не этически: «мы изучаем старую темницу, — говорит он, — потому что уверены, что не возвратимся в нее никогда; средневековый католицизм для нас мертвый враг, и мы перестали даже ненавидеть его». Мне кажется, что нельзя относиться слегка даже к считаемым отжившими религиям; они чрезвычайно живучи и, быв даже срублены, пускают новые ростки. Кроме того, сам г. Мережковский признает, что для эстетической оценки красоты отживших догматов и мертвых уже религиозных форм необходимо под оболочкою мертвых догматов и форм найти и указать вечно живую красоту человеческого духа. — Какова же красота в настоящем случае? — По мнению г. Мережковского, она заключается в следующем: поэт поклоняется не дереву креста, а любви, для которой крест служит только символом. — Выкинем термин символ, которым ныне злоупотребляют без меры для проделывания всевозможных фокусов. Имеются два языка: один у поэзии — образный, и другой у знания — отвлеченный. — Поэзия располагает только конкретными представлениями, в которых сквозит, не выделяясь еще из них, чистая идея. Так как поэзия предлагает нам не самую идею, а только образное ее подобие, то всякая поэзия бывает символическая. Но я сильно сомневаюсь, чтобы «Devocion de la Cruz» символизировала любовь к Богу; она только драма поклонения Богу и символизирующему его кресту. Впоследствии, оценивая произведение Ибсена «Гедда Габлер», г. Мережковский выражается так: «если бы Гедда нашла такого Бога, во имя которого стоило бы жить и умирать, то она сделалась бы героиней или мученицей». — Я утверждаю, что такого неправедного бога, как бог Кальдерона, нельзя любить, а можно только бояться и из боязни ему повиноваться. Г–н Мережковский утверждает, что любовь оправдывает и смывает все грехи, потому что сила покаяния беспредельна; но в чем же проявляется покаяние Эзебио? Разве он оплакивает свои грехи, разве он кается и обещает, что исправится? Ничуть не бывало; вывод о силе покаяния вложен в драму извне, и Кальдерону он напрасно приписан г. Мережковским.
Лично для г. Мережковского то начало, что сила покаяния беспредельна, имеет громадное значение. Само начало нельзя не признать галилейским, то есть христианским, присущим христианству с самых первых его веков. Оно подобно цепочке связует неразрывно г. Мережковского с Достоевским, роману которого посвящена одна из объективнейших и красивейших статей разбираемой нами книги. В Достоевском автор находит преступные желания довольно податливого на зло и сильно развращающего сердца, но передаваемые с такою заражающею читателя эмоциею, что их навеки не забудешь, их переживешь и выстрадаешь, пока не проникнешь в самую глубь настроения героя, пока не перевоплотишься в него и не достигнешь полного с ним слияния. От книги Достоевского нельзя оторваться, потому что в герое Достоевского, какой бы он ни был, гадюка или червяк, мерцает инстинкт божественного, есть проблески великодушия, значит, в конце концов, есть возможность возрождения, хотя вдруг сквозь смирение мученика промелькнет порою неистовая гордыня или сладострастие дьявола. По заключительному определению Мережковского, Достоевский есть величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания и порока, и вместе с тем величайший поэт евангельский любви.
IV
Г–н Мережковский избрал себе в спутники Кальдерона и Достоевского потому, что в первом он полагает, что нашел идею, что сила покаяния беспредельна, а во втором — то положение, что и у величайшего злодея на дне души есть зернышко подвижничества, — желание пострадать и искупить тем вину. Оба начала, взятые безусловно, ведут, несомненно, к понижению уровня нравственности в обществе, к значительному ослаблению необходимой общественной реакции против преступности. Практически раскаяние не может быть доказано, степень его не может быть установлена и определена. Раскаяние смешивается пред нами ежеминутно или с сожалением злодея о неудаче, или с лицемерным притворством злодея во избежание им ответственности. Раз мы установим в виде общего правила, что раскаяние во всяком случае предполагается, то установится безусловное господство беспричинной, неразборчивой, всепрощающей жалости, которая сотрет всякие границы добра и зла, введет полную терпимость зла и совершенное к нему равнодушие. Я полагаю, что к такому именно настроению располагает нас галилейский элемент в субъективизме г. Мережковского.
Всякая культура имеет неизбежно свои недостатки, угловатости и трещины; она подобна горшку, обвитому разными проволоками, мешающими тому, чтобы он распался. Установление начала всепрощаемости, то есть ненаказуемости преступлений, отмена всякой острастки не укрепят горшка, а сделают его еще более хрупким. Повторите то, на что указывает автор, говоря о деятельности Марка Аврелия: законы сделались мягче, а люди остались теми же несчастными, невежественными и жестокими, так что всеми чувствовалось, с одной стороны, утомление жизнью, а с другой — предчувствие конца мира, точь–в–точь как в настоящую эпоху. Хотя г. Мережковский собственно эстет, но в сущности он к судьбам мира далеко не равнодушен, он своего рода социолог, прорицающий Возрождение, воскресение Великого Пана, будущую гармонизацию двух порывов, одного языческого — культа героев, и другого христианского — бегство от жизни и уничтожение себя в Боге. Так как вопрос о будущем он ставит, по–видимому, серьезно, то необходимо с ним на этом поле посчитаться. Какой же будет выход из современных осложнений, страданий и противоречий? То, что он предлагает, изумительно по своей простоте: отречься от культуры и возвратиться на лоно первобытной природы. К этому выводу автор приводит читателей обходными путями и после разных приготовлений. Он столь же мало объясняет, что такое природа, как и то, что такое красота. По–видимому, необходимость одичания открылась ему внезапно, когда он очутился пред Парфеноном: «творить согласно с природою — вот основа и вдохновение греческой архитектуры; вот уже двадцать веков, как мы разучились творить согласно с природою». Когда автор писал это, он знал, конечно, что в целой природе нет образчика, по которому был бы выстроен Парфенон или какой бы то ни было храм или портик греческий; притом он знал и выписал из Флобера, что искусство выше жизни (Tceuvre est tout, Thomme n’est rien[1351]). Снаряжаясь в путь к первобытному дикарю, г. Мережковский устранил Жан–Жака Руссо, которого он сильно недолюбливает, и произвел в «вечные спутники» двух остроумных насмешников, апостолов рассудочности и приземистого здравого смысла: Сервантеса и Монтеня. «Дон Кихот» есть печальнейшая, какая только может быть, сатира отходящей в вечность Испании, чуждая всяких надежд и порывов в будущее. Весь мир состоит из несчастнейших подлецов, среди которых есть только два счастливца, один сумасшедший рыцарь, который все превращает в мечту и живет одними иллюзиями, и другой — его оруженосец, ленивец и невежда, который все превращает в шутку и забаву. Но у Дон Кихота есть одна черта новой культуры: он любит первобытную жизнь среди природы и относится пренебрежительно к благам цивилизации, считая ее злом.
Другой писатель, Монтень (Montaigne), родившийся скептиком и оптимистом, не верит ни в Бога, ни в ближних, потому что не любит колебаться и сомневаться; он — материалист, по принципу эгоист и вполне послушен предержащим властям, но в душе он полнейший анархист, отрицающий всякий стадный инстинкт, всякую общественность. Г–н Мережковский подметил в особенности эту последнюю черту. Монтень, говорит он, угадал, что у ученого и художника больше общего с простым первобытным человеком, нежели у ограниченного доктринера. Не Ж. — Ж. Руссо, а он — родоначальник идеализации первобытного человека и драгоценного правила: самое мудрое — отдаться природе в полной простоте.
Допустим, что мы бы признали необходимым отдаться всецело природе. Спрашивается: каким же образом? идейно ли, то есть теоретически или практически, как сделал, например, Лев Толстой, «громадная стихийная сила», как называет его г. Мережковский, человек искренний, последовательный и цельный. Что же, последовал ли г. Мережковский этому благому примеру? — Нет, нисколько; он не только не одобрил образа действий Л. Толстого, но полемизирует с ним постоянно. Если собрать все места в книге, в которых автор злословит Толстого, и все его нападки, нисколько не эстетические, а социологические, — то составилась бы курьезная, не лишенная противоречий характеристика Л. Толстого, состоящая из признаков, за которые автор должен был бы хвалить, а не порицать Л. Толстого, если бы он был последователен и верен своей галилейской точке зрения. Он метко попал в исходную точку философии Льва Толстого. Его отречение от культуры произошло не от преизбыточного братолюбия и не от галилейской жалости (любовь у него чувство рефлективное), а от языческой любви к телесной жизни и наслаждениям, значит, только от страха смерти, которую он, однако, не победил, так как сквозь напускную жалость ощущается только холод ужаса и омертвение, отречение не только от мяса, вина, женщин, славы, денег, но и от искусства, наук, отечества, от всякого движения воли. То у него Толстой — безумный галилеянин; то он — бессознательный язычник — не светлого, а темного, варварского типа, слепой титан. Он — анархист без насилия, поднимающийся на восковых Икаровых крыльях мистического анархизма. Он употребил свою громадную силу на приготовление множества разрушительных рычагов. Ему главным образом вменяется то, что новейшая русская литература, явно проповедовавшая смирение, жалость, непротивление злу, втайне, однако, бывает мятежная, полная постоянно возвращающегося бунта против культуры.
Приговор выходит чересчур строгий: Толстой в одно и то же время и язычник, и галилеянин, и бунтовщик, и анархист. Так ли это? Бывают бунтовщики, они же и анархисты, — например динамитчик Вальян, бросивший бомбу в парижской палате депутатов, но чаще всего эти две характеристики не совмещаются в том же лице. Толстой бунтовщик, по словам Мережковского, но он действует без насилия и выражает свое отрицание культуры хотя и практически, но пассивно. Он добровольно опустился, сошедши с общественных вершин, в ту область, где царит власть тьмы. Он пессимист, он аскет до умерщвления в себе всех желаний, такой же, какими были Сакья–Муни и Марк Аврелий, но он не анархист и никому не приходило в голову давать ему такую кличку.
Наоборот, вполне возможно прямо противоположное явление, а именно, анархизм в одних только идеях, сопряженный с смакованием всех сладостей жизни и даже всех ее пикантных гадостей. Допустим, что я поставлю себе целью жизни бегство от культуры к первобытному человеку, но, поставив себе такую цель, я к ней не иду, а бездействую. Я вовсе не желаю идти в народ, чтобы поднять его в культуре и облагородить, чтобы освободить его и от ига родовитого аристократизма, и от другого ига — капитализма и плутократии, чтобы содействовать осуществлению трудно достижимого, но все‑таки возможного идеала высокообразованной демократии, в которой бы во главе общества стояли люди талантливые и добродетельные, одним словом, к становлению третьей аристократии, чисто интеллектуальной. Оказывается, что все эти замыслы не по моему вкусу; не прельщаясь ими, я ограничусь только тем, что буду злословить всякую культуру в полном ее объеме, одним словом, буду делать то в сфере идей, что делает современный социализм в своих учениях. Я буду присоединять свою вязанку дров к массе имеющихся горючих материалов, которые, когда их побольше накопится, произведут взрыв получше тех, которые неудачно сошли для Вальяна и 12–го февраля 1894 для Анри[1352]. Я буду похож на того поэта–декадента Тальяда, пострадавшего от последнего взрыва, но восторгавшегося перед тем, что жест кидавшего бомбу Вальяна был божественно красив[1353]. Мне кажется, что этот Тальяд должен приходиться по сердцу г. Мережковскому и поддерживаться им весьма усердно, что можно доказать как выдержками изо всей его книги вообще, так и специальным этюдом, посвященным Генриху Ибсену.
V
Ибсена г. Мережковский взял себе не в спутники, а в проводники; он обвился, так сказать, вокруг Ибсена, как плющ около дуба. Ибсен, по его словам, переживет всех нас, он завоевывает Европу; он один из славнейших подготовителей умственного поворота от разрушительных теорий к созидающей якобы философской и художественной работе, которую мы переживаем. Что он разрушитель первого ранга, это бесспорно; но чтобы он был работник поворота к созиданию, то это более чем сомнительно. Он вырос на почве крайнего протестантизма и сделался представителем наиболее неугомонного и разнузданного индивидуализма. Он — принципиальный антигосударственник и антиобщественник, ненавидящий всякое действие общими силами. Он думает, что люди потому несчастны, что приспособились быть только частицами чего‑нибудь, а никто из них не дерзает быть самим собою; что сильный человек только тот, кто один; что единственный идеал, которым следовало бы человеку одушевляться, есть идеал безграничной свободы, столь безграничной, что она очевидно невозможна, недостижима. В этой недостижимости заключается весь трагизм судьбы героев, которых он изображает.
Ибсен несомненно великий талант, мрачный, но могучий и весьма ядовитый, — в особенности, когда он раскрывает противоречия и уродства, кроющиеся в нашей культуре. Крупная ошибка г. Мережковского как критика заключается в том, что он производит уродов Ибсена в мученики и ставит заслуженную ими их судьбу особою статьею в обвинительный акт против культуры; что он претендует на культуру за то, что они погибли трагически в переходной эпохе, когда старые боги умерли, а новые еще не родились. Кальдерона он прославляет за его фанатическое «Поклонение кресту». Для увлечения нас Ибсеном он нам преподносит драматический портрет, без исторического или социального фона, Гедду Габлер, предваряя нас, что никогда еще Ибсен не достигал такой силы в изображении внутренней драмы современного человека. Гедда Габлер, дама 30 лет, с виду прекрасная по своему ясному, холодному спокойствию, но одержимая беспредельною страстью — бесплодною любовью к заведомо недостижимой красоте (той красоте, которой поклоняется и критик, то есть пластической, античной). Гедда любит красоту, но не верует в возможность ее на земле, а потому и превращается во что‑то вроде Нерона в юбке. Г–н Мережковский уверяет нас, что, хотя от ее жестокой красоты веет холодом смерти и гибнут все к ней прикасавшиеся, но она обаятельно и неотразимо всех чарует, а между тем она злая, как Медея[1354], она не выносит возле себя ничьей славы, ничьего счастия и гения. Она действует по необузданному инстинкту разрушения без расчета, делая зло для зла, то есть или ради наслаждения, которое ей доставляет чужая гибель, или ради того, чтобы показать свою власть над судьбою человека, а потом, навредив, иронизировать, что доставляет ей такое же наслаждение, как и самое зло.
Будучи обречена на жизнь среди мира «мещанского», пошлого, эта необузданная душа скучает; от скуки она выходит замуж за ничтожного, бездарного кропателя книжек, профессора Тесмана. Ей представлялся случай выйти за гениального ученого Аевборга, но Левборг оскорбил ее своим циническим изяществом; а может быть, она и предвидела, что с Левборгом она не уживется, потому что и она, и он — натуры крайне властолюбивые. Исчезнувший Левборг появляется опять с рукописью, которая его несомненно прославит и убьет репутацию Тесмана, так что кафедра истории культуры достанется ему, а не Тесману. Не из привязанности к мужу, которого она презирает, и не из‑за материальных интересов, а из‑за властолюбия и воскресающего в ней увлечения Левборгом Гедда вступает с Левборгом в борьбу, в которой она его и губит. Зная, что Левборг легко опохмеляется, она его подпаивает. Опохмелев, он обронил на улице рукопись, которая должна его прославить и послужить к уничтожению Тесмана. Зная, что Левборг придет в отчаяние от этой потери и наложит на себя руку, Гедда дарит ему свой револьвер со следующим советом: не может ли он сделать так, чтобы в этом (т. е. в выстреле) была красота. Зная, что Левборг убьет себя, она с наслаждением истребляет его рукопись, бросая в огонь лист ее за листом. Г–н Мережковский уверяет нас, что при этом сожигании «образ ее вырастает до исполинских размеров, и сердце наше привлекается к ней ее непонятной красотой», чего мы, как ни старались, не могли, однако, в себе ощутить. И в смерти своей Левборг обнаружил свою грубую неэстетичность. У кокотки, у которой он провел ночь, он же произвел скандал, доискиваясь рукописи; потом дал пощечину призванному полицейскому, наконец, пустил себе пулю не в висок и не в сердце, а в живот, в кишки. Гедда восклицает: «этого еще недоставало! зачем смешное и пошлое ложится на все, к чему я прикоснусь?» Она и сама застреливается, освобождая, таким образом, мир от дальнейших своих мерзостей. Я понимаю в искусстве демонизм, изображение чудовищных натур, какого‑нибудь воплощенного дьявола Ричарда III на сцене; но ни Шекспир не представил Ричарда мучеником и страдальцем, ни Ибсен не имел намерения возвести Гедду Габлер в святые женщины. Апофеоз этот — личное дело г. Мережковского, который, когда видит пред собою мертвую Гедду «в ее безнадежной, холодной красоте», то у него не хватает духу осудить ее за жестокость, за нравственный ее нигилизм; он плачет только над тем веком, в котором она жила, над низким уровнем буржуазного миросозерцания. Гедда не могла жить не веря, а веры неоткуда было взять. Если бы она нашла Бога, «во имя которого стоило бы жить и умереть», то она бы его полюбила и сделалась бы героиней или мученицей. Возникает, однако, вопрос: могла ли она найти Бога, когда она его вовсе не искала; она ведь прирожденная атеистка и эгоистка. Могла ли она вообще любить какое бы то ни было существо, физическое или идеальное, Бога или народ, идею, когда по своему душевному складу она неспособна любить. Любовь к заведомо недостижимой, значит, — к несуществующей красоте есть ведь только праздная прихоть, чувство без содержания, нечто похожее на свободу выбора путей у детерминистов по вопросу о свободе воли; любовь может быть только к возможному добру. Красота в сущности тождественна с добром; в противном случае она — уродство и извращение чувства. Любовь чего‑то нечеловеческого есть просто нелепость. Очевидно, что при оценке Гедды Габлер г. Мережковский переделал Ибсена, вложил в него то, чего у Ибсена нет. Он, очевидно, разделяет многие воззрения и чувства Ибсена, он человеконенавистник и антиобщественник, по крайней мере он радикальный противник современной культуры. По его словам, природа — дерево жизни, а культура — дерево смерти, «Анчар»… Из воздуха, отравленного ядом Анчара, из темницы, построенной на кровавом долге, вечный голос вечного узника–человека зовет его к первобытной свободе.
Одно только нехорошо: люди не слушаются этого вечного голоса. Вот парочка нежных сердец: с одной стороны, Татьяна, с другой — Онегин. Правда, Онегин немного попорчен ложною культурою, а потому и неспособен к любви, дружбе, созерцанию, подвигу. Однако Татьяна могла бы его навести на путь природы и истины, она могла бы сделаться для Евгения новою Беатриче. Но она тоже попорчена и говорит: «Я вас люблю, к чему лукавить, — Но я другому отдана — И буду век ему верна». При этих словах «от нее веет крещенским холодом, между любящими друг друга сердцами разверзается неприступная, как смерть, бездна долга, закона, чести, брака, общественного мнения», одним словом, всех лжей, заглушающих голос природы. Любящие сердца должны погибнуть потому, что поработили себя человеческой лжи. Автор, видимо, сожалеет, что они не бросились друг другу в объятия. О вкусах нельзя спорить, но от такой немудреной реализации несомненно близкого и возможного счастья ужаснулся бы, вероятно, и отвернулся бы сам Пушкин, потому что, объединяясь таким образом, оба героя порядочно бы унизились. Замечу только, что по сравнению с Ибсеном г. Мережковский мало радикален. Ибсен написал поэму «Бранд»[1355], проникнутую ненавистью к патриотизму. Известно также его изречение: «Fiir das Solidarische hab’ ich eigentlich niemals ein starkes Gefiihl gehabt»[1356][1357]. Напротив того, г. Мережковский упрекает русского пуританина в мужицком полушубке (гр. Л. Н. Толстого) за то, что, проповедуя всемирное братство, то есть космополитическую отвлеченность, он отрекся от любви к родине, от той ревнивой нежности к своему национальному, которая переполняла сердца Пушкина и Петра Великого. Он сожалеет о том, что Толстой сливает живые цвета радуги (страстные национальные черты) в один мертвый белый цвет. Не сквозит ли в этих сожалениях род политического оппортунизма? В одном месте г. Мережковский утверждает о Кальдероне, что национальность ограничивает его гений, и хвалит Шекспира за то, что у него господствует уже безграничная свобода. В наш жестокий век, когда под влиянием Дарвиновской идеи — борьбы за существование — прославлялось в науке и литературе племенное и национальное каннибальство во имя патриотизма, достойнее было бы радикалисту выдержать свой характер до конца. Космополитизм Льва Толстого во сто раз человечнее того, к чему с такою нежностью и пощадою относится г. Мережковский, между тем как он, будучи последователем Ибсена и полнейшим индивидуалистом, отрекшимся от всякого стадного чувства, должен был бы держаться ибсеновского принципа — быть не частицею целого, а только самим собою.
Разбор всех двенадцати первых этюдов в книге г. Мережковского, за исключением одного последнего о Пушкине, привел нас к следующим заключениям. Автор совмещает в себе несколько личностей и у него не всегда одна с другой согласна. Он — эстет, обожатель античного искусства и сторонник аристократизма; он также нервный, не выносящий вида страдания галилеянин. Он — утопист, мечтающий о дикой воле вне границ цивилизации. Он, конечно, не бунтовщик, но индивидуалист и своего рода анархист, который готов радоваться, когда будут взрываемы другими людьми общественные устои, на тот конец только, чтобы их взорвать, а там, потом, окажется, что из сего произойдет; авось как‑нибудь что‑нибудь устроится, может быть, и поплоше, но во всяком случае иначе, чем теперь.
VI
Двенадцать первых глав или этюдов в книге г. Мережковского — это только приступы и подходы, только подготовительные работы; главный же предмет затеянной им выставки (le clou[1358], как выразился бы француз) — это последний этюд, памятник Пушкину, какого никто еще не воздвигал. Ему посвящена пятая часть книги. Она написана красиво и увлекательно, как и все вообще, что пишет г. Мережковский; почти целая поэма, которую жаль разрушать, хотя и нельзя ее не сломать, после того как вдумаешься в нее критически. Задача, которую себе ставит автор, такова, что если бы оправдалось то, что он предполагает, то пришлось бы перестроить всю историю русской литературы в XIX столетии, то есть с того момента, когда она перестала только подражать. По мнению г. Мережковского, Пушкин был не столько совершитель, сколько начинатель русского просвещения. Поэт «недовершенных замыслов», он закладывал фундаменты во всех родах поэтического творчества, рубил просеки, мостил дороги и был нечто вроде литературного Петра Великого. Создатель для своего народа особой, Пушкинской, культуры, он был способен поднять русскую поэзию и культуру на «мировую высоту». Он — прототип такого русского человека, каким этот человек явится только в будущем, чрез двести лет. К несчастию для России, он преждевременно умер, не создав ни одного главного произведения, которое бы дало полную меру его силы, каковы: «Божественная комедия», «Фауст» или «Гамлет». Он обладает полным, стройным миросозерцанием, всеобъемлющей мыслью. Сделай этот медленно созревающий человек еще один шаг вперед, и он был бы признан тем, чем был в действительности — единственным даже среди величайших мировых поэтов, по крайней мере по выдающейся особенности его поэтического темперамента — по простоте. В этом отношении он едва ли не выше Гёте. Пушкинская Россия не сумела выдвинуть Пушкина на подобающую ему мировую высоту, не отвоевала ему места наряду с Гёте, Шекспиром, Данте и Гомером, — места, на которое он имеет право по внутреннему содержанию своей поэзии. В похвалах дальше идти нельзя; г. Мережковским достигнуты геркулесовы столбы возможного. Г–н Мережковский полагает, что несчастие Пушкина заключалось в том, что он очутился среди наступившего прибоя демократической мутной волны, среди одичания мысли и вкуса, среди грубого утилитаризма и народнического либерализма. Произошла продолжающаяся везде убыль пушкинского духа в литературе, которой г. Мережковский задумал положить конец своим изображением Пушкина в виде второго идейного Петра Великого, скачущего вперед на обледеневшей глыбе финского гранита. Кругом его бушуют волны наводнения, из которых каждая зовет нас назад, к материнскому лону русской земли, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа–пахаря или в уютную горницу «старосветских помещиков», к затишью «дворянских гнезд» или к дикому «обрыву» над Волгою, к серафической улыбке «идиота» или к блаженному неделанию Ясной Поляны. Все эти голоса — не что иное, как богохульный крик возмутившейся черни.
Как ни высоко мнение г. Мережковского о достоинствах его субъективной критики, не стесняющейся доказательствами, все‑таки он понял, что для приподнятая Пушкина на необычайную высоту необходимо употребить подходящий рычаг. Он полагает, что он нашел такую подъемную машину в записках приятельницы Пушкина, смуглой, черноокой, живой и остроумной Александры Осиповны Россет, в замужестве Смирновой. Ни капли русской крови не было в этой привлекательной иностранке, за которою ухаживали современные поэты. Отец ее был французский эмигрант, кавалер де–Россет, мать — немка Лорер из офранцузившихся немцев; бабка по матери — грузинка из рода князей Цициановых. Александра Осиповна родилась в 1809 г., вышла из екатерининского института в 1826 г., сделалась тотчас фрейлиною; вышла в 1831 г. замуж за бывшего дипломата, а потом губернатора Смирнова, умерла в Париже в 1882 г. Все, что от нее осталось, писано на французском языке. Ее бумаги достались ее дочери, тоже литераторше, Ольге Николаевне Смирновой, от которой, за год до ее смерти, последовавшей 23 декабря 1893 г., удалось добыть издательнице «Северного вестника» записки матери для напечатания в этом журнале[1359].
Г–н Мережковский не потрудился разобрать «Записки», пропустить их через фильтр критики, но берет целиком все, что в них написано, на веру, как настоящую истину, и упрекает современников, что они замалчивают книгу, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху, вследствие чего держится еще и ныне то мнение, якобы поэзия Пушкина есть только прелестная, но легковесная вакханочка. Современники не решаются признать, что, судя по запискам Смирновой, Пушкин рассуждал о философии, религии, судьбах России, о прошлом и будущем человечества. В беседах с друзьями и Смирновой Пушкин бросал семена будущей, еще не существующей культуры, давал заветы будущему просвещению. Нередко у Смирновой Пушкин излагал мысли, которые сквозят и в оставшихся его отрывках, письмах, дневниках или черновых его рукописях, — словом, он является серьезным человеком и глубоким, всеобъемлющем мудрецом, имеющим своеобразное миросозерцание. Так как г. Мережковский никакой критике «Записок Смирновой» не подверг, то нам приходится остановиться на вопросе: какую ценность могут иметь эти записи в смысле исторического источника? Какую историческую достоверность представляет то, что в записках этих рассказано? Позволю себе привести несколько почерпнутых из записок образчиков, в которых передаются вещи либо маловероятные, либо небывалые и совершенно невозможные.
Например, был разговор у Смирновых, вероятно в последнее время перед смертью Пушкина, между Пушкиным, Жуковским, Соболевским и одним из Тургеневых. Пушкин хотел показать, что он не завидует начинающему собрату Лермонтову, и сказал: «Надеюсь, что Лермонтов создаст немало шедевров; он обладает всем, что нужно, чтобы сделаться великим лирическим поэтом, у него бывают дивные стихи; ему следует читать, размышлять, учиться, сосредоточиваться и не подражать более Байрону после того, как он подражал Шиллеру. Жуковский — его лучший руководитель, как был и моим». Все в этой передаче неверно. Поэты никогда не встречались; Пушкин, по другим источникам, никогда о Лермонтове не упоминал. Сам Лермонтов, в показании при допросе в третьем отделении по поводу стихов на смерть Пушкина, сказал, что до того напечатана была только одна его поэма в «Библиотеке для чтения» — «Хаджи Абрек» в 1855 г. Он не мог добиться представления на сцене своего неизданного еще «Маскарада», а его поэма про Грозного Царя, про Кирибеевича и купца Калашникова появилась в печати только в 1838 г. Уже по смерти его, при издании юношеских его произведений, стало известным, что он переводил Шиллера и заимствовал кое‑что из его «Разбойников» в ненапечатанных своих драмах. Пушкин не мог предлагать в наставники Лермонтову Жуковского; песня Жуковского в конце тридцатых годов была уже спета. Сам Пушкин не относился к Жуковскому как к наставнику.
Вот еще страницы 281—287 из «Записок» Смирновой. Был у Смирновых один из обычных субботних вечеров, вероятно, осенью 1834 г., так как Пушкин принес тогда свои «прелестные стихи» о Мицкевиче (стихи без заглавия, изданные уже по смерти Пушкина и помеченные 10 августа 1834 г.; они начинаются так: «Он между нами жил», а кончаются словами: «О, Боже, возврати — Твой мир в его озлобленную душу»). Пушкин сказал: «его лучшее произведение — „Пан Тадеуш”, и мне хочется его перевести на старости лет, когда уже мне более нечего будет сказать своего — я нахожу в „Пане Тадеуше” новые мысли». Он говорил затем, что боится кружка, который сплотился около Мицкевича, этих эмигрантов вроде секты Товянского, о котором Голынский сообщал разные подробности Соболевскому. Пушкин был взволнован, так как он считает Мицкевича весьма несчастным, а порою и озлобленным. Говоря о поэме на наводнение, Пушкин сказал: «Мицкевич думал, что лошадь ринется в пропасть и разобьется, но я не такой дурной пророк: она удержится на ногах. Пропасть нас поглотит лишь в том случае, если мы не совершим того, о чем я мечтаю с лицея, не освободим крепостных, не возвратим им прав гражданина и собственности».
В этой передаче все фальшиво, от начала до конца. Последние стихи «Пана Тадеуша» дописаны в феврале 1834 г.; он медленно печатался и едва ли мог его читать Пушкин в С. — Петербурге в 1834 г. (это была запрещенная книга); едва ли сюжет поэмы мог его заинтересовать и приохотить к переводу.
Писал поэму Мицкевич в полном одиночестве и вдали от всех эмиграционных партий; женившись, он переселился из‑за куска хлеба в Лозанну, преподавал там римскую литературу и только в 1841 г. вступил на кафедру College de France в Париже. Только в конце 1841 г. приехал в Париж никому во Франции неизвестный литвин Андрей Товянский, который его опутал и увлек в религиозный мистицизм. Поэма о наводнении есть отрывок «Петербурга», составляющий приложение к третьей части «Дзядов»; восторженные же мечты Пушкина, высказываемые им относительно освобождения крестьян, были вполне чужды Пушкину в конце его жизни. В «Мыслях на дороге», по направлению, противоположному пути Радищевскому, а именно из Москвы в Петербург, написанным в 1834 г., Пушкин полемизирует с Радищевым, с его «тогдашним модным краснословием», и мирится с существующим порядком, т. е. с крепостничеством[1360]. Я полагаю, что выходки Пушкина против крепостничества в «Записках Смирновой» приписаны и вставлены слова, обличающие ясные понятия о том, о чем никто еще определительно не помышлял, а именно освобождение крестьян не иначе как с земельным наделом.
На стр. 158 «Записок» в момент, предшествующий помолвке А. О. Россет со Смирновым, значит, — до 1831 г., в разговоре Жуковского с Пушкиным Жуковскому приписаны следующие слова: «Мускетеры Дюма (отца) — просто искатели приключений, но они храбры, великодушны, легкомысленны, глуповаты, всегда с обнаженной шпагой». «Три мускетера» Дюма изданы в Париже в 1844 году, а Пушкин скончался в 1837 г.
На стр. 66 «Записок» Смирновой приведены слова императора Николая Павловича, относящиеся к бытности его в Лондоне, когда ему было только 18 лет и когда никто не предвидел в нем будущего государя: «Мне показали Байрона в парке; он сидел на скамье. Я прошел мимо скамьи, он встал и поклонился мне». — Такой поклон совсем не в английских нравах и невероятен.
На стр. 154 Пушкину приписаны слова: «Шекспир есть величайший творец живых существ, после Бога». Эти слова, по–видимому, заимствованы почти дословно у Тэна: «1е plus grand faiseur d’ames humaines[1361]».
На стр. 32 «Записок» рассказаны живые картины, поставленные в 1828 году в доме Карамзиных. Пушкин нарядился мужиком, Климентий Россет надел венгерку; Глинка играл на гитаре трепака и мазурку; на столе поставлен был бронзовый Петр Великий на коне, по Фальконету. Жуковский подсказал Смирновой: «Это Пушкин и Мицкевич перед статуей Петра Великого». Мицкевич не был знаком в этом обществе, не бывал у Карамзиных; в 1827 или 1828 г. он имел какой‑то разговор с Пушкиным о Петре Великом, которого содержание осталось тогда же незаписанным и в настоящее время никому не известно, но оно послужило основою для написания Мицкевичем впоследствии, в Дрездене, в 1832 г., высоко художественного стихотворения «Памятник Петра В.», вошедшего в состав отрывка «Петербург», приложенного к третьей части «Дзядов». Стихотворение Мицкевича есть несомненно поэтическая фикция. Оно передает чувства, будто бы выраженные Мицкевичу Пушкиным, при сопоставлении им памятника, созданного Фальконетом, с конною статуею Марка Аврелия у подъема в Капитолий, близ Ага Coeli в Риме. Ничего подобного не мог высказывать Пушкину Мицкевич в 1828 г., потому что сам он увидел впервые конного Марка Аврелия в Риме в 1829 и
1830 годах: Пушкина же познакомил с этою статуею Смирнов, женившийся на А. О. Россет в 1831 г. (Зап. Смирновой, стр. 244).
Из рассказа о живых картинах у Карамзиных следовало бы заключить, что собравшееся у Карамзиных общество было уже настолько знакомо с содержанием стихотворения, увековечившего ничем не замечательный и не записанный ни одним из двух поэтов их разговор, что собравшиеся способны были отгадать смысл изобразившей эту беседу живой картины, чего, конечно, в действительности быть не могло.
Не подлежит сомнению, что в доме Смирновых поклонение Пушкину, пока он жил, было глубокое, а по его смерти память о нем хранилась свято; этот культ Александра Осиповна Смирнова передала и дочери, Ольге Николаевне. Бессознательно и постепенно в воспоминания прошлого вплеталось и все то, что обе Смирновы узнавали о Пушкине, либо вчитываясь в его произведения, либо следя за тем, что было о Пушкине другими писателями печатаемо. К несомненно достоверному присовокуплялось сказочное из наслоившихся постепенно налетов. Смешению достоверного с легендарным содействовала в значительной степени беспорядочность записей. Ни одна из этих записей не имеет числа и года; они перемешаны хронологически и позаимствованы из альбомов, записных книжек, клочков бумаги, писем и беглых заметок. Весь этот материал Смирнова–дочь получила только в 1886 и 1887 годах из Лондона и Дрездена. Она не подвергла этих записей строгой разборке, не расположила их годами. Сообщая материал в «Северный вестник», она сначала поставила события 1828 года и последующего времени, потом воспоминания матери о времени, проведенном в екатерининском институте, и о наводнении 1824 г., потом в записках заметен скачок с пропуском польского мятежа и затем является внезапно известие о взятии Варшавы и рассказываются позднейшие происшествия. Подлинных записей матери дочь никому не сообщала, ни в подлинниках, ни в копиях; она присылала в журнал, по словам редакции «Северного вестника», ею же писанные на французском языке сплошные листы, передающие нанизанные одно на другое воспоминания. Листы писаны «болезненно неправильным» почерком с недописанными словами (дочь Смирнова страдала глазами); в редакции «Северного вестника» рукописи дочери Смирновой переводились на русский язык. Приготовляя воспоминания, дочь пользовалась еще и своими собственными заметками, так как, по совету матери, она вела дневники, внося в них «только что выслушанное». Собственные ее заметки воспроизводили воспоминания матери; из этих выслушанных данных она намеревалась написать нечто особое. Она была сильно раздражена против новейшей русской литературы и в особенности против журналистики. Редакция «Северного вестника» присовокупляет, что дочь Смирнова (т. I «Зап.») обладала «целым философским и эстетическим миросозерцанием, сложившимся на основании огромного литературного образования и широкого знакомства с разнообразными вопросами истории России и других европейских государств». Можно себе представить, как сильно разлагался каждый луч света, исходящий от Пушкина, проходя последовательно чрез две такие призмы: ум и сознание сначала матери, а потом и дочери. Весь материал был перерабатываем обеими, причем я обращу внимание на странный, употребляемый в «Записках» прием — повторять один и тот же факт несколько раз, как будто бы для того, чтобы сильнее водрузить его в памяти читателя и сделать его чрез то более достоверным. Так, напр., на стр. 13 дочь пишет: еще в 1826 г., в разговоре с Блудовым, Государь назвал Пушкина самым замечательным человеком в России. На стр. 91 мать Смирнова выражается так: «я прибавила: Государь сказал Блудову в 1826 г., что вы самый замечательный человек в России». На стр. 266: «я отвечала (Баранту): Государь сказал Блудову в 1826 г., после своего первого свидания с Пушкиным: сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России». Несмотря на многочисленность повторений, факт остается сомнительным, потому что оценка отнесена не к поэту и его дарованию, а к качествам ума Пушкина с государственной точки зрения, которыми Пушкин не был никогда силен и которые император Николай не был расположен в поэте признавать.
На страницах 129, 273 и 296 «Записки» удостоверяют предчувствие в Пушкине ранней его смерти.
Особенно настойчиво в «Записках» выражается старание писательницы на счет устранения всякого сомнения в том, что, записывая русские речи с моментальным переложением их на французский язык, А. О. Россет воспроизводила их с полною точностью и дословно. На стр. 150 Пушкин ее спрашивает: «Что вы делаете? Рисуете наши карикатуры?» «Нет, я записываю ваши слова». Пушкин расхохотался: «протокол литературного заседания». Стр. 154: «Пушкин перечел мои записки, поправил две–три фразы, которые я переводила, когда они были сказаны по–русски»… Стр. 163: «Пушкин повернулся ко мне, взял бумагу, переменил одну или две фразы и сказал: вы прирожденная стенографистка». Стр. 173: Пушкин сказал: «как вы быстро переводите на французский язык; это очень полезное упражнение». Стр. 218: «вы по–прежнему будете писать свои заметки, и когда мы состареемся, мы прочтем их вместе». Стр. 272: «я просила его пересмотреть заметки, которые я набросала. Он решил: какая страшная у вас память; я переменил только три слова, да и те равнозначащие».
Замечательно, что в «Русском архиве» за 1871 г., № 11, стр. 1182 помещены отрывки воспоминаний А. О. Смирновой, из которых видно, что еще в 1832 году Пушкин не подозревал, чтобы она была не только стенографистка, но даже и писательница. «В 1832 году А. С. Пушкин приходил почти каждый день ко мне и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки».
VII
Хотя записки Смирновой настойчиво внушают читателю, что все записанное правда не только по содержанию, но и по форме, что Смирнова фиксировала все сказываемое Пушкиным в том самом виде, в каком оно было произнесено, но в действительности у г–жи Смирновой под ее пером пропадает весь Пушкин, каким мы его знаем по его письмам и по сказаниям его друзей и современников. Он был шутник и неистощимый остряк, насмехающийся незлобно, но позволяющий себе и тривиальности,
приходившие ему на язык. Он выражался коротенькими фразами, глубоко зарубающимися в предмет и неподражаемо меткими, а не саженными периодами. Никогда не подтверждал он своих положений целыми вереницами примеров, как то свойственно педантам и учителям, никогда он не наводил скуку самым изложением мыслей, которые у него не текли, а сверкали. Замечательный образчик такого скучнословия в якобы пушкинской беседе представляет рассказ об одном вечере у Смирновых при участии князя Вяземского, Пушкина и де Баранта, занимающий целые 20 убористых страниц (246—266). Зашла сначала речь о даровитых женщинах–царицах. Пушкин выкинул залпом целых 15 имен таких женщин в хронологическом порядке, начиная с Семирамиды, Зиновии и Клеопатры. Потом его заставили импровизировать род английского Essay о демократии и аристократии начиная с Востока, Греции, Рима и до современного общественного и государственного устройства теперешних европейских государств. Весь этот публичный этюд в виде лекции кончается довольно заурядным и почти бесспорным выводом, что, когда народ станет по своему образованию тем, чем был tiers‑etat[1362] во Франции в 1789 г., то он получит преобладание вследствие своей цивилизации и численности. Образуется тогда третья аристократия, умственная, но пока это сбудется, будет господствовать после первой родовой аристократии вторая — денежная, которая господствует в нашем обществе, сделавшемся буржуазным. По словам Пушкина, демократами в широком смысле этого слова бывают люди, которые допускают, что таланты и гении могут выделяться из массы и достигать значения и власти. Такими демократами были и Петр В.(еликий), и даже Христос, которого якобинцы лживо прозывают санклютом–патриотом, так как вдохновенность или святость не составляют никогда удела одного только класса, одних только простолюдинов. От этой длинной диссертации веет духом второй половины XIX в., то есть времен после крымской войны. Сама кличка демократ была чем‑то запретным при Николае Павловиче; Пушкин сам себя так не называл; в пику природному дворянству он называл себя в своей «родословной» только «мещанином», но в душе же он всегда был дворянин до мозга костей. И его выходки против крепостного состояния, и его взгляды на священное писание, за которые, по словам Смирновой, он удостоился такой похвалы от Баранта: «я не подозревал, что у него такой религиозный ум», — кажутся мне поддельными вставками. Раз доказаны подделки и сочинительство в некоторых частях «Записок», то по каждой лично до Пушкина относящейся подробности ставится вопрос: не подделана ли она? А так как ни от одной из них не веет пушкинским духом, то они становятся сомнительными и должны быть устранены, а в числе их в особенности такие, которые умаляют значение Пушкина и представляют его в жалком или пошлом виде. А. О. Смирнова была светская барыня, фрейлина из екатерининского института, обожающая все августейшее семейство, и в то же время связанная теснейшею дружбою, доходящею до культа, с Пушкиным. К этим двум преобладающим привязанностям следует прибавить общее настроение, господствовавшее в этом высшем обществе, умеренно–либеральное, весьма буржуазное. Хотя Пушкин жил в этой атмосфере, — сомневаюсь, мог ли он выражать следующие этически–пуританские и чопорные взгляды и вкусы. На стр. 132: «Руссо, на мой взгляд, есть писатель безнравственный; его хваленая чувствительность только флёр, прикрывающий проповедь доктрин, недостойных одобрения. Его герои и героини противоположны добродетели. Идеализировать запрещенные страсти безнравственно». Стр. 151: «Жан–Жак для меня скучен». Стр. 305: «Он унизил любовь. У него все фальшиво, даже природа». На стр. 194 Альфред де Виньи отделан столь же беспощадно, как и Руссо, за его Элоа, послужившую первообразом Тамаре лермонтовского «Демона». Элоа — женский ангел, дух сострадания, родившийся от слезы Христа, пролитой на кресте. Чтобы сострадать, — надобно прежде полюбить. Элоа пожалела Люцифера до того, что отдала ему в жертву свою чистоту. Пушкин у Смирновой возмущен не сюжетом, который прелестен, но ложною идеею. «Разве то не софизм, что падение может быть следствием сострадания!». Пушкин задается вопросом: верующий ли человек Виньи, или нет? Такие же вопросы он ставит по отношению к Гёте и Шекспиру. Он сам признает себя не только верующим, но правоверным человеком. Отношу это выражение на счет неудачного перевода слова orthodoxe; надлежало бы сказать: православный. Я вполне уверен в том, что Пушкин, хотя, будучи молодым, хвастался, что он «афей», но в сущности был христианин, чему свидетелем — его «Галуб»; но едва ли когда‑либо он был узким христианином, исключительно православным человеком. Едва ли он мог мечтать о водворении христианства на Кавказе посредством ведения религиозной войны с горцами (стр. 90), то есть о водворении христианства на Кавказе с помощью тех солдат в киверах и с ружьями, которые бы охраняли своим покровительством могучим — «Того владыку, терпением венчанного колючим, Христа, предавшего покорно плоть свою бичам мучителей, гвоздями и копию» (стихи на «Распятие» Брюллова). Само собою разумеется, что Пушкин у Смирновой (стр. 205) сильно порицает Шелли за его «Прометея»: «я не признаю, чтобы возмущение против Бога могло освобождать нас от наших зол. Это — софизм, это архилживо; оно только ожесточает людей».
Больше всего обижен, однако, Пушкин в «Записках» Смирновой тем, что он представлен как кроткий агнец, совсем одомашненный и прирученный, которого ласкают, как ребенка, и охраняют посредством усиленной цензуры от последствий, какие могли бы иметь его шалости со стороны тех, кого он восстановлял против себя своими колкими эпиграммами. Император Николай говорит ему (стр. 179): «продолжай излагать твои мысли в стихах и прозе; нет надобности золотить пилюли для меня, но надо делать это для публики» (стр. 227). Стихи Пушкина остроумны, ему их не простят. Не нападай на них (на Булгарина), они этого не стоят».
Умалив Пушкина, г–жа Смирнова в своих записках низвела и императора Николая с его высокого пьедестала. Он нам не импонирует своим холодным и суровым величием, он более похож на Марка Аврелия, тонкого литератора, художника и философа в свои свободные минуты. Он любопытствует знать: «правда ли, что у меня голова Юпитера? — Какого же Юпитера: Громовержца, Капитолийского или Статора? Вот у Гёте была голова Статора; он произвел на меня прекрасное впечатление: я от него не слыхал банальной фразы» (стр. 85). — Император Николай заходит запросто на вечерний чай к фрейлинам, например к А. О. Россет (стр. 49). Узнав, что у Россет бывают поэты, он сходится с ними и беседует с Пушкиным, Вяземским, Жуковским, даже с Гоголем. С последним он беседует о гетманах, от Хмельницкого до Скоропадского, и о дяде Гоголя, Трощинском. Он возводит А. О. Россет, не конфиденциально, а открыто пред всеми, в звание курьера или фельдъегеря по отношению к стихам Пушкина. Он ей поручает стихи Пушкина доставлять к нему, а от него препровождать по принадлежности для отдачи в обыкновенную цензуру.
Между императором и Пушкиным устанавливается постепенно столь тесная связь, что Пушкин забегает к государю на улицах, якобы случайно; что с разрешения государя он является в Летний сад во время утренних прогулок государя: «но это между нами; скажут, что ты хочешь влезть ко мне в доверие, ищешь милостей и хочешь интриговать, а это тебе повредит. Всех, с кем я разговариваю и кого отличаю, считают интриганами» (стр. 72). Сюжеты их разговоров — не только поэзия, но также дела и люди современные, Аракчеев, Сперанский; государь выражает свои личные о них суждения. Он интересуется даже снами Пушкина: «скажите ему, что я прошу его видеть таких снов побольше, они прекрасны и полезны для русской поэзии» (стр. 84). Он поручает Смирновой
передать Пушкину, что Веллингтоновский «Reformbill»[1363][1364] прошел в английском парламенте, а он думал, что не пройдет (стр. 82). А. О. Россет сделалась посредницею между государем и Пушкиным; а так как ее функция имела несомненно литературно–политическое значение, то и сама она становилась политическим лицом. Она исправляла свою должность с серьезностью департаментского регистратора и вела список всего, что проходило чрез ее руки. По приему, часто употребляемому ею в «Записках», она заставляет Пушкина огласить этот список. На один из последних своих обедов у Смирновых (стр. 319) Пушкин принес записку и сказал: «Отгадайте? Говорят: стихи. — Это — список поэм и стихотворений, которые одна прекрасная особа давала читать государю, прежде чем их видел Катон (граф Бенкендорф). Тут есть: Онегин, Граф Нулин, Медный Всадник, есть Бородино, На взятие Варшавы и Клеветникам России, из‑за которых мой фельдъегерь даже поссорился с Вяземским, который сказал, что это — „шинельные стихи…».
Что касается до «Медного Всадника», то я сомневаюсь, был ли он подносим государю, потому что цензура в конце концов его не пропустила, так что он появился только между посмертными произведениями Пушкина. Если бы действительно государь, как то написано в «Записках» Смирновой, сказал в разговоре с Пушкиным: «Я рад, что ты озаглавил поэму Медный Всадник, это такое русское заглавие и оно так идет к Петру Великому; то, что Александра Осиповна показывала мне, дивно хорошо», — то, имея такую заручку, поэт мог бы пожаловаться государю на цензуру, и поэма бы прошла. Но у Смирновой выходит, что государь Николай и его цензура были почти в таком же отношении, как Филипп II и св. Инквизиция: что разрешил король, то инквизиция могла еще запретить.
Относительно «шинельных стихов» можно бы, по–видимому, с уверенностью сказать, что в этом мелком факте замечается очевидная маленькая литературная подделка. Уже после взятия Варшавы (7 сентября
1831 г.) Жуковский издал томик своих и пушкинских патриотических стихов, в числе которых стихи «На взятие Варшавы» были его собственные. В IX томе соч. кн. П. А. Вяземского, напечатанном в 1884 г., воспроизведено содержание его старых записных книжек. В одной из них было отмечено, что, находясь в Москве и прочитав патриотический сборник своих друзей, Вяземский его не одобрил по чувству, внушаемому простейшею моралью, что лежачего не бьют. Под 14 сентября 1831 г. в книжке Вяземского записано, что он написал письмо к Пушкину, но только
не послал. В письме было сказано: «охота была Жуковскому (не Пушкину) писать шинельные стихи» (стихотворцы, которые ходят в Москве в шинели по домам с поздравительными одами). Свою остроту едва ли Вяземский повторил потом в С. — Петербурге, так как сборник имел большой успех у публики, а Вяземский не пошел бы против этого уже определившегося течения. Следовательно, в «Записках» Смирновой имеются следующие неточности: 1) Пушкину неверно приписаны стихи Жуковского; 2) Вяземский никогда не называл стихов «Клеветникам России» «шинельными стихами»; 3) сама острота «шинельные стихи» — не была, вероятно, известна до издания в 1884 году IX т. Сочинений Вяземского. Патриотический сборник издан Жуковским; очень может быть, что и пушкинские стихи, предназначавшиеся в этот сборник, могли попасть в печать помимо государя. Удостоверяемый Смирновою факт, что «Бородино» и «Клеветникам России» подносимы были предварительно государю, способен умалить до некоторой степени наше уважение к Пушкину, если бы они могли быть объяснены не выражением патриотических чувств русского человека, но личною услугою Пушкина правительственной политике.
Если бы было достоверно, что император Николай двукратно якобы повторил Смирновой (стр. 221), чтобы Пушкин передавал ему все, что напишет («не забудьте, это более чем разрешение; я этого хочу»); если бы император Николай действительно был в таком восхищении от пушкинского «Пророка» («стихотворение дивно–прекрасно, это настоящий Пророк»), то Пушкину незачем было бы добиваться упорно, но безуспешно, разрешения издавать подцензурную газету; он бы гораздо больше сделал и скорее действовал, влияя на государя непосредственно; он бы успел и доставить облегчение друзьям своим декабристам, и достигнуть освобождения крестьян. Это освобождение звучит во всей книге фальшивым тоном на аккордах Смирновой. Были благие по этому предмету пожелания, но не в той степени и не во все времена; мера и перспектива не соблюдены; настроения действующих лиц модернизированы после крестьянской реформы и в духе этой реформы. Не мог Пушкин последних его лет сказать (стр. 288): «Я ненавижу придворное дворянство, с ним государю всего труднее будет справиться в деле освобождения крестьян». Не мог самодержец, исполненный сознания своего политического всемогущества, делать такие интимные сообщения и высказывать заветы, касающиеся глубочайших замыслов политики: «только тогда я буду счастлив, когда народ освободится от крепостной зависимости», на что Смирнова ответила: «да услышит вас Бог», а ее муж и Пушкин сказали: «аминь!» (стр. 225).
Кто бы желал удостовериться в малой решительности императора Николая по крепостному делу, тому бы мы советовали справиться о том в труде В. И. Семевского во втором томе его (1882) книги «Крестьянский вопрос в царствование императора Николая».
VIII
Венцом несообразностей, которыми пестреют «Записки» Смирновой, считаю я все то, что в этих записках относится к «Анчару», причинявшему Пушкину бездну неприятностей. В 1832 г. цензор пропустил эту на вид совсем невинную, весьма красивую безделушку, навеянную поэту воспоминаниями о его африканском происхождении. Граф Бенкендорф почуял в этом произведении нечто ядовитое и возбудил вопрос, почему оно было напечатано без предварительного разрешения государя. Дело доходило до государя и кое‑как уладилось. У г–жи Смирновой сочинен по поводу «Анчара» целый рассказ вроде комментария. Император прочел corpus delicti[1365], который произвел на него сильное впечатление. «За ужином он мне сказал: то был раб, а у нас крепостные. Я прекрасно понял, о каком дереве говорит Пушкин. Он прав, говоря, что мы должны возвратить русскому мужику его права, его свободу и его собственность (совершенно в духе Положений 19–го февраля 1861 г.). Я говорю: мы, потому что я не могу совершить этого помимо владельцев крепостных, но это будет. Если бы я один сказал это, сказали бы, что я деспот. Уполномочиваю вас передать все это Пушкину».
Оставим этот разговор, который, на мой взгляд, совсем не в духе императора Николая и был бы уместен и корректен, только если б его вел какой‑нибудь конституционный монарх, а не неограниченный самодержец. Остановимся на самом древе яда и вдумается в его внутренний смысл. Либо «Анчар» есть чистая безделка, взятая из какого‑нибудь путешествия по Африке, считаемой поэтом его дальнею родиною. Я сам так думал, когда в 1891 г. полемизировал с краковским профессором Третьяком (VIII т. моих сочинений, л. 55), который объяснял «Анчара» непримиримою ненавистью к существующему в России политическому порядку. Я опровергал это мнение, основываясь на «Воспоминаниях и Очерках» Анненкова[1366], и доказывал, что такое толкование не соответствовало тогдашнему настроению Пушкина, когда «Анчар» писался Пушкиным в Малинниках в 1828 г., когда он еще не был женат и когда он чувствовал себя
веселым, свободным и счастливым. Либо «Анчар» имел мысль сокровенную, гораздо более глубокую, на что наводят слова: «Анчар, как грозный часовой — Стоит один во всей вселенной… Но человека человек — Послал к Анчару властным взглядом… И умер верный раб у ног — Непобедимого владыки… И царь тем ядом напитал — Свои послушливые стрелы — И с ними гибель разослал — К соседям в чуждые пределы»… Чем больше я вдумываюсь теперь в это весьма загадочное произведение, тем более склоняюсь к тому, что, может быть, Третьяк до известной степени прав, и что граф Бенкендорф доказал свою проницательность, отнесясь подозрительно к «Анчару». Начало тридцатых годов еще не было столь тяжело для литературы, как во времена после февральской европейской революции 1848 г., когда начал действовать негласный (бутурлинский) комитет 2 апреля[1367], когда русская литература платилась за политические беспорядки в западной Европе и когда прекратилось всякое свободное выражение мыслей по каким бы то ни было общественным вопросам. Но и в тридцатых годах уже определительно обозначалось, в каком направлении движется Россия и к какому умственному омертвению она должна прийти. Это настроение эпохи отражалось всего сильнее на Пушкине; не было человека более вольнолюбивого, чем он, но его не отпускали; он чувствовал себя по рукам и по ногам связанным и юридически, и нравственно, по чувству благодарности за непривлечение к ответственности по связям с декабристами, за монаршие милости и щедроты. Он был как птичка в клетке и, когда мог, пытался упорхнуть, просился В 1828 Г. на турецкую войну, но его не пустили; он сбежал без спроса в Эрзерум, но фельдмаршал Паскевич, по словам г–жи Смирновой, выпроводил его в Тифлис. Ему не позволили печатать даже хвалебных для правительства стихотворений, например «Друзьям»: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю» (март, 1828). На него находила порою хандра. В одну из таких минут, в Малинниках, в 1828 г., он имел поэтическое видение: ему представились в поэтическом образе те тяжелые для мысли, для свободного творчества условия, в которых приходилось и ему, и целому обществу жить; кругом — омертвение, пустыня, ужасающее однообразие; над отдельными людьми–особями высится всемогущая власть, перед которою все преклоняется, которая всему миру грозна и посылает послушные стрелы во владения соседей. Я готов допустить, что в «Анчаре» можно найти ключ не ко всей деятельности Пушкина во втором николаевском периоде его жизни, но к некоторым, возвращавшимся к нему чаще и чаще ощущениям, далеко не жизнерадостным, а сильно пессимистическим. В такие моменты А. О. Смирнова, которой не был в подробности известен александровский период, не могла его наблюдать; с этой стороны он ей совсем не показывался, но такие вспышки чувства горести и сильной боли у него бывали и сохранились, как например следующие. В письме 1835 (VII, 239): «Chere madame Osipow, la vie, toute siisse Gewohnheit qu’elle est, a une amertume qui la rend degoutante et c’est un vilain lac de boue que ce monde[1368]». Письмо 1836 г. (VII, 401): «русская журналистика все равно что золотарство, которое хотела взять на откуп г–жа Безобразова. Очищать русскую литературу значит чистить нужник и зависеть от полиции. Черт их побери, у меня кровь в желчь превращается». Письмо к жене 1834 (VII, 353): «Зависимость от честолюбия или из нужды унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно поступать как угодно». Письмо 1834 (VII, 355): «Кабы Заводы были мои, меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Живя в нужнике, поневоле привыкаешь к г…, и вонь его не будет тебе противна, даром что gentleman[1369]». Письмо 1834 г. к жене (VII, 351): «Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне, что мне весело в нем жить, между пасквилями и доносами». — Письмо (1834) жене (VII, 349): «Дай Бог плюнуть на Петербург, подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость, особенно когда лет двадцать человек был независим». Письмо 1834 (VII, 366): «Не хочу, чтобы папеньку (моих детей) хоронили как шута, а их маменька ужас как хороша была на Аничковых балах». Письмо 1836 (VII, 404): «Душа в пятки уходит, как вспомнишь, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уже полицейские выговоры, и мне говорили: vous avez trompe[1370]. Что теперь со мною будет?.. Черт меня догадал родиться в России с душою и талантом! весело, нечего сказать!».
Эти — не жалобы и не выражения скорби, а просто крики сильной душевной боли, издаваемые человеком, который вовсе не расположен был по своей натуре ныть и хныкать, не соответствуют ни портрету, написанному А. О. Смирновою, ни идеальному представлению о Пушкине, сочиненному под впечатлением ее «Записок» г. Мережковским. В «Записках» Смирновой Пушкин — любимец государя, такой же исправный и приличный царедворец, как и она сама, человек, понимающий и соблюдающий все условности тогдашнего общежития (все conventionelle Liigen[1371], как выражается Max Nordau[1372]). У г. Мережковского Пушкин — неизменно лучезарный, не затемняемый никогда никакими тучами бог Аполлон, расточающий кругом только жизнерадостность и веселье. Если с этими двумя, доброжелательно льстящими Пушкину изображениями, сопоставить настоящего Пушкина, каким он представляется не по некоторым, но по всем без исключения своим произведениям и письмам, то окажется, что сочиненный Пушкин не только неправдив, но даже и гораздо менее красив, нежели настоящий, у которого по временам от нестерпимой боли искажались черты лица. В нестрадающем Пушкине Мережковского пропадает весь трагизм положения великого поэта, который нам по этим страданиям становится особенно дорог. Вместе с тем объясняется еще и то, не имеющее никакой, указанной у Мережковского, разумной причины обстоятельство, что с тридцатых годов пушкинский дух стал убывать в русской литературе и что только в настоящее время становится он сильнее и ощутительнее.
В 1826 году Пушкин был обезоружен и нравственно подавлен оказанным ему, неожидаемым им монаршим великодушием, но вместе с тем он был существенно ограничен в величайшем для него благе, в пользовании полной интеллектуальной свободою. Он лишился в значительной части своих крыльев или, лучше сказать, источников своего творчества.
За малейшую вольнодумственную поэтическую выходку, за колкую остроту он мог не только поплатиться юридически, но и быть заклеймен как неблагодарный человек и нарушитель своего честного слова. Своим камер–юнкерством он тяготился, находя, что оно ему не по летам. Его облагодетельствовали и денежно. Женился он весьма неудачно, входил в долги. Более характерный человек ограничил бы себя, уехал бы в деревню, стушевался бы, и если бы писал, то не распространяя написанного, ничего не печатая. Пушкин этого не сделал. Его писания по вопросам политики и даже патриотические стихи были такого рода, что его недоброжелатели, — а таких было много, — могли их толковать как небескорыстные услуги правительству, от которого он столь непосредственно зависел. Однажды, уже после издания «Истории Пугачевского бунта», в минуту досады Пушкин подал через графа Бенкендорфа прошение об отставке, на которое последовало Высочайшее соизволение. Тяжело читать, в каких выражениях он просит графа не давать дальнейшего хода этому прошению (VII, 360—362: «j’aime mieux avoir l’air d’etre inconsequent, que d'etre ingrat»[1373]).
IX
А. О. Смирнова знала Пушкина только во втором периоде его жизни (Николаевская эпоха) и знала его исключительно с внешней, светской стороны его деятельности как знаменитого писателя и придворного. Темная, домашняя и трагическая сторона этой жизни ускользала от ее наблюдения. В настоящее время изданные в 1895 г. «Записки» А. О. Смирновой в том виде, в каком их обработала дочь ее, Ольга Николаевна Смирнова, совсем не годятся для употребления в качестве исторического источника по многочисленности прибавок, несомненно поддельных, позднейшего происхождения и по невозможности определить, без тщательного исследования рукописей, что занесено А. О. Смирновою в ее записные книжки на свежую память, день за днем при жизни Пушкина, что было прибавлено ею с 1837 г. по год ее кончины, в 1882 г.; наконец, что присовокуплено к ее запискам дочерью Смирновой, Ольгою Николаевною. Рукописи А. О. Смирновой находятся ныне, как слышно, во владении другой ее дочери. Если бы произошла основательная критическая чистка первоначальных записей в воспоминаниях А. О. Смирновой от всяких позднейших налетов, то пришлось бы заключить, что А. О. Смирнова, познакомившаяся с Пушкиным только в позднейшем периоде его жизни, в Николаевскую эпоху, настоящего Пушкина за всю его жизнь представить не могла. Так как г. Мережковский избрал ее, однако, своим главным проводником, то по ее указаниям он написал портрет заведомо неверный, с полным смешением эпох Александровской и Николаевской, с подведением обеих эпох под один знаменатель и без всякого соображения с радикально изменившейся общественной обстановкою своего сюжета. Его этюд писан, так сказать, на китайский манер, без всякой перспективы. Он вообразил себе Пушкина как человека, не менявшегося в убеждениях и вкусах и имевшего во всю жизнь цельное миросозерцание, которого только он не успел, по недостатку времени, вполне достаточно выразить, но которое выводит сам критик по преданиям А. О. Смирновой. Г–н Мережковский строит миросозерцание Пушкина, как на краеугольном камне, на стихах «VI из Пиндемонте», навеянных будто бы воспоминаниями романтических скитаний по Бесарабии, Кавказу и Тавриде (456), между тем как они соответствуют пониженному тону самого конца его поэтической деятельности (1836 г.). Хотя на вид они как будто бы игривы, но насквозь проникнуты печалью. Поэт постоянно иронизирует: «Я не ропщу о том, что отказали боги — Мне в сладкой участи оспаривать налоги». Он притворяется, что равнодушен к самой цензуре, которую он искреннейшим образом ненавидел: «И мало горя мне, свободна ли печать — Морочит олухов, иль чуткая цензура — В журнальных замыслах стесняет балагура?». Ввиду сознаваемого им полнейшего своего бессилия он решает: «Зависеть от властей, зависеть от народа — Не все ли нам равно?» — хотя бесспорно, что он предпочел бы не зависеть ни от властей, ни от народа. Ища убежища, он залезает в уголок маленький, тесный, эгоистический… «никому — Отчета не давать; себе лишь самому — Служить и угождать… — Дивясь божественным природы красотам — И пред созданьями искусств и вдохновенья — Безмолвно утопать в восторгах умиленья»… Бедный Пушкин! он опасается даже признать своим стихотворение, надевает маску, прячется и подписывает сначала: «Из Alfred Musset», а потом: «Из Pindemonte».
Самые крупные произведения суть несомненно: «Цыганы», «Онегин» и «Борис Годунов»; все они писаны в Александровскую эпоху. К Николаевскому периоду принадлежат хотя и артистически превосходные, мастерские, но такие, к которым публика стала постепенно охладевать, не давая себе в том отчета. Перенесение на весь Александровский период настроений, свойственных только Николаевскому, дает оценке Пушкина у г. Мережковского произвольное и совершенно ложное освещение, причем критик исключает все неподходящие к его изображению направления в Пушкине, которые являлись для него неразрешимыми противоречиями; он сочиняет своего Пушкина, по своему вкусу, по своему подобию и выдвигает те подмеченные им признаки, которые наиболее соответствуют его собственной психической организации. В психической организации г. Мережковского я подметил четыре элемента: он прежде всего жизнерадостный язычник, с оттенком гордого аристократизма; он притом нервный, чувствительный галилеянин. У него есть сильный порыв к дикой свободе, к первобытному человеку. Он готов идейно, не на деле, радоваться, когда вся современная цивилизация будет целиком взорвана на воздух. Ему и на мысль не пришло приписать Пушкину такой идейный анархизм. Он верно наметил в Пушкине как преобладающую черту его веселость, его неумолкающую заздравную песнь Вакху и его дивную, не всегда достигаемую даже величайшими мировыми поэтами, простоту. Пушкин ясен как эллин. Мережковский прекрасно изображает его внешность, красивую только по выражению лица и в особенности глаз, которые, когда он вдохновлялся, из голубых делались почти черными и искрящимися, а вдохновлялся он просто, без всякого пафоса и риторики, без малейшего восторга.
Я вполне согласен с г. Мережковским, что в Пушкине язычник сочетается гармонически с христианином, хотя перевес имел все‑таки язычник. Как правдиво и могуче прочувствовано было христианство Пушкиным, доказывают писавшийся в 1829 г., недоконченный «Галуб», стихотворения 1836: «Когда великое свершалось торжество»; молитва: «Отцы пустынники и девы непорочны». Я бы подчеркнул только, что это — своего рода христианство, не такое, как у всех, бодрое, готовое к подвигу; что в нем нет ничего, подобного жалостливости, нетерпимости вида малейшего страдания или боли, хотя бы они были вполне заслуженные, хотя бы страдающий был нераскаянный последнего разбора злодей или подлец; что он христианин вследствие того, что христианин должен быть нервен и слаб до невыношения никакого выражения или оказательства страдания.
Г–н Мережковский делает громадные усилия, чтобы объединить в Пушкине язычника с христианином, но цели своей не достиг, что и доказывают стр. 499—504 его книги, исполненные противоречий. Вывод его состоит в следующем.
Пушкин как галилеянин противополагает первобытного человека (т. е. дикаря) современной культуре, основанной на власти черни, на демократии, на равенстве людей и большинстве голосов, то есть на так называемых гражданских мотивах. Заметим, что сама постановка вопроса — совсем неверная; христианство противопоставило гражданским мотивам язычества не первобытного человека, не отвлеченного, будущего, — человека, каким он должен быть в своем совершенстве, то есть душу человеческую, проникнутую Богом и с Богом сливающуюся.
Так‑то, по мнению г. Мережковского, действовал Пушкин как галилеянин; но он был в то же время и язычник. Как язычник он противопоставлял той же якобы ненавистной ему современной культуре с ее гражданскими мотивами совсем другой объект, а именно самовластную волю единого творца или разрушителя, пророка или героя. Полубог и укрощенная им стихия — такой будто бы другой главный мотив пушкинской поэзии. В этом именно отношении отличался якобы Пушкин от поэтов — естественных демократов, явно подчиненных духу века, каковы: Виктор Гюго, Шиллер, Гейне и даже сам Байрон.
Если, по выводу г. Мережковского, Пушкин противопоставлял культуре не один, а два предмета, то, спрашивается, оба ли вместе или поочередно, сначала один, а потом другой? Оба объекта не тождественны. Пословица гласит, что за двумя зайцами зараз не угонишься, — ни одного не поймаешь. Для г. Мережковского это одновременное беганье по двум скрещивающимся под прямым углом направлениям совершенно возможно и удобопонятно. По его словам, аристократизм духа столь же тесно связан с глубочайшими корнями пушкинского мировоззрения, еще не вполне наукою раскрытого и несомненно менявшегося, как и стремление его к возвращению к первобытному человеку или, иными словами, к всепрощающей природе, которая в сущности ничего никому не прощает, так как для нее, рассматриваемой отдельно от человека, добро и зло совершенно безразличны. По мнению г. Мережковского, красота первобытного человека и красота героя — таковы два мира, два идеала, одинаково отвлекающие Пушкина от современной культуры, ненавистной Мережковскому, буржуазной, с которою, однако, Пушкин, по «Запискам» Смирновой, совсем не воевал; напротив того, в записанных Смирновою беседах он буржуазии от аристократизма не отличал, он ее считал тем же аристократизмом, но несколько пожиже.
Задача г. Мережковского логически не осмыслена: нельзя одновременно гоняться за двумя противоположными идеалами, — свободою дикарей и поклонением создателям культуры — героям. По необходимости, для выхода из противоречия, придется предположить, что Пушкин не был вовсе философ, что у Пушкина не было одного цельного во всю жизнь мировоззрения, что убеждения его менялись, что они чередовались: одно господствовало до катастрофы, постигшей сердечных друзей его, декабристов, к которым он не переставал никогда относиться нежнейшим образом и любовно; другое его направление установилось только после катастрофы.
Остановимся, следуя за г. Мережковским, сначала на стремлении Пушкина в качестве якобы галилеянина бежать от современной культуры в некультурное состояние. По времени оно совпадало с самым кипучим гражданским его реформаторством. С молодым поколением он был душою заодно и собирался не разрушать, а строить, когда писал в оде «Вольность»: «Не слышно там людей стенанье, — Где крепко с вольностью святой — Законов мощных сочетанье». Всякая расположенная к реформам эпоха отличается большим усилением субъективизма, большим расположением к субъективизму, который, чтобы расшатать неудовлетворительное настоящее, ищет точек опоры везде, где можно, следовательно, даже и в прошедшем. Переход идеала как чего‑то искомого в прошедшее совершается посредством известной оптической иллюзии. Идеал этот отыскиваем был русскими славянофилами в допетровской Москве; его можно искать и в небывалом золотом веке доисторического быта. Бывали целые поколения, которые вместе с Руссо и Алеко проклинали «пышную суету наук». Приискивая предшествовавших Пушкину таких ретроспектантов, г. Мережковский набрал в свою компанию и Сервантеса, и Монтеня; он мог бы пригласить Шекспира, мог бы поставить в вечные спутники всех писателей конца XVIII в., которым были насквозь пропитаны и Байрон, и Пушкин. Но Пушкин отделался от байронизма вполне и радикально, написал своих «Цыган», после чего даже и в «Записках» Смирновой, которыми руководствуется г. Мережковский, Пушкин является уже решительным антиромантиком и антибайронистом. После того песня Алеко над колыбелью сына была окончательно спета; сам Пушкин не включил ее в свою поэму «Цыганы» и никогда потом не обнаружил ни малейшего серьезного поползновения следовать заветам Алеко: «Не знай стеснительных палат — и не меняй простых пророков — На образованный разврат»… или будь «напрасных угрызений чужд»… Я просто прихожу в недоумение, читая у г. Мережковского на стр. 473 следующее: «Пушкин первый с силою и страстностью выразил вечную противоположность культурного и первобытного человека; эта тема должна была сделаться одним из главных мотивов русской литературы». Автор, очевидно, спутал неестественный, а потому фальшивый уход утонченного культурника к первобытным дикарям, по идее Руссо, с постепенным опрощением нравов как неизбежным поступательным шагом вперед в культуре, который только и может быть совершен посредством столь ненавистной автору демократизации нравов, то есть посредством приобщения к культуре оставшихся некультурными классов, всех низших слоев общества.
Нам предстоит еще разобрать другой культ, который исповедовал Пушкин якобы как язычник, — культ героев, а так как г. Мережковский отождествляет героев с поэтами, то пушкинский культ и героев, и поэтов. К этому культу отнесены стихи и поэмы, посвященные либо Наполеону, либо Петру В.(еликому), а также стихи Пушкина о пророках и поэтах, которыми изобилует второй период его жизни и в которых отражается его отрицательное и презрительное отношение к черни. Попробуем исключить из этой довольно значительной массы одну статью за другой, и прежде всего устраним Наполеона. То был яркий метеор, ослепивший и заполонивший всех поэтов первой половины XIX века. Наполеон, как сюжет поэзии, навязывался силою вещей их воображению. Этому герою поклонялись почти с одинаковою симпатиею и преданностью Пушкин и Лермонтов, Ламартин и Гюго, Байрон и Гейне и три передовые польские поэта: Мицкевич, Красинский и Словацкий. Стихотворения, имеющие сюжетом Наполеона, доказывают не то, что поэт имел культ героев, но только, что он жил в первой половине XIX в. или сочувствовал этой эпохе. Поклонение Петру В.(еликому) служит основанием к тому, чтобы сказать, что Пушкин был русский человек, но еще не устанавливает на незыблемом основании, чтобы отношение Пушкина к Петру было всегда любовное и такое, каким оно было в «Полтаве» или в предисловии к «Медному всаднику»: «На берегу пустынных волн»… За этим предисловием, имеющим вид только декоративного портика, написанного скорее для цензуры, нежели для публики, но не достигшим, однако, своей цели, так как цензура «Медного всадника», однако, не пропустила, скрывалась основная мысль поэмы, скорее, враждебная Петру, скорее, славянофильская. Поэма, по словам князя Петра Петровича Вяземского, заключала в себе не дошедший до нас и, может быть, безвозвратно погибший монолог Езерского в тридцать стихов, «исполненный ненависти к европейской цивилизации». Положим, что это монолог Езерского, но само сочинение Пушкина доказывает, что Петр В.(еликий) представлялся Пушкину существом еще неразгаданным, сеятелем и добра, и зла.
Что касается до призвания и назначения пророков и поэтов и до презрительных, выражаемых ими у Пушкина взглядов на чернь, то все эти выходки в конце его жизни получали постепенно обостряющийся характер. Они объясняются не мировоззрением Пушкина, а личными его чувствами, изменившимся его отношением к публике. Эту перемену усматривает и г. Мережковский, когда он соболезнует о том, что поэт пошел в разлад со своим варварским обществом, со своим отечеством, что пуля Дантеса только довершила то, к чему неминуемо вела Пушкина русская действительность. С каждым шагом он отрывался от интеллигентного общества, становился враждебным среднему русскому человеку (стр. 453). Не оказалось взаимодействия между народом и гением, народ не возвел гения на подобающую ему высоту.
Сетования на заедающие силы гения, на народ его и среду можно бы ныне сдать спокойно в архив вместе со всем гардеробом романтизма, со всеми якобы непризнанными, непонятыми и по сей причине погибшими гениями. К Пушкину такой прием возвеличивания его совсем неприменим, потому что с минуты появления в печати «Руслана и Людмилы» он воцарился в области русской литературы и был непререкаемо первым и величайшим поэтом России; но только в его владычестве произошла та разница, что до конца двадцатых годов XIX в. он был полубогом, а потому публика стала к нему несколько холоднее, хотя даровитости и творчества его никто не смел оспаривать, так как художественная гениальность его проявлялась по–прежнему во всей своей полноте. Когда наступает такое охлаждение публики к возлюбленному ею поэту, то всегда бывает виноват сам поэт, который не умеет, не может или не желает кормить своими идеями и эмоциями восприимчивую, пассивную, но имеющую свои инстинкты и жгучие потребности толпу. Говорят: «Пушкин — поэт преимущественно жизнерадостный», но всякое такое определение есть в то же время и ограничение. Жизнерадостность есть отрицание всякой грусти, всякого пессимизма; а может быть, скорбь и горечь были именно в данную минуту потребны организму, может быть, он не хотел сладкого вина и требовал мяса, или даже сильного лекарства вроде хинного порошка. Несомненно, что по вопросу об охлаждении публики к поэту Мицкевичу — вполне компетентный судья; он был такой же властитель душ, надо думать, в своем народе, как Пушкин — в русском. Он выразился, что публика стала равнодушнее к Пушкину потому, что чувствовала, что он перестал быть ее духовным наставником (directeur des consciences). Он удалялся в холодную область чистого искусства и приохочивал радоваться и плясать, когда над Россиею простирались исполинским навесом густые ветви дерева «Анчара». Поэзия есть функция народного творчества в высшей степени социальная; на это ее качество могут не обращать внимания эстеты, но в г. Мережковском сидит, несомненно, социолог, и он‑то должен быть в этом качестве нами судим. Коль скоро Пушкин способен был только выделять из себя одну жизнерадостность, то понятно, что в данное время публика могла бы предпочесть ему другой талант, даже и менее гибкий и разнообразный, что ей мог бы быть симпатичнее даже Лермонтов, которого г. Мережковский не любит за его риторичность. Я полагаю, что Лермонтов был в данный момент настоящий великий поэт Николаевской эпохи, и что его мятежность и могучая мужественная скорбь больше подходили к тому времени, более помогали обществу переживать тяжелый и жестокий век, нежели поэзия Пушкина. Притом, заметим, что настоящее движение против Пушкина началось не при нем, а только в шестидесятых годах XIX в., через 25 лет после его кончины, что оно было явление не моментальное и не частичное, а общее и продолжительное. Оно не могло быть беспричинное и имело довольно глубокие мотивы, которые будут со временем выяснены, когда шестидесятые года найдут своих историков.
С г. Мережковским о шестидесятых годах я не намерен спорить. Расстаюсь с его книгою, с которой я почти ни в чем не согласен, но признаю, что она прекрасно написана, что местами она увлекательна и читается легко, наконец, что она вызывает, располагает к тому, чтобы о ней думать и много, много спорить. Будем надеяться, что со временем г. Мережковский сосредоточится, сделается последовательнее и будет представлять из себя цельное лицо, а не компанию расходящихся в разные стороны противников…
11 апреля 1897.
Положительно я очень рад за г. Мережковского. С тех пор у него уже не будет ни малейшего основания жаловаться на то, что им занимаются и его беспокоят лишь мелкие газетные мошки, к которым он, разумеется, не мог относиться иначе, как с подавляющим презрением. Теперь разбор его литературных прегрешений перешел в высшую инстанцию и сам «Вестник Европы» поместил о нем обширную статью В. Д. Спасовича.
Правда, г. Спасович очень мало говорит о самом г. Мережковском. В его статье вы найдете много блестящего и интересного о Флобере, Кальдероне, Монтене, еще больше о Мицкевиче и Пушкине, наконец, целое самостоятельное исследование о достоверности записок А. Смирновой[1374], но все же заглавие над каждой страницей напоминает, что г. Спасович взялся за перо с исключительной целью писать о г–не Мережковском и его книге «Вечные спутники».
Правда и то, что в разбираемой статье г. Спасович прибегнул к методе С. Бёва. Вы, конечно, знаете, что это за метода. Заключалась она в том, чтобы хвалить писателя, но после каждой похвалы впускать в него иголку и, в конце концов, оставить о нем лишь приятное воспоминание[1375]. И здесь г. Спасович очень одобряет г. Мережковского. Он не скупится на слова: красиво, умно, талантливо, «наводит на размышления», а рядом с этим… рядом с этим он читает ему жестокие, совершенно справедливые нравоучения и говорит, что г. Мережковский сам не знает, чего он хочет, во имя чего пишет, что любит, что ненавидит. Для писателя, выступившего в роли критика, — так как «Вечные спутники» не что иное, как сборник критических этюдов и литературных портретов, — такие похвалы то же самое, что бутерброд с горчицей после деликатесного тонкого ужина.
«В психической организации г. Мережковского, — пишет г. Спасович, — я подметил четыре элемента: он прежде всего жизнерадостный язычник, с оттенком гордого аристократизма, он притом нервный, чувствительный галилеянин. У него есть сильный порыв к дикой свободе, к первобытному человеку. Он готов идейно, не на деле радоваться, когда вся современная цивилизация будет целиком взорвана на воздух».
Прибавьте к этой характеристике ядовитое замечание, что г. Мережковский–критик совершенно не разбирается в тех материалах, которыми пользуется и, например, безусловно полагается на безусловно недостоверные записки г–жи Смирновой, и что же вы получите: жизнерадостный аристократ, язычник, проклинающий культуру во имя христианской любви и готовый аплодировать пожару всех пяти частей света, и к тому же критик, лишенный главного — чутья достоверности. Отчего же не выразиться еще более символически? Например, в зеленом г–не Мережковском живет фиолетовая душа, испускающая коричневые звуки, производящие бледные впечатления.
Г–н Спасович все же надеется, что г. Мережковский исправится. «Расстаюсь, — говорит он в конце, — с его книгою, с которой я почти ни в чем не согласен, но признаю, что она прекрасно написана, что местами она увлекательна и читается легко, наконец, что она вызывает, располагает к тому, чтобы о ней думать и много, много спорить. Будем надеяться, что со временем г. Мережковский сосредоточится, сделается последовательнее и будет представлять из себя цельное лицо, а не компанию расходящихся в разные стороны противников».
Относительно компании расходящихся в разные стороны противников, верующих и неверующих, смиренных и гордых, готовых распростереться ниц и угрожающих, — я уже достаточно говорил на столбцах «Новостей» и, следовательно, с этим пунктом я согласен[1376]. Но надежды г. Спасовича я решаюсь не разделить даже в самой малой степени, и вот почему.
Во–первых. Будет очень жаль, если г. Мережковский исправится. В настоящее время мы имеем в нем редкий экземпляр совершенно развинченного импрессиониста, писателя, живущего минутными настроениями, экстренно перелетающего от Дарвина к Карлейлю, от Толстого к Ницше, от восторга к проклятию. Неужели же это не прелесть? Ведь в Париже — есть Жюль Леметр, хотя и более сосредоточенный, чем г. Мережковский, но тоже импрессионист чистой воды. А чем — quart du diable[1377] — мы хуже французов? Зачем где‑то на чердаке в том же Париже живет Stephane Mallarme, где‑то в Брюсселе — Морис Меттерлинк и т. д. Г. Мережковский для нас, русских, заменяет их всех, единовременно представляя из себя их всех. Фиолетовая душа в зеленом теле, любящее сердце, спорящее с ненавидящей мыслью, жизнерадостное язычество, смешанное с христианскими слезами… повторяю, это прелесть.
Во–вторых. Занявшись Флобером, Пушкиным и недостоверностью записок Смирновой, г. Спасович в значительной степени упустил из виду г. Мережковского. Это грустно, и, будь оно иначе, статья бы не закончилась изъявлением надежды. Нетрудно вообще видеть в г. Мережковском прежде всего неисправимого дилетанта, которому его быстрый и восприимчивый ум помогает овладевать сразу и сразу же увлекаться и теорией естественного подбора, и философией отцов церкви, а затем, драгоценный продукт восьмидесятых годов «кость от кости его и плоть от плоти его», — может он сказать про минувшее в вечность десятилетие. Никто, как он, так рельефно не отразил в своей литературной деятельности скоропалительных скачков нервной, но совсем не настойчивой и несомненно растерявшейся интеллигентной мысли. Более холодный темперамент и иное — естественнонаучное образование позволили другому восьмидесятнику г. Чехову сосредоточиться на своем «я не знаю, не верю, не понимаю — я устал». Чехов дошел до точки, г. Мережковский никогда этой точки не найдет. Он не просто «аристократ», он артистически избалованный, умственный гастроном, которому на первое блюдо подавайте кающегося грешника, а на второе — демона, проклинающего веру и любовь. В утонченности своего вкуса он доходит до виртуозности, и что же удивительного, если сегодняшний кумир Ницше завтра кажется ему пресным, а Будда — грязным и нечистоплотным старикашкой, учение которого ей–ей скучно. Чем только не уникален г. Мережковский, начиная от народничества и кончая символизмом. И что же? Пережил ли он хотя одно свое увлечение до конца, углубился ли он хотя бы в одну систему? Дал ли он хотя одно произведение, из которого вырисовывалась бы полностью его личность? Ничего такого с ним не случилось, да и случиться не могло, потому что в его библиотеке (говорю предположительно) рядом с отцами церкви стоит Дарвин, а в душе — оркестр всех настроений. Я не стану повторять пошлых фраз о том, что г. Мережковский «соприкоснулся с действительностью», получил действительную шишку от действительности. Бог с нею, с действительностью, — этим магическим словцом сороковых годов, смысл которого никому не понятен. Дело не в ней, а в том, что г. Мережковский, благополучно перешагнувший роковой сорокалетний возраст, вырос в такой обстановке, когда не было ни устойчивых настроений, ни определившихся жизненных идей. Он начал петь с голоса покойного Плещеева, но быстро сообразил, что ведь это смешно, если не глупо. Он стал петь от себя, — но в сущности все это были чужие голоса, которые он по нервной восприимчивости принимал за свои. Сказать ему — «пойте одно», «сосредоточьтесь», «надеемся, что вы сосредоточитесь» — то же самое, что — виноват за поэтическую метафору — посоветовать ласточке летать прямо или — виноват за непоэтическое выражение — флюгеру вертеться в одну и ту же сторону. Non possumus[1378] и все тут. Предмет, которым очень увлекся бы господин Мережковский, должен бы сразу быть белым и черным, большим и малым, низковысоким, длиннокоротким, а система — умноглупой, христиански–языческой, любящененавидящей и логически–строгонепоследовательной. Если же это так, то такое впечатление произведет на г. Мережковского нравоучение г. Спасовича по кардинальному пункту о красоте:
«Красота в сущности тождественна с добром; в противном случае она — уродство и извращение чувства… Любовь к заведомо недостижимой, значит — к несуществующей красоте есть ведь только праздная прихоть, чувство без содержания, нечто похожее на свободу выбора у детерминистов по вопросу о свободе воли; любовь может быть только к возможному добру».
Мне кажется, что г. Мережковский мало что восчувствует, прочтя эти догматические строки и ответит на них стихами своей супруги: «я хочу, чего нет на свете» и ее вопросом: «злой дух! Неужели ты непризнанный учитель великой красоты?»[1379].
Красота — добро. Это догма. Но никаких догм нет у г. Мережковского и разве злое не может быть прекрасным? «Любовь к заведомо недостижимому — праздная прихоть!». Но разве г. Мережковский проповедует труд? «Надеемся, что он сосредоточится»! Но может ли сосредоточиться человек, выросший в умственной сумятице своей молодости, нервный дилетант и к тому же зрелый мужчина, который за тридцать два года ни на чем не успел остановиться?
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. СПб. Ц. 2 р.
Кого называет наш талантливый поэт «вечными спутниками», сопровождающими человека на жизненном пути? Конечно, это те гении, мысль которых создала мир чудных образов, великих идей, которые были и остались полубогами в царстве искусства. Портреты из всемирной литературы в изложении Д. С. Мережковского написаны ярко и образно, великие люди, как живые, предстают перед глазами читателя во всеоружии неувядаемого таланта. Марк Аврелий, Плиний Младший, Кальдерон, Сервантес, Монтень, Флобер, Достоевский, Гончаров, Майков, наконец, творец русской поэзии Пушкин — становятся нам близки и понятны не только как творцы своих произведений, но и как люди своего века, со всеми изгибами души и сердца. Главная цель даровитого автора — осветить и раскрыть внутреннюю духовную жизнь этих вечных спутников нашей жизни. Это нелегкая задача, но большею частью даровитый автор удачно справляется с нею. Величественный образ императора–философа Марка Аврелия, пишущего в походном шатре, между битв, свои глубокие философские умозаключения, можно считать одним из наиболее сильных и целительных в книге. Также сильны и метки характеристики Достоевского и Пушкина; с ними не вполне соглашаешься, но читаются они с живым интересом. Г. Мережковский вообще любит высказывать своеобразные, даже иногда чересчур странные взгляды, но надо вспомнить, что даровитый писатель не навязывает же их читателям. Он высказывает личное мнение, освещающее данный великий образ с особой точки зрения, и часто делает это истинно художественно и красиво. Очерков по всемирной литературе у нас немного, а тем более написанных с такой эрудицией и в такой изящной форме, как «Вечные спутники». Автор часто впадает в лирический пафос, к чему влечет его поэтическая жилка, но в наш холодный век отрадно увидеть искреннее увлечение, а в искренности именно и нельзя отказать г. Мережковскому.
Пушкин и его значение в нашей литературе снова служат предметом возобновляющегося у нас от времени до времени «домашнего, старого спора». В статье о книге г. Мережковского «Вечные спутники» в «Вестнике Европы» г. Спасович находит, что г. Мережковский дает чересчур преувеличенную оценку нашему великому поэту, воздвигает ему памятник, «какого еще никто не воздвигал». По мнению г. Мережковского, Пушкин был не столько совершитель, сколько начинатель русского просвещения. Поэт «недовершенных замыслов», который закладывал фундаменты во всех родах поэтического творчества, рубил просеки, мостил дороги и был нечто вроде литературного Петра Великого. «Создатель для своего народа особой, Пушкинской, культуры, он был способен поднять русскую поэзию и культуру на мировую высоту. Он — прототип такого русского человека, каким этот человек явится только в будущем, чрез двести лет. К несчастью для России, он преждевременно умер, не создав ни одного главного произведения, которое бы дало полную меру его сил, каковы: „Божественная комедия”, „Фауст” или „Гамлет”. Он обладает полным, стройным миросозерцанием, всеобъемлющею мыслью. Сделай этот медленно созревающий человек еще один шаг вперед, и он был бы признан тем, чем был в действительности — единственным даже среди величайших мировых поэтов, по крайней мере по выдающейся особенности его поэтического темперамента — по простоте. В этом отношении он едва ли не выше Гёте. Пушкинская Россия не сумела выдвинуть Пушкина на подобающую ему мировую высоту, не отвоевала ему места наряду с Гёте, Шекспиром, Данте и Гомером, — места, на которое он имеет право по внутреннему содержанию своей поэзии…». Г. Мережковский полагает, что несчастие Пушкина заключалось в том, что он очутился среди наступившего прибоя демократической мутной волны, среди одичания мысли и вкуса, среди грубого утилитаризма и народнического либерализма. Произошла продолжающаяся везде убыль пушкинского духа в литературе, которой г. Мережковский задумал положить конец своим изображением Пушкина, в виде второго идейного Петра Великого, скачущего вперед на обледеневшей глыбе финского гранита. «Кругом его бушуют волны наводнения, из которых каждая зовет нас назад, к материнскому лону земли, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа–пахаря или в уютную горницу „старосветских помещиков”, к затишью „дворянских гнезд” или к дикому „обрыву” над Волгою, к серафической улыбке „идиота” или к блаженному неделанию Ясной Поляны. Все эти голоса — не что иное, как богохульный крик возмутившейся черни». Возражая не столько против удивительного взгляда г. Мережковского на послепушкинскую литературу, сколько против чрезмерного, по его мнению, возвеличения Пушкина, г. Спасович прежде всего оспаривает значение одного документа, давшего г. Мережковскому основание говорить об убеждениях и симпатиях Пушкина, выразившихся в его устных беседах. Документ этот — известные записки А. О. Смирновой. Г. Спасович приводит ряд анахронизмов и несообразностей, встречающихся в этих записках и подрывающих к ним доверие. Затем он находит, что «в 1826 г. Пушкин был обезоружен и нравственно подавлен оказанным ему, неожидаемым им монаршим великодушием, но вместе с тем он был существенно ограничен в величайшем для него благе — в пользовании полной интеллектуальной свободой. Он лишился в значительной части своих крыльев или, лучше сказать, источников своего творчества». Г. Спасович считает лучшими произведениями Пушкина «Цыган», «Онегина» и «Бориса Годунова» — произведения, написанные в Александровскую эпоху. «К Николаевскому периоду принадлежат хотя и артистически превосходные, мастерские, но такие, к которым публика стала постепенно охладевать, не давая себе в том отчета». «Он удалялся в холодную область чистого искусства и приохочивал радоваться и плясать, когда над Россиею простирались исполинским навесом густые ветви дерева „Анчара”… Поэзия есть функция народного творчества в наивысшей степени социальная… Коль скоро Пушкин способен был только выделять из себя одну жизнерадостность, то понятно, что в данное время публика могла бы предпочесть ему другой талант, даже мене гибкий и разнообразный». По мнению г. Спасовича, настоящим великим поэтом Николаевской эпохи был Лермонтов: «его мятежность и могучая мужественная скорбь больше подходили к тому времени, более помогали обществу переживать тяжелый и жестокий век, нежели поэзия Пушкина». В словах г. Спасовича есть известная правда, но они звучат слишком суровым приговором над Пушкиным. В Александровскую эпоху поэт был гоним — и независим; позднее ему покровительствовали, и это стесняло его свободу. Но это была драма его личной жизни. Литературная деятельность для него была ограничена теми же рамками, что и для других, и он не мог сказать больше того, что сказал, а ретроградом он не был. Часть общества охладела к нему, но именно та часть, к которой принадлежал Булгарин, кричавший о падении его таланта, а все, что было в то время передового и талантливого, группировалось около Пушкина, и смерть его была горем лучшей части русского общества.
ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
СПб., 1897 г. Ц. 2 р.
Отличительное свойство г. Мережковского как поэта, романиста или критика — претенциозность. В его стихах не чувствуется искренности, нет сердечной теплоты, потому что автор занят исключительно самим собой и не может, не в состоянии отдаться чистому, безличному и свободному порыву. Он всегда «позирует». Совершенно таким же он остается и в своих критических очерках, которые, несмотря на видимое разнообразие, посвящены одному великому предмету — самому г–ну Мережковскому, чего он нисколько и не скрывает в предисловии. «За это соединение столь различных, по–видимому чуждых друг другу, имен в одну семью, в одну галерею портретов могут упрекнуть автора в отсутствии систематической связи. Но он питает надежду, что читателю мало–помалу откроется не внешняя, а субъективная, внутренняя связь в самом я, в миросозерцании критика, ибо — повторяю — он не задается целями научной или художественной характеристики. Он желал бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни. Это записки, дневник читателя в конце XIX века». Итак, предмет, предлагаемый вниманию читателя (всего за 2 р.), — я г–на Мережковского.
И вот оно, это драгоценное «я», перед нами в стенах афинского «Акрополя». «Я взглянул, увидел все сразу и сразу понял… Я почувствовал себя молодым, бодрым и сильным… Я всходил по ступеням Пропилей, и ко мне приближался чистый, девственный, многоколонный на пыльной побледневшей лазури полуденного неба, несказанно–прекрасный Парфенон… Я вошел, сел на ступени портика под тенью колонны… Я ни о чем не думал, ничего не желал, я не плакал, не радовался — я был спокоен»… Словом, я, я, я — бесконечное, однообразное «я» г–на Мережковского, из‑за которого не видно ни Акрополя, ни его красот. Мы узнаем только о великом открытии, сделанном «я» г–на Мережковского, что греки творили «согласно с природой», — фраза, решительно ничего не поясняющая. Каждый художник творит «согласно с природой», но только вносит в творение свое понимание природы, в чем и проявляется его индивидуальность, оригинальность, без чего нет и не может быть художественного произведения. Но г–на Мережковского нимало не трогают читательские недоумения, — он просто «позирует» на развалинах Акрополя и кокетничает с читательницами: «Я пишу эти строки осеннею ночью (заметьте хорошенько — ночью, а не днем, это очень важно для понимания Акрополя!), при однообразном шуме дождя и ветра, в моей петербургской комнате. На столе у меня лежат два маленьких осколка настоящего древнего камня из Парфенона. Благородный пентеликонский мрамор все еще искрится при свете лампы… И я смотрю на него с суеверной любовью, как благочестивый паломник на святыню, привезенную из далекой земли». Такие подробности, не имеющие никакого отношения к Акрополю, только и можно понять, как необходимое дополнение картины, изображающей «я» г–на Мережковского.
Та же позировка утонченностью эстетических эмоций составляет суть и дальнейших очерков, написанных свойственным г–ну Мережковскому напыщенно–сладостным языком, с постоянными потугами на глубокомыслие и вдохновенность откровений. В «Дафнисе и Хлое» автор прельщает читателя своим пониманием «невинной игры любви и величайшего целомудрия, граничащих с опасным и утонченным соблазном». Он не скрывает, что эта простенькая и на взгляд читателя нашего времени пустенькая поэма, крайне скабрезна и сладострастна, и ему доставляет высокое удовлетворение внушить читателю, как его «я» свободно проходит между Сциллой и Харибдой ничем не прикрытой чувственности, не забывая об эстетике. От развращенного автора «Дафниса и Хлои» он нарочно перескакивает к аскетическому Марку Аврелию, чтобы контрастом усилить эффект бездонной глубины своего всеобъемлющего «я». Плиний Младший должен высказать глубокую ученость и классическую начитанность автора, в котором он возбуждает восторг своим «умением жить». Трудно понять, почему Плиний попал в число «вечных спутников», и сам г. Мережковский не высокого мнения о нем как писателе и человеке. «Автор писем, — говорит он, — не герой, не редкое исключение, а типический представитель времени. Добродетели его — добродетели среднего хорошего человека той эпохи. Он не разыгрывает роли, напротив, — он не хочет и не умеет скрывать своих маленьких слабостей, своих недостатков, а главный недостаток его — литературное тщеславие». Все это, может быть, и верно, но тем менее дает ему право служить «вечным спутником» в ряду великих писателей, вместе с Марком Аврелием, Сервантесом, Ибсеном, Пушкиным и другими. Чувствуется натяжка, желание автора щегольнуть своей оригинальностью, «субъективной критикой», для которой будто бы закон не писан. Ларчик открывается очень просто, если взглянуть на странный подбор «спутников» автора с точки зрения, отмеченной в самом начале: автор позирует выбором чтения, не доступного профанам, но составляющего достояние глубоких «эстетов». На том же основании зачислен в вечные спутники Кальдерон, которого и сами испанцы не читают теперь, так как и им трудно уже вникать в его средневековый католический мистицизм.
«Субъективные» характеристики Флобера, Ибсена, Достоевского, Гончарова и Майкова не блещут ни глубиной, ни оригинальностью. В них автор повторяет ходячие трюизмы, ничего не внося своего, не давая никакого нового освещения. Недостаток его языка, крайняя банальность эпитетов и образов особенно дает себя чувствовать в этих характеристиках. Напр.(имер), характеристику Ибсена он заканчивает следующим возгласом, словно позаимствованным из какого‑либо фельетона: «Мы понимаем трагическую судьбу поколений, обреченных рождаться и умирать в эти смутные, страшные сумерки, когда последний луч зари потух и ни одна звезда еще не зажглась, когда старые боги умерли и новые еще не родились». «Тургенев — художник по преимуществу… Л. Толстой — громадная стихийная сила… Достоевский, — этот величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока, вместе с тем величайший поэт евангельской любви», и т. д. Оригинальнее других характеристика Пушкина, но в чем заключается эта оригинальность, читатели нашего журнала знают из «Критических заметок» прошлого года (см. июльскую книгу[1380]), почему касаться ее еще раз считаем излишним. В новом издании эта характеристика, насколько помнится, остается без изменений (первоначально была помещена в «Философских течениях русской поэзии», изд. г. Перцева[1381]).
В книге г. Мережковского собран ряд небольших критических очерков, появившихся в различных повременных изданиях с 1888 по 1896 год. Автор не задается намерением дать более или менее полную объективную картину стороны, момента или течения во всемирной литературе; цель его — поделиться с читателем чисто субъективными впечатлениями. Г. Мережковский, если можно так выразиться, прибег к приему психологической критики, и нельзя сказать, чтобы прием этот не удался ему. Некоторые характеристики обращают на себя внимание глубиной и оригинальностью точки зрения. Таковы, например, очерки, посвященные Сервантесу и Монтеню, освещение бессмертных типов Дон Кихота и Санчо Пансы ново и своеобразно; в несчастиях рыцаря печального образа г. Мережковский видит столкновение идеи с действительностью, мировой правды с силою повседневной себялюбиво–самодовольной лжи. Тонко обрисован и понят Монтень, этот эпикуреец–барич и отрицатель шестнадцатого столетия. Слабы характеристики русских писателей, в особенности Гончарова, о котором, нужно признаться, очень трудно сказать что‑либо новое после исчерпывающей «Обломовщины» Добролюбова. В общем все очерки свидетельствуют о том, что их писал умный, талантливый, широко образованный человек. Г. Мережковский касается Марка Аврелия, Плиния Младшего, Кальдерона, Сервантеса, Монтеня, Флобера, Ибсена, Достоевского, Гончарова, Майкова, Пушкина. Почему‑то автор счел нужным к портретам всемирной литературы прибавить Акрополь и роман «Дафнис и Хлоя». Точно так же совершенно напрасно г. Мережковский полагает, что упомянутые им имена великих писателей разных веков и народов для русской публики — в значительной мере имена великих незнакомцев, которых русский читатель до сих пор знает разве по отрывкам неудовлетворительных переводов и по безличным выдержкам из курсов литературы и справочных книг. Во всяком случае, даже если бы это было так, то галерея характеристик автора ничего не прибавит к сумме положительного знакомства с трактуемым предметом, так как от личных субъективных впечатлений критика еще далеко до действительного литературного портрета.
Б. В. Никольский «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» Г. МЕРЕЖКОВСКОГО
Новый сборник критических статей г. Мережковского[1382] послужил поводом к довольно оживленному обмену мнений в нашей журналистике, который придает этой книге особенный интерес сравнительно с другими произведениями того же автора и тем объясняет наше намерение ознакомить с нею несколько подробнее читателей «Исторического вестника». По своему содержанию «Вечные спутники» — сборник эстетических статей, преимущественно критических очерков и литературных характеристик. Начинается книга небольшим наброском «Акрополь», описывающим посещение автором Афин. Этот очерк служит как бы лирическим введением к книге. Затем идут статьи «Дафнис и Хлоя», «Марк Аврелий» и «Плиний Младший», касающиеся древнего мира, пять очерков, посвященных писателям Европы — Кальдерону, Сервантесу, Монтеню, Флоберу и Ибсену, — и четыре очерка, занимающихся писателями русскими — Достоевским, Гончаровым, Майковым и Пушкиным.
В предисловии автор говорит, что «он желал только рассказать со всей доступной ему искренностью, как действовали на его ум, сердце и волю любимые книги, верные друзья, тихие спутники жизни. Это — записки, дневник читателя в конце XIX века. Субъективный критик должен считать свою задачу исполненной, если ему удастся найти неожиданное в знакомом, свое в чужом, новое в старом». Иными словами, это вовсе не критика, но лирика читателя, которая по намерению автора должна в гораздо большей степени характеризовать его самого, чем те предметы, которым посвящена. Поэтому отзыв об этой книге по необходимости должен превратиться в характеристику самого г. Мережковского.
Откровенно сознаюсь, что эта характеристика представляет большие трудности. Г. Мережковский выступал в печати как лирический поэт, переводчик, романист и критик. Во всем им написанном он обнаруживал несомненное и крупное образование, хотя и одностороннее, — образование художественно–литературное. Он знает много языков, читал чуть ли не всех истинно замечательных писателей древнего и нового мира, изучил художников всех стран и веков в их лучших произведениях. Во всякой строке, им написанной, видно уважение, видна любовь к художественному слову, видна добросовестная работа искренней мысли. Даже самые горячие порицатели его отдают справедливость его бескорыстному, чуждому всякой предвзятости и задних мыслей служению тому призванию, которому он себя посвятил. Словом, как литературный деятель, г. Мережковский имеет полное право на безусловное уважение. Он с какою‑то трогательною, можно сказать, благоговейною любовью предан своему делу как истинный литератор в лучшем смысле этого слова.
И однако же г. Мережковский окружен в нашей печати такою тучею недоброжелательства, как едва ли кто другой из современных писателей. Порицания и глумление — вот все, что является ему наградою за его руководимую благороднейшими побуждениями деятельность. О других писателях иной раз хоть молчат, — о г. Мережковском непременно пишут при каждом удобном и неудобном случае, и пишут непременно в недоброжелательном духе. Результаты этих нападок налицо: в массе читателей укоренилось какое‑то предвзятое недоверие к произведениям г. Мережковского, какое‑то враждебное предубеждение против всего, что им написано.
Как объяснить эту странную несправедливость? Одною завистью, личными счетами и ненавистью толпы ко всякому благородству было бы смешно разрешать такую загадку. Несомненно, и сам г. Мережковский отчасти является причиною всеобщего недоброжелательства. И на самом деле, всякое его произведение действительно оставляет читателя не вполне удовлетворенным. Одному он кажется холодным, другому восторженным; одному бесцветным, другому напыщенным. Читатель не чувствует себя увлеченным, не может разделить в полной мере ни мыслей, ни настроений автора. Изложение г. Мережковского перевертывает перед нами причудливый и пестрый калейдоскоп отрывочных мнений, отдельных взглядов, множество неустойчивых, орнаментальных узоров мысли, множество частностей, которые не сливаются в одно стройное целое, объединенное каким‑нибудь планом или хоть центром, — говорю, конечно, не о внешнем плане, но о внутренней концепции, которая раскрывала бы перед нами душу писателя. В читателе все время сохраняется впечатление, что автор сам не знает хорошенько, чего хочет.
Справедливость требует сказать, что это впечатление и не так уж далеко от истины. По моему крайнему разумению, г. Мережковский — человек, еще до сих пор не установившийся, не нашедший себя самого и в то же время постоянно развивающийся, постоянно идущий вперед, хотя, к сожалению, слишком часто окольными и неверными путями. Насколько я понимаю, он вовсе не мыслитель, способный самостоятельною работою сомнения приходить к самобытным выводам и воззрениям, выстраивать оригинальную и цельную систему мировоззрения. Склад его ума совсем не такой: он склонен восторгаться, увлекаться, благоговеть и верить, верить безусловно и непоколебимо, с чистосердечнейшим и прямолинейным догматизмом. В его натуре нет ничего резко своеобразного, протестующего, демонического; совершенно напротив, весь строй его души примирителен, религиозен. Если бы г. Мережковский, чего я ему от души желаю, пришел наконец к полному и ясному самосознанию, он убедился бы, как мне кажется, что его душа склонна к простой, детской вере, к тихой и скромной жизни, к самой смиренной и простодушной идиллии. Если бы он ограничил свои стремления этим тесным кругом, то, бесспорно, при его образовании, трудолюбии и чистоте намерений, он нашел бы в нем достаточно тем и материала для теплой сердечной поэзии, для скромной любви к родной жизни, для эстетического и религиозного чувства. Тогда, быть может, в его стихах, кроме рифм, размера и добрых намерений, послышался бы голос действительной поэзии, проявилась бы его не глубокая и не самобытная, но привлекательная индивидуальность: тогда он не переводил бы титанических созданий великих трагиков, красоты которых он, как немногие, может ценить и чувствовать, но которые он, менее чем кто‑либо, способен переводить; тогда он оставил бы в покое первоначальное христианство, эпоху возрождения, Петра Великого, но обратился бы к скромной, простой жизни людей одного с собою закала, — людей смирных и добрых; наконец, он оставил бы тогда всякий демонизм, всякое ницшеанство и декадентщину и оказал бы нашей литературе действительную услугу, разбирая простым и полным скромного достоинства елогом произведения лучших ее представителей, которых он умеет любить так искренно и свято.
К сожалению, какой‑то злой гений, по–видимому, совершенно затмил самосознание г. Мережковского. Его развитие началось в пору самой горячей борьбы между нигилизмом и классическим образованием, когда нигилизм общей оторванностью молодежи от родной жизни стремился пользоваться в целях анархического бессмысленного разрушения, а классицизм, преследуя обессиление нигилизма, окончательно отклонял молодые умы не только от родной, но и от всякой жизни вообще, уводя их из современной некультурной действительности к отвлеченности высшего знания, в утонченности высшей культуры, и, таким образом, равно связывал и затруднял не только разрушающие, но и созидающие силы. Из ранних стихотворений г. Мережковского ясно видно, как он искренно гамлетствовал на распутье между нигилизмом и классицизмом, т. е. варварской анархией и утонченною культурою. Не будучи достаточно самобытен и силен, чтобы не оторваться в этом состоянии от родной жизни и остаться ей верным сквозь всякий нигилизм и классицизм, г. Мережковский наконец отдался со всеми своими неразрешенными сомнениями природному влеченью к искусству и весь ушел в сферу художественно–литературных интересов. Не имея твердого мировоззрения и не будучи в силах разрушать охватившие его разногласия, он весь проникся и пропитался отвлеченными, чуждыми текущей жизни интересами и понятиями, точно отказавшись от надежды примирить их когда‑либо.
Оторванный аристократически–утонченною западною культурой от нашей действительности, г. Мережковский остался в каком‑то духовном одиночестве среди всего человечества. Религиозно увлекающийся, беззаветно преданный искусству, он ни с чем не был связан духовными традициями ни в истории, ни в действительности, ни даже в самом искусстве. В области духа ему не оставалось ни родства, ни отечества. И вот он пустился в какое‑то умственное паломничество ко всем святым местам культуры. Он изучал все литературы, все отрасли искусства; он читал Гомера, Эсхила, Софокла, Вергилия, Данте, Боккаччо, Сервантеса, Лопе де Вегу, Кальдерона, Шекспира, Байрона, Монтеня, Гёте, Шиллера; он ездил по всей Европе, посещал все галереи и музеи. Но везде он оставался каким‑то поверхностным зрителем, воспринимающим внешние формы, но не проникающим в воплощенный ими дух. Тем не менее вера в его искусство требовала осмыслить для его любознательности эти мертвые формы, и для этого г. Мережковский старался оживить и наполнить их своими собственными, совершенно и заведомо им чуждыми впечатлениями. Оттого в конце концов и допустил он возможность «субъективной критики», которая занимается не автором, а читателем, не произведениями искусства, но случайными от них восприятиями. «На столе у меня лежат два маленьких осколка настоящего древнего камня из Парфенона, — пишет он. — Благородный пентеликонский мрамор все еще искрится при свете лампы… И я смотрю на него с суеверною любовью, как благочестивый паломник на святыню, привезенную из далекой земли». В этом отрывке ясно видно, как близко соприкасается с хождением по святыням культуры какой‑то слепой эстетический фетишизм. Читателю до очевидности понятно, как г. Мережковский чтит форму в убеждении, что дух к ней и придумать нетрудно.
Таким же точно вечным паломником, зрителем форм, сделанным к их духу, остался он и в области более высокой, чем область искусства и знания, — в области религии. Не сохранив родной веры, он наблюдал все верования мира, наблюдал опять‑таки в их формах, в их культуре и риторике, приискивая свой смысл этим образам суеверия. В конце концов, всякая вера стала для него лишь своеобразным обрядом суеверия, подбором пестрых форм, и хаос суеверий, ставших риторическими средствами, вытеснил в нем всякую веру. В стихотворениях и романе г. Мережковского действуют чуть не все божества древнего и нового мира, но всегда как какие‑то условные внешние образы, ничем не связанные с сердечною верою. То же самое заметно и в его отношении к жизни. Ко всякой жизни, ко всем красотам природы готов он отнестись с восторгом, сочувствием и благоговением, но везде видит только формы, не разоблачающие ему своего духа, своего внутреннего содержания. Во всем мире он чувствует только свое одинокое существование. Мир становится для него каким‑то калейдоскопом символов, хаосом механических явлений, никакой общей идеи не выражающих, никаким внутренним единством не связанных. То же самое, наконец, видно и в его поэзии. Он пробует все решительно формы, изощряется во всех механических тонкостях выражения, но ему нечего выразить, и он идет дальше формальной риторики. Никакого устойчивого мировоззрения не раскрывается в этих произведениях. Напротив, мы видим в них следы умственного паломничества по всевозможным системам и настроениям, мы уловляем в них отголоски всевозможных школ и учений, видим автора погружающимся во все роды и приемы творчества — и всегда чувствуем, что ни одно его стихотворение не выразило нам его души, ни одно его настроение не возникло в ней органически, самостоятельно, как внутренняя живая потребность. Читатель вникает в выражения чувств и мыслей, которые сами по себе возможны, но не верит ни пафосу, ни чувствам автора и в его увлечениях видит только модничанье ума, наивное фатовство мысли.
Мало всего этого. Беспочвенный любитель культурных форм, не проникая в воплощаемые этими формами дух, г. Мережковский постепенно впал в то состояние эстетического безразличия к жизни, которое составляет характернейшую особенность декадентства. Восхищаясь формами, он равно восхищался и добром, и злом, и Ормуздом, и Ариманом, и Олимпом, и титанами, и культурой, и анархией. Это заблуждение было уже гораздо опаснее всех других и не привело г. Мережковского к самым прискорбным последствиям только потому, что, восхищаясь, например, всяким демоническим протестом, он, видимо, совершенно не знал, на что этот протест направить, в чем его осуществить. Да и действительно, какой демонизм, какие титанические проявления страстей возможны для добродушнейшего из молодых петербургских поэтов? При всей серьезности и искренности своей г. Мережковский зачастую бывал поистине смешон в минуты наибольшей торжественности, когда, например, воспевал демона, созерцающего миры, или предсказывал «день великого крушенья»[1383], которое сметет жизнь с ее основ. Еще курьезнее впечатление, производимое его стихотворением о семи нищих и статуе Будды[1384], — стихотворением, которое в свое время даже нравилось петербургской публике. В этой пьесе с пафосом рассказано, как голодные нищие хотели украсть алмаз со статуи Будды. Вихрь и громовой удар «далеко отбросил их назад». Тогда один из нищих обратился с упреками к Будде, который «мстит им за ничтожный камень», пользуясь тем, что они хотя и одарены бессмертною душою, но бесконечно слабее «владыки неба». Пристыженное в жадности этими упреками, изваяние Будды само становится на колени перед нищими, чтобы они могли снять алмаз с его венца. Это стихотворение невозможно принять за «прием иронии»; но в таком случае поэт, похоже, сам позабыл, что гром (если грянул) грянул не вследствие жадности Будды, а потому что нищие затевали воровство, да еще квалифицированное. Такая моральная рассеянность ради «красоты слога» уже граничит с декадентством. И на самом деле, г. Мережковский принес обильную дань этому поветрию, хотя, надо отдать ему справедливость, не доходил при этом до крайних пределов исступления.
Спрашивается, однако, чего ради подвизался г. Мережковский, чего ради кидался он во все стороны света, углублялся и в великих поэтов, и в проделки плоского шарлатанства, пробовал все религии, все формы жизни, культуры, поэзии? Ответ на этот вопрос может быть только один: вся эта риторическая игра образами не удовлетворяла автора. Успокоения не находил он ни в Будде, ни в дьяволе, ни в поэзии белого слона и скачущих павлинов, ни в изображении Леды, которая лежит в болоте среди тростинок «вся преступная, вся обнаженная»[1385]. Свое постоянное недовольство г. Мережковский старался объяснить себе и читателям всевозможными причинами, которые долго было бы перечислять на этом месте. Последнее по времени объяснение сводилось к исканию «новой красоты», ради которой поэту будто бы понадобилось пуститься в декадентщину. В сущности же, как мне кажется, все дело объясняется гораздо проще: г. Мережковский хотя и не глубокий мыслитель, но человек искренний и серьезный; если он и не сознавал с полной ясностью своей беспочвенности, своей оторванности и культурного одиночества, то все же он не мог и не ощущать их в виде постоянного умственного недовольства, доходившего до самоотрицания, до самоубийственного неверия в себя самого и во все свое поколение, до прославления смерти и призывания «новых пророков» и «новых певцов» на смену себе самим. Никакая риторика, никакая игра мертвыми формами не может исчерпать беспокойство одинокого, не знающего в мире своей родины. Умственные скитанья г. Мережковского не могли рассеять той потребности в любви и вере, которою были внушены, а, напротив, лишь обострили ее. И вот, блуждая по всему миру, он не мог, наконец, не попасть на родину. Перебирая все формы жизни, он не мог не встретиться с формами, ему кровно родными, с формами, к которым ему нечего было присочинять «новый» смысл, так как он с удивлением и восторгом должен был найти и почувствовать их «старый» смысл внутри себя самого, как свою собственную душу. Финал истории о блудном сыне должен был повториться и с ним, к его собственному душевному благу. И мне кажется, что этот благодетельный перелом начинается в г. Мережковском, а признаком такого перелома я считаю ту книгу, которая дала повод к настоящей заметке. Уже на одной из вступительных страниц этой книги встретил я знаменательные слова: «тут понимаешь, что значит не любить своего народа, какое безумие надеяться что‑нибудь создать вне его и без него».
Книга весьма неравна своими достоинствами. Слабее всего, за исключением нескольких отдельных метких замечаний, этюды о западноевропейских писателях. Такой скучнейший этюд о несносном и хлыщеватом болтуне Ибсене, бедный полукомпилятивный этюд о Кальдероне. Остальные три лучше, хотя переводы цитируемых в них отрывков совершенно не передают духа подлинников. Тщательная, гладкая и немного манерная, немного высокопарная проза г. Мережковского слишком монотонна и однообразна, чтобы уловлять особенности слога великих мастеров. Впрочем, если не ошибаюсь, не все переводы сделаны самим критиком. Живее, лучше написаны, хотя полны фактических ошибок, порою довольно неловких, этюды, посвященные античному миру. Само собою разумеется, что ни намека на историческую верность действительности в них нет; но в них всего ярче старание г. Мережковского начинять «старые» формы «новым», совершенно неподходящим и неуместным содержанием. Тщету стремлений автора они характеризуют как нельзя лучше. Самая же интересная и привлекательная часть книги — ее конец, т. е. этюды о русских писателях. На них я считаю необходимым остановиться несколько подробнее.
На меня эти очерки произвели странное впечатление. Передо мною как будто человек без роду и племени вдруг попал, сам того не ожидая и не предполагая, на свою родину: как сквозь сон начинает он постепенно узнавать места, где провел свое детство, и смущенные, тревожные воспоминания, случайно пробужденные неожиданным пейзажем, вдруг возвращают одинокому скитальцу родную землю, родную речь, родные могилы, родной храм… Еще он спрашивает на чужом языке, еще он думает чуждыми понятиями, но из‑под этих наслоений безродной жизни уже пробиваются заглохшие кровные воспоминания. Так точно и критика г. Мережковского. Он относится к нашим писателям еще точно иностранец, он еще меряет их чуждыми породившей их жизни понятиями, но постепенно все глубже проникается их произведениями, все живей и теплее чувствует в них «душу живу». Паломник ко святым местам культуры, он пришел на поклон и к русским художникам, — и вдруг увидел в них нечто большее, чем во всех других, и благодаря этому неожиданному для него открытию возвысился до истинно серьезных и верных мыслей.
«Вечные спутники» вызвали в журналах целый ряд статей и рецензий, сплошь недоброжелательных и почти сплошь направленных к характеру Пушкина. И действительно, эта характеристика — наиболее интересная часть книги. Я думаю, что именно в ней выразился всего острее решающий все дальнейшее развитие г. Мережковского кризис. Перекати–поле умственной жизни остановилось на удобной почве: если не укатится дальше, то здесь и пустит корни, здесь почерпнет жизненные силы и обновится к органическому развитию; а если укатится, то его судьба решена, у него больше нет будущего. Сущность кризиса в том, что, меряя Пушкина совершенно к нему неподходящим аршином западных понятий, г. Мережковский сделал великое для себя открытие: он убедился в мировом величии Пушкина, в том истинном величии, которым Пушкин равняется со всеми истинно великими людьми человечества. Сама по себе эта мысль и не нова, и несомненна; но с той точки зрения, на которой стоял г. Мережковский, она — величайшая ересь, какую только можно себе представить. Оттого и навлек он ею на себя такие громы всеобщего порицания. Одни указывали на непреложность к Пушкину той мерки, которою пользовался г. Мережковский, другие же, ничего в существенности не имея против его мерки, вознегодовали на его еретический вывод и, ради пущего развенчания Пушкина, не только усиленно занялись нареканиями на память великого поэта по поводу книги г. Мережковского, но заодно постарались дискредитировать и самые приемы этого последнего. Никто не захотел увидеть безотносительного значения статьи, то есть новой победы Пушкина, а в его лице и русской культуры. Беспочвенный питомец западных идей преклонился пред величием Пушкина и тем самым — пред величием своего народа, с его религией, с его историей, с его просвещением. Пускай он пока еще преклоняется, точно иностранец, пускай мотивы его преклонения порою забавны, порою даже нелепы: самое преклонение уже есть некоторое отречение от этих мотивов. Высокое и чистое раскаяние блудного сына началось с сознания, что лучше быть слугою в доме его отца, чем питаться со свиньями на чужбине. Если перед величием Пушкина г. Мережковский откажется от своего декадентства и ницшеанства, то русская литература станет не количественно только, но и качественно богаче одним именем, а развитие нашего самосознания должно будет признать сделавшим еще один успех. Так и г. Мережковский в своих культурных паломничествах попал‑таки на надлежащий путь, выведенный на него своею бескорыстною и возвышенною любовью к своему призванию.
Не берусь быть пророком; но мне сильно сдается, что перед г. Мережковским открывается лучшее умственное будущее. Ему снова стал доступен целый утраченный им когда‑то мир — вся духовная жизнь его народа с его религией, государственностью, историей. В этой величественной жизни есть что полюбить, чему послужить, пред чем преклониться. Не довольно ли увлекаться чужим, — не увлечься ли своим, родным, не вернуться ли домой? Быть может, в формах этой жизни, простой, смиренной и кроткой, и найдет наш культурный паломник тот дух примирения, ту гармонию, которых он не находил и которые так тщетно пытался вложить усилиями «субъективной критики» в формы другой культуры, величавой, пышной и гордой, но чуждой его доброй и смирной природе.
Книга Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865—1941) «Вечные спутники» вышла в свет осенью 1896 г., когда ее автор был уже хорошо известен русской читающей публике. Он дебютировал в 1888 г. еще студентом, составил себе славу одного из новых поэтов, которых недоброжелатели называли декадентами, а сочувствующие — символистами. Выходившие одна за другой его литературно–критические статьи, переводы, а затем и романы — «Смерть богов. Юлиан Отступник» (в первой публикации под заглавием «Отверженный») и «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — свидетельствовали о широте интересов и масштабе дарования молодого писателя. Если взглянуть на опубликованное Мережковским за время, в течение которого писались статьи, вошедшие в первое издание «Вечных спутников», становится очевидным, что, пожалуй, мало кто из его современников работал так много и плодотворно. За неполное десятилетие вышло в свет более двадцати критических статей, три книги стихов, две драмы, более десятка переводов — из Софокла, Еврипида, Эсхила, Гёте, Э. По и другие, не считая произведений, оставшихся незавершенными.
«Вечные спутники» оказались важным этапом творческой эволюции Мережковского. Статьи, вошедшие в книгу, стали основой его будущих исследований, публицистических выступлений, религиозно–философских эссе, открыли множество тем, к которым он обращался в исторической беллетристике, поэзии, драматургии. Вместе с тем книга оказала огромное воздействие и на современников. Как пишет А. Пайман, «этот том, содержащий живую и крайне субъективную переоценку мировой классики, вероятно, сделал больше, чем любая другая книга, для воспитания подрастающего поколения в уважении и любви к искусству как вневременному и непреходящему»[1386].
Когда Мережковский уже был известным писателем, один из его младших современников, А. Долинин, пытаясь определить, «где, в какой именно области Мережковский ярче, сильнее всего проявляется? какая из них ему ближе, лучше соответствует его врожденному дарованию, полнее, точнее воплощает его сущность?», вынужден был признать: «…Вы или вовсе не сможете ответить на этот вопрос или если ответите, то так: все вместе, но ни одна в частности»[1387]. Вдумчивый и наблюдательный читатель, А. Долинин не смог отнести Мережковского в полной мере ни к художникам, хотя «у него имеется несколько лирических сборников», «известная трилогия, очень интересная и в известном смысле довольно ценная», «поэмы и драмы, в свое время обращавшие на себя внимание довольно большого круга читателей», ни к философам, ни к богословам, ни к социологам или политикам. Даже в области критики, в которой, по мнению А. Долинина, Мережковский был едва ли не основателем «самых видных направлений в ней», он до конца критиком не остается. «Словом, всюду и везде: свой и чужой, пытливый и небрежный, кропотливо–добросовестный и дилетантски легкомысленный». И вместе с тем именно в критике Мережковский был «одним из самых тонких, самых проницательных» среди своих современников; ему принадлежат интересные и оригинальные наблюдения, высказанные впервые «с наибольшею силой и наибольшею доказательностью»[1388].
В статье, посвященной памяти Мережковского, Вл. Ильин назвал «Вечные спутники» «перлом критического эссеизма», который он оставил «в назидание тем, кто хотел бы научиться писать настоящую литературную критику». «Такие блестящие работы, как „Вечные спутники” и „Религия Толстого и Достоевского” появились одновременно с „Трилогией” и одновременно с нею писались, — замечал он. — Плодовитость поразительная, особенно если принять во внимание качество, творческую новизну и все то необыкновенное, свежее еще и для нашей эпохи, что являл Д. С. Мережковский»[1389].
Литературно–критические исследования занимают значительное место в наследии писателя. Они посвящены широкому кругу имен и произведений, которые перечитывались и переосмысливались Мережковским, создавшим к концу своей жизни по существу свою версию, новую историю мировой культуры. Это первым почувствовал В. Д. Спасович, писавший, что, соглашаясь с Мережковским, «пришлось бы перестроить всю историю русской литературы в XIX столетии…»[1390]. Отталкиваясь, по слову Н. Бердяева, «от культуры и литературы», он жил «в литературных отражениях религиозных тем», не мог «мыслить о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей»[1391]. Эта особенность ярче всего проявилась на рубеже веков, в книге «Л. Толстой и Достоевский», когда религиозно–философская концепция Мережковского уже была сформулирована[1392]. С тех пор обращение к имени художника или к анализу его произведений было подчинено «главной идее всей его жизни и веры»[1393]. Не случайно в предисловии к Полному собранию своих сочинений он писал, что все они — «звенья одной цепи, части одного целого. Не ряд книг, а одна, издаваемая только для удобства в нескольких частях. Одна об одном»[1394].
Его огромные исторические трилогии «Христос и Антихрист», «Царство Зверя» и книги, посвященные русской литературе: «Л. Толстой и Достоевский», «Н. В. Гоголь. Творчество, жизнь и религия», «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев», и публицистические сборники: «Грядущий Хам», «Не мир, но меч. К будущей критике христианства», «В тихом омуте», «Больная Россия», «Было и будет. Дневник 1910—1914 гг.», «От войны до революции. Невоенный дневник», и религиозно–философские эссе, написанные в эмиграции, по мысли автора, представляют собой картину неумолимого исполнения тайны сверхисторического христианства. Мережковский верил, что божеский проект творения завершен не был, и за двумя уже известными человечеству заветами: Отца и Сына, наступит третий завет — Царство Духа. Для подобной уверенности ему нужны были знаки, намеки, пророчества о Царстве Трех, и провозвестниками того, что «за христианством», стали отверженные человечеством, «спорные» фигуры, оказавшиеся, по его мнению, вне установленного порядка исторического развития — Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, Петр I, Байрон, Лермонтов, декабристы и др. Да и вся русская культура, религиозная и пророческая, по мысли Мережковского, только и делала, что давала невидимые знаки о скором наступлении Царства Трех, приближении конца одной эпохи и начала другой.
«Культура для меня часть „культа” — религии»[1395], — признавался Мережковский. И именно от культуры вечно убегал к религии, стремился на ее основе преобразовывать сознание интеллигенции, общество, политику. Может быть, поэтому его и не принимали всерьез в философском цеху, издеваясь, говорили, что он занялся не своим делом: литератору — литераторово… Л. Шестов высказывал беспокойство тем, что Мережковский призывает литературу выполнять не свойственную ей функцию, «вносить общественно–политическую точку зрения решительно повсюду, даже в те области, где она была совершенно неуместна», и советовал ему вернуться «в свою родную стихию — литературу», поскольку в ней «еще многое–многое осталось сделать»: «Ибо и в литературе есть дело, есть страшная борьба, более опасная и кровавая, чем борьба политическая и общественная…»[1396].
До сих пор нельзя с уверенностью сказать, что вклад Мережковского в развитие русской литературы и мысли оценен по достоинству. При жизни писателя не было, пожалуй, ни одного заметного критика, который не посвятил бы ему статьи или книги, как правило, разгромной и уничижительной. В стремлении раздавить Мережковского соединялись приверженцы различных литературных партий, в других случаях остававшиеся по разные стороны баррикад. Но как бы ни громили они поэта Мережковского за «вырождение рифмы», критика Мережковского — за «бесстыдство» и «лицемерие», беллетриста Мережковского — за «искажение» исторических фигур и «резонерство», гимназистки переписывали в свои альбомы его стихи, а выпускникам средних учебных заведений, как вспоминала 3. Гиппиус, вместе с документом об окончании курса вручали томик его «Вечных спутников»[1397].
С Мережковским спорили собратья по перу, мыслители, философы, политики и деятели православия. И по тому, как серьезно и обстоятельно размышляли они над ошибками Мережковского, видно, что заговорил он о чем‑то очень важном, что не оставило равнодушным ни далекого от житейских бурь Л. Шестова, ни приверженца строгих формулировок П. Струве, ни радикального Б. Савинкова, ни рыцаря Прекрасной Дамы А. Блока, ни «русского Ницше» В. Розанова. Заслуга Мережковского и состояла прежде всего в том, что он одним из первых попытался заговорить о религиозной сущности искусства, обратить русскую интеллигенцию к темам, казавшимся ей реакционными.
В его личности была особенность, отличающая его от многих деятелей «серебряного века». «Провинции никогда не было в Мережковском, — говорил Б. Зайцев, — доморощенности в нем никакой»[1398]. Мережковский был европейцем, конечно, не потому, что постоянно бывал за границей, объездил почти все страны, о которых писал, и в Париже у него была постоянная квартира. Он был европейцем, потому что «воспитывался на Европе, в образе ее истинной культуры»[1399]. По воспоминаниям Гиппиус, Розанов, даже встречая Мережковского на улице, «когда он гуляет, каждый раз думает: вот идет „европеец”»[1400]. Мережковский знал множество языков, почти все, что нужно было ему для работы, читал в подлинниках. Человек энциклопедических знаний, широкого кругозора и блистательной эрудиции, он и свою страну хотел видеть европейской, цивилизованной и единой с Европой. Единой прежде всего в Единой Вселенской Церкви. Все, что служило этому объединению, обращало на себя его внимание, становилось предметом изучения. Потому ему ближе западник Тургенев, чем Толстой. Потому же приветствует он «всемирного» Достоевского–художника и Тютчева–мистика и не принимает Тютчева и Достоевского в их славянофильских тяготениях. Эта позиция не была прихотью избалованного европейской известностью писателя. Мережковский отчетливо ощущал опасность, исходящую от национальной замкнутости России. Закостенелость, «собственная гордость», отсутствие здравого смысла и непросвещенность в конечном счете должны были привести к ужесточению государственного давления и рождению «черной сотни».
Разумеется, в середине 1880–х Мережковский был только в начале этого пути. Тогда его усилия были направлены прежде всего на создание нового искусства, новой эстетики. Об этом свидетельствуют его поэтические сборники и ранние литературно–критические статьи.
I
Книга «Вечные спутники» была составлена из статей, писавшихся на протяжении почти двенадцати лет и публиковавшихся в периодической печати. Первой из них была статья «Флобер в своих письмах», вышедшая в свет в журнале «Северный вестник» в 1888 г. Она стала следующей после дебюта Мережковского в качестве литературного критика — статьи о Чехове «Старый вопрос по поводу нового таланта. («В сумерках» и «Рассказы» Чехова)». Статья о Флобере, впоследствии значительно переработанная, обнаружила интерес молодого критика к анализу особого рода. «Исследование причин, обусловливающих глубинную противоположность эстетического и нравственного миросозерцания, художника и человека, гения и характера, — писал он, — составляет, бесспорно, одну из интереснейших страниц психологии творчества, — вопрос этот послужит темою предлагаемого очерка»[1401]. Задавшись такой целью, Мережковский сосредоточился на изучении не художника, гения, а человека и характера. Это обусловило и выбор источников для статьи, которыми стали письма Флобера, изданные в 1887 г., и том переписки Флобера с Жорж Санд (1884).
Текст первой публикации в сопоставлении с окончательным текстом, вошедшим в оба Полные собрания сочинений, интересен прежде всего тем, что позволяет видеть Мережковского в начале творческого пути, недавним выпускником Петербургского университета, представившим кандидатское сочинение и в сущности только вступающим в самостоятельную жизнь. Три предшествовавшие этому года он был страстно увлечен народничеством и одержим решимостью уйти в народ. По его собственным словам, Н. М. Минский «смеялся, держал пари, что этого не будет. Он, конечно, выиграл». Понимая, что в его народничестве было «много ребяческого, легкомысленного», зрелый Мережковский все же не отрекался от него, был «рад, что оно было» и «не прошло бесследно»[1402]. Он рассказывал, что в 1884 г. побывал в Чудове у Глеба Успенского, с которым беседовал о религиозном смысле жизни, затем у Василия Сютаева, «толстовца до Толстого», ездил по Волге и Каме, ходил пешком по деревням Уфимской, Оренбургской губерний, беседовал с крестьянами, сельскими учителями и статистиками. Мысль о судьбе народа, об ответственности художника перед ним, которой были пропитаны статьи критиков народнического направления, звучала и в первых опытах Мережковского. Статье о Флобере предшествовали не принятые Н. К. Михайловским к печати очерки «Крестьянин во французской литературе», посвященные творчеству Бальзака и Мишле. Не случайно и разговор о Флобере начинается цитатой из романа Бальзака, ею скрепляются и различные части этого текста.
Обращаясь к сосуществованию в одной личности гениального художника и человека, молодой критик обвиняет Флобера, не нашедшего источника вдохновения в народе: «Кто знает, если автор (…) нашел бы в себе силу отдаться человечеству… если бы, победив отвращение, он захотел пожалеть людей не издали, а всем существом своим, так, чтобы, прижавшись к больному рот ко рту, грудью к груди, почувствовать прикосновение гнойных струпьев, „холоднее змеиной кожи”, может быть „масса”, „человеческое стадо”, грязная чернь, которую всю жизнь он так слепо ненавидел, превратилась бы для него во что‑то светлое, могучее, и он испытал такое же счастье (…) в объятиях Христа».
Однако этот аспект был только одной стороной предпринятого им исследования. Изучая «болезнь гениальности», поразившую, по его мнению, Флобера, Мережковский сам проявился как художник, пишущий о художнике. Он обращается к описанию внешности Флобера, стремится воссоздать его внутренний мир, ритм творческой жизни, показать трагизм жизни личной. В финале статьи даже представлена сцена его смерти. Из писем Флобера материал отобран таким образом, чтобы читателю стала доступна «задушевная исповедь» «одной из самых скрытных, загадочных натур». Некоторые страницы Мережковский сопоставляет с «самыми вдохновенными лирическими произведениями Мюссе, Шиллера, Гейне». Текст насыщен большим количеством цитат: критик как бы дает возможность самому Флоберу поведать о личном страдании, о субъективной стороне своей жизни. И только по поводу религии вступает с ним в настоящую полемику. Единственным прикосновением к подлинному учению Христа, по его мнению, была «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» — произведение, показавшее со всей очевидностью, что Флобер–художник в процессе творчества оказывается ближе к вечной истине, чем Флобер–человек[1403]. Такое разделение творческой личности на сознательную и бессознательную, на взаимодействующие между собой и нередко противоречащие одна другой стороны также станет излюбленным приемом Мережковского. Он с успехом был использован в другой статье, «Дон Кихот и Санчо Панса», опубликованной в журнале «Северный вестник» в следующем, 1889 г.[1404]
Значение этой статьи трудно переоценить. В ней сделан такой существенный шаг вперед, намечены такие аспекты исследований, что она может считаться одной из ключевых, центральных в творчестве Мережковского того времени. В статье о Сервантесе он впервые высказал мысль, что «в органическом, непроизвольном процессе творчества гений помимо воли, помимо сознания неожиданно для самого себя приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества». Сравнивая вечные образы мировой литературы с «просветами» в звездное небо, Мережковский говорит, что всей его глубины «исчерпать невозможно: будущее поколение снова подойдет к просвету и откроет в гениальном произведении новые миры, новые созвездия». К числу таких произведений Мережковский относит и роман Сервантеса. Образ его главного героя он ставит в один ряд с Прометеем, Дон Жуаном, Фаустом и Гамлетом, которые «сделались частью человеческого духа»: «Дон Кихот принадлежит к таким спутникам человечества. Исчерпать его содержание невозможно, потому что он еще не закончен, он еще развивается вместе с нами».
Мысль о том, что каждое новое поколение находит в гениальном произведении то, что было недоступно и самому автору, и предыдущим поколениям читателей, впоследствии легла в основу функционального аспекта изучения литературы. Мережковскому же она позволила очертить круг важных для нового поколения русских людей художественных явлений. Он нередко обращался к каждому из них — в статье, в стихах, в переводах, переосмысливая, таким образом, всю историю мировой литературы, как бы заново открывая ранее неизведанное и непонятое. Правда, здесь он вступал в некоторое противоречие с самим собой. Объектом его внимания становились не только художественные произведения, их «гениальные образы», а, скорее, личность их создателя. Статья о Сервантесе в этом смысле — наиболее последовательная. Личность автора «Дон Кихота» интересовала Мережковского только в той степени, насколько она помогала сделать зримой разницу между его сознательным и бессознательным. Так, критик говорит о полном непонимании Сервантесом значимости его романа, беспомощности той полемики, которую он вел с автором поддельного второго тома «Дон Кихота» Авельянедой, о его политической близорукости и пр. Это дало возможность противопоставить представление Сервантеса о своей роли в литературе действительному его значению.
Второй и третий разделы статьи, посвященные образам Дон Кихота и Санчо Пансы, относятся, наверное, к самому интересному, что было о них написано к этому времени. Современники высоко оценили эту статью, отмечая почти полное отсутствие в ней «субъективности», чем так дорожил автор. Однако противоречие, отмеченное нами, является только кажущимся. На самом деле интерес к имени оказался одной из ведущих особенностей эстетики русского символизма, творившего из имени миф, и Мережковский был одним из первых, кто его создавал.
Две следующие статьи, опубликованные в 1890 г., посвящены русской культуре — «О „Преступлении и наказании” Достоевского» и «И. А. Гончаров». О Гончарове он впоследствии никогда специально не писал, только изредка упоминая его имя в одном ряду с другими выдающимися художниками, составившими славу русской литературы. В книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Гончарову посвящены всего две страницы, обобщающие сказанное о нем ранее. Статьей о Достоевском в творчестве Мережковского открывается целая тема. Отношение к нему существенно менялось от статьи к статье, от книги к книге.
В юности Мережковский находился под значительным влиянием Достоевского. Известно, что в 1880 г. отец, Сергей Иванович Мережковский, возил сына к Достоевскому, которому юноша читал свои стихи. В «Автобиографической заметке» подробно рассказывается об этом визите[1405]. Прием, оказанный ему Достоевским[1406], трудно назвать «благословением на литературную деятельность», как в преклонном возрасте писал Мережковский[1407], но все же очевидно значительное воздействие на него личности и творчества Достоевского. В статье, посвященной «Преступлению и наказанию», это отчетливо проявилось. Обращает на себя внимание особая исповедальная интонация, «сочувственное волнение» Мережковского. Говоря о Достоевском, он воссоздает атмосферу сумрачного, «печального, холодного» города, в котором писатель «жил среди нас… не бежал от наших мучений, от заразы века. Он любит нас просто, как друг, как равный» в отличие от других корифеев русского романа, Тургенева и Толстого. Достоевский для нового поколения читателей — «товарищ в болезни, сообщник не только в добре, но и во зле, а ничто так не сближает людей, как общие недостатки. Он знает самые сокровенные наши мысли, самые преступные желания нашего сердца». Близость писателя своему поколению, «глубокое проникновение в чужую совесть», умение «исповедать наше сердце» сказались в поэтике его произведений, написанных человеком, у которого «слезы еще не высохли на глазах, они чувствуются в голосе; рука еще дрожит от волнения».
Представив образ Достоевского, Мережковский обращается к его творчеству, к его художественным приемам, таким как «введение в жизнь героя посредством изображения тончайших, неуловимых переходов в его настроении», «резкие контрасты трогательного и ужасного, мистического и реального», мистицизм, т. е. «призрачность реального», когда жизнь — «только явление, только покров, за которым таится непостижимое и навеки скрытое от человеческого ума», и, наконец, единство времени, соблюдение которого сближает его эпические произведения с трагедией. Открывая читателю творческий мир Достоевского в первой части статьи, Мережковский посвящает две другие части «страсти идеи», воплощенной в его романе, и, в конце концов, идее религиозной. Статья завершается словами о том, что в Достоевском сочетаются верность реализму и «евангельская любовь» к людям. Композиция статьи о Достоевском напоминает будущую структуру его зрелых статей и исследований: «жизнь», «творчество» и «религия». С блеском использовав все преимущества такой композиции в статье о Пушкине, в книге «Л. Толстой и Достоевский» он прямо так и назовет ее части: «Жизнь Л. Толстого и Достоевского», «Творчество Л. Толстого и Достоевского» и «Религия». В статье о «Преступлении и наказании», разумеется, еще нет того выверенного и осознанного взгляда Мережковского, который станет определяющим для его произведений рубежа веков, однако уже здесь он говорил о Достоевском не с православных позиций. Это стало причиной его разрыва с консервативным журналом «Русское обозрение», в котором печаталась статья.
Издателем и редактором журнала был А. А. Александров, известный тем, что в 1878 г. встречался с Достоевским, был репетитором у сына Толстого, Андрея, да и сам был литератором, писал стихи. Мережковского связывали с Александровым добрые отношения, он относился к издателю, по собственным словам, с симпатией[1408]. В «Русское обозрение» был отдан его перевод из «Фауста» Гёте («Пролог на небе»)[1409], однако в 1892 г., уже после этой публикации, Мережковский отказался сотрудничать в журнале.
Идейные расхождения Мережковского с Александровым обозначились после выхода в свет первого номера журнала за 1892 г. В нем помимо других материалов содержался отчет обер–прокурора Святейшего Синода, касавшийся законодательства о преступлениях против веры. В отчете говорилось: «В связи с религиозными воззрениями на личную жизнь народ наш в гражданской и государственной жизни разумеет источником порядка одного помазанника Божия на земле. Навязываемое русскому народу просвещение с его современными европейскими воззрениями и задачами, далекими от Бога, он воспринимает неохотно…»[1410]. В редакционном комментарии к отчету высказывалось мнение, что «нежелательно разделение церкви и государства, ставящее их в положение двух борющихся сторон», что следует государственными мерами «ограничить католическую пропаганду» и что в таком ограничении «невозможно видеть стеснение свободы совести или религиозной нетерпимости»[1411].
Этот материал не оставил Мережковского равнодушным. В письме от 8 ноября 1892 г. Мережковский объяснял Александрову свою позицию так: «Согласиться с Вами и работать с Вами я не могу… Я просмотрел первый № Вашего журнала. Направление его мне до последней степени антипатично. Мое сотрудничество — прискорбнейшая и совершенно случайная ошибка. Не понимаю, как Вы сразу не объяснили и не сказали мне, что мы в самом важном, в самом основном расходимся. Вы стоите за православие, за церковь, за славянофилов. Всю мою жизнь и все мои силы я хочу употребить на борьбу с ними… Поймите — не могу я громко сказать, что моя религия безгранично свободная, чуждая всех догматов, всех ограничений…»[1412].
Несмотря на то что Мережковский ссылается на первый номер журнала, думается, не только материалы, помещенные в нем, вызвали его неудовольствие. В четвертом номере была опубликована рецензия на сборник его стихов «Символы», в которой, кроме восторженных оценок: «что за наслаждение делиться с читателями впечатлениями, навеянными этою книгой» или: «яснее обрисовывается вся привлекательность таланта самого поэта», — содержались и рассуждения о его религиозности. Рецензент писал, что наслаждение от чтения стихов было бы полнее, если бы «страстный призыв к религиозному чувству, звучащий в этой книге», был «строже, церковнее, православнее, будь он менее пантеистичен и сентиментален». Автор статьи относил Мережковского к числу верующих, которые, «сердцем поняв Бога, всею душою стремясь к Его вечной правде, все еще пока не в силах отрешиться от ранее усвоенной способности все анализировать, от гордого желания находить в себе разрешение всех загадок, строить по этим размышлениям целые системы по точным правилам науки о человеческом мышлении»[1413]. Думается, именно эти высказывания и побудили Мережковского отказаться от сотрудничества с журналом. «Конечно статьи моей я не пришлю, — писал он Александрову в том же письме. — Покорнейше прошу возвратить мне обратно все стихотворения, которые я дал в „Русское Обозрение”… Я буду, вероятно, вынужден послать в газеты две, три строчки о том, что мое сотрудничество в Р(усском) О(бозрении) я прекращаю… Вы — молодой, искренний, образованный человек — искренне любящий Россию, идете по такому пути с такими же дряхлыми, отжившими людьми. О как это грустно! Какой мрак кругом, какое всеобщее недоразумение»[1414].
В 1891 г. Мережковский опубликовал в журнале «Труд» три статьи, каждая из которых впоследствии заняла свое место в «Вечных спутниках». Статья «А. Н. Майков» — во второй их части, среди статей о русских писателях, «Марк Аврелий» и «Кальдерон в своих драмах» — в первой.
Статья о Майкове посвящена творчеству современника Мережковского, поэта, которого он высоко ценил и дружбой с которым дорожил. С молодой женой Мережковский иногда бывал у него, они встречались на вечерах у П. И. Вейнберга, а когда вышел в свет роман о Юлиане Отступнике, Майков «увлекся им и устраивал у себя чтения этого романа»[1415]. Размышляя о творчестве Майкова, Мережковский связал его с «совершенно особым поэтическим поколением», обладающим «единством творческого принципа, общею силой и общею ограниченностью». Он поставил поэта в один ряд с Фетом и Полонским, которым «Дух глубокого, тихого (…) Лесного Родника, неведомый повелитель, подсказывал иные слова, иные песни, подобные волшебным заклинаниям»[1416]. Вместе с тем между ними есть и существенная разница: Фет и Полонский — только мистики, Майков — «поэт–пластик». Для него природа — «не тайна, а наставница художника»; наблюдая природу, он слышит «не голоса непостижимых стихийных сил, а «размерные октавы». Этой статьей Мережковский как бы компенсировал то несколько несправедливое невнимание к поэту, о котором писала Гиппиус: «Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой‑то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию. Оттого, вероятно, он и забыт так скоро, и никогда не был любим, как Фет, например»[1417]. Создавая образ поэта — своего современника, Мережковский не ограничился лишь своими личными впечатлениями. Согласно его собственным пометам на вырезке статьи «Майков» из журнала «Труд», он пользовался биографическим очерком М. А. Златковского, который лег в основу первого раздела статьи «Личность поэта». Второй и третий были посвящены «стилю, отношению к античному миру» и «отношению к христианству и современному миру»[1418].
Разумеется, Мережковский руководствовался не только желанием воздать по заслугам хорошему поэту. У него был особый подход к отбору имен, заслуживающих того, чтобы стать «спутниками» нового поколения русской читающей публики. Круг таких имен, произведений и явлений мировой культуры складывался в его творчестве постепенно. Для переводов он выбрал изречения китайской мудрости, «Фауста» Гёте, роман «Дафнис и Хлоя» Лонга, отдельные произведения Э. По, трагедии Софокла — «Антигона», «Эдип–царь» и «Эдип в Колоне», «Ипполита» и «Медею» Еврипида, «Скованного Прометея» Эсхила и «Святого Сатира» А. Франса. В стихах обращался к образам Франциска Ассизского, Марка Аврелия, Леонардо да Винчи, Микеланджело, протопопа Аввакума, Будды, к флорентийским легендам. Первые драматические произведения писались на сюжеты из античной истории, восточных легенд и драм Кальдерона. Наконец, первые два романа трилогии «Христос и Антихрист» посвящены эпохам Юлиана Отступника и Леонардо да Винчи. К некоторым из этих имен он никогда больше не возвращался, как например к А. Франсу, остальные оказались неотъемлемой частью его творческого мира, того культурного поля, которое он создавал и в пределах которого писал до конца жизни. О Гёте будет написана отдельная статья, а его «Разговоры» с Эккерманом упоминаются едва ли не в каждой книге Мережковского. Статьи посвящены роману Лонга «Дафнис и Хлоя», «Ипполиту» Еврипида, трагедии Софокла «Эдип–царь», Марку Аврелию, Кальдерону. Леонардо да Винчи и Микеланджело упоминаются в связи с творчеством Толстого и Достоевского, о Юлиане Отступнике он напишет одну из своих последних пьес. Эти имена и художественные явления оказались культурными ориентирами, теми постоянными величинами в творческом сознании Мережковского, вокруг которых строилась его религиозно–философская концепция. О некоторых из них, сопровождавших его на протяжении всего творческого пути, как например Наполеон или Данте, он напишет отдельные исследования в конце жизни.
Интерес к Кальдерону впервые сказался в драматической сказке «Сильвио» (1890), вошедшей в «Символы» под заглавием «Возвращение к природе». Она написана по мотивам драмы Кальдерона «Жизнь есть сон». Хотя в предисловии к пьесе Мережковский настаивал, что, «кроме общности внешней интриги, эта вещь совершенно чужда произведению испанского драматурга и написана вполне независимо от него»[1419], его влияние совершенно очевидно. В драме Кальдерона молодого драматурга вдохновляла мысль о невозможности постижения тайны, скрывающейся «там, за призрачной дымкой явлений», т. е. то, что лежало в основе его представлений о природе символического. Позднее, в письме к В. Ф. Коммиссаржевской, приглашавшей его принять участие в одном из организуемых ею утренников, Мережковский писал, что Кальдерона «любит с детства и его дивную пьесу „Жизнь только сон”»: «Чувствую, что никто так бы не прочел Вам, как я, потому что никто так не любит этой пьесы. Ведь я сам написал подражание ей — „Сильвио”»[1420].
Статья о Кальдероне связана многими нитями и с драмой Мережковского, и с его книгами. Так, размышляя о природе символического в известной брошюре «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», он почти дословно переносит в нее слова из единственного прозаического фрагмента драмы «Сильвио», где главный герой сидит в пещере «при свете дрожащей лампады» и «по челу пробегают тени мучительных дум». «Смена физической темноты и света действует на наш внутренний мир, — пишет он в книге «О причинах упадка…». — В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя». Однако статья «Кальдерон в своих драмах» посвящена другому произведению, «Поклонению Кресту», и своеобразие художнического видения драматурга устанавливается в сравнении с древнегреческими трагиками и Шекспиром. Впоследствии, перерабатывая статью, Мережковский почти исключил эти сопоставления, сосредоточив свое внимание на мистицизме, проявляющемся, по его мнению, в произведениях Кальдерона. Кроме того, из окончательного текста были почти полностью удалены обращения к читателю, призывы представить себе обстановку, в которой жил и творил драматург, — средневековые храмы, театральные действа той эпохи. Эта переработка была продиктована новыми задачами, стоявшими перед автором «Вечных спутников».
Образ Кальдерона был Мережковскому так же дорог, как и образ «философа–императора», «провозвестника мира» Марка Аврелия, которому посвящена статья, опубликованная осенью 1891 г. В «Автобиографической заметке» Мережковский вспоминал, что в это время «много путешествовал. Долго жил в Риме, во Флоренции, а также в Таормине, в Сицилии; побывал в Афинах и в Константинополе»[1421]. В Риме он видел античную статую императора, которую описал в стихотворении «Марк Аврелий» (1891). Он назван «триумфатором», изваяние которого не тронули века. Император сидит на бронзовом коне, и «в складках падает с плеча / Простая риза, не порфира. / И нет в руке его меча». В его облике сочетаются простота и величие, но от его «царственного лика» веет «грустью неземной». Марк Аврелий в восприятии поэта провидец, понимавший, что «погибнет Рим отцов», и мудрый государственный деятель, отдавший «все, что было в жизни», «последний вздох» своей родине, и философ, с грустью осознававший бренность бытия. Этот образ воссоздается и в статье: император с «печальным, кротким, почти христианским лицом», «добрый гений человечества». Сравнение, в котором время Марка Аврелия уподобляется современности, —
В тяжелый век он жил, как мы,
Он жил во дни борьбы мятежной,
И надвигающейся тьмы,
И грусти безнадежной[1422], —
возникает и в тексте статьи. «Настроение эпохи Марка Аврелия соответствует настроению конца нашего века, — пишет Мережковский. —
То же внешнее благосостояние и внутренняя тревога, тот же скептицизм и жажда веры, та же грусть и утомление». «Аналогии», которые будто бы не заметил и не провел Э. Ренан между своим временем и эпохой императора, Мережковский проводит сам, изучая духовный опыт Марка Аврелия. Источником для его наблюдений стали записки императора, «живая книга», от чтения которой «испытываешь сладкое и глубокое ощущение». Его вызывают «собственные, никому не высказанные мысли», встретившиеся «в произведении человека далекой культуры, отделенного от нас веками», страх смерти, испытанный им с такой же силой, как и современниками: «Он преследует людей XIX века самых различных темпераментов, национальностей и направлений, одинаково Бодлера, как Леопарди, Байрона, как Толстого, Флобера, как Ибсена».
Именно записки, а не исследования Тэна и Ренана открывают душу императора, показывают ход его мысли и движение чувства. Как прежде по письмам Флобера или позднее по письмам Плиния Младшего, Мережковский воссоздает атмосферу эпохи, которой противостоит образ императора с кротким сердцем, бог которого — «человеческая совесть», а религия — «простая, чистая и бескорыстная религия долга и любви». Мережковского интересует и та грань его миросозерцания, где он как будто прикасается к христианству. Наметив противоречие, он стремится углубить его, противопоставить две стороны личности императора — аскета, «умерщвляющего свое сердце», и философа, любящего все земное. В конце статьи Мережковский вспоминает изваяние Марка Аврелия, которое «стоит теперь над Капитолием», воображает того, кто «столько лет» защищал «римскую империю от варваров, кто молился богам, чтобы они в сердце его погасили последнюю искру земной любви… у постели маленькой больной дочери — как он рукой щупал ей голову: есть ли жар?». Чуждый своему веку, своему народу, своей семье, Марк Аврелий, по мысли Мережковского, оказался близок людям XIX столетия, «таким же скептикам, жаждущим веры»: «Живая вера поддерживается внутренней борьбой, сомнением, вечно возрождающимся и вечно утомляемым верой. Вот почему вера — величайшее утешение и вместе с тем величайшее страдание души. Она дает жизнь сердцу и сжигает его, пожирает, как сильное пламя — сухое дерево». Как и в статье о Флобере, Мережковский завершает повествование словами своего «героя»: цитаты следуют одна за другой, открывая все новые стороны личности Марка Аврелия. Такой же прием использован и в статье о Монтене, опубликованной в журнале «Русская мысль» в 1893 г.
Здесь роль документа, позволяющего воссоздать образ философа, «святая святых его сердца», а также «кабинет, столовую, детскую, спальню жены, мелкие прозаические подробности повседневной жизни», играют «Опыты». Мережковский характеризует эту книгу как «сборник случайных, разрозненных заметок», в которых Монтень предстает таким, каков он есть, без опасений быть «дурным или хорошим, красивым или безобразным». И вместе с тем понятно, что из «Опытов» Мережковский берет только то, что отвечает его собственному пониманию, его взгляду, ощущению. Как вспоминала 3. Гиппиус, «ко всякой задуманной работе он относился с серьезностью… я бы сказала — ученого. Он исследовал предмет, свою тему, со всей возможной широтой…»[1423]. Об этом свидетельствуют, в том числе, и публикуемые черновые записи (с. 328—337 наст, изд.). Мережковский разбивает весь текст «Опытов» на несколько групп: его интересует «литературная форма, язык, художественные приемы» Монтеня, его взгляды, биография и образ жизни, привычки, этапы его духовной эволюции. Он обращается также к высказываниям о Монтене, исследует его влияние на последующие поколения мыслителей. В целом статья написана в соответствии с этими материалами: в журнальном варианте существовали разделы, названные как некоторые пункты развернутого плана черновых записей, например: «Дилетантизм Монтаня», «Общественная и политическая теория. — Терпимость», «Свобода и уединение» или «Первобытное состояние. — Народ». Однако текст насыщен эмоционально окрашенными комментариями Мережковского, выдающими его личное отношение к Монтеню. В тексте первой публикации явно ощущается его увлеченность, непосредственное восхищение, стремление вместе с читателем еще раз следовать за мыслями философа.
Как уже упоминалось, в начале 1890–х гг. Мережковский много путешествовал, побывал во Флоренции, в Афинах и в Константинополе. По впечатлениям от этой поездки он публикует статью «Флоренция и Афины. (Путевые воспоминания)», вошедшую в «Вечные спутники» под названием «Акрополь»[1424]. Мережковский рассказывает о мельчайших подробностях своего путешествия, о своих чувствах и переживаниях. Он передает запахи, звуки, цвет, ощущения от жары, а завершает статью почти дневниковой записью: «Я пишу эти строки осенней ночью, при однообразном шуме дождя и ветра, в моей петербургской комнате…». Описание путешествия в Афины он начинает с рассказа о Флоренции, наследнице «древнего эллинского духа», а завершает размышлением о современной ему «скучной жизни». Мережковский стремится как бы отмести «все прошлое человечества, все двадцать болезненных, мятущихся и скорбных веков», чтобы вернуть свое поколение к «гармонии и вечному покою» древнего Акрополя. В этой статье создается образ прекрасного прошлого человечества, к которому Мережковского влекло, с которым неразрывно связана его мечта о сочетании в новой культуре языческого и христианского. В поисках возможности такого соединения он обращается и к эпохе Траяна.
Статья о Плинии поначалу так и называлась — «Портрет из эпохи Траяна. (Плиний Младший)». Она была опубликована в конце 1895 г. в журнале «Труд». Интерес к Плинию Мережковский объяснял тем, что он «стоит не выше века, а наравне с ним, и с удивительной полнотой отражает его недостатки и добродетели, его слабости и величие»: его письма, как исповедь, «дают нам всего человека» и его время. Предваряя статью фрагментом из пушкинского стихотворения «К вельможе», Мережковский задает общий тон повествования. Закат римской цивилизации сказывается в зрелости языка, подобного «сочности самых поздних осенних плодов»; в литературных кружках, где собираются «утонченные, немного поверхностные риторы»; в умении наслаждаться комфортом и природой, «прелестью мира»; в умении «быть счастливым». Завершая статью строчками из стихотворения Пушкина «Осень», Мережковский пишет: «От лучших писем Плиния веет этим благоуханием осени, — вот почему они всегда останутся драгоценностью для редких и благородных любителей увядания — для тех, кто предпочитает старость молодости, вечер — утру и неизменяющую осень — лживой весне».
В 1895 Г., когда еще продолжались переговоры о публикации романа о Юлиане Отступнике, в одной из бесед с А. В. Половцовым Мережковский заметил, что ему «хотелось, передавая верно эпоху, показать в то же время и связь тогдашнего миросозерцания с нашим, и что многие стремления тогдашних лучших людей родственны нашим стремлениям»[1425]. Это проявилось и в статье о Плинии. Древние люди кажутся Мережковскому удивительно похожими на его современников и «самая ткань повседневной человеческой жизни» в сущности не изменившейся. Прежними остаются пристрастия и привычки, желания и страхи: «только узоры — иные, основа — старая».
Письма Плиния и Флобера, дневник Марка Аврелия, «Опыты» Монтеня, а также исследования, характеризующие их время, занимали в творческом сознании Мережковского особое место, как впоследствии письма Тютчева, Белинского или Тургенева, «Дневник писателя» Достоевского. Они были источником его вдохновения, давали возможность творить собственный образ времени и художника. Книги, как «живые люди», вызывали в нем отклик, будили творческую мысль. Он выбирал из них детали, мелочи, которые помогали ему создавать собственную концепцию эпохи; цитировал те фрагменты текстов, в которых «герой» говорит о самом важном для автора статьи.
Одновременно со статьей о Плинии Мережковский выпустил в свет перевод романа Лонга «Дафнис и Хлоя»[1426]. Предпосланная переводу вступительная статья вошла в первое издание «Вечных спутников». От всех предшествующих и последующих статей она отличалась прежде всего своей целью: переводчик пояснял значение вводимого им в читательский оборот произведения древней литературы. Поэтому поначалу он предпринимает попытку определить временные рамки, в которых мог быть создан роман, ищет приметы времени, которые могли бы помочь ему в этом, размышляет об авторе произведения. Таким образом, «Дафнис и Хлоя» помещается в широкий контекст, в котором художественные и идейные особенности соотносятся с известными культурными явлениями. Это образы любимого Мережковским Юлиана Отступника и учителей церкви Василия, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, и искусство XV в., в котором он видит осуществление своей мечты о соединении языческого и христианского. Мысль о сходстве разных эпох, исторических «перевалов» рождает прекрасный образ «неведомых сочетаний»: «Как будто из народа в народ, из тысячелетия в тысячелетие братские голоса перекликаются и подают друг другу весть, что странники идут по одному пути, к одной цели, через все исторические перевалы, через все долины и горы». Одним из этих странников Мережковский ощущал и себя самого, идущего к заветной цели, окружающего себя «вечными спутниками», союзниками и единомышленниками на пути к духовным вершинам.
В тексте статьи есть интересный фрагмент. Мережковский цитирует один из разговоров Гёте с Эккерманом о «Дафнисе и Хлое». Приведя довольно значительный отрывок, он заключает, что собеседник «великого язычника» не достиг должного уровня, не понял предмета разговора: «Но если бы у Гёте был другой, более проницательный собеседник…» — говорит Мережковский и как бы вместо Эккермана отвечает Гёте, выдвигает себя на первый план повествования, открывает читателю загадки, не разгаданные даже его великим предшественником. Это наблюдения над нравами, изображенными в романе, «невыгодными чертами эпохи» и вместе с тем над особенностями, роднящими его с произведениями «эллинской прелести». Но как и везде, где Мережковский касается явлений древней культуры — Марка Аврелия, Плиния, Юлиана Отступника, он стремится найти в их мыслях, поступках, словах милосердие, жалость, нежную любовь, которые осмысляет как предвестия христианского миросозерцания. В тексте возникает сопоставление с Франциском Ассизским, образом влюбленного в природу святого, к которому протянута нить из мира Дафниса и Хлои. Цикада, спасающаяся от ласточки на груди у Хлои, кажется ему родственницей той цикады, которая через много веков будет петь на руке святого Франциска.
Мысль о необходимости соединения языческого и христианского, о новом возрождении культуры, которое ждет его современников, звучала в произведениях Мережковского все настойчивее. Он ощущал свое время временем «перевала», о котором писал в предисловии к переводу романа Лонга, и искал все новых и новых «неведомых сочетаний».
II
Замысел будущей книги, в которую могут быть собраны несколько статей, объединенных общей идеей, возник у Мережковского, видимо, в 1893 г. 4 октября того же года он обратился к А. С. Суворину, уже издававшему его книги, с деловым, «довольно важным» для него предложением: «Я знаю, что издание моих книг невыгодно, но я решаюсь все‑таки обратиться к вам по следующим соображениям: 1) моя крит(ическая) проза идет лучше моих стихов, 2) Вы издаете книги и не очень выгодные, но все‑таки хорошие, полезные для русской литературы, а я питаю надежды, что та книга, которую я хочу издать, небесполезна. Размером она будет в 14 или 15 печ(атных) листов. Ее название: „Критические портреты” («Очерки всемирной литературы»). Содержание: 1) Марк Аврелий, 2) Кальдерон, 3) Сервантес (Дон–Кихот), 4) Монтень, 5) Флобер, 6) Ж. — Ж. Руссо, 7) Ибсен»[1427]. Таким образом, будущая книга тогда мыслилась Мережковскому состоящей из семи статей. Предлагая ее А. С. Суворину, он говорит, что новое издание будет представлять собой «вторую книгу моих критических очерков»[1428], под первой имея в виду незадолго до того вышедшую в свет книгу «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893).
В борьбе за новое искусство, в которую включился Мережковский этой книгой, участвовали и те критики, о которых он писал в ней, и входивший в литературу В. Розанов, и А. Волынский, и Л. Гуревич, и др. Одна из тем полемики того времени — «наследство 60—70–х гг.», как называл ее В. Розанов. В статьях, публиковавшихся в периодических изданиях с начала 1890–х гг., Розанов стремился откликнуться на самые острые вопросы, обсуждавшиеся тогда в печати. Он противопоставил потребность нового поколения видеть в человеке «не материал для теории», а живую личность, «душевной скудости» старой русской критики. Ее главным недостатком он называл «грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям», что привело к неверному пониманию природы человека. «Неполнота знания при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей — это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекала грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучающая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому»[1429], — писал он.
Обращаясь к учению Л. Толстого, к спорам о славянофильстве, к истории русской критики, Розанов вел полемику с Н. К. Михайловским, обвиняя его и его сторонников в эклектизме, в неверном понимании сущности русской культуры, в стремлении изучать писателей в связи друг с другом, не устанавливая индивидуального своеобразия их творческого мира. Противоречие между прежним и последующим «фазисами» русской критики кажется ему лишь этапом в усвоении наследия прошлого, дающим возможность отделить новое от старого, выработать такой подход к художественному творчеству, который позволит смотреть на «дух поэта» как на «нечто глубокое, своеобразное, замкнутое»[1430], ценное само по себе, а не в связи с развитием литературных направлений и школ.
Статьи Розанова тех лет были собраны в книгу «Литературные очерки», опубликованную П. П. Перцовым в 1899 г. одновременно со сборниками того же автора «Сумерки просвещения» и «Религия и культура». Несмотря на ожесточенную критику, которой были подвергнуты эти издания, некоторые идеи Розанова были подхвачены и развивались в русской критике тех лет. Мережковскому, например, были совершенно чужды его славянофильские симпатии, некоторая двойственность позиции, отказ от прежних мнений, однако зерна, брошенные Розановым в те годы, прорастали в статьях Мережковского о Л. Толстом, Гоголе, Достоевском и др.
Свою борьбу с критикой прошлого вел и А. Волынский. В начале 1890–х гг. он регулярно печатал литературные заметки в журнале «Северный вестник», редактором которого он был. В 1896 г. они составили книгу «Русские критики». Для Волынского борьба с наследием прошлого стала средством реабилитации русской литературы, которая, как он полагал, так и не была оценена по достоинству. Критика в оценке литературных явлений «и не ушла еще дальше узких, буржуазных, чисто утилитарных рассуждений в тех самых литературных вопросах, которые требуют глубокого психологического разбора, гуманного взгляда с высоты определенных философских или научных идей. Эта критика бессильна именно потому, что она элементам второстепенным, историческим, житейским подчиняет то, что главенствует надо всем, что важнее всего — метафизическое начало нравственной свободы, общефилософское миросозерцание человека»[1431]. Пренебрежение художественными достоинствами литературных произведений привело к тому, что читатели не смогли составить верного представления о подлинном месте Пушкина и Гоголя в истории русской литературы. Между тем первый является ее творцом «в том виде, в каком она существует в настоящее время: направление и приемы творчества у лучших представителей русского художественного слова обвеяны пушкинской традицией»[1432], а второй — основоположником религиозно–философского направления в литературе.
Волынский был одним из первых, кто восстал против оценки Белинским «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, называл ее «крупной ошибкой», повлекшей за собой непоправимые последствия в виде «таких мнений, которые при иных обстоятельствах, быть может, не выступили бы на страницах русских газет и журналов — к стыду и несчастью русской литературы». На Белинского Волынский возложил и ответственность за «упадок» в русской критике, которой тот не указал направление дальнейшего развития. Последовавшие за ним Добролюбов, Чернышевский и их наследники только усугубляли его ошибки, посвящали литературе «разнузданно–невежественные разговоры, почти постыдные в интеллигентном обществе», и дошли до того, что «грубо замахнулись даже на Пушкина»; в современной печати «из месяца в месяц появляются статьи с нелепыми стишками в виде аргументаций, с какими‑то бурсацкими выходками и чисто лакейским остроумием»[1433].
Как вспоминала Л. Гуревич, статьи Волынского не только не были приняты современниками, но «вызывали негодование» даже сторонников той линии, которую стремился выдерживать его журнал: «Мне все яснее становилось, — писала Гуревич, — что эта борьба с публицистической критикой есть борьба за настоящую художественную литературу, что, отвергая принципы, руководившие Белинским в последнем периоде его деятельности, Добролюбовым и еще более Писаревым и Чернышевским, мы как бы расчищаем пути к Пушкину, во всем его значении, к Гоголю, в его истинных глубинах, к Достоевскому и Толстому, — ко всему, что состав–и 49
ляет истинную мощь русской литературы и ее органическое достояние». Собственные литературно–критические статьи Гуревич разных лет, позднее собранные в книгу «Литература и эстетика» (1912), свидетельствуют о решимости достичь именно этой цели, — понимания подлинного значения наследия Пушкина и Гоголя. В предисловии к книге она подводит итог двадцатилетнему периоду развития русской литературы, в котором «своеобразно перемешались элементы художественного обновления и вырождения», и свою задачу видит в том, чтобы содействовать становлению «настоящей художественной культуры». В ней, по мысли автора книги, должна выразиться «та полнота эстетического сознания, которая вновь поставит нас лицом к лицу с неизменными, вечными в пределах нашего земного существования законами художественной правды и красоты»[1434].
Специально о приемах прежней русской критики Гуревич не писала. Как и Волынский, говоривший «всегда на одну тему с Мережковским»[1435] (А. Ремизов), она в целом оставалась в пределах вопросов, которые, по ее определению, тогда «носились в воздухе»[1436]; в ее статьях отразились как открытия современников, так и их заблуждения. Источником некоторых из последних стала и она сама. Так, Гуревич оказалась близка мысль Мережковского, что образы и идеи гения прошлого «в неполном объеме и значении доступны его современникам, и лишь какая‑нибудь позднейшая эпоха, ощутив себя родственной ему в основных интересах и стремлениях духа, вдруг раскроет для себя и для последующих поколений все сокровища его мыслей, всю вещую многозначительность образов»[1437]. Откликаясь на полемику о становлении нового театра, она обратилась к идеям Гоголя, в которых нашла подтверждение плодотворности современных ей театральных поисков. Основой статьи «Гоголь и Пушкин» стали найденные ею в Париже «Записки» А. О. Смирновой, которые она приняла за подлинные и печатала в своем журнале «Северный вестник». Позднее она оправдывала публикацию недостоверного текста тем, что он способствовал возрождению «нового живого интереса к Пушкину и его современникам»[1438]. Жертвой публикации «Записок» был и Мережковский, выстроивший на них свою «пушкинскую» концепцию.
Публикуя книгу «О причинах упадка…», он оставался близок мнениям, высказанным В. Розановым и А. Волынским о «старой» критике. Как и Волынский, он говорил о Белинском мягче и уважительнее, чем о его наследниках, как и Розанов, выделял из общего ряда литературно–критические разборы А. Григорьева и Н. Страхова, однако суть русской критики определял как публицистическую, «противонаучную и противохудожественную». В отличие от современников он противопоставил ей собственный «субъективно–художественный метод», когда критик, оценивающий художественное явление, «превращается в самостоятельного поэта», отражает «не красоту реальных предметов, а красоту поэтических образов, отразивших эти предметы», но этот метод в книге «О причинах упадка…» использован еще не был. Мережковский применил его для создания «портретов из всемирной литературы».
К моменту реализации замысла в книгу «Вечные спутники» были включены тринадцать статей: «Акрополь», «Дафнис и Хлоя», «Марк Аврелий», «Плиний Младший», «Кальдерон», «Сервантес», «Монтень», «Флобер», «Ибсен», «Достоевский», «Гончаров», «Майков» и «Пушкин». Книге было предпослано авторское предисловие. Некоторые статьи, чаще парами (например, «Кальдерон» — «Сервантес»), выходили отдельными изданиями вплоть до 1910 г. Готовя книгу к печати, Мережковский включил в нее не все статьи, написанные им к этому времени. Он отказался от первоначального замысла публиковать статью о Руссо, в состав книги не вошли «Старый вопрос по поводу нового таланта» (о Чехове), некрологи «Памяти Тургенева» и «Памяти Плещеева», очерки о Бальзаке и Мишле «Крестьянин во французской литературе», «Кольцов» и другие: они публикуются в настоящем издании и дают возможность полнее видеть направление поисков их автора той поры.
Объединяя статьи общей задачей, Мережковский писал, что хотел представить читающей публике прежде всего «великих незнакомцев, ибо, кроме их имени, русский читатель до сих пор знает о них разве по отрывкам неудовлетворительных переводов или по безличным выдержкам из курсов литературы и справочных книг». Но не тех «незнакомцев», о которых вообще было не много известно его современникам, а именно тех, которых объединила «субъективная, внутренняя связь в самом я, миросозерцании критика», задавшегося «откровенно субъективной» целью. «Прежде всего он желал бы показать за книгой живую душу писателя — своеобразную, единственную, никогда более не повторяющуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души (…) на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика как на представителя определенного поколения». В предисловии также развивается мысль, высказанная в книге «О причинах упадка…», о широких возможностях метода субъективной, психологической критики, «неисчерпаемой и беспредельной по существу своему, как сама жизнь, ибо каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения». С годами влияние художников прошлого на формирование собственного мировоззрения Мережковский оценивал несколько иначе, к числу «вечных спутников» относил и другие имена. В зависимости от этого менялся и состав книги. Однако во всех изданиях ее завершала статья «Пушкин».
Впервые она была опубликована в 1896 г. в сборнике «Философские течения русской поэзии». Этой антологией статей, посвященных двенадцати русским поэтам, как и другой, «Молодая поэзия», выпущенной в свет годом ранее, П. Перцов представлял русской публике новое поколение, пришедшее в литературу с особым взглядом на действительность и искусство. Современники встретили антологию насмешками и язвительными откликами. И если Б. Глинский поставил под сомнение саму идею такого сборника[1439], а А. Волынский размышлял о необходимости создания «последовательной философии, организованной с методической стройностью»[1440], то А. Скабичевский разразился большой разгромной рецензией. Особенно досталось Мережковскому, которого еще в 1890 г. этот критик народнического направления считал возможным включить в свою «Историю новейшей русской литературы».
Уточняя название рецензии, «Курьезы и абсурды молодой критики», Скабичевский объединил авторов статей не возрастом, а мерой их противопоставленности «критике шестидесятых и семидесятых годов», так как: «для нас при этом совершенно безразлично, сколько лет тому или другому». Он начинает рецензию со статьи о Пушкине и прежде всего высмеивает концепцию Мережковского: «Когда вы читаете страницы, посвященные подобной квазифилософии, становится стыдно — не за г. Мережковского, а за наши высшие учебные заведения, которые выпускают с учеными степенями молодых людей, способных пробавляться подобного рода мировоззрениями, основанными на дуализме чисто младенческого характера»[1441]. Справедливости ради стоит отметить, что Скабичевский хорошо понял главную идею Мережковского. Настолько хорошо, что в своей рецензии предложил сразу несколько теорий мировой эволюции, иронически их обыгрывая; вычленил из истории культуры те имена, которые выпадали из концепции Мережковского и не вызывали в нем отклика (например, В. Гюго); нашел в его статье очевидные противоречия и осмеял их.
Вместе с тем Скабичевский остался глух к самой символистской эстетике, и своеобразие статей в сборнике «Философские течения русской поэзии» устанавливал в сопоставлении с достижениями «нашей старой критики». Статьи Соловьева или Никольского, по его словам, еще хуже статей Мережковского, повторявшего «лишь те зады, которые на тысячу ладов развивались в нашей критике с половины пятидесятых годов»: в них Скабичевский, «при всех желаниях, не в состоянии оказывался понять ни одной фразы»[1442].
Ему показалась возмутительной сама попытка «вывести философию, шутка ли сказать, из А. Фета», Ф. Тютчева и других русских поэтов: «И у Пушкина, и у Кольцова, и у Майкова хотя и не Бог весть какая мудреная философия, но все‑таки можно найти кое–какие мысли, хотя бы и самые банальные. Но представьте себе, чего стоит постигнуть философию Тютчева, Фета! Ведь это все равно, что выжать масло из гранита; поневоле ум зайдет за разум и, в конце концов, критику приходится изъясняться на птичьем языке»^[1443]. Завершая рецензию, Скабичевский, отталкиваясь от слов Мережковского, писал: «Действительно, наше время — печальное время упадка художественного вкуса, эстетического и философского образования; действительно, на нас нахлынула волна грубой и мутной черни, — в виде тех полуобразованных, полуразвитых недоучек, путающихся в метафизических дебрях мистического мрака, какими являются все эти господа Волынские, Мережковские, Перцовы, Никольские и т. д. Вот каковы представители современной русской мысли! Бедная русская мысль!..»[1444].
Мережковский сравнивал Пушкина с Гомером, в поэзии которого, как и в произведениях русского поэта, «все прекрасно, все необычайно» и «чувствуется спокойствие природы»: «Здесь и вдохновение — не восторг, а последнее безмолвие страсти, последняя тишина сердца». Вместе с тем Пушкин осознавался Мережковским как последний из русских художников, которому удалось, о чем бы он ни писал, до конца сохранить эту гармонию. Каждый из следующих за ним — Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой — «все более и более удалялись от Пушкина», и предсказанное им новое возрождение так и не было осуществлено. «Русская литература, — говорит Мережковский, — не случайными порывами и колебаниями, а вывод за выводом, ступень за ступенью, неотвратимо и диалектически правильно, развивая одну сферу пушкинской гармонии и умерщвляя другую, дошла наконец до самоубийственной для всякого художественного развития односторонности Льва Толстого».
Статьей о Пушкине в творчестве Мережковского открывалась новая и важная тема, во многом определившая облик его зрелых исследований, — будущность русской литературы. Он связывал ее прежде всего с тем, как освоено пушкинское наследие. Речь идет, конечно, о специфическом понимании этого наследия. В книге «Л. Толстой и Достоевский», которая во многом была продолжением, развитием идей, высказанных в статье о Пушкине, Мережковский сформулировал свое понимание сущности литературы. Он писал, что «второе Возрождение и начинается, действительно, ежели не в самой русской церкви, то около нее и близко к ней, именно в русской литературе, до такой степени проникнутой веяниями нового таинственного „христианства Иоаннова”, как еще ни одна из всемирных литератур»[1445]. И потому в картине мироздания, нарисованной им с геометрической точностью, у Пушкина особое место.
Мережковский предлагает читателям представить себе мировую культуру в виде двух треугольников, каждый из которых имеет свою вершину. Западноевропейский, вершиной вверх, венчает фигура гения, будь то Гёте в немецкой или Леонардо да Винчи в итальянской культуре. В них сконцентрировались лучшие творческие силы народа, они вобрали в себя самый дух нации, которая, стоя у подножия треугольника, питает гения. Второй треугольник — русская культура, стоит вершиной вниз. Эта вершина — Пушкин, родившийся, по мнению Мережковского, так же внезапно, как загорается комета: его становление не было подготовлено творческими усилиями нации, он сформировался в одиночестве и исчез так же неожиданно, как появился. Наследники Пушкина — вся русская литература от Гоголя до Толстого и Достоевского — есть движение гения, давшего народу все, что может дать человеческий гений, к своему концу.
Мережковский разделял понятия «поэзия» и «литература». Первая — «стихийный и непроизвольный дар Божий», вторая — соединение национальных талантов в силу, «двигающую целые поколения по известному пути». Развитие русской словесности, начавшееся с Пушкина, явилось развитием поэзии при полном отсутствии литературы. С этим связаны все победы и провалы русской общественности. Многие литературно–критические и публицистические статьи Мережковский посвятил поиску того стержня, который мог бы стать основой для зарождения литературы как общественной силы. Этот стержень — «вопрос о Боге», который, по мнению Мережковского, решали, но так и не смогли решить и русская поэзия, и русская общественность.
Пушкин решает свой «вопрос о Боге» с мудрой простотой и естественностью. В его творчестве гармонично сочетаются борющиеся друг с другом — не только в русской, но и во всей мировой культуре — языческое как «обожествление своего „Я” в героизме», и христианское — «новый мистицизм» — как «отречение от своего „Я” в Боге». Эти начала выразились в пушкинской поэзии в двух мотивах, которые и должны были стать главными в русской литературе, — «противоположение первобытного и культурного человека» и «противоположение той же современной культуре (…) самовластной воли единого творца или разрушителя, пророка или героя». В первом Пушкин предстает естественным и бессознательным христианином, исповедующим религию жалости и целомудрия. Жестокость Печорина и доброта Максима Максимыча, говорит Мережковский, победа Веры над отрицанием Марка Волохова, укрощение нигилиста Базарова ужасом смерти, смирение Наполеона–Раскольникова, «вся жизнь и все творчество Льва Толстого — вот последовательные ступени в развитии и воплощении того, что угадано Пушкиным».
Второй мотив его поэзии — «полубог и укрощенная им стихия». Противопоставляя пророка современной культуре, Пушкин «разоблачает уродство буржуазного века», дух корысти, «прикрытой именем свободы, науки, добродетели». Тщетно боролась русская литература с этой стороной пушкинского миросозерцания, пуская в ход и варварство Писарева, и «утонченные софизмы Достоевского»; Лев Толстой, по сути, стал «ответом русской демократии на вызов Пушкина Разве вся его деятельность не та же демократия буржуазного века, только одухотворенная евангельской поэзией?». Пушкин судит Толстого, «пишущего нравоучительные рассказы и открещивающегося от „Анны Карениной”, потому что она слишком прекрасна, слишком бесполезна». Русская литература, которая «ив действительности вытекает из Пушкина, и сознательно считает его родоначальником, изменила главному его завету: „Да здравствует солнце, да скроется тьма!”». «Как это странно! — восклицает Мережковский. — Начатая самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя, самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодец; бегство Тургенева от ужаса смерти в красоту; бегство Льва Толстого от ужаса смерти в жалость — только ряд ступеней, по которым мы сходим все ниже и ниже». Связывая будущность русской литературы с возрождением в ней пушкинского духа, Мережковский представляет образ своего Пушкина, каким он его увидел в контексте собственных историософских исканий.
Это во многом образ неизвестного его современникам поэта, воссозданный по «Запискам» А. О. Смирновой–Россет. Мережковский считал издание «Записок», предпринятое в 1895 г., подлинным и доверился этому тексту[1446]. Он не только не ставил под сомнение хотя бы отдельные факты, но и высказывал искреннее возмущение тем, что книга, «которая во всякой другой литературе составила бы эпоху», осталась незамеченной. Равнодушие к воспоминаниям современницы Пушкина он связывал с «культурной неотзывчивостью», общим упадком образования, «одичанием вкуса и мысли», а также с тем, что в «Записках» Пушкин выступает мыслителем и мудрецом. Мережковский предсказывал этой книге великое будущее: и потому, что наступит время настоящей критики как «культурного самосознания народа», и потому, что образ Пушкина–мыслителя, представленный в ней, соответствует глубине его творений. В этой связи равновеликим ему оказывается в мировой литературе только Гёте, с тем отличием, что у Пушкина нет такого «главного произведения, как „Фауст”, в котором бы поэт сосредоточил свой гений».
Сопоставление Пушкина и Гёте подчинено идее о потенциальных возможностях, нераскрытых сторонах пушкинского гения и целого народа, следующего за ним, — идее, получившей свое дальнейшее развитие в книге «Л. Толстой и Достоевский». Это и отсутствие в жизни Пушкина величественности и разумности, и его бессознательное христианство, и преобладание художественного над философским, и безбоязненное прикосновение к демоническому, когда поэт «дерзает испытывать примиряющую власть гармоний». Подобное сопоставление постепенно перерастает в анализ творчества Пушкина в контексте мировой культуры. Мережковский сравнивает русского поэта с Шекспиром «по силе огненной страстности», оспаривает влияние на него Байрона, который «увеличил силы» русского поэта, но Пушкин «преодолевает его дисгармонию, устремляется дальше и выше»; с Данте, окидывает взглядом античную древность и эпоху Возрождения, отмечая мотивы, получившие воплощение в творениях великого поэта.
Таким образом, Мережковский представляет читателю образ Пушкина как «великого незнакомца» — непонятого современниками, полузабытого новыми поколениями и неизвестного за пределами России. Вместе с тем он — провозвестник нового возрождения, соединяющий в себе наиболее существенные достижения мировой культуры, реализовавший ее наиболее дерзновенные идеи. Разумеется, под пером Мережковского родился образ «символистского» Пушкина. Он создавался средствами, в целом присущими символистской критике: обильное использование чужого текста и комментирование его; цитирование и автоцитирование; искажение цитаты, вычленение ее из контекста, анализ жизни и творчества с заранее установленной целью и пр. Однако именно этот образ оказался стержневым для историко–литературной концепции Мережковского, стройной и последовательной, выдержанной во всех ее аспектах вплоть до последней книги, написанной им о русской литературе, «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Даже в эмиграции он сохранял, правда с некоторыми оговорками, пиетет перед Пушкиным, который Г. Адамович называл «культом Пушкина»[1447].
По воспоминаниям 3. Гиппиус, выход в свет «Вечных спутников» «не вызвал никакого внимания, если не считать отдельных грозных нападок со стороны „либеральной прессы”, хотя ни „либерализма”, ни антилиберализма она не касалась: это была одна из традиций — бранить Мережковского»[1448]. Это неверно. «Вечные спутники» обратили на себя всеобщее внимание. О книге много писали в столичной и провинциальной печати, и среди откликов есть немало интересных рецензий, в которых, пожалуй, впервые по существу говорилось о своеобразии метода Мережковского, о его попытке по–новому прочесть произведения мировой классики, о причинах неприязни к Мережковскому вообще. Делились впечатлениями в письмах и вспоминали о книге через несколько лет после ее публикации. Сохранились и свидетельства более глубокого воздействия «Вечных спутников» на современников, скрытой полемики с ним.
Один из откликов содержится в переписке А. А. Кублицкой–Пиоттух с О. М. Соловьевой, интересовавшихся творчеством Мережковского и Гиппиус, обменивавшихся впечатлениями от прочитанного. Однажды О. М. Соловьева сообщила А. А. Кублицкой–Пиоттух: «Прочла я недавно „Вечные спутники” Мережковского. Читала ли ты это? Все, что об Русских — по–моему, неинтересно, все остальное — и ужасно интересно, и красиво, особенно понравились мне „Акрополь” и „Кальдерон”»[1449].
Б. В. Никольский в связи с выходом «Вечных спутников» задавался вопросом о причинах жестокой несправедливости к его автору. Он отмечал прекрасную эрудицию Мережковского, его «благоговейную любовь» к своему делу, встречающих лишь «порицание и глумление»: «О других писателях иной раз хоть молчат — о г. Мережковском непременно пишут при каждом удобном и неудобном случае, и пишут непременно в недоброжелательном духе. Результаты этих нападок налицо: в массе читателей коренилось какое‑то предвзятое недоверие к произведениям Мережковского, какое‑то враждебное предубеждение против всего, что им написано»[1450]. Кроме «личных счетов и ненависти», о которых писал Б. В. Никольский, были, разумеется, и причины более серьезного свойства. Мережковский стоял у истоков новой эстетической системы и «нового религиозного сознания», вошел в литературу с темами, непривычными и чуждыми его современникам. Кроме того, говорил о них с особой интонацией, как пророк, как обладатель некоего тайного знания. Многие годы спустя после появления «Вечных спутников» Ю. Терапиано писал, что Мережковский «ощущал себя предтечей грядущего царства Духа и его главным идеологом», и каждый из тех, о ком он писал, «должен был исполнять свою миссию, а Мережковский — давать директивы»[1451]. Все это и обусловило, как представляется, общий неприязненный тон откликов и рецензий на его произведения. Пророческий пафос статей, «драгоценное „я” критика», стоящее выше всякого бескорыстного интереса к предмету исследования, отмечал в отклике на «Вечные спутники», например, рецензент журнала «Мир Божий»: «И вот оно, это „я”, перед нами в стенах афинского Акрополя, — писал он о первой статье сборника. — Г. Мережковский просто позирует на развалинах Акрополя и кокетничает с читательницами: „Я пишу эти строки осенней ночью (заметьте хорошенько — ночью, а не днем, это очень важно для понимания Акрополя)”»[1452]. Рецензенту показался неоправданным сам подход к отбору имен и произведений, который он объясняет только «желанием автора щегольнуть своей оригинальностью»: «Автор позирует выбором чтения, не доступного профанам, но составляющим достояние глубоких „эстетов”»[1453].
Рецензенты «Нового слова» и «Недели», иронизировавшие над Мережковским, и такие вдумчивые и обстоятельные критики, как А. Г. Горнфельд и В. Д. Спасович, ставили под сомнение стройность книги, подчиненность каждой статьи заявленной цели. По мнению Спасовича, и Акрополь, «недвижимость, предмет архитектурный, не могущий никому сопутствовать», и роман Лонга, помещенный в сборнике «как литературный портрет», и Аполлон Майков, и Гончаров, «выбору которого можно было бы представить некоторые возражения», не должны были быть объектами исследования: «Одна [статья. — £. А.] посвящена предмету архитектуры, одна — неизвестному лицу, три — писателям, хотя и даровитым, но не первостепенным»[1454]. Возражения вызывал и метод Мережковского. Спасович шел к пониманию особенностей его метода от изучения свойств личности. Он характеризует Мережковского то как «чистокровного эстета», то как «откровенного социолога», то как «убежденного сторонника аристократизма», то как художника, которому «присуще галилейство» и вместе с тем утопичность, то как человека, в котором совмещены «несколько личностей». Противоречивость натуры Мережковского сказалась, по мнению Спасовича, в его подходе к изучению художественных явлений и в тех результатах, к которым такой подход привел.
Горнфельд рассматривал метод Мережковского в контексте европейской критики. Русская критика, считал он, волей обстоятельств «была поставлена в необходимость заниматься больше общественными, чем литературными вопросами», и разговор о ее задачах всегда сводился к тому, какое место в ней «должны занимать элементы публицистики». Поэтому, когда появились такие «оригинальные образцы», как Пушкинская речь Достоевского и «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» Толстого, оказалось, что подлинно художественную критику создают писатели, а не «присяжные критики». Рассматривая состояние критики в Европе, Горнфельд отмечает бурное развитие ее теории и называет одним из лучших ее образцов книгу Тэна «Происхождение современной Франции», стоящую выше романов, театра, «не давшего в наше время ни одного произведения, которое могло бы быть поставлено выше» нее. Мережковский же, по мнению Горнфельда, решил заменить критику лирикой, при этом не потрудившись «прояснить истинное значение» своего метода, его отношение «к современной теории поэзии, его действительный смысл в изучении художественных произведений»[1455].
Мережковского нельзя назвать и сторонником импрессионизма, получившего распространение во Франции, потому что он принадлежит к нему «только теорией», и создателем «чисто литературной критики», для которой «все эти портреты, силуэты эти (…) должны быть не самодовлеющей целью, а средством». Горнфельд значительно опередил выводы современной литературной науки, обращая внимание на то, что «по методу создания» «Вечные спутники» подобны «Юлиану Отступнику»: «Оба сотворены по образу и подобию автора. Но в критическом этюде должны быть и есть доказательства, а в романе об Отверженном их нет и не должно быть». Обстоятельная, уважительная по тону и ясная по мысли рецензия Горнфельда порой оказывается такой же интересной, как материал, о котором он размышлял. Это касается и его разбора статьи «Пушкин».
Горнфельд оспаривает тезис Мережковского о возможности постижения «объективного внутреннего смысла» произведения. Он настаивает, что пушкинский образ у Мережковского, действительно, есть результат его личных читательских наблюдений: не случайно автор называл свою книгу «дневником читателя». «Будут меняться взгляды на Пушкина, — пишет Горнфельд, — но некоторые черты, отмеченные в нем г. Мережковским, претворенные и усложненные новым пониманием, войдут, вероятно, в ту будущую широкую и всестороннюю характеристику поэта, которой мы, верно, еще не скоро дождемся. Одно можно предвидеть в этой книге: исторический и психологический смысл творчества великого поэта будет в нем постигнут не дилетантским наитием, не „сочувственным волнением”, а переживанием его предполагаемых творческих настроений; результаты субъективных толкований войдут в нее лишь постольку,
поскольку окажутся способными перейти в форму объективных положе° 72 НИИ».
Спасович в отношении этой статьи был непримирим. Он считал ее общую концепцию ошибочной и созданный Мережковским образ Пушкина неверным. Причиной этому, по мнению рецензента, послужили источники, которые Мережковский, «не потрудившись разобрать», принял на веру «как настоящую истину»: речь идет о «Записках» Смирновой. Перед тем как опубликовать рецензию на «Вечные спутники», Спасович собирался выступить с лекцией о Мережковском. В его тезисах сформулированы главные возражения против использования «Записок» Смирновой в качестве источника[1456].
С. В. Житомирская, подготовившая обстоятельное современное издание «Дневника» и «Воспоминаний» А. О. Смирновой, именно Спасовича называет одним из читателей, которые «склонились в конце концов к мысли о полной или частичной апокрифичности этого текста» и «убедительно показавшим»[1457] это. Спасович отмечает ряд «анахронизмов и невероятностей», которые объясняет тем, что «Записки велись беспорядочно и притом переработаны О. Н. Смирновой, дочерью, с личными от нее самой прибавками. Слова, суждения и речи Пушкина не только не напоминают его манеру, но очевидно придуманы… Пушкин в записках умален. Император Николай низведен также с высоты»[1458]. Спасович касается и характеристики отдельных статей в «Вечных спутниках». Один из его тезисов посвящен статье «Ибсен». Ее автор, по словам Спасовича, «остается только фрондирующим анархистом, завербовавшимся под знамя Ибсена», им неверно понята идея Гедды Габлер[1459].
Статья «Ибсен» впервые вышла в свет в составе «Вечных спутников», однако ее замысел возник, видимо, в начале 1890–х гг.[1460] Мережковский намеревался включить ее в состав книги, предлагаемой А. С. Суворину в 1893 г. Если рассматривать эту статью как составную часть книги, то создается впечатление, что все остальные ее части были подготовлены к печати с учетом опыта работы над ней, — в ней есть все, что в целом характеризует эту книгу. Она написана в полном соответствии с целями, заявленными в предисловии; в ее основу положена биография Ибсена, написанная Г. Йегером; в ней устанавливается значение творчества Ибсена для нового поколения читателей; дан разбор наиболее значительных произведений норвежского драматурга; его творчество представлено в широком историко–литературном контексте. Вместе с тем Мережковским создается художественный образ писателя — его облик, атмосфера его времени, а черты личности устанавливаются в связи с наиболее характерными особенностями героев его произведений. Но Ибсен в истории литературы занимал иное место, чем, например, Достоевский, ближайший из современников Мережковского, известный и признанный писатель, или Майков, популярный поэт, не говоря уже о древних авторах и русских классиках. Его слава только «борется и завоевывает Европу». Включая статью о нем в свой сборник, Мережковский верно оценил значение Ибсена и по существу предсказал, что его «имя переживет нас и наш мгновенный суд».
Для создания образа Ибсена, «пришельца с далекого севера», Мережковский, как уже упоминалось, использует биографию, написанную известным норвежским историком литературы Г. Йегером. Мережковский характеризует детство Ибсена, представляет картины «настоящей суровой борьбы за существование», описывает работу Ибсена над первой драмой «Каталина». Ибсен, читающий труды древних, противопоставлен провинциальным «негоциантам», которые «ведут неторопливую беседу о предстоящих барышах за продажу пакли или сала», он предстает в образе «орленка, пробующего расправить крылья в курятнике». Мысль о мятежном поэте, противостоящем своему времени, становится лейтмотивом статьи. Он беден, но участвует в национальном движении, упорно следует своим путем. Пишет произведения, «оскорбляющие все принятые взгляды и вкусы», и противостоит не только норвежскому обществу, но и всей Европе. Мережковский приводит описание внешности Ибсена, и портрет драматурга подтверждает предшествующие наблюдения Мережковского. Он даже поправляет биографа, «с наивностью» полагающего, что за границей Норвегии Ибсен может жить счастливо: автор «Привидений» и «Гедды Габлер» не может быть счастлив от «здоровья, денег, славы и семейного очага», им владеют другие идеалы.
Два последних раздела статьи посвящены разбору «Привидений» и «Гедды Габлер». Мережковский строит анализ этих произведений так, чтобы читателю была понятна событийная канва: он пересказывает содержание, вводя в текст большие фрагменты пьес, местами «разыгрывая» их. Его собственное отношение к описываемым событиям высказы–Д. С. Мережковский вается только в конце разделов, где Мережковский как бы подводит итоги: «Ибсен — художник, не подходящий ни под какие эстетические формулы», или: «Мы понимаем трагическую судьбу поколений, обреченных рождаться и умирать в эти смутные, страшные сумерки…». Однако это только внешнее впечатление. На самом деле отношение Мережковского сказывается уже в том, что и как он пересказывает читателю: неслучайно Спасович сравнивал его близость к Ибсену с тем, как плющ обвивается вокруг дуба. «Ибсен несомненно великий талант, мрачный, но могучий, и весьма ядовитый, в особенности когда он раскрывает противоречия и уродства, кроющиеся в нашей литературе, — писал Спасович. — Крупная ошибка г. Мережковского как критика заключается в том, что он производит уродов Ибсена в мученики»[1461].
Собирая статьи разных лет в одну книгу, Мережковский подвергал их переработке, практически каждая из них была отредактирована. Из текстов были изъяты слишком категоричные оценки и те фрагменты, в которых слово автора преобладало над словом его «героя». Так, из статьи о Монтене, например, он исключает такой фрагмент: «Он много говорит о невозможности познания, но, в конце концов, вы приходите к тому убеждению, что скептицизм его опирается не на какое‑либо определенное логическое основание, а связан непосредственно, как и остальные части философии Монтеня, с его темпераментом и логикою. Он родился, а не сделался скептиком», или фрагменты, в которых содержались красивые сравнения, ничего в сущности не поясняющие. Из статьи о Кальдероне исключены живописные описания: «Сначала мы чувствуем себя довольно странно в этом смешении теплого воздуха испанской ночи, пахнущей „лимоном и лавром”, с атмосферой инквизиции, возвышенных понятий чести и рыцарской любви с жестокостью и фанатизмом, вежливых комплиментов с ударами шпаги. Нам, привыкшим к широкому скептицизму современных поэтов, душно и тесно, как под слишком низким потолком…». В окончательный текст этой статьи не вошли также излишне эмоциональные обращения автора к читателю, например такое: «Перед тем чтобы приступить к изложению пьесы, я предупреждаю, что если вы отнесетесь к ней с философской критикой и современным скептицизмом, пожалуй, все эти чудеса, сверхъестественные события, старинные символы покажутся вам странными, и очарование исчезнет. Но, ради Бога, на одну минуту отрекитесь от ваших старых привычек мысли, не рассуждайте, не спорьте, чтобы показать умственное превосходство, не спрашивайте „почему” и „как”, приготовьтесь к самому невероятному, отдайтесь поэту и, если можно, поверьте всем его чудесам. Я введу вас в сумрак древнего католического собора…» и т. д.
Во всех статьях проведена стилистическая правка, изъяты разговорные выражения, диссонировавшие с остальным текстом, длинные периоды сокращены; Мережковский снял названия разделов статей, оставив лишь их нумерацию. В целом автору удалось добиться того, что дистанция между ним и объектом исследования стала большей, и голос его «спутников» зазвучал сильнее; контакт с читателем устанавливался с помощью доверительной интонации, авторских признаний, частым использованием местоимения «мы», вводящим читателя в круг авторских размышлений.
III
«Появление второго издания этой книги через три года после первого указывает на значительный интерес, вызванный в читающей публике очерками г. Мережковского. Успех книги — вполне заслуженный. Самостоятельность суждений автора, содержательность очерков (…) блестящие характеристики, прекрасное изложение — таковы подкупающие достоинства книги. Она читается с неослабляющим интересом»[1462]. Такими словами начинал свою рецензию нового издания сборника «Вечные спутники» Д. Н. Овсянико–Куликовский, продолжавший тему, затронутую еще в 1897 г. А. Г. Горнфельдом. В центре его статьи — два вопроса: о развитии во времени художественных явлений и о «субъективной» критике. Первый касался идеи Мережковского о том, что некоторые произведения растут вместе с человечеством и каждое новое поколение по–новому прочитывает и оценивает их. Она кажется рецензенту «вполне верной и в высокой степени плодотворной»: «В существе дела это — та самая мысль, которую так блестяще и с такой глубиною разрабатывал покойный А. А. Потебня», называвший художественные образы «постоянными сказуемыми к различным, друг друга сменяющим подлежащим». Противоречие, возникающее между двумя формулировками, говорит рецензент, «только кажущееся: это — случайное противоречие в терминологии, не простирающееся на самую мысль».
Поддерживая Мережковского, сумевшего показать, как вечные образы мировой литературы функционируют по–разному в свое время и в конце XIX в., Овсянико–Куликовский оспаривает другие положения предисловия к книге. По его мнению, писатели не могут быть «вечными спутниками», сопутствуют человечеству «чаще всего отдельные образы, ими созданные», а включение в книгу статей о мыслителях или деятелях прошлого исходит от «коренного недостатка г. Мережковского как критика»: «…он не стремится к возможно точному установлению и разграничению понятий… Например, хотя бы Плиний Младший. Какой он, в самом деле, „вечный спутник”?». Этот недостаток сказался и в определении сущности субъективного метода. Оценка художественных явлений, пишет рецензент, требует «строгой объективной, а никак не субъективной критики. Ибо очевидно — „рост” образа, изменение его понимания, увеличение его обобщающей силы, углубление его смысла, вообще его движение во времени, в сознании человечества требует точного, научного изучения направления этого движения, причин такой долговечности, исследования тех качеств образа, в силу которых его интерес не только сохраняется, но еще увеличивается, психологического анализа изменяющегося понимания образа и повышающейся оценки его»[1463].
По мнению Овсянико–Куликовского, наиболее удачной оказалась статья о Сервантесе, самой слабой — статья о Пушкине, в которой Мережковский дошел до «субъективного произвола». Хотя сама идея чередования в истории двух «противоположных миросозерцаний, христианского и языческого, является заманчивой и удобной для группировки и освещения некоторых культурных явлений», ее применение к творчеству Пушкина приводит к тому, что «критик подгоняет его поэзию под догму своей философии истории». «Мы не узнаем не только Онегина, Татьяну и других персонажей Пушкина, — восклицает рецензент. — Мы не узнаем также и самого Пушкина. Вместо гениального поэта с обширным, глубоким и необычайно ясным умом мы видим какого‑то туманного символиста, который создал бледные символы неясных идей».
Несмотря на серьезные возражения, высказанные Овсянико–Куликовским, его общая оценка книги оказалась высокой: «Разногласия мои с г. Мережковским нисколько не мешают мне признать его книгу ценным вкладом в нашу критическую литературу. К числу сильных сторон и достоинств, кроме тех, о которых упомянуто в начале рецензии, нужно отнести разносторонность историко–литературных интересов автора, его замечательную эрудицию и широту исторического воззрения»[1464]. Хотя отклик Овсянико–Куликовского и не был последним в большом перечне рецензий на «Вечные спутники», он по существу завершил печатную полемику
о нем.
Сам Мережковский иногда возвращался к «героям» своей книги. В книге «Л. Толстой и Достоевский» он упоминает о Пушкине, его собеседником становится сам Достоевский. Мережковский ссылается на его Пушкинскую речь, находит там близкие себе идеи и ею запоздало оправдывается перед своими критиками: «Меня обвинили в том, что я приписываю Пушкину мои собственные, будто бы „ницшеанские” мысли (…) Мои судьи, если бы они желали быть последовательны, должны бы обвинить и Достоевского в том, что он приписывал Пушкину свои собственные мысли»[1465]. Он продолжал развивать свою концепцию и в других статьях, в том числе в статье «Праздник Пушкина» (1899), в книге «Грядущий Хам» (1906), в статье о Лермонтове (1909), возвращался к образу Пушкина и в эмиграции. Пушкин, действительно, был его «вечным спутником». Фрагменты его стихотворений, реминисценции, выдержки из статей и писем, отдельные высказывания, наконец, пушкинские образы наполняли произведения Мережковского. Ими он пояснял собственные мысли, к ним обращался как к авторитетному свидетельству собственной правоты.
В начале века статьей «Пушкин» заинтересовался начинающий тогда пушкинист Н. О. Лернер, автор работ «А. С. Пушкин. Труды и дни» (1903), «Проза Пушкина» (1922). На одном из отдельных изданий статьи, осуществленном в 1906 г. М. В. Пирожковым, остались его многочисленные пометы. Они были сделаны Лернером, очевидно, в период его работы над комментариями к «Сочинениям» поэта под редакцией С. А. Венгерова, которые начали выходить в 1907 г. Об этом свидетельствует не только год издания брошюры, на которой сохранились пометы, но и характер отмеченных Лернером фрагментов. Его интерес к тексту Мережковского прежде всего комментаторский: карандашом выделены все цитируемые пушкинские стихотворные тексты, их названия, характеристика таланта поэта, цитаты из «Записок» Смирновой и пр. Так, Лернер подчеркивает слова: «Пушкин великий мыслитель, мудрец», муза Пушкина — «мудрее мудрых», «наиболее совершенные создания Пушкина не дают полной меры его сил», «Пушкин был не столько совершителем, сколько начинателем русского просвещения», «русское возвращение к природе — русский бунт против культуры — первый выразил Пушкин, величайший гений культуры среди наших писателей» и др.
Особенно интересными для Лернера оказались размышления Мережковского о традициях, заложенных Пушкиным и развитых впоследствии в творчестве Лермонтова, Гончарова, Тургенева и Толстого. Он отмечает такой фрагмент: «Пушкин „Евгением Онегиным” очертил горизонт русской литературы, и все последующие писатели должны были двигаться и развиваться в пределах этого горизонта». Такой же интересной показалась ему мысль об ошибочности сопоставления Пушкина не с Гёте, а с Байроном. Лернер отмечает целую страницу, посвященную этой теме.
Нельзя утверждать, что Лернер был единомышленником Мережковского в его оценке Пушкина. Круг его интересов составляли прежде всего биографические факты, и своеобразный взгляд Мережковского вряд ли был ему близок. Вместе с тем фрагментов, отмеченных как заслуживающие внимания, значительно больше, чем вызвавших сомнения и вопросы Лернера. Так, знак вопроса поставлен на полях около фрагмента анализа «Подражаний Корану»: «Какие нежные черты целомудренного и гордого великодушия! Христианское милосердие недаром включено в героическую мудрость пророка. Для него милосердие — щедрость безмерно богатых сердец», а также у фрагмента, посвященного стихотворению «Мирская власть». Сомнения вызвала у Лернера и параллель, проводимая Мережковским между Пушкиным и Петром Великим.
Лернер не комментирует текст Мережковского. Его многочисленные пометы сводятся к подчеркиваниям в тексте и выделениям фрагментов текста на полях. Лишь в одном месте, где Мережковский анализирует «Медный всадник», Лернер подчеркивает: «На высоте, уздой железной / Россию вздернул на дыбы» и помечает на полях: «И теперь узда ослабела». Пометы Лернера — не только интересный историко–литературный факт. Они свидетельствуют о том, что статья Мережковского «Пушкин» находилась в поле зрения современников, а также специалистов–пушкинистов и через много лет после ее первой публикации, она вызывала интерес, с ней полемизировали, как и в юбилейные пушкинские дни 1899 г.
На титульном листе брошюры, которую просматривал Лернер, прикреплены наклейки с указанием выходных данных статьи М. О. Меншикова «Клевета обожания» и откликов Б. Никольского и Д. Н. Овсянико–Куликовского на статью Мережковского «Пушкин»[1466]. Рядом с ними — выходные данные статьи самого Мережковского «Праздник Пушкина» (1899), в которой дана резкая оценка юбилейных торжеств по случаю столетия поэта. Именно в этой статье Мережковский откликнулся на рецензию Спасовича. Он писал: «Вчера Спасович доказывал, что свидетельства современников о мудрости Пушкина — ни на чем не основанная легенда, что у него — поверхностный, заурядный ум, неспособный дать его поэзии значение всемирное». К его голосу присоединились такие разные люди, как В. Соловьев и Л. Толстой, осуждавшие Пушкина за его легкомысленность. И только в юбилейные дни оказалось, что ведомые Сувориным русские люди хотят воздать Пушкину невероятные почести: «колокольный звон, русские флаги, пушечная стрельба и сорок тысяч министерских бюстов, и суета академий, и пушкинские велосипедные гонки, и пушкинский шоколад, и лото или карты — „смерть Пушкина”, и рождение Пушкина с облаками, амурами, громами и молниями»[1467]. Раздражение Мережковского тем, что происходило вокруг имени Пушкина в те годы, вылилось и в письме к В. Я. Брюсову от
1 сентября 1903 г., которого он приглашал дать статью о Пушкине в «Новый путь»: «В этом направлении полемика нам чрезвычайно желательна. Я глубоко сочувствую Вашему реализму и любви к подлинному Пушкину и считаю царствующий академический идеализм (в котором и сам отчасти повинен — см. — «Вечн(ые) спутн(ики)») просто мертвечиной, мерзостью запустения. Хотел бы даже написать в Вашу защиту заметку по этому поводу о теперешнем литературном лицемерии и хамстве. Да, Пушкин сделался идолом тех же хамов, которые возвели на престол Максимку Смердящего»[1468].
IV
Между первым изданием «Вечных спутников» и их выходом в составе Полного собрания сочинений Мережковского в петербургском издательстве М. О. Вольфа прошло почти пятнадцать лет. Однако история издания этой книги перерывов практически не знала. С 1906 по 1908 г. М. В. Пирожков выпускает статьи отдельными брошюрами, причем большими тиражами («Ибсен», например, — 10 ООО экземпляров), а в 1910 г. издательство «Общественная польза» снова издает книгу целиком. Мережковский включает «Вечные спутники» в XIII том Полного собрания сочинений без изменений в тексте; он меняет только состав сборника: из него исключается статья «Дафнис и Хлоя». Когда в 1914 г. И. Д. Сытин предпринимает издание нового собрания его сочинений, в 24 томах, Мережковский включает в него «Вечные спутники» в значительно измененном виде. Место статьи «Дафнис и Хлоя» занимает написанная в 1899 г. статья «Трагедия целомудрия и сладострастия»[1469]; между статьями «Сервантес» и «Монтань» помещается статья «Гёте», выпущенная в свет в 1913 г., а в число статей о русских писателях включается статья «Тургенев», впервые опубликованная в газете «Речь» в 1909 г.[1470] Таким образом, количество статей с тринадцати увеличивается до пятнадцати. В XVII томе печатаются статьи о деятелях мировой культуры, в XVIII — о русских писателях.
Изменение состава книги было связано с эволюцией взглядов Мережковского, с окончательным оформлением его историософской концепции. В ней имена Гёте и Тургенева заняли свое место рядом с Достоевским и Пушкиным. Весь предшествующий опыт Мережковского как истолкователя русской литературы показывал, что без Гёте у него не складывалась характеристика движения и развития вечных идей мировой культуры, а Тургенев, о котором он говорил в связи с идеей вечной женственности, оказался воплощением примиряющего и гармонизирующего начала литературы русской. Статья «Трагедия целомудрия и сладострастия» заменила статью «Дафнис и Хлоя» не только в связи с переоценкой значения этого романа: она перенесена в том, где публиковались и другие переводы Мережковского. Статья об «Антигоне», перевод которой был сделан Мережковским, стала своего рода послесловием к постановке этой трагедии на сцене Московского Художественного театра 12 января 1899 г.
Вместе с тем Мережковский предварял новую постановку — трагедии «Ипполит» Еврипида, которая, как оказалось позднее, стала осуществлением его мечты о создании нового мистериального театра. Сопоставляя Софокла с Эсхилом и Еврипидом, он замечал близость последнего современному поколению зрителей, «людей с душами, едва пробудившимися к сознанию, еще такими же раздвоенными, как душа Еврипида. Так же, как он, мы поняли, что трагедия мировой жизни заключается в окружающей, в проникающей в нас великой борьбе двух начал; так же, как он, увидели, что говорить о ней можно только символами». Мысль о постоянном противоборстве в мировой культуре целомудрия и сладострастия получит дальнейшее развитие в статье «О новом значении древней трагедии» (1902), в которой борьба этих двух начал представлена в контексте русской литературы. Близость Еврипида христианским чаяниям новых поколений Мережковский подкрепляет таким неоспоримым свидетельством, как изображение древнего трагика под ликом Спасителя в Вяжицком монастыре в храме святого Николая: он «как будто за много веков прозревал неведомое новое учение и носил его в душе своей». Однако Еврипид в его концепции «прозревает» не столько христианство, сколько «новое религиозное сознание». Не случайно в середине 1910–х гг. в драме Мережковского «Будет радость» обнажаются «два вечные начала мира, Аполлон и Дионис», вновь борются Афродита и Артемида, избирая полем своей борьбы человеческие души. В пьесе возникает образ новой Федры, которую «сжигает своим дыханием» и «губит» богиня сладострастия, и образ целомудренной Кати, которые находятся «в вечной борьбе». В этой же пьесе возникает и тургеневская тема: одна из героинь оказывается носительницей того начала, которое Мережковский считал ведущим в творчестве Тургенева, в ее репликах слышатся отголоски статьи Мережковского о нем.
Впервые образ Тургенева, «более друга, чем наши друзья», и «более родного, чем наши родные», появился в статье, посвященной десятилетию со дня смерти писателя[1471]. Тургенев представлен в этой статье художником, влюбленным в красоту и мировую культуру, но художником противоречивым, в котором живут две «противоположности»: «коренной русский человек» и западник; служитель красоты и защитник народа; искренне верующий и вместе с тем сторонник научного знания. В книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» образ Тургенева раскрывается полнее: он не только автор прекрасных произведений, но и провидец, предчувствовавший упадок русской литературы и противостоявший ему. Свидетельство тому — его предсмертное письмо Толстому. А в книге «Л. Толстой и Достоевский» образ Тургенева постоянно сопровождает характеристику Толстого: они враги, и Тургенев в ссоре с Толстым оказывается более благородным, более привлекательным. Характеристика музы Тургенева никогда не была в статьях Мережковского сколько‑нибудь полной: он лишь в нескольких словах высказывался о наиболее существенных чертах его таланта, сравнивая его с другими русскими художниками. И только в статье «Тургенев» Мережковский представил образ писателя, занявшего свое место в его концепции, в сопряжении с русской историей, культурой и религиозно–философскими поисками.
Если сравнивать эту статью с теми, которые были написаны в конце века, видно, какую значительную эволюцию пережил Мережковский. Это уже не тот восторженный молодой критик, который призывал читателя не думать, не рассуждать и не спорить с ним. Он уверенно ведет читателя за собой, открывая ему новые, поистине неизвестные грани таланта Тургенева. Обращает на себя внимание и то, как меняется стиль Мережковского: он пишет почти тезисами — короткими предложениями, небольшими абзацами. В подобном стиле в эмиграции будут написаны многие его историософские исследования. И мысль Мережковского развивается от тезиса к тезису — противопоставление Тургенева Л. Толстому и Достоевскому; его характеристика как «гения меры и, следовательно, гения культуры», затем — как гения западной Европы, которая именно в Тургеневе «почувствовала», что «Россия тоже Европа», и, наконец, определение, что такое «мера всех мер», красота: «В созерцании осуществляется красота как искусство, эстетика; в действии, в трагедии — как любовь, влюбленность».
Назвав Тургенева «поэтом красоты и влюбленности», Мережковский рассматривает его произведения сквозь призму этой идеи. Участь тургеневских героинь символизирует для него неисполненность «заповеди о браке, о совершенном соединении двух в одну плоть», и недостижимость «прославленной плоти». «Потому‑то и является в браке третья личность — ребенок, что две первые — отца и матери — как бы умирают, убывают, ущербляются в плоти, — пишет он. — И задача неисполненной любви, непрославленной плоти передается от одного поколения к другому, как зажженный факел из рук в руки; и череда поколений — череда бегущих факелоносцев». Именно потому творчество Тургенева оказывается ближе современному поколению русских интеллигентных людей, что его наследие прикасается к тайне неисполненного сверхисторического христианства, в котором, по мысли Мережковского, исполняется заповедь «кто может вместить, да вместит». В этом «вселенском христианстве» осуществится мечта о Христе в миру, «неузнанном, неназванном Женихе человеческой плоти, всемирной культуры». Позднее, уже в 1914 г., Мережковский назовет Тургенева «поэтом вечной женственности», и мысль об объединяющем пафосе творчества писателя будет звучать еще настойчивее. Перед лицом всемирной катастрофы, «национализма звериного образа», Мережковский призывал к возвращению чувства меры, «ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей?».
В 1913 г. публикуется статья «Гёте». Как уже говорилось, Мережковский переводил великого поэта, а «Разговоры с Гёте» Эккермана были его настольной книгой. Следы значительного воздействия личности Гёте на Мережковского видны и в ранних статьях, и в произведениях зрелых лет. Размышляя о Гёте на протяжении долгого времени, Мережковский написал о нем специальную статью уже перед мировой войной, когда в свет выходили, в сущности, его последние статьи о русской литературе. После статьи «Гёте» были опубликованы только «Горький и Достоевский», «Суворин и Чехов», а также статьи о Тютчеве и Некрасове, тогда же собранные в книгу «Две тайны русской поэзии». Это тем более обращает на себя внимание, что слово и личность Гёте оказываются в поле зрения автора в книге «Л. Толстой и Достоевский», а в статье «Пушкин» между русским поэтом и Гёте проводится много содержательных параллелей. Тем не менее только к 1913 г. интерес к Гёте, потребность написать о нем осуществились в форме отдельной статьи.
При ее подготовке Мережковский специально работал над «Разговорами с Гёте» Эккермана в переводе Д. В. Аверкиева. В настоящем томе публикуются сделанные им выписки из этого издания, которые предваряет план (с. 339—347). В целом статья и написана согласно ему: облик Гёте, его «вечная юность», Наполеон и Гёте, спор о происхождении видов, Гёте и христианство и, наконец, значение «явления Гёте для нас, русских». Некоторые тезисы плана в статье заняли иное место. Например, «смерть Гёте» изображена в начале, а не в конце статьи, как планировалось, там, где Мережковский говорит о нем как о «совершенном человеке». Выписки из «Разговоров» помещены под заголовком «Мелочи для вступления», однако цитаты из «Разговоров» и размышления, возникшие у Мережковского в ходе чтения этой книги, использованы для всей статьи в целом. Концепция «явления Гёте», выраженная в ней, связана с мыслью Мережковского о «сверхчеловеческом» в мировой культуре.
Объяснение того, что понимается под этим словом, трудно вывести только из статьи о Гёте, — Мережковский пишет кратко, почти афористично, больше намекает, чем объясняет. Однако в других исследованиях, в том числе «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», в статье «Байрон» имя «великого язычника» стоит в одном ряду с Наполеоном, Лермонтовым и Байроном. Все они осознаются Мережковским явлениями «сверхчеловеческого»: «Байрон — одна из вершин горного хребта, поднятого землетрясением Великой Революции. Наполеон, Гёте, Байрон, Лермонтов — от нас далеко уже эти вершины (…). Но блуждая, сделали круг и вернулись туда, откуда ушли. И вот опять встают вершины вечные — вечные спутники»[1472]. Так писал он в статье «Байрон». В статье о Лермонтове рождается другой образ: «Кажется, эти люди не совсем люди, — только пролетают через наш земной воздух, как аэролиты…
брошенные откуда‑то вниз или вверх (где «верх» и «низ», мы не знаем, тут наша земная геометрия кончается)». Эти люди не могут быть измерены даже «геометрией Лобачевского, геометрией четвертого измерения»[1473].
Не случайно Мережковский так много говорит о глазах своих героев. «Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, — глаза человека, который видит „на аршин под землею”. „Орлиные очи”. Невероятно, до странности, до жуткости молодые, — в старом–старом, древнем лице (…) В этих нестареющих глазах что‑то демоническое». Так описываются глаза Гёте. А вот глаза Лермонтова, «большие и неподвижно–темные», имевшие «магнетическое влияние»: «Иногда те, на кого он смотрел пристально, должны были выходить в другую комнату». Впечатление, которое он производил, передается так: «…в человеческом облике не совсем человек; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких‑то неведомых пространств»[1474]. Подобное впечатление оставляет у него и Гёте: «Да, сверхчеловеческое — в этой юности… Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности. Не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия. И другим, глядя на него, а может быть, и ему самому, приходит в голову странная мысль: полно, умрет ли он когда‑нибудь?.. Он чувствовал не так, как мы. Он сидел, как высшее существо». Интересно, что в словах Гёте Мережковский находит подтверждение собственного понимания личности Наполеона: «Он — существо демоническое в такой высокой степени, что с ним нельзя сравнивать никого». Близость Гёте и Наполеона, то, что они «узнали друг друга» как «близнецы неразлучные», дает Мережковскому основание считать «встречу их неслучайной; они должны были встретиться, — великое созерцание с великим действием». Он вспомнит об этой встрече и в поздней книге о Наполеоне, где вновь возникает известный уже образ: «Почему стремительный бег за ним человеческих множеств — „как огненный след метеора в ночи”?»[1475].
Текст статьи о Гёте построен как комментарий к «Разговорам». В черновых записях Мережковский пометил: «Разговоры Гёте — самая здоровая, самая целительная из книг… Если бы спросил ни во что не верующий и потерявший смысл жизни человек, какую книгу читать, — я бы сказал — Разговоры Гёте». В статье этот тезис уточняется: «Если бы человек неверующий спросил меня, какую книгу прочесть, чтобы найти смысл жизни, — я указал бы ему на разговоры Гёте… Лучшее лекарство для самоубийц: может быть, многие отложили бы пулю и яд, если бы прочли эту книгу как следует». Интересно, как здесь выражается и отношение Мережковского к Эккерману. Как уже говорилось, в статье о «Дафнисе и Хлое» он усомнился в способности секретаря Гёте понять величие слов своего собеседника. Теперь для характеристики Эккермана Мережковский использует такое сравнение: «Рассказ его
о жизни и творчестве Гёте — рассказ божьей коровки об орлином полете. Разговор великого с маленьким; но в том‑то и величие солнца, что оно отражается и в малейшей капле воды».
Выписывая из «Разговоров» высказывания Гёте, Мережковский предлагает взглянуть на них с точки зрения человека нового поколения, понимающего, например, значение июльской революции 1830 г. или способного окинуть взором опыт исторического христианства. Гёте почти не замечает их: важнее революции для него спор о происхождении видов, а «поклоняясь Христу, он проходит мимо Него». Однако такой взгляд всего Гёте не открывает: Мережковский утверждает, что «религия Гёте не совпадает с христианством». Это дает ему возможность представить его как еще одно из пророчеств о новой «религии Духа»: «Кажется, Гёте это предчувствовал больше, чем кто‑либо». Его религия, кроме того, есть и «пророчество о том, что в современном человечестве убыль религиозного духа временна и что прибыль его неминуема».
В заключение статьи Мережковский сопоставляет Гёте и Л. Толстого, символизирующих два совершенно различных принципа: деятельность, просвещение у Гёте, опрощение, «созерцание, неделание» — у Толстого. Л. Толстой и Гёте, говорит он, «два сторожевых изваяния в преддверии двух веков, двух миров. Кому из них отдаст человечество сердце свое?.. Во всяком случае, для нас, русских, в Л. Толстом — соблазны бесконечные, и не победит их никто, кроме Гёте». Статья о Гёте значительно отличается от статей, окружающих ее в книге. И интонация, и стиль, и способ работы с цитатами, и форма их комментирования свидетельствуют о зрелости исследователя. Вместе с тем это исследователь, подошедший к материалу с определенной целью, ищущий именно те выводы, которые известны ему заранее. Этим объясняется и большая, чем в других статьях, публицистичность: Мережковский в 1910–е гг. к событиям общественно–политической жизни подходит с новых позиций, которые и сказываются в упреках, бросаемых в этой статье Л. Толстому, и в намеках на грядущее осуществление «религии не Отца и не Сына, а Духа».
V
«Был ли он большим писателем? На первый взгляд как будто бы — да, бесспорно. Тридцать или сорок книг, огромные темы, широчайший размах: иллюзия величия полная, — писал Г. Адамович о Мережковском вскоре после столетнего юбилея со дня его рождения. — Но разгадка этой иллюзии кроется в эпохе и в ее особых свойствах, которые к внешнему, обманчивому величию склоняли… Само по себе его болезненное влечение к безднам и тайнам не может, конечно, служить мерилом для определения его значения и дарования. В лучшем случае это — лишь черта для его характеристики. Он был редкостно талантлив. Но в чем, где, как? Ответить крайне трудно. Талантливость была какая‑то неопределенная, расплывчатая, ощущавшаяся скорее при встречах, чем при чтении… Да, он был редкостно и причудливо талантлив». При этом, замечает Адамович, «словарь Мережковского скуден до крайности: впечатление такое, будто в его распоряжении всего только несколько слов, которые он более или менее механически переставляет»; его писания «бескровны», овеяны холодом и в них «исключительность его натуры отразилась туманно и бледно». Но «от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или речей чуть ли ни кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск или остроумие, о нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких‑то недоступных и неведомых другим сфер»[1476].
А. Блок, наоборот, очень ясно для себя определял сущность таланта Мережковского, отличительной особенностью которого являлось то, что он был прежде всего художником. Об этом «свидетельствуют не только многие образы его романов, но также самые, на первый взгляд, прозаические страницы его критических статей. Когда он с подробной брезгливостью исчисляет стилистические грехи Леонида Андреева», когда говорит, что «без русского языка и русской революции не сделаешь, когда цитирует два–три стиха (и редко больше) какого‑нибудь поэта, когда бросает вдохновенное слово о звездах, видимых днем только в черной воде бездонных колодцев, — в нем говорит художник брезгливый, взыскательный, часто капризный, каким и должен быть художник»[1477].
Разумеется, судить о своеобразии его дарования только по книге «Вечные спутники», даже учитывая эволюцию, которую пережил ее автор
от «Флобера» до «Гёте», было бы неверно. В наследии Мережковского есть и более совершенные литературно–критические и публицистические статьи, им написаны оригинальные трилогии и историософские исследования, которые открывают и другие, не менее интересные, стороны его таланта. Однако именно в «Вечных спутниках» отразилось то, что определило облик Мережковского. Он отличался от своих предшественников, да и многих писателей своего поколения, прежде всего тем, что питало его вдохновение и творческую энергию. Это были не люди, не течение человеческой жизни, не «отражение действительности», а книги, произведения искусства, цивилизации прошлого. «Я понимал, что никакими книгами, никакими словами нельзя передать эллинского духа», — признается он в «Акрополе». На самом деле, именно книги, слова и их «неведомые сочетания» вызывали в нем отклик. Он говорит о них так, как другие писатели пишут о характерах своих героев: «Эта книга — живая… Раз она затронула сердце, ее уже нельзя не любить» (о «Дневнике» Марка Аврелия); «Линии, краски, игра теней и света, формы цветов и растений, пение птиц — все здесь естественно, неправильно и беспорядочно. При виде громадных деревьев, мешающих друг другу, обыкновенному философу–строителю, наверное, пришло бы в голову практическое соображение: хорошо бы срубить все деревья, распилить на доски, бревна и построить по всем правилам архитектурного искусства симметричное здание метафизической системы, где все ясно и понятно, где нет возможности заблудиться» (об «Опытах» Монтеня). Восхищаясь книгой, разглядывая старые переплеты, любовно перебирая страницы, вчитываясь даже в подстрочные примечания и приложения, которые нередко значили для него столько же, сколько сам текст, Мережковский возмущен тем, что «русское общество до сих пор не имеет своего мнения о книгах». «И если взоры людей невольно обращаются назад, к великим произведениям древности, со смутной надеждой найти в них звуки наших дней, — восклицает он, — почему не дать им то, в чем звуки эти яснее и совершеннее, почему не показать живую связь прошлого с будущим без прикрас, уступок и смягчений?». В «Вечных спутниках» Мережковский и предпринимает попытку дать своим читателям то, в чем, по его мнению, звуки прошлого слышатся отчетливее.
Это Флоренция, в которой «благодаря солнечному свету, чистому и нежному», и благодаря воздуху, «мягкому и прозрачному», все предметы кажутся созданными из «драгоценного вещества». Во Флоренции живет еще атмосфера тех мастерских, в которых «распустились редкие цветы человеческого гения». В Афинах его внимание привлекает даже «голая стена», поверхность которой «так нежно отполирована», что и в ней «вы чувствуете печать эллинского гения». Прошлое звучит и в репликах персонажей древней греческой трагедии, которую возрождает Мережковский. Его слушатели, читатели и зрители, неожиданно для него самого, «любопытствовали и шли в театр» в «смутном желании что‑то понять», «обратить взоры в ту сторону, куда прежде вовсе не смотрели». И пусть переводчик недоволен уменьшением значения хоров в постановке, «младенческим» вкусом зрителя, которому театр вынужден потакать, он рад самой возможности услышать со сцены «пророчества древнего эллина». «Все мелочное, временное уходит со временем, — пишет Мережковский, — остается лишь вечное, и ясною должна быть только цепь, соединяющая наши помыслы и желания с душой великого поэта и пророка».
Этот взгляд на культуру своеобразно воплотился в личности самого Мережковского, в котором Г. Адамович, например, слышал «музыку», «какую‑то странную, грустную, приглушенную, будто выхолощенную», и «вечное», выразившееся в его потребности «духа в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлета»[1478] Чтобы звуки минувшего и сочетания слов стали внятными, Мережковский передает их через собственные впечатления. «Я затаил в душе моей сомнение», «я искал прежних впечатлений», «я увидел амфитеатр», «сердце мое пробудилось», «я чувствовал себя молодым, бодрым, сильным», «я смотрел и вспоминал». Когда Мережковскому надо передать важность описываемого не только для него самого, но и для его современников, он говорит: «вообразите себе», «мы поняли», «у нас не хватает духу», «мы снова можем надеяться», «мы видели», «мы уже теперь это знаем». Он то и дело восклицает и спрашивает, не требуя ответов на свои вопросы: «А мы, не трудящиеся, не стремящиеся, чем спасемся?», или: «Что следует из этого рокового закона жизни, из необходимого смешения добра и зла?». Но чаще Мережковский предлагает читателям готовые формулы, почти афоризмы, выдающие и его собственное отношение. «Люди здесь к природе ничего не добавили своего», — пишет он
об Афинах. «Таково человеческое сердце: оно не может достигнуть полного спокойствия и мудрости, потому что оно не может не любить», —
о Марке Аврелии. «Древние — истинные дети солнца», — о Плинии. «Сила побеждает, а величайшая сила жизни — воля» (статья «Кальдерон») и т. д.
Автором книги «Вечные спутники» был художник, и это сказалось в каждой ее статье. Прежде всего Мережковский характеризует эпоху, о которой он пишет. Но упоминаемые им исторические события и имена представлены не в сухой хронологии и строгой последовательности, а в сопоставлении с жизнью природы или жизнью искусства. Время Марка Аврелия — это «недолгий перерыв, глубокое затишье между двумя бурями», и тут же: «Бывают осенние дни, когда летние грозы прошли, а поздние ненастья еще не наступили — когда в туманном воздухе, в мягком, бледном свете солнца царит усталость, нежная грусть и успокоение, как будто примирение со смертью…». Эпоха Плиния подобна наступающей осени. «Так, входя в осенний лес, — пишет Мережковский, — чувствуешь иногда в прохладном живительном воздухе зловещий и нежный запах, аромат увядающих листьев». Достоевский жил «среди нас» во время сложное, «мучительное», и «не бежал от наших мучений, от заразы века», как и Ибсен. Норвежский драматург пережил эпоху «грубого торжества военной Пруссии, торжества цинического и самодовольного милитаризма», когда и речи не было о свободе человеческого духа.
«Герои» Мережковского, как правило, не соответствуют своему времени, порой даже противостоят ему. Это сказывается и в их внешности, и в образе жизни, привычках, круге чтения и интересов, в отношениях с людьми, в отношении к Богу. Вот Марк Аврелий, своим видом походивший «на своих учителей: простая скромная одежда, небрежная прическа, истощенное тело, глаза, утомленные работой». Вот Кальдерон: «На груди — ордена св. Жака и Калатравы. Спокойные черты, седая борода, строгое, почти надменное выражение губ, и во всей наружности что‑то властительное, указывающее на привычку повелевать: видно, что это старый воин, что ни созерцание поэта, ни смирение монаха не уничтожили в нем мужества и воли». Гёте — «в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80–ти. Высок и строен; так величав, что похож на собственный памятник. Редкие седые волосы над оголенным черепом; смуглое, свежее лицо все в глубоких складках–морщинах. Углы старчески–тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены не то с олимпийскою усмешкою, не то с брезгливою горечью». Пушкин — «простой, веселый, менее всего похожий на сурового проповедника или философа, — этот беспечный арзамасский „Сверчок”, „Искра”, — маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуту вдохновенья».
Чтобы показать их в противоречии со своей эпохой, Мережковский прибегает к противопоставлениям. Марк Аврелий издавал «кроткие законы», чтобы уничтожить «кровавые зрелища». В «шумном амфитеатре радостные крики народа приветствовали смерть гладиаторов», в то время как новое законодательство разрабатывается «в тишине кабинетов». В диких варварах император уважал человеческое достоинство. Был философом и не любил войну, но «из чувства долга сделался великим полководцем». Даже вынужденный командовать войсками, Марк Аврелий и там не оставляет своих занятий: «В такие грустные, бессонные ночи, когда уже солдаты спали, и в лагере воцарялась глубокая тишина, прерываемая только сигналами часовых, император, должно быть, выходил из своего шатра, смотрел задумчиво на звездное северное небо, и ему являлась мысль, которую я нахожу в его дневнике». Монтень тоже чужд своему времени, но противоречие между мыслителем и его эпохой показано здесь иначе. Монтень, согласно Мережковскому, «вечный зритель», и это помогает ему не быть непосредственным участником событий, а видеть их со стороны: «С громадным запасом чисто французской веселости и общечеловеческого здравого смысла, он так хорошо изучил комическую сторону всех крайностей и увлечений, что сам уже не способен попасться на удочку». Гёте опередил свое время. Его научные и художественные открытия сделали его человеком будущего. Свой век он оценивает с недосягаемой высоты своего гения, и зачастую оказывается неспособным понять значение происходящих вокруг него событий. Их не понимает, но уже по другой причине, и Сервантес. Он прославляет «фанатика–короля за проявление неслыханного деспотизма» и, «как плохой политик, старается оправдать деспотическую меру, а между тем бессознательный органический процесс творчества приводит его как художника (…) к сатире на власть».
Сталкиваясь с проявлениями слабости или с недостатками своих «героев», Мережковский спешит их оправдать. «Мелочное тщеславие» Плиния вызывает у него «невольную досаду». «Как может проницательный и умный человек придавать значение такому вздору?» — восклицает он. И тут же: «Но такова человеческая природа: на всякого мудреца довольно простоты; у каждого века свой комизм, которого избегают только исключительные люди». Но и такой «исключительный» человек, как Гёте, тоже имеет свои слабости. Рассуждая о душах–монадах, он вдруг отвлекается и кричит в окно на собаку, как обычный лавочник. Вот как комментирует этот фрагмент Мережковский: «Образ Гёте–олимпийца, кричащего псу с какой‑то нездешнею яростью: „Ларва, низкая сволочь!” — остается навеки одним из богоподобных человеческих образов». Монтеня, поддерживавшего «плохие» законы, он оправдывает тем, что он по условиям своей жизни просто не мог стать мучеником и героем. «И вот, по необходимости, — заключает Мережковский, — он избирает второй исход, требование порядка, защиту старинных государственных основ, консерватизм».
Мережковский не может принять своих «героев» такими, какими они предстают в своих книгах или в воспоминаниях о них. Он создает свой собственный образ художника и того мира, в котором он жил. Потому его так беспокоит, например, «поверхностность» политических убеждений Пушкина или его беспомощность в семейных делах. Позднее это беспокойство приобретет другие формы. В статье «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», например, он напомнит читателю, как Пушкин повернул домой в дни декабрьского восстания, когда дорогу ему перебежал заяц: «не захотел быть мучеником». И Ибсена Мережковский не хочет видеть счастливым, как о том пишет его биограф. Разве может быть счастлив тот, кого Мережковский представляет себе в постоянном противоречии, даже в антагонизме со своим веком? Нет, это только «наружное спокойствие», оно скрывает «внутреннее смятение».
Мережковский полемизирует не только с самими писателями, их книгами, дневниками, признаниями, с их биографами, но и со своими предшественниками, специально изучавшими интересующие его эпохи. С Э. Ренаном он соглашается, когда тот изучает «эпохи мистического созерцания». Если же речь идет об «эпохах сильного религиозного творчества и борьбы», он больше доверяет И. Тэну. И это понятно: как можно полагаться на Ренана, «темперамент» которого «прежде всего аристократический»? Ведь он не сможет беспрепятственно «проникнуть в психологию массовых движений: Ренан бессознательно боится толпы». Так же трудно Мережковскому согласиться и с «честным немецким протестантом и гуманным эстетиком» М. Карьером, который «ужасается перед бездной Божьего милосердия», изображаемого Кальдероном, «и робкий доктринер закрывает глаза, стремясь слабыми руками удержаться за человеческие помочи, за наши земные цепи, за эти перегородки, отделяющие стойло овец от козлищ, — за добро и зло». А с Гёте, который тоже сомневается в значительности созданного Кальдероном, он спорить не стал: «в нем чувствуется еще непримиренный, воинствующий гуманизм», — заключает Мережковский. Не понявший подлинного значения мистицизма Кальдерона, Гёте принял «благородное, старое испанское вино за что‑то горькое или кислое вроде винного уксуса». Зато И. Тэн, проезжавший по тем же местам, что и Гёте, уже правильно понял смысл открывшегося ему в древнем монастыре. Мережковский сам объясняет, почему «люди XIX века», к которым принадлежит и он сам, яснее осознают значение произведений прошлого. Это происходит потому, что им присуще «оригинальное свойство, одна великая способность, которая возвышает их в известном отношении над всеми веками» — «они умеют находить вечно живую красоту человеческого духа. С этой точки зрения — вся религия, вся поэзия, все искусство народов является только рядом символов».
Позиция читателя конца XIX в., «представителя известного поколения», сказывается и в том, какие «уроки» пытается извлечь Мережковский из опыта древней цивилизации или произведений художников эпохи Возрождения, что называет самым главным в творчестве своих современников. Выраженная отрывочно и порой неясно, мысль Мережковского в конечном счете сводится к тезису о возможности возрождения в новой русской культуре прежних языческих представлений о плоти, такой же «святой» и не менее важной, чем дух в христианстве. В «Вечных спутниках» Мережковский касается только одного аспекта этой темы. В статье «Тургенев» он размышляет, как уже отмечалось, о «вселенском» объединении России и Европы: «Соединяет их вселенское начало обеих культур, единое солнце Востока и Запада — вселенское христианство — Христос в мируу неузнанный, неназванный Жених человеческой плоти, всемирной культуры, ибо без Него культура — не живая плоть, а живые мощи…». И в каждой из статей обязательно затрагивает эту тему. В статье о Плинии он специально останавливается на отношении своего героя к христианам. Марк Аврелий, отрекшийся от жизни, все же «предчувствует», по его мнению, будущую милосердную религию, потому что умеет любить. У Пушкина он находит глубокие религиозные переживания, а в творчестве Кальдерона — служение великой христианской идее. Гёте, напротив, как уже упоминалось, «поэт–олимпиец», не заметивший христианства, но несущий новым поколениям весть о его будущем обновлении. И Майков, сколько бы ни говорил о христианстве, «сохраняет все то же античное настроение»: «Это тонкий поэтический материализм художника, влюбленного в красоту плоти и равнодушного ко всему остальному».
Наблюдения над художественными текстами нередко приводят Мережковского к отождествлению писателя с его героем, перенесению на личность художника их страстей, мыслей, душевных движений. В статье «Гёте» он отождествляет Гёте с Фаустом, Майкова — с его лирическими героями, в статье «Тургенев» выбирает из «таинственных» повестей написанную от первого лица и представляет признания героя откровениями писателя. Когда же источником являются письма, например, или дневники, Мережковский выстраивает высказывания согласно своей концепции и комментирует их. И если для полноценного выражения его идеи текста источника было недостаточно, он своеобразно перерабатывал его, не ограничиваясь простым цитированием. Он вычленял интересный ему фрагмент из контекста и помещал его в другой контекст, комбинировал два разных фрагмента, обрывал цитату и пр. Таким образом, текст источника приобретал нужный истолкователю вид, подтверждал его предположения и догадки, и оставалось только удивляться, как же его предшественники не заметили этого! Особенно впечатляюще такой метод работы с источником сказывается в использовании библейских текстов. Предчувствия Мережковского, его способность к тайновидению, понимание глубинного смысла пророчеств и комментарии к вечной книге стилизованы под подлинное слово Божье. Разумеется, это не было случайностью. Такой своеобразный способ переосмысления биографии, художественного текста, исторического источника, эпистолярного материала был связан с тем, что Мережковский обращался к ним с уже сформулированной, отчетливой и ясной для него самого идеей, обретавшейся за пределами чужого текста.
Вместе с тем в «Вечных спутниках» есть настоящие исследовательские открытия, догадки, свидетельствующие, что их автор был прекрасным историком литературы и театра. В его беглом анализе драм Кальдерона, например, предугаданы выводы, сделанные литературоведами только в конце XX в. Мережковский отмечает, как уже говорилось, «странное смешение теплого воздуха испанской ночи с атмосферой инквизиции, возвышенных понятий о чести и рыцарской любви с жестоким фанатизмом» в пьесах испанского драматурга, сопоставляет их с трагедиями Шекспира и по существу делает вывод о барочной природе произведений Кальдерона. Им верно была угадана будущность наследия Ибсена; он первым заговорил о религиозности Пушкина, теме, такой популярной в наши дни; впервые обратился к изучению поэтики Достоевского; сказал об Обломове то, что будет повторено об этом герое Гончарова только в 1980—1990–е гг.; статья о Майкове и сегодня дышит новизной и оригинальностью. Он оставил верные и меткие замечания о развитии европейского театра, о древней трагедии, о взаимовлияниях в мировой культуре. Да и достижения Мережковского в разработке жанра литературного портрета все еще требуют специального изучения.
Неслучайно, видимо, один из наших современников, представляя эту «галерею миниатюрных портретов великих писателей разных веков и народов», вспомнил брюсовское «Почему все не любят Мережковского?». «А сегодня выясняется, — замечает он, — что Мережковского надо не „любить”, а читать. Хорошо, что у классиков бывают юбилеи»[1479]. Настоящее издание «Вечных спутников» не носит юбилейного характера. Читателю предлагается книга, ставшая заметной вехой в истории русской литературы и любимая несколькими поколениями.
Впервые книга «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» (СПб., 1897) была опубликована в ноябре 1896 г. в количестве 1200 экземпляров. В настоящем издании она воспроизводится в той редакции текста, составе и композиции, которые представлены в первом издании.
Первой из статей была статья «Флобер в своих письмах», опубликованная в журнале «Северный вестник» в 1888 г. Впервые в составе «Вечных спутников» была опубликована статья «Ибсен». В 1899 г. книга «Вечные спутники» была переиздана без изменений по отношению к первому изданию. М. В. Пирожков выпустил отдельные издания статей из «Вечных спутников»: «Акрополь, Дафнис и Хлоя» (СПб., 1907. — 3000 экз.); «Марк Аврелий, Плиний Младший» (СПб., 1907. — 5000 экз.); «Кальдерон, Сервантес» (СПб.,
1907. — 3000 экз.); «Монтань, Флобер» (СПб., 1908. — 5000 экз.); «Ибсен» (СПб., 1907. — 10 000 экз.); «Достоевский, Гончаров, Майков» (СПб.,
1908. — 3000 экз.); «Пушкин» (СПб., 1906. — 3000 экз.). В 1909 и 1910 гг. «Вечные спутники» переизданы издательством «Общественная польза» (3–е изд. СПб., 1909, 1910) без изменений по отношению к первому изданию.
«Вечные спутники» составили т. XIII (СПб., 1911) Полного собрания сочинений Мережковского в 17 т. (СПб.: М. О. Вольф, 1911—1913). Из состава книги исключена статья «Дафнис и Хлоя» (опубликована в составе т. VI этого собрания). В тт. XVII‑XVIII Полного собрания сочинений Мережковского в
24 т. (М.: И. Д. Сытин, 1914) «Вечные спутники» вошли в измененном составе — без статьи «Дафнис и Хлоя» и с тремя дополнительными статьями: «Тра- гедия целомудрия и сладострастия» (1899), «Тургенев» (1909) и «Гёте» (1913).
Курсив в цитатах принадлежит Мережковскому.
Особенностью Мережковского было цитирование источников преимущественно по памяти, соединение цитат, в том числе стихотворных, из различных фрагментов текста, вследствие чего отмечаются неточности цитирования и разночтения.
Все примечания Мережковского к тексту воспроизводятся подстрочно. Там же приводятся переводы иноязычных текстов.
В примечаниях учтены сведения, содержащиеся в ранее осуществленных комментированных изданиях: Чехов А. П. В сумерках. Очерки и рассказы / Изд. подгот. Г. П. Бердников, А. Л. Гришунин. М.: Наука, 1986. (Сер. «Литературные памятники»); Мережковский Д. Акрополь. Избранные литературно «критические статьи / Сост., предисл. и коммент. С. Н. Поварцова. М.: Книжная палата, 1991. (Сер. «Из архива печати»); Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники / Подгот. текста, послесл. М. Ермолаева; коммент. А. Архангельской, М. Ермолаева. М.: Республика, 1995. (Сер. «Прошлое и настоящее»), а также ценные замечания Андрея Леопольдовича Гришунина.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Впервые: ВС; ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
АКРОПОЛЬ
Впервые: Наше время. 1893. № 32. 21 ноября. С. 518—519; № 33. 28 ноября. С. 539—540; № 34. 5 декабря. С. 552—553, под загл. «Флоренция и Афины. (Путевые воспоминания)». ВС. Отд. изд.: Акрополь, Дафнис и Хлоя. М. В. Пирожков, 1907. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII. При включении статьи в ВС была проведена стилистическая правка и изъяты отдельные фрагменты текста, которые приводятся в настоящем издании в примечаниях.
«ДАФНИС И ХЛОЯ»
Впервые: Дафнис и Хлоя. Древнегреческий роман Лонгуса. Пер. Д. С. Мережковского. СПб.: М. М. Ледерле, 1895. С. 5—12, под загл. «О символизме „Дафниса и Хлои”». Переизд.: Дафнис и Хлоя. Древнегреческий роман Лонгуса. Пер. Д. С. Мережковского. СПб.: М. М. Ледерле, 1896. С. 5—12; ВС; Дафнис и Хлоя. Древнегреческий роман Лонгуса. Пер. Д. С. Мережковского. СПб.: М. В. Пирожков, 1904. С. 5—33; Акрополь, Дафнис и Хлоя. М. В. Пирожков, 1907. С. 5—33; ВС; ПСС17, Т. VI; ПСС24, Т. XIX.
МАРК АВРЕЛИЙ
Впервые: Труд. 1891. № 21. С. 249—266. ВС. Отд. изд.: Марк Аврелий, Плиний Младший. СПб., 1907. 5000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
Статья «Марк Аврелий» написана на основе книги: Renan Е. Marc‑Aurele et la fin du monde antique. Paris, 1882, с которой находится в тесной связи, и свода «Размышлений»: Pensees de Marc‑Aurele. Traduction nouvelle par J. Barthelemy St. — Hilare. Paris, 1876, текст которого отличается от принятого в современных научных изданиях.
Источники цитат приводятся по изданиям: Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. СПб.: Изд. Н. Глаголева, б. г.; Марк Аврелий Антонин. Размышления / Изд. подгот. А. И. Доватур, А. К. Гаврилов, Яан Унт. 2–е изд. СПб.: Наука, 1994. (Серия «Литературные памятники»).
ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ
Впервые: Труд. 1895. № И. С. 36—64, под загл. «Портрет из эпохи Траяна (Плиний Младший)». ВС. Отд. изд.: Марк Аврелий, Плиний Младший. СПб., 1907. 5000 ЭКЗ. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
Статья написана на основе труда Т. Моммзена «Этюд о Плинии Младшем» в пер. на фр. яз. (Mommsen Th. Etude sur Pline le Jeune. Trad. C. Morel. Paris, 1873) и находится в тесной связи с ней, а также на основе свода «Писем Плиния Младшего»: Lettres de Pline le Jeune. Trad, par De Sacy: Nouvelle edition revue et corrigee par. Jule Pierrot. Paris, 1826. Т. I; 1828. Т. II, текст которого не адекватен более поздним изданиям, в том числе современному научному изданию в русском переводе: Письма Плиния Младшего. Книги I‑X / Изд. подгот. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. 2–е изд. М.: Наука, 1984. (Серия «Литературные памятники»). Источники цитат указываются по этому изданию.
КАЛЬДЕРОН
Впервые: Труд. 1891. № 24. Т. XII. Окт. —дек. С. 650—670, под загл. «Кальдерон в своей драме „Поклонение кресту”». ВС. Отд. изд.: Кальдерон, Сервантес. СПб., 1907. 3000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
Текст журнальной редакции отличается от текста, включенного в ВС. В примечаниях приводятся фрагменты, не вошедшие в окончательный текст.
СЕРВАНТЕС
Впервые: СВ. 1889. № 8. Отд. II. С. 1—19; № 9. Отд II. С. 21—43, под загл. «Дон Кихот и Санчо Панса». ВС. Отд. изд.: Кальдерон, Сервантес. СПб., 1907. 3000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
Статья написана на основе французского издания «Дон Кихота» в переводе Л. Виардо: Viardo Louis [trad.]. Michel de Cervantes. L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, 1836. T. 1; 1838. T. 2; 2–е изд.: L’ingenieux hidalgo Don Quichotte de la Manch. Traduction de Louis Viardot, avec les dessins de Gustave Dore, graves par H. Pisan. Paris, 1869. Т. 1—2. Первая часть статьи Мережковского является подробным пересказом очерка Л. Виардо, предпос- данного его переводу «Дон Кихота» («La vie et les ouvrages de Cervantes». 1836. T. 1. P. 1—48), который также цитируется в статье.
МОНТАНЬ
Впервые: РМ. 1893. № 2. Отд. II. С. 134—160. ВС. Отд. изд.: Монтань, Флобер. СПб., 1908. 5000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
Статья написана на основе свода «Опытов» Монтеня: Essais de Michel de Montaigne: Texte original de 1580 avec les variantes des editions de 1582 et 1587. Bordeaux: Feret et Fils, 1870, который не адекватен более поздним изданиям, в том числе современному изданию в русском переводе: Мишель Монтень. Опыты: В 3 кн. / Изд. подгот. А. С. Бобович, Ф. А. Коган–Бернштейн, Н. Я. Рыкова, А. А. Смирнов. 2–е изд. М.: Наука, 1979. (Серия «Литературные памятники»). Источники цитат даются по этому изданию: первое число римскими цифрами обозначает книгу, второе — главу.
Журнальный вариант статьи «Монтань» отличается от текста в ВС. В примечаниях указываются варианты текста. Журнальный вариант статьи тесно связан с «Выписками и заметками о Монтане», публикуемыми в разделе «Дополнения» настоящего издания.
ФЛОБЕР
Впервые: СВ. 1888. № 12. Отд. II. С. 27—48, под загл. «Флобер в своих письмах». ВС. Отд. изд.: Монтань, Флобер. СПб., 1908. 5000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVIII.
В первой публикации после заглавия «Флобер в своих письмах» в подзаголовке указывались издания, послужившие автору основой для статьи: «Gustave Flaubert. Correspondance. Paris. 1887. Lettres de Gustave Flaubert a George Sand. 1884». Источники цитат приводятся по изданию: Флобер Г. Собр. соч.: В 10 т. / Под общ. ред. А. В. Луначарского и М. Д. Эйхенгольца. Т. 7. Письма. 1830— 1854 / Пер. Б. Грифцова, Т. Ириновой и М. Ромма. М., 1937; Т. 8. Письма. 1855—1880 / Пер. Т. Ириновой и М. Д. Эйхенгольца. М., 1938. Римскими цифрами обозначен том, арабскими — страница. Первопечатная редакция статьи существенно отличается от текста в ВС. В примечаниях приводятся все варианты текста.
ИБСЕН
Впервые: ВС. Отд. изд.: Ибсен. СПб., 1907. 10 ООО экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
ДОСТОЕВСКИЙ
Впервые: РО. 1890. Т. II. Кн. III. С. 155—186, под загл. «О „Преступлении и наказании” Достоевского». В кн.: О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 163—192. ВС. Отд. изд.: Достоевский, Гончаров, Майков. СПб., 1908. 3000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVIII.
При включении статьи в ВС Мережковский провел стилистическую правку и изъял следующую преамбулу: «Разбор всех произведений Достоевского — громадный и страшно трудный критический подвиг, принадлежащий более или менее отдаленному будущему. Предлагаемый очерк не более как простые, по возможности искренние заметки о впечатлениях читателя».
В первой публикации статья датирована 24 декабря 1889 г.
Источники цитат указываются по изданию: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Изд. подгот. Л. Д. Опульская и Г. Ф. Коган. М.: Наука, 1970. (Серия «Литературные памятники»).
ГОНЧАРОВ
Впервые: Труд. 1890. №24. С. 588—612, под загл. «И. А. Гончаров». В кн.: О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 133—160, с предисл. ВС. Отд. изд.: Достоевский, Гончаров, Майков. СПб., 1908. 3000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVIII.
Источники цитат указываются по изданиям: Гончаров И. А. Обломов / Изд. подгот. Л. С. Гейро. Л., 1987. (Серия «Литературные памятники»); Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1977—1980 (с указанием римскими цифрами — тома, арабскими — страницы).
МАЙКОВ
Впервые: Труд. 1891. № 4, под загл. «А. Н. Майков». В кн.: О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 107—130. Пушкин — Кольцов — Майков // Перцов П. Философские течения русской поэзии. СПб., 1896. С. 315—335. ВС. Отд. изд.: Достоевский. Гончаров. Майков. СПб., 1908. 3000 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVIII.
Текст статьи в первой публикации и в книге «Философские течения русской поэзии» отличается от текста в ВС. В примечаниях приводятся фрагменты, изъятые из первоначального текста, а также сформулированные в другой редакции.
Источники цитат приводятся по изданию: Майков А. Н. Избранные произведения / Вступ. ст. Ф. Я. Приймы; сост., подгот. текста и примеч. Л. С. Гей- ро. Л., 1977. (Библиотека поэта. Большая серия).
По свидетельству П. П. Перцова, Майков считал, что Мережковский его «совсем не понял»: «…он и понял только мои молодые — „языческие”, как он говорит, — стихи, и понял их по–молодому. В молодости мы много не понимаем, что открывается нам только потом (…) Для меня же мои поздние писания, конечно, главные: в них я высказал опыт всей моей жизни и я не могу сравнить с ними мои молодые, поверхностные стихи» (Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890—1902. Л., 1930. С. 109).
ПУШКИН
Впервые: Перцов П. Философские течения русской поэзии. СПб., 1896. С. 1—67. ВС. Огд. изд.: Пушкин. СПб., 1906. 3000 экз.; Пушкин. СПб.: Общественная польза, 1910. 3900 экз. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVIII.
При включении статьи в ВС Мережковский провел стилистическую правку, а также изъял из текста некоторые фрагменты или дал их в иной редакции; варианты приводятся в примечаниях.
Источники цитат приводятся по изданиям: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд–во АН СССР, 1937—1949 (с указанием римскими цифрами — тома, арабскими — страницы); Записки А. О. Смирновой. (Из записных книжек. 1826—1845 гг.). СПб.: Изд. ред. «Северного вестника», 1895. Ч. 1. Текст «Записок А. О. Смирновой» не адекватен достоверному тексту, представленному в современном научном издании: Смирнова–Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С. В. Житомирская. М.: Наука, 1989. (Серия «Литературные памятники»). (См. также статью «Спутники Д. С. Мережковского» в наст, изд., с. 731—736).
По словам Б. Глинского, благодаря этой статье «русская литература обогатилась новым Пушкиным во вкусе Нитше и русских символистов, Пушкиным, изуродованным полоумным бредом автора „Отверженного” и комментатора „Дафнис и Хлоя”» (Глинский Б. Литературная молодежь // Исторический вестник. 1896. № 6. С. 932). А. И. Богданович писал: «Спорить или возражать тут не приходится, человек, очевидно, не в своих чувствах. Иначе нельзя объяснить, как можно нагородить столько смешного, то нелепого, то возмутительного вздора (…) Много выиграл бы сборник г. Перцова без этой неприличной статьи, которая даже в декадентской литературе представляет раритет» (А. Б. Критические заметки // Мир Божий. 1896. № 6. С. 239—240).
ДОПОЛНЕНИЯ
СТАТЬИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИЗДАНИЕ «ВЕЧНЫХ СПУТНИКОВ» 1914 г.
ТРАГЕДИЯ ЦЕЛОМУДРИЯ И СЛАДОСТРАСТИЯ
Впервые: МИ. 1899. Т. 1. №№ 7—8. ПСС17, Т. XIII; ПСС24, Т. XVII.
ТУРГЕНЕВ
Впервые: Речь. 1909. № 51. 22 февраля. Впервые прочитано на Тургеневском вечере 19 февраля 1909 г. Опубл.: Больная Россия. СПб.: Общественная польза, 1910. ПСС24, Т. XIII.
Источники цитат приводятся по изданию: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М., 1978—1986 (с указанием римскими цифрами тома, арабскими — страницы).
ГЁТЕ
Впервые: PC. 1913. № 144. 23 июня. ПСС24, Т. XVII.
Указание на то, что статья входила в первое издание ВС, в современном издании «Вечных спутников» (Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники / Подгот. текста, послесл. М. Ермолаева, коммент. А. Архангельской, М. Ермолаева. М.: Республика, 1995. С. 591) неверно.
Статья написана на основе первого русского издания «Разговоров с Гёте, собранных Эккерманом» (1836) в переводе с немецкого Д. В. Аверкиева (Ч. 1СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1891), по которому даются источники цитат: римскими цифрами обозначена часть, арабскими — страница.
РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СТАТЬЯМ ИЗ «ВЕЧНЫХ СПУТНИКОВ»
В данном разделе публикуются подготовительные материалы к ВС: черновой вариант 1–го раздела статьи «Марк Аврелий», «Выписки и заметки о Монтане», «Монтань», план и выписки к статье «Гёте».
В примечаниях восстановлены зачеркнутые фрагменты текста.
Выделения в тексте принадлежат Д. С. Мережковскому.
МАРК АВРЕЛИЙ
Автограф. Мережковский Д. С. Марк Аврелий. I. Ренан о Марке Аврелии. 3 л. // ИРЛИ. Арх. Д. С. Мережковского. № 24.366.
ВЫПИСКИ И ЗАМЕТКИ О МОНТАНЕ
Автограф. Мережковский Д. С. Выписки и заметки о Монтане. 22 л. // ИРЛИ. Арх. Д. С. Мережковского. № 24.348.
ГЁТЕ
Автограф: ИРЛИ. № 24224.
Выписки к статье «Гёте» были сделаны Мережковским из русского издания «Разговоры с Гёте, собранные Эккерманом» в переводе с немецкого Д. В. Аверкиева (Ч. 1, 2) (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1891). Мережковский помечал том и страницу, на которых расположены цитаты. Выпискам из «Разговоров» предпослан план из 6 пунктов, согласно которому написана статья. В ходе работы над статьей некоторые фрагменты «Разговоров» заняли иное в сравнении в первоначальным замыслом место, однако Мережковский в целом оставался в пределах своего плана. Поскольку текст статьи «Гёте» и выписки к ней во многом совпадают, комментируются только те фрагменты рукописи, которые не нашли отражения в статье.
СТАТЬИ 1880 — 1890–х гг., НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» СТАРЫЙ ВОПРОС ПО ПОВОДУ НОВОГО ТАЛАНТА («В СУМЕРКАХ» И «РАССКАЗЫ» ЧЕХОВА)
Впервые: СВ. 1888. № 11. Отд. II. С. 77—99. Печатается по этому изданию.
Анонимный критик журнала «Русская мысль» писал, что «критический очерк г. Мережковского порождает немало недоумений (…) Вообще защиту „нового таланта” в статье г. Мережковского нельзя назвать удачной и последовательной» (РМ. 1889. № 1. С. 36, 37). Отрицательный отзыв о статье принадлежал С. Ка- ронину, писавшему, что Мережковский «путается среди сотни противоречий, которыми раскрашены все его статьи…» (Саратовский дневник. 1889. № 199.
19 сентября). Восторженно воспринял эту статью А. Н. Плещеев, писавший Чехову, что она «лучше всего, что говорили о вас рецензенты» и написана «свежо, молодо и крайне симпатично» (Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М., 1960. С. 332). Чехов в письме к А. С. Суворину от 3 ноября 1888 г. отзывался
о статье с иронией и писал, что Мережковский «сам не уяснил себе вопроса» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма: В 12 т. Т. 3. М., 1976. С. 54).
Источники цитат указываются по изданиям: Антон /7. Чехов. В сумерках. Очерки и рассказы (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1887); Антон Чехов. Рассказы (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1888).
РУССО
Впервые: РБ. 1889. № 11. Общ. и критич. отд. С. 63—81. Печатается по этому изданию.
Мережковский пользовался теми текстами произведений Руссо, которые были доступны в конце XIX в. и которые не адекватны более поздним изданиям, в том числе современным научным изданиям в русском переводе, по которым даются источники цитат: Руссо Ж. — Ж. Трактаты / Изд. подгот. В. С. Алексеев–Попов, Ю. М. Лотман, Н. А. Полторацкий, А. Д. Хаютин. М.: Наука, 1969. (Серия «Литературные памятники»); Руссо Ж. — Ж. Избранные сочинения: В 3 т. / Пер. с фр. Н. И. Немчиновой и А. А. Худадовой; под ред.
В. А. Дынник и Л. Е. Пинского. М., 1961.
РАССКАЗЫ ВЛ. КОРОЛЕНКО
Впервые: СВ. 1889. № 5. Отд. II. С. 1—29. Печатается по тексту этого издания.
В отклике К. Счастнева (Е. П. Карпова) очерк Мережковского назван «совсем неудачным», а «вопросы, которыми задается задумчиво–пытливо г. Д. Мережковский в начале статьи, так и остаются до конца статьи не разрешенными» (РБ. 1889. № 5—6. С. 328, 331). Анонимный критик журнала «Русская мысль» писал, что «критические приемы г. Мережковского» сводятся к тому, чтобы «построить все произведения по внешним признакам в две шеренги, сделать им наружный смотр, одну сплошь оштрафовать за оторванные пуговицы, другую сплошь наградить орденами…» (РМ. 1889. № 8. С. 373).
Ряд произведений Короленко в статье упоминается под заглавиями первых публикаций: «По пути» («Федор Бесприютный»), «В подследственном отделении» («Яшка»), «Из рассказов о бродягах» («Соколинец»), «Убивец» («Очерки сибирского туриста»).
Ко времени написания статьи вышли в свет два издания книги В. Короленко «Очерки и рассказы» (М.: Изд. журнала «Русская мысль», 1887 и 1888); во второе издание включен этюд «Слепой музыкант». Источники цитат указываются в основном по 1–му изданию, в отдельных случаях — по 2–му. В статье речь идет также о произведениях, публиковавшихся в «Северном вестнике»: «За иконой» (1888. № 2. Февраль. Отд. I. С. 1—43); «По пути. (Святочный рассказ)» (1887. № 2. Февраль. Отд. I. С. 1—49); «Ночью» (1888. № 12. Декабрь. Отд. II. С. 1—30); «Убивец» («Очерки сибирского туриста», III) (1885. № 1. Сентябрь. Отд. IV. С. 43—93), по которому указываются источники цитат.
МИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАШЕГО ВЕКА
Впервые: Труд. 1893. № 4. С. 33—40. Печатается по тексту этого издания.
ПАМЯТИ ТУРГЕНЕВА
Впервые: ТГ. 1893. 22 августа. № 8. Печатается по тексту этого издания.
ПАМЯТИ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА
Впервые: ТГ. 1893. 26 сентября. № 14. Печатается по тексту этого издания.
О ПРИЧИНАХ УПАДКА И О НОВЫХ ТЕЧЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Впервые: О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 1—105. Печатается по этому изданию. Включена в: ПСС17, Т. XV; ПСС24, Т. XVIII.
Мережковский выступал с лекцией «О причинах упадка русской литературы» 26 октября 1892 г. в Русском литературном обществе и 8 декабря 1892 г.
См. свидетельства и отклики: Летопись литературных собраний в России конца XIX—начала XX в. М., 2002. Вып. 1. С. 85, 92—93. Н. К. Михайловский писал, что «мысль г. Мережковского скачет, как блоха; направление, быстрота и вообще характер этих скачков имеет, может быть, свои, внутренние резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься их какою‑то капризностью, неожиданностью и несуразностью». Высказывания критика он охарактеризовал как «торопливые и сбивчивые» (Михайловский Н. К. Русское отражение французского символизма // РБ. 1893. № 2. Отд. II. С. 46—47, 50). Рецензент журнала «Русская мысль» иронически замечал: «Г. Мережковский полагает, что „в России существовали истинно великие поэтические явления”, но литература отсутствует (…) Попросту говоря, русское общество малокультурно. Но что это за всепримиряющая среда, о которой говорит наш критик? (…) Надежды возлагаются на новое течение, на поэтов–мистиков, символистов. (…) Но кто же эти таинственные и прекрасные незнакомцы? Недоумеваем» (РМ. 1893. №2. Февраль. Отд. XXI. С. 50). Резко негативно воспринял книгу А. Волынский. «Это какое‑то приторно–слащавое красноречие с рыхлыми, бессильными периодами, с бесцветным содержанием, с искусственным экстазом в приподнятых фразах, раздражающих слух, как вопли, крики и слезы поддельной истерики. Присмотритесь к этим ходульным эффектам, к которым прибегает г. Мережковский, и вы поймете, что перед вами писатель без глубоких настроений, с вымученными фальшивыми фразами на возвышенные темы, для которых нужен талант, ум, нужна внутренняя свобода, светлость души и чувства» (Волынский А. Литературные заметки // СВ. 1893. № 3. Отд. II. С. 108).
Фрагмент книги, посвященный Кольцову (из главы «Любовь к народу: Кольцов, Некрасов, Глеб Успенский, Н. К. Михайловский, Короленко»), под заглавием «Кольцов» впоследствии был опубликован в кн.: Философские течения русской поэзии. Избранные стихотворения и критические статьи С. А. Андреевского, Д. С. Мережковского, Б. В. Никольского, П. П. Перцова и Вл. Соловьева / Сост. П. Перцов. СПб., 1895. С. 109—115.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРАГЕДИИ СОФОКЛА «ЭДИП–ЦАРЬ»
Впервые: ВИЛ. 1894. № 1. С. 5—9. Печатается по этому изданию.
КРЕСТЬЯНИН ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ОЧЕРКИ. I. БАЛЬЗАК. II. МИШЛЕ
Впервые: Труд. 1894. № 7. С. 185—202; 1895. № 9. С. 600—613. Печатается по этому изданию.
НЕОРОМАНТИЗМ В ДРАМЕ
Впервые: ВИЛ. 1894. № 11. С. 99—123, с подзаголовком «Критический очерк». Печатается по этому изданию.
НОВЕЙШАЯ ЛИРИКА
Впервые: ВИЛ. 1894. № 12. С. 143—160. Печатается по этому изданию.
ЖЕЛТОЛИЦЫЕ ПОЗИТИВИСТЫ
Впервые: ВИЛ. 1895. № 3. С. 71—84. Печатается по этому изданию.
РЕЦЕНЗИИ НА «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» (1897)
Д. Ш. [Д. П. Шестаков]
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СПб., 1897. ИЗД. П. П. ПЕРЦОВА.
Впервые: Волжский вестник. Казань. 1897. № 5. 6 (18) января. С. 3. Рубрика «Библиография». Подпись: Д. Ш.
Автор — Дмитрий Петрович Шестаков (1869—1937), поэт и переводчик, критик, филолог–классик.
[А. М. Скабичевский]
ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ, ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. СПб., 1897 г.
Впервые: Новое слово. 1897. № 5. Май. С. 61—63. Рубрика «Новые книги». Разд. I «Беллетристика. Критика. История литературы». Без подписи.
Автор — Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910), критик народнического направления. Авторство установлено на основании упоминания в этом тексте об опубликованной ранее за подписью Скабичевского рецензии на сборник «Философские течения русской поэзии» (Скабичевский А. Курьезы и абсурды молодой критики Н Новое слово. 1896. № 9. С. 176—197).
Ар. Горнфельд КРИТИКА И ЛИРИКА
Впервые: РБ. 1897. № 3. Отд. II. С. 29—65.
Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867—1941), литературовед, критик, переводчик. Приглашен сотрудничать в журнал «Русское богатство» в 1895 г.
Статья публикуется полностью, поскольку и в части, посвященной Д. Н. Ов- сянико–Куликовскому, она имеет отношение к Мережковскому.
В. Спасович. Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ И ЕГО «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ»
Впервые: BE. 1897. № 6. С. 559—603.
Владимир Дмитриевич Спасович (1899—1906), публицист, литературовед, общественный деятель, сторонник культурно–исторической школы, последователь И. Тэна.
Скриба [Е. А. Соловьев]
Г. СПАСОВИЧ О Г. МЕРЕЖКОВСКОМ
Впервые: Новости и биржевая газета. 1897. № 159. 12 июля. С. 2. Разд. «Литературная хроника». Подпись: Скриба.
Евгений Андреевич Соловьев (псевдонимы — Андреевич, Скриба и др.) (1867—1905), критик, историк литературы.
[В. Л. Величко] ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. СПб. Ц. 2 р.
Впервые: Кавказ. Тифлис, 1897. № 197. 27 июля. С. 3. Разд. «Библиография». Подпись: В. Л.
Василий Львович Величко (1860—1903), поэт, публицист, с 1896 г. — редактор–издатель официальной тифлисской газеты «Кавказ».
ИЗ РУССКИХ ИЗДАНИЙ. ДВА КРАЙНИХ МНЕНИЯ О ПУШКИНЕ
Впервые: Книжки «Недели». 1897. Кн. VII. С. 286—296. Разд. «Литературная летопись». Без подписи.
Рубрика содержит подборку заметок: «Два крайних мнения о Пушкине. Из переписки гр. А. Толстого. Статья о русском студенчестве. Студенческая молодежь в Америке. Вл. С. Соловьев и философия бессознательного. Экспертиза о бегунах». Здесь печатается только часть, посвященная Мережковскому (с. 286—288).
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СПб., 1897 г. Ц. 2 р.
Впервые: Мир Божий. 1897. Т. LXX. Кн. XI. Ноябрь. Отд. II. Библиографический раздел. С. 66—72. Без подписи.
Рубрика включает также рецензию на книгу К. Головина «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897). Здесь печатается только часть, посвященная Мережковскому (с. 67—68).
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СПб., 1897
Впервые: Неделя. 1897. № 36. 7 сентября. С. И (1148). Разд. «Новые книги». Без подписи.
Б. Никольский «ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ» Г. МЕРЕЖКОВСКОГО
Впервые: Исторический вестник. 1897. Т. LXX. Кн. XI. Ноябрь.
С. 593—601.
Борис Владимирович Никольский (1870—1919), критик, публицист, поэт, историк литературы.
…вилла Палъмъери, где происходило знаменитое собрание дам и кавалеров со передает веселый Боккачио в «Декамероне». — Имеется в виду вилла Поджо Герарди возле Майано близ Флоренции. «Декамерон» (1348—1351) — книга новелл Д. Боккаччо.
…народная площадь; собор Maria del Fiore со Венера Медичейская… — Народная площадь — площадь Синьории во Флоренции. Собор Maria del Fiore — собор Санта Мария дель Фьоре (купол архитектора Ф. Брунеллески, 1420—1436). Л. Гиберти изготовил для флорентийского Баптистерия двери с рельефами, изображавшими историю Христа и евангелистов. Венера Медичейская — греческая статуя, обнаруженная в Тиволи на вилле Адриана в 1680 г. и привезенная во Флоренцию в 1717 г.
Далее в первой публикации: «Три недели я провел в мире волшебном и, кажется, был более счастлив, чем когда в первый раз влюбился. Я чувствовал себя недостойным этого счастия. Три недели я не выходил из музеев, древних монастырей, палаццо, темных соборов, замков, картинных галерей, библиотек. Я ложился и долго не мог заснуть от радости. Просыпался сразу с чувством умиления в душе.
Зайду, бывало, в поросший травою пустынный двор какого‑нибудь замка вроде Боргелло. Взгляну на эти стены из диких, неотесанных камней, точно не людьми, а циклопами построенные, на голубое небо между стенами, на древние гербы, на рыцарское оружие и рядом на пожелтелый мрамор античных статуй, прислушиваюсь к тысячелетней ненарушаемой тишине, — и дух захватывает от красоты, от величия. Помню, я испытывал что‑то подобное только в самом раннем детстве, когда, веря всеми силами души, молился и молился не о чем–ни- будь определенном и земном, а просто высказывал Богу мою радость, благодарил Его за то, что Он есть, и еще за то, что Он сделал так, что я знаю, что Он есть. Наслаждение красотою — самая чистая молитва. В ней мы забываем свое самолюбие, страсти, муки и желания. Мы отрекаемся от нашего я. Вот почему истинное наслаждение красотою — великий нравственный подвиг. И не удивляйтесь, что я говорю это по поводу каких‑то грубых стен средневекового замка, который — может быть, служил для жестокостей и насилия. Я в нем наслаждаюсь созерцанием человеческого могущества, величием свободного духа».
Далее в первой публикации: «Потом, когда я возвращался в нашу модную гостиницу „Albergo de la Расе” и садился за общий обеденный стол, так называемый „табль–д’от”, мне становилось гадко на душе и стыдно. В какое время мы живем, среди каких людей! Передо мной сидела немка из Берлина с одутловатым, красным и глупым лицом. Она говорила что‑то мужу, звероподобному еврейскому банкиру, насквозь пропахшему экономической грошовой сигарой, и восторгалась Венерой Медичейской. Меня тошнило от этих восторгов. Тут же рядом сидели пять старых дев из Лондона; сухопарых, бескровных, рыжих и костлявых. Что за безобразие, что за скука и плоскость на лицах! А эти двое парижских коммивояжера. Молодые и уже старчески обрюзгшие, испитые, самодовольные и безнадежно идиотские лица! Как они едят, как смеются! Неужели это не обезьяны, а люди, такие же свободные, Богом созданные люди, как те, что построили Боргелло и дворец Питти? Быть не может! Куда девалась человеческая сила? Почему они все такие скучные, хилые, трусливые и, главное, безобразные? Современная пошлость, сила денег, чувство буржуазной собственности, животный коммивояжерский материализм, грошовое безверие наложили на них однообразную, лакейскую печать. Право, не лучше ли, чем их добродетель, пороки и мятежные страсти тех кондотьери–художников, гордых, простых и сильных людей, которые презирали обтесывать камень и с царственным могуществом нагромождали глыбу на глыбу? Рядом с жестокостью и буйными страстями была и вера в их сердце! Вот главное, вот единственное, вот огонь, без которого жизнь делается скучным однообразным табль–д’отом, а люди превращаются в трусливых ручных зверей».
В библиотеке Лаврентия Медичи со Виргилий — спутник Данте в Аду средних веков. — Имеется в виду библиотека, основанная в 1444 г. дедом Лоренцо Великолепного, Козимо Медичи. «Энеида» (30 г. до н. э.) — поэма римского поэта–эпика Публия Вергилия Марона. «Ад» — первая часть «Божественной комедии» Данте.
…юноши Давида у Микельанжело, в его Леде и Вакхе. — Речь идет о статуях Микеланджело «Давид» (1504), «Вакх» (1497) и его картине «Леда» (ок. 1530).
Далее в первой публикации: «В тот же день я уехал из Флоренции. В последний раз я взглянул на очертания голубых грандиозных флорентийских холмов с редкими деревьями, которые напоминают фантастические пейзажи на старинных картинах Леонардо и Рафаэля. Прощай, Maria del Fiore! Мне было грустно. Я покидал родную землю, точно я не три недели здесь прожил, а целые годы. Я ехал прямо через Неаполь в Бриндизи. С улыбкой и замиранием сердца я думал о море, о Средиземных волнах. Хорошо быть непрактичным и даже немного безумным. Я жалею тех, кто не знал прелести этого детского, безумного веселия в путешествии. Я был — вольная птица… Через три дня я сяду на пароход. Неужели я в самом деле увижу Парфенон? Я приехал в Бриндизи поздно вечером. В беззвездной и душной мгле на меня вдруг пахнуло свежим запахом моря. Не видя, я почувствовал его близость. В темноте замелькали красные и зеленые огоньки фонарей. Это были пароходы, стоявшие на якоре. Раздался протяжный, унылый, далеко потрясший воздух, подобный реву чудовища, сигнальный свисток громадного английского парохода, отправлявшегося в Бомбей. Я остановился по своему неизменному и похвальному обычаю в самом лучшем, т. е. самом дорогом отеле, ибо нет ничего дороже дешевых гостиниц. Я отправился в так называемое агентство Кука, международное английское бюро для путешественников. Надо было спросить точную цену билета Австрийского Ллойда от Бриндизи через Афины и Константинополь до Одессы. Сонный англичанин-„кукист” долго рылся в засаленных путеводителях и, наконец, сообщил: что‑то около 375 франк.(ов) за билет».
…Беги со мною!.. со Там воля, игры, жизнь и свет!.. — Цитата из поэмы А. Н. Майкова «Жрец» (1848, 1858).
…Парфенон, Пропилеи… — Парфенон — мраморный храм девы Афины на Акрополе в Афинах, который был построен в 448—438 гг. до н. э. под руководством Фидия. Пропилеи — сооружение, расположенное «перед воротами». Наиболее знаменитыми являются Пропилеи Афинского акрополя, построенные из пентеликонского мрамора в 437—431 гг. до н. э.
…Панафинейские праздничные феории. — Основной праздник в честь богини города Афин, первоначально ежегодный. Заново учрежден в 565 г. до н. э.
…палатинского дворца Нерона… — Речь идет о дворце «Золотой дом», построенном на холме Палатин (позднее — Палаций).
…маленький храм богини Nike Apterae («Бескрылой Победы»), Эр ех- тейон с девами–кариатидами… — Храм, сооруженный в 449—421 гг. до н. э. недалеко от Пропилей и посвященный богине победы Нике. Эрехтейон (сделанный Эрехфеем) — ионический храм, сооруженный в 421—415 и 409— 406 гг. до н. э., последняя постройка классического периода в Афинском акрополе.
…обломки пентеликонского камня… — Мрамор с отрога горы Пентели- кон, расположенной к северо–востоку от Афин, который использовали для постройки Акрополя.
День гнева, этот день обратит мир в пепел (лат.). Начало католической заупокойной мессы.
Мэандр — меандр (от названия извилистой реки), тип орнамента в виде ломаной или кривой линии с завитками, получил распространение в декорировании сосудов.
…Боттичелли раскаялся, услышав громовой, страшный голос доминиканца… — Имеется в виду Савонарола, проповеди которого привели к сожжению предметов роскоши и искусства на площади Синьории 7 февраля 1497 г.; по преданию, Боттичелли бросил в костер несколько своих эскизов с нагими фигурами.
…у Антигоны, у Алъкестис… — Антигона — героиня одноименной трагедии Софокла; Алькестис — героиня трагедии Еврипида «Алькеста».
…создателей «Скованного Прометея», победителей при Марафоне… — «Скованный Прометей» — трагедия Эсхила. Победителями над персами в Марафонской битве (490 г. до н. э.) были афиняне под командованием Мильтиа- да. Эсхил участвовал в этой битве.
…через Vita Nuova Данте со Новой Элоизы… — «Vita Nuova» («Новая жизнь») (1283—1290) — философско–автобиографическая книга Данте, включающая стихотворения к Беатриче, расположенные по определенному сюжетному заданию. Лаура — героиня сонетов Петрарки. «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — эпистолярный роман Ж. — Ж. Руссо.
«Воскресенье, 20 марта 1831. Сегодня Гете за обедом сказал мне, что на днях перечел „Дафниса и Хлою” с/э чувствовать впечатления ее большой красоты». — Цитируются «Разговоры» (II, 316).
…«Сакунталы» Калидазы… — Драма древнеиндийского поэта Калидасы «Узнанная по кольцу Шакунтала».
Он любит изображать темпераменты цельные, с избытком жизненной силы и воли, как Свифт, Рубенс, Бетховен, Наполеон. — Труды И. Тэна посвящены вопросам историографии, литературоведения, искусствознания и философии. Ему принадлежат четырехтомная «История английской литературы» (1863—1864), «Философия искусства» (1865), работа, в которой дан многогранный и яркий образ Наполеона: Taine Н. Les origines de la France contempo- raine. Le regime moderne. (Т. I. Liv. 1). Paris, 1891, и др.
«Никогда культ не был более законным со закон мимолетных увлечений толпы». — Цитата из главы XXVII «Смерть Марка Аврелия. — Конец античного мира» книги Э. Ренана (с. 266).
…«Разговоры» Эпиктета. — Речь идет, видимо, о «Дружеских беседах Эпиктета» в изложении Арриана.
…«таков порядок природы со чтобы фиговое дерево давало не свои плоды». — Цитируется по главе III «Владычество философов» книги Э. Ренана (с. 38—39).
…«он хочет отнять наши забавы, чтобы заставить нас философствовать!». — Цитируется по главе II «Улучшения и реформы. Римское право» книги Э. Ренана (с. 23).
Марк Аврелий стремился к идеалу Платона. — Речь идет об идее, высказанной Платоном в «Государстве» и «Законах», о том, что государствами должны управлять философы, главная добродетель которых — мудрость.
…двух докторов мудрости — Церана и Музония со освобождать душу вельможи от страха смерти. — Имеются в виду авторы диатрибов, специфических речей философско–морального содержания, разработанных в III в. до н. э. Как форма назидательной беседы, служили целям воспитания юношества. Наиболее выдающиеся представители искусства диатрибов — Гораций и Сенека, Музоний и Персий, Дион из Прусы и Максим Тирский и др.
Варвары перешли через Дунай. — С варварами (германскими племенами) Марк Аврелий воевал в 167—175 и 178—180 гг.
Пунические войны — войны Рима против карфагенян (пунийцев) за владение Средиземноморьем: 1–я война — 264—241 гг. до н. э., 2–я — 218—201 гг. до н. э. В 3–ю войну (149—146 гг. до н. э.) Карфаген был разрушен.
…«паук гордится, поймав муху со С точки зрения принципа, все — разбойники». — Цитата из «Размышлений» Марка Аврелия (Кн. X, 10).
…отношения к жене, которое Ренан называет «неумолимой кротостью». — В главе XXVI «Внутреннее мученичество Марка Аврелия. Его приготовление к смерти» книги Э. Ренана (с. 256).
«О, смерть, приди скорее, не медли!..» со «Я удаляюсь из этой жизни со после моей смерти им будет лучше». — Цитаты из «Размышлений» (Кн. IX, 3).
«Посредством анализа со воистину она более не имела для него смысла». — Цитата из главы XXVI «Внутреннее мученичество Марка Аврелия. Его приготовление к смерти» книги Э. Ренана (с. 262—263).
«Прощай, добродетель! со да здравствует сириец и его сомнительные боги!» (Ренан). — Цитата из главы XXVII «Смерть Марка Аврелия. — Конец античного мира» книги Э. Ренана (с. 266).
…«мне сладко спать, еще слаще быть каменной со О, не буди же меня, умоляю! говори тише!». — Строки из сонета 56 (Frey, LXXVIII, Girardi, 102) (ок. 1545), являющегося поэтической параллелью или комментарием художника к его статуе «Ночь» на гробнице Джулиано Медичи.
Ниобея (Ниоба) — в греческой мифологии жена царя Фив Амфиона. Гордясь множеством своих детей, она посмеялась над богиней Лето, родившей только двух — Аполлона и Артемиду. Заступившись за мать, Аполлон и Артемида поразили стрелами всех детей Ниобеи. От горя она окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы. Образ Ниобеи является символом невыносимого страдания.
«Другие молятся о сохранении жизни своих детей умрет ли мой ребенок или нет». — Цитата из «Размышлений» (Кн. IX, 40).
Так вихорь дел забыв для муз и неги праздной с/э Вельможи римские встречали свой закат… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К вельможе» (1830).
«Ты спрашиваешь, как я провожу дни на моей тосканской вилле? со наши городские дела. Vale». — Письмо Фуску (ППМ, кн. IX, письмо 36).
«Письма Плиния Младшего» — сохранилось 10 книг «Писем» («Epistu- lae»); книга 10 включает письма Плиния и Траяна, которые они писали друг другу во время наместничества Плиния, и представляют собой важный исторический документ (например, № 96, 97: «Письма об обращении с христианами» и пр.).
Лаврентинская вилла (Laurentinum, Лаурентинум) — вилла Плиния, находившаяся недалеко от Рима.
«Тогдашний литературный вкусов самом начале нашего века во Франции». — Цитата из главы VIII «Христианство и империя под властью Флавия» книги Э. Ренана «Евангелия. Второе поклонение христиан» (СПб.: Изд. Н. Глаголева, б. г. С. 169).
…«тогда добродетель была подозрительной со (ingenia, nostra in ро- sterum guogue hebetata, jracta, contusa sunt)». — ППМ, кн. VIII, письмо 14.
Знаменитый римский оратор Квинтилиан пресмыкался у трона, чтобы сохранить себе жизнь. — Речь идет о том, что Квинтилиан как учитель риторики получал в Риме государственное содержание.
«Молния, которая поразила столько близких людей со не заслужить бесчестия». — Из письма Юлию Генитору (ППМ, кн. III, письмо 11).
Светоний и Ювенал нарисовали такую ужасающую и вместе с тем величественную картину древне–римского цезаризма… — Мережковский имеет в виду труд Гая Светония Транквилла «О жизни цезарей» («Жизнь двенадцати цезарей», ок. 120 г.) — жизнеописание 12 первых императоров — от Цезаря до Домициана и «Сатиры» в 5 книгах децима Юния Ювенала (первая треть II в.).
…«я не знаю, заслужим ли мы оба почести в потомстве со многих вывел из мрака и забвения». — ППМ, кн. IX, письмо 14.
…«какая сладкая, какая благородная дружба со только бы мне быть с тобою!». — ППМ, кн. VII, письмо 20.
…Плиний в наивном увлечении сравнивает себя с Эсхином и Демосфеном. — В письме Юлию Спарсу (ППМ, кн. IV, письмо 5).
«Нельзя слышать вашего голоса со благоухание самых редких цветов!». — Из письма Аррию Антонину (ППМ, кн. IV, письмо 3).
«Год был обилен поэтами со которые посвящены поэзии». — Из письма Созию Сенециону (ППМ, кн. I, письмо 13).
«Я провел все эти последние дни в глубоком спокойствии со более одного раза». — Из письма Кальвизию (ППМ, кн. IX, письмо 6).
«Наши гладиаторские игры со в государственном теле». — Из письма Семпронию Руфу (ППМ, кн. IV, письмо 22).
…«я хотел бы, чтобы и в Риме их можно было уничтожить». — Приводятся слова Юния Маврика (ППМ, кн. IV, письмо 22).
…«мне кажется со скрой имя того, кому благодетельствуешь. Так лучше». — Из письма Гемину (ППМ, кн. VIII, письмо 22).
«С тем большей откровенностью могу признаться тебе со „Был он как нежный отец' со „pater familias'». — ППМ, кн. V, письмо 19. Приводится строка из «Одиссеи» (II, 47).
Однажды он приобрел со каждый мускул бронзового тела! — См. письмо Аннию Северу (ППМ, кн. III, письмо 6).
«Свойственно многим идти на смерть в слепом порыве страстей со принадлежит только великому духу». — Из письма Катилию Северу (ППМ, кн. I, письмо 22).
…«недавно, — пишет он Максиму, — болезнь одного из друзей моих со т. е. самую счастливую и веселую». — ППМ, кн. VII, письмо 26.
И парит в волосах душистая роза / Тут меня и Катон прочтет суровый (лат.). Пер. Ф. Петровского.
Quum regnat rosa, quum madent capilli, / Tunc me vel ngidi legant Cato- nes. — ППМ, кн. Ill, письмо 21.
«Мы должны отдать отечеству со Когда же досуг мой не будет более называться ленью, а спокойствием!». — Из письма Помпонию Бассу (ППМ, кн. IV, письмо 23).
«Моя вилла Лаурентинум со не нарушают моих занятий». — Из письма Галлу (ППМ, кн. II, письмо 17).
«Я люблю со если погода тихая», со «Затем он играет в мяч со нельзя будет упрекнуть меня в лености». — Из письма Кальвизию Руфу (ППМ, кн. III, письмо 1).
«Ты просишь меня, — пишет Плиний Тациту, — рассказать о кончине моего дяди со вид его был скорее спящего, чем мертвого». — ППМ, кн. VI, письмо 16.
«Ты говоришь со ты сам требовал от меня этих подробностей. Vale». — ППМ, кн. VI, письмо 20.
«Эта провинция, — говорит Ренан (Les Evangiles) со пускала все более крепкие корни». — Здесь неточность. Цитируется глава IV «Гонения на христиан» из книги Э. Ренана «Марк Аврелий и конец античного мира» (СПб.: Изд. Н. Глаголева, б. г. С. 46).
«Священным долгом считаю обо всем, что возбуждает мои сомнения, извещать тебя, государь, оо если оказать милость раскаявшимся». — ППМ, кн. X, письмо 96.
«Ты поступил как должно, любезный Плиний со (пес nostri saeculi est)». — ППМ, кн. X, письмо 97.
Унылая пора — очей очарованье… / В багрец и золото одетые леса… — Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Осень» (1833).
25 мая 1681 года, в Троицын день, на сценах всех главных городов ста- рой Испании со почестью для драматурга. — Излагается фрагмент вступительной статьи к книге: Кальдерон. Драматические произведения: Поклонение Кресту. Час от часу не легче. Алькад в Саламее. Библиотека европейских писателей и мыслителей, издаваемая В. В. Чуйко (Вторая серия. 1881. № 16. СПб., 1884. С. 3). «Autos sacramenteas» (Ауто сакраменталь) — жанр аллегорической религиозной драматургии. Пьесы ставились в Испании и Португалии по случаю праздника Святого Причастия. В них обычно трактовались моральные и теологические проблемы, священная история перемежалась фарсами, танцами. Ауто сакраменталь разыгрывалась на повозках и предназначалась для самой широкой публики. Эти пьесы существовали на протяжении всего средневековья и только в 1765 г. последовал их запрет. Кальдерон создавал пьесы такого рода на протяжении всей жизни, и особенно в последние годы.
«Лавр Аполлона» (1630) — поэма, содержавшая обзор современной литературной жизни и характеристики 280 испанских и португальских писателей, иностранных поэтов и 24 древних авторов.
…поступил в монашеский орден. — Кальдерон принял монашеский сан в 1651 г.; в 1653 г. стал настоятелем собора в Толедо, в 1666 г. — настоятелем братства св. Петра в Мадриде.
Далее в первой публикации: «Сначала мы чувствуем себя довольно странно в этом смешении теплого воздуха испанской ночи, пахнущей „лимоном и лавром” с атмосферой инквизиции, возвышенных понятий чести и рыцарской любви, с жестокостью и фанатизмом, вежливых комплиментов с ударами шпаги. Нам, привыкшим к широкому скептицизму современных поэтов, душно и тесно, как под слишком низким потолком, среди отживших средневековых суеверий, среди неумолимых военных и католических предрассудков, которые драматург разделяет с действующими лицами и зрителями. Мы испытываем то же ощущение, как если бы неожиданно нас перенесли с берега океана в бесконечно глубокий, но темный, узкий колодец. Со всех сторон теснят преграды, каменные стены и только над головой на недосягаемой высоте просвет в небе — мистицизм христианской веры».
Далее в первой публикации: «Ни размышлений, ни нравственных колебаний, ни раскаяния, ни угроз. Действие почти быстрее мысли.
Если драма Кальдерона кажется односторонней и узкой, не следует забывать, что это — узость хорошо отточенного лезвия: оно может промахнуться, но, раз коснувшись тела, поражает смертельно.
Несмотря на все глубокое различие, есть одна черта, которая сближает великого испанского драматурга с древнегреческими трагиками. Кальдерон столь же, как Эсхил и Софокл и отчасти Еврипид, близок своему народу, своему времени, толпе зрителей по умственному настроению, по нравственным идеалам и требованиям. Кальдерон и Софокл по преимуществу поэты национальные. Они — часть народа. Меж ними и толпою не успел еще произойти разрыв. Они понимают толпу так же, как толпа понимает их. Они не стремятся быть выше своих современников, делят с ними силу и слабость, веру и предрассудки, добродетели и пороки, беспредельность чувства и ограниченность знаний. Зато они не чувствуют себя такими одинокими, враждебными толпе непосвященных, такими оторванными от народа, как поэты более поздних цивилизаций. Эсхил так же наивно верит в сказания Гомера, в Олимпийских богов, как современная ему толпа древних афинян, смотревшая на „Евминид”. Кальдерон так же наивно верит в чудеса средневековых легенд и могущество католических реликвий, как толпа испанцев XVII века, смотревшая на его драму „Поклонение Кресту”. И тот и другой, — дети толпы, они — воплощение народной души, они — голос народа. Национальность определяет и ограничивает их гений.
В этом отношении Кальдерон ближе к греку Эсхилу, чем к Шекспиру, который был отделен от испанского драматурга только одним поколением. У Шекспира мы уже чувствуем ту безграничную свободу, которая составляет краеугольный камень современного искусства. Он вполне понимает толпу, но толпа понимает его только отчасти.
Испанская драма занимает середину между полным освобождением от всех правил, которое принял Шекспир, и строгим единством классической трагедии.
Кальдерон приближается к Шекспиру…».
Далее в первой публикации: «Красота античной трагедии основана на симметрии. Подобно тому как древнегреческий храм состоит из правильно расположенных портиков, колонн, фронтонов, так и любая драма Софокла распадается на симметрично расположенные части, на простые величественные формы кристаллов. Как бы ни был взволнован древнегреческий герой, но если он произносит речь, состоящую из 25 стихов, и противник его отвечает ему 10 стихами, вы можете быть вполне уверены, что в одном из следующих диалогов снова повторится это число 25 и ему будут соответствовать 10. Стих никогда не разбивается. На целые страницы тянутся диалоги, в которых с неизменной правильностью чередуется двустишие, произносимое одним лицом с ответом другого, состоящего из одного стиха. В лирических хорах царствует только видимая неправильность, а в сущности строфа соответствует антистрофе с математической точностью стопа в стопу, почти буква в букву. Всю трагедию вы можете разложить на правильные части, как прекрасное древнегреческое здание на геометрически правильно обтесанные глыбы мрамора. В мелочах — симметрия, в широких линиях целого — спокойная, недостижимая для нас гармония, которая кажется созданием не руки человека, а каких‑то высших законов».
Далее в первой публикации: «Здесь драматург уже не заботится о гармонии целого, он прежде всего старается удивить и взволновать новизной романтических неожиданных сопоставлений».
…тройственной Мойры… — Мойры — греческие богини судьбы, которые определяют срок жизни человека, — Клото, Лахесис и Атропос; дочери Зевса и Фемиды.
Далее в первой публикации вместо следующего абзаца: «Перед тем чтобы приступить к изложению пьесы, я предупреждаю, что если вы отнесетесь к ней с философской критикой и современным скептицизмом, пожалуй, все эти чудеса, сверхъестественные события, старинные символы покажутся вам странными, и очарование исчезнет.
Но, ради Бога, на одну минуту отрекитесь от ваших старых привычек мысли, не рассуждайте, не спорьте, чтобы показать умственное превосходство, не спрашивайте, „почему” и „как”, приготовьтесь к самому невероятному, отдайтесь поэту и, если можно, поверьте всем его чудесам.
Я введу вас в сумрак древнего католического собора. Прежде всего надо забыть насмешки Вольтера и „Логику” Милля, наших „трезвых” критиков 60–х годов, иначе вам будет скучно и вы ровно ничего не увидите. Закройте глаза, вдыхая странный, опьяняющий аромат этого экзотического цветка, этой средневековой чудовищной и прелестной мистерии. Чем дальше в собор, тем все мрачнее и таинственнее свет человеческой мысли, вечные вопросы о жизни и смерти проникают и сюда, но только пройдя сквозь католические догматы, подобно тому как лучи солнца проникают в церковь, проходя сквозь разноцветные стекла готических окон, окрашиваясь в яркие цвета. Разве это не вечный свет мысли, разве это не наши вопросы о жизни и смерти?».
Занавес поднимается. Перед нами — горная дикая местность; вдали — Крест. — Описание сцены из пьесы Кальдерона «Поклонение кресту» (1630—1632), которая далее пересказана по указанному выше изданию (с. 21— 71). (См. также: Педро Кальдерон де ла Барка. Драмы. Пер. К. Бальмонта: В 2 кн. / Изд. подгот. Н. И. Балашов, Д. Г. Макогоненко. М.: Наука, 1989. Кн. 1. С. 393—500. (Серия «Литературные памятники»)).
Далее в первой публикации: «Забудьте отвращение к сверхъестественному, воспитанное наукой, и смотрите на средневековые наивные чудеса поэта только как на символы, вы увидите, что сущность драмы — великая нравственно–религиозная идея. Я не знаю более гениального изображения двойственности человеческой души, чем характеры Езебио и его сестры».
…«мы все изменчивы по своей воле, но не по своей природе». — Цитата из «Увещаний к покаянию…» (§ 55).
«Это произведение оскорбляет со плевелы преступления». («Искусство в связи с общим развитием культуры»). — Неточная цитата из книги М. Каррьера «Die Kunst im Zusammenhang der Kulturentwicklung u. die Ideale der Menscheit», в русском переводе под названием «Искусство в связи с общим развитием культуры и идеалы человечества» (Т. 4. Возрождение и реформация в образовании, искусстве и литературе. М., 1870. С. 338—339).
…мистерию «Жизнь — сон». — Философская драма «Жизнь есть сон» (1635). Далее в первой публикации: «Безначальное, Непознаваемое, и сущность мира сияет сквозь призрачную дымку явлений, подобно тому как огонь лампады тускло светит сквозь полупрозрачную завесу храма, отделяющую толпу от Святая Святых».
«Если я предам и тело мое на сожжение, но любви не буду иметь, я — ничто». — 1 Кор. (13, 3).
«Шекспир, — говорит Гете, — подносит нам полные, спелые гроздья винограда со совсем от него отказаться». — Цитата из «Разговоров» (I, 219); запись от 25 декабря 1825 г.
…во время своего первого путешествия по Италии… — Гёте был в Италии дважды: в 1786—1788 гг. и в 1790 г. (поездка в Венецию).
…образ Прометея в знаменитой трагедии Эсхила. — Имеется в виду трагедия «Скованный Прометей».
…с Авелланедой, автором апокрифического продолжения «Дон–Кихо- та». — За два года до выхода в свет второй части романа Сервантеса, в 1614 г., доминиканский священник Алонсо Фернандес Сапата из Авельянеды выпустил так называемого «Лжекихота» — книгу «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Сочинение лиценциата Алонсо Фернандеса де Авельянеды, уроженца Тордесильяса». См. русский перевод А. С. Бобовича и М. А. Бобовича в кн.: Сервантес Сааведра Мишель де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 2003. Т. 2. С. 407—684. (Серия «Литературые памятники»).
«Персилес и Сигизмунда» — последнее произведение Сервантеса — роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1616), написан в подражание роману древнегреческого писателя Гелиодора «Эфиопика». Опубликован в 1617 г.
Мориски — мусульманское население, остававшееся на территории Испании после падения Гранадского эмирата в 1492 г.
…сомнение в реальном существовании Амадиса Галльского… — Герой первого и самого знаменитого испанского рыцарского романа «Амадис Галь- ский» («Смелый и доблестный рыцарь Амадис, сын Периона Галльского и королевы Элисены»; опубл. в Сарагосе в 1508 г.). Автор его первоначального текста неизвестен. Среди возможных «соавторов», исправивших некоторые части и дописавших окончание, называется Гарей–Ордоньес де Монтальво.
Книга Монтаня… — Имеются в виду «Опыты» — книга Монтеня, писавшаяся им с 1571 по 1588 г. Первые две книги изданы в 1580 г. Третья впервые опубликована в 1588 г. С поправками, внесенными Монтенем в издание 1588 г., книга вышла в свет в 1595 г.
…беспорядочная, пестрая смесь мыслей, записок, цитат, шуток, стихотворений в прозе, рассказов, хроник, воспоминаний. — В первой публикации: «…беспорядочная, пестрая смесь мыслей, записок, цитат, шуток, лирических стихотворений в прозе, рассказов, хроник, воспоминаний».
…Ж. — Ж. Руссо в своей «Исповеди»… — Оставшаяся незавершенной, книга писалась в 1765—1770 гг., частями издавалась после смерти писателя в 1782—1789 гг.
Он очень мало заботится со осталась невысказанной и необнаженной. — Вместо этих двух предложений в первой публикации было: «Предупреждая наше любопытство, он дает возможность прощупать до глубины мельчайшую складку своего характера, он очень мало заботится, дурным или хорошим, красивым или беззаботным покажется нам, только бы мы его почувствовали, увидели, поняли. В конце концов, Монтань, как истинный художник, неудовлетворен, сознает, что осталась глубокая темная часть его существа невысказанной и необнаженной».
В первой публикации следующим абзацем начинается раздел I «Сомнения Монтаня. „Que sais‑je?”».
Далее в первой публикации: «…всякой доктрины. Он много говорит о невозможности познания, но, в конце концов, вы приходите к тому убеждению, что скептицизм его опирается не на какое‑либо определенное логическое основание, а связан непосредственно, как и остальные части философии Монтаня, с его темпераментом и личностью».
«Мы думаем со ничего постоянно». — Там же. «Ducimur, ut nervis alie- nis mobile lignum» — цитата из «Сатир» Горация (II, 7).
«Ноги мои так нетверды со я делаюсь угрюмым, злым и необщительным». — Опыты (II, XII).
«Вы, например со в правоту вашего дела», со («Как ничтожная ладья, гонимая в открытом море яростным ветром»). — Там же; в Опытах цитируется стихотворение Катулла (XXV, 12).
…Варрон, насчитывает несколько сотен сект, расходящихся по вопросу о высшем благе. — Источник конкретно определить затруднительно.
…(…«нет такой нелепости, которая не была бы сказана каким–ни- будь философом»). — Цитата из сочинения Цицерона «О гадании» (II, 58): «нет величайшей нелепости, которая не была бы сказана каким‑нибудь философом».
…философ Протагор, принимавший человека за меру вещей… — Полностью высказывание Протагора звучит так: «Человек — мера всех вещей: существующих — что они существуют, несуществующих — что они не существуют».
Далее в первой публикации: «Легкий, изящный скептицизм позволяет Монтаню, постоянно колеблясь и ничему не отдаваясь, держаться в безопасности между небом и землею, как на крыльях, собирая мед с цветов:
…Ты любишь с высоты Спускаться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты Журчанью пчел над розой алой».
(С неточностями цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Гнедичу», 1832).
«Нет ничего постоянного, твердого со в беспрерывном изменении и колебании». — Опыты (III, XII).
«Заботы и издержки со об уме и добродетели никто не заботится». — Там же. Далее в первой публикации: «Если отбросить все слишком парадоксальное, резкое, что было в критике Монтаня современной ему науки, то в его скептическом отношении будет все‑таки чувствоваться много правды и здравого смысла».
«Охотничья собака ценится по быстроте со вокруг него, а не в нем самом». — Опыты (I, XXV).
«На короля, ослепляющего вас величием и блеском со («Ни сокровища, ни консульский ликтор со под золотыми потолками»)». — Опыты (I, XLII). Цитируются «Оды» Горация (II, 16, ст. 9; «К Помпею Гросфу»).
«И тревога, и опасение со не обладают ни малейшею способностью утолять страдания во время болезни». — Опыты (I, XLII).
Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигоны со «тот, кто выливает из моего горшка со ты ошибся». — Опыты (I, XLII). Цитируются «Изречения древних царей и полководцев» Плутарха (см.: Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990. С. 353. (Серия «Литературные памятники»)).
Льстецы старались уверить Александра со «Смотрите со струилась из ран богов?» — Опыты (I, XLII).
«Самые редкие и общие законы со у которых нет никакого государственного устройства». — Опыты (III, XIII).
…глава, посвященная остроумной и увлекательной апологии самоубийства… — Речь идет о III главе II книги «Обычаи острова Кеи», которая цитируется ниже. Смерть и самоубийство — постоянные темы «Опытов», рассуждения на эту тему встречаются и в других главах книги.
Далее в первой публикации: «Скептицизм Монтаня проникает всюду, от него не могло уберечься ни одно из верований человечества: ни государственные учреждения, ни законы, ни нравственность, ни обычай, ни наука, ни религия. Теперь мы должны познакомиться с другою, оборотною, стороной его сомнения, с дилетантизмом Монтаня, с его нерешительностью в практических вопросах, с глубоким консерватизмом его политических и религиозных симпатий». Далее начало следующего раздела: «„II. Дилетантизм Монтаня”. Вот как он сам себя определяет…».
«Я очень празден и ленив со заставило жить только для самого себя». — Опыты (II, XVII).
Далее в первой публикации: «для безбедного и спокойного существования. Условия помещичьей жизни избавили его от необходимости думать о куске хлеба, условия темперамента — от деятельного участия в борьбе за славу и наслаждения».
Далее в первой публикации: «без способности чему бы то ни было страстно отдаться. Тип этот мог получить особенное развитие в Западной Европе в эпоху феодализма, когда экономическая жизнь имела нечто общее с нашею дореформенною эпохой крепостного права, породившей наиболее выдающегося литературного представителя этого типа — Обломова. Монтань был несомненно одним из его западноевропейских предков XVI столетия. У обоих та же любовь к неподвижности, к покою, к отдыху без труда, та же ненависть к систематической работе, то же врожденное физическое отвращение к самому ничтожному напряжению воли. Оба они люди чрезвычайно доброй, мягкой, младенчески чистой души. Оба привыкли к домашнему комфорту: один ни за что в мире не согласится покинуть свой уединенный философский кабинет в живописной башне, другой — не переступит за порог своей уютной, вечно полутемной и неубранной комнаты на Выборгской стороне. Но, впрочем, следует оговориться, что аналогия эта приблизительна и что личность Монтаня, конечно, не исчерпывается одною обломовщиной: он обладал громадным литературным талантом и, несмотря на отвращение к практической деятельности, замечательною внутреннею подвижностью».
…«если желают мне возразить что‑нибудь со что мне нужно ответить». — Опыты (II, XVII).
«Я переписываю то одну книгу, то другую со что придет в голову». «Книги забавны со лучше бросить книги». — Опыты (I, XXXIX).
«Я ищу умных, честных людей… со веселием и дружбою». Изредка к их разговорам со «nous пу cherchons qua passer le temps». — Там же.
В первой публикации следующим абзацем начинается раздел III «Общественная и политическая теория. — Терпимость».
…«всякое изменение со еще большее зло». «Одни только мысли со повиноваться государству и общепринятым мнениям». — Опыты (I, XXIII).
«По моему мнению, в общественных делах со гораздо желательнее перемен и нововведений». — Опыты (И, XVII).
Далее в первой публикации: «естественно вытекающий из характера и темперамента Монтаня».
«Посмотрите, — говорит автор, — в отдаленных провинциях со Раи- cos servitus, plures servitutem tenent». — Опыты (I, XLII)
«Если бы, — говорит он в другом месте, — законы, которым я подчиняюсь со искать других законов». — Опыты (III, XIII).
Два раза во время путешествия он попадался в руки бандитов со повседневный, вполне обыкновенный случай. — В первой публикации этот фрагмент приводится ниже: см. примеч. 49.
…предводитель гугенотов адмирал Каспар Колиньи… — Первая жертва Варфоломеевской ночи. После этого имени в первой публикации следует: «который пронесся блестящим метеоритом и погиб».
Далее в первой публикации: «Человек этот испытал на себе, более чем кто‑либо другой, отрицательную сторону революционных движений. В продолжение сорока лет, постоянно окруженный сценами грабежей и убийств, он ежеминутно должен был опасаться разорения или смерти под ножом разбойников. Два раза он попадался во время путешествия в руки бандитов, спасаясь только каким‑то чудом. Среди белого дня он подвергается нападению своего соседа, такого же дворянина–помещика, как он сам. Автор приводит это нападение как повседневный, вполне обыкновенный случай».
Далее в первой публикации: «или по крайней мере стесняла его гораздо менее, чем беспорядки полувековой междоусобной войны, королевская власть не успела (опять‑таки по отношению к высшему сословию) сделаться…».
«Тот, кто чувствует собственное человеческое достоинство со для него мы живем в этом мире». — Опыты (III, XI).
В ней одна из бессмертных заслуг философа. — Эта фраза в первой публикации: «В этом одна из существенных, бессмертных заслуг гениального философа».
«Все людские бедствия со развивается через исследование и достигает незнания». — Опыты (III, XI).
…«надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы из‑за них предавать сожжению живых людей». — Там же.
Далее в первой публикации: «Эти простые, чудные слова до сих пор не утратили своей высокой нравственной красоты и могут служить лучшим выражением так медленно и трудно проникающей в человеческое сознание идеи терпимости: в этой поистине гениальной странице монтаневских Опытов звучит та же нота, как и в бессмертном трактате О свободе Дж. — Ст. Милля. Но Монтань на три века предупредил английского философа. Говоря о дикарях–людоедах, он замечает, что они все‑таки человеколюбивее его сограждан и современников, потому что по крайней мере едят убитых: „не большее ли варварство поедать живых людей, разрывать на части орудиями пыток члены, полные чувствительности, сжигать несчастного на медленном огне, давать его связанного на съедение собакам и свиньям… что у всех нас делается на глазах не между старинными врагами, но между соседями и согражданами, и, что хуже всего, во имя благочестия и религии” (I, стр. 314). В такое‑то время скромный перигорский дворянин, поселившийся в уединенном замке, неспособный к страстному увлечению, веселый и беззаботный дилетант, просвещенный помещик немного обломовского типа, осмелился провозгласить великий принцип терпимости и свободы мысли, осмелился быть предшественником Вольтера, будучи современником Варфоломеевской ночи.
За это одно, помимо всех остальных его заслуг, имя Монтаня, как имя одного из лучших старых друзей, никогда не изгладится из памяти человечества». Далее в первой публикации следует раздел: «IV. Свобода и уединение».
«Люди, — говорит Монтань, — отдают себя внаем со тогда как в этом единственном отношении следует быть скупыми». — Опыты (III, X).
«Посмотрите на солдата со он погружен в праздность и наслаждение». — Опыты (I, XXXIX). Неточно цитируется элегия Тибулла.
…«они нередко следуют за нами в монастыри со (т. е. «в уединении будь толпою для самого себя»)». — Опыты (I, XXXIX). Неточно цитируется элегия Тибулла.
«Избавимся от этих страстных увлечений со соберем их и сосредоточим на самих себе». — Там же.
«По природе своей со Когда я один, я легче увлекаюсь общественными интересами и мировыми событиями». — Опыты (III, III).
«Больше всех остальных пороков, — говорит он, — я ненавижу жестокость и по врожденному чувству, и по убеждению». — Опыты (II, XII).
«Напрасно представляют философию недоступной детям со что она не живет среди этих людей». — Опыты (I, XXVI).
«Я, более чем кто‑либо, чужд этой страсти со глупое и гадкое украшение!» — Опыты (I, XX).
«Я не могу выразить со увлекает наш разум…». «Не только в людях со меньше доброты». — Опыты (III, XII).
…«всеми силами — и зубами, и ногтями, следует удерживать наслаждения со («Ловите наслаждения со звук пустой»)». — Опыты (I, XXXIX).
«Другие люди чувствуют сладость счастья со чтобы достойно прославить Того, Кто дает нам счастье». — Опыты (III, XIII).
«Но от этих мыслей со я очень мало заботился о кончине и еще меньше о деле, которое мне приходится покинуть». — Опыты (I, XX).
Далее в первой публикации: «Правда, он любит изредка посетовать на человеческое ничтожество и слегка взгрустнуть о непрочности людского счастья, но грусть эта — только мимолетные тучи, за которыми светится ровное, спокойное небо».
…«говоря откровенно, люди науки лишены даже простого здравого смысла, со на каждом шагу попадаются в непроходимые дебри». — Опыты (I, XXV).
«С настоящими учеными происходит то же, что с колосьями на ниве со признают свою человеческую слабость». — Опыты (II, XII).
«Вести правильную жизнь со всецело предоставить природе управление и власть над нами?» — Там же.
«Я нахожу со паутину какого‑нибудь ничтожного паука». — Опыты (I, XXXI). Далее в первой публикации: «Это место необыкновенно глубоко и метко формулирует теорию возвращения к первобытному состоянию».
«Естественные законы со „это люди, только что вышедшие из рук богов ». — Опыты (I, XXXI).
«Убив пленника, они его жарят и едят сообща со чтобы изобразить крайнюю степень ненависти». — Опыты (I, XXIII).
…«подобно тому как естественный дневной свет мы заменяем искусственным со наши способности мы заменяем заимствованными». — Опыты (I, XXV).
Далее в первой публикации: «под ее знаменем свободно и удобно проникала в жизнь критика существующих порядков и самый энергичный протест против них. Кроме того, эта идеализация…».
«Я нахожу, что поступки и речи людей из народа со (народ более мудр со в такой степени, как нужно)». — Опыты (II, XVII).
«Среди простых людей со («Среди них, удалившись от нас со свой последний приют»)». — Опыты (II, XXXV). Цитируются «Георгики» Вергилия (II, 473).
«Тот, кто будет нас судить по нашим поступкам со чем среди ученых». — Опыты (II, XII).
«Философия, в конце концов, отсылает нас к примеру какого‑нибудь атлета со необходимыми врожденными качествами». — Там же.
«Бурям доступна средняя область; оба крайние полюса со соперничают в спокойствии и счастии». — Опыты (III, X).
«Какой пример небывалого мужества видели мы в простом народе! со я замечал среди них одну только заботу — о погребении». — Опыты (III).
«К чему вооружаемся мы усилиями тщетного знания? со в постель они ложатся для того, чтобы умереть». — Там же.
«Гениальность — страшная болезнь, со должен неминуемо остаться либо без сердца, либо без таланта». — Цитируется роман «Утраченные иллюзии» (1843) (ч. 2. «Провинциальная знаменитость в Париже»; см.: Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 9. С. 60—61).
Далее в первой публикации: «негодные к реальной жизни, что на них нельзя положиться ни в каком серьезном деле».
Далее в первой публикации: «что они постоянно ищут чего‑то, мечутся, тоскуют, так что вся их жизнь и деятельность похожи на непрерывную, страшную болезнь».
…сцену гибели Лаокоона, описанную в Энеиде. — Речь идет о поэме Вергилия «Энеида» (см.: кн. II, ст. 200—231).
Далее в первой публикации: «и тогда он может плакать от жалости, как самая нежная из троянских женщин, может броситься на помощь Лаокоону, как самый мужественный из героев».
Далее в первой публикации: «В этой роковой противоположности отвлеченно–эстетического взгляда на жизнь и нравственно–деятельного отношения к ней коренится одна из самых главных причин той страшной „болезни гениальности”, внутренней розни, непримиримой борьбы, в которой художественная личность рано или поздно убивает нравственную, если только гений не обладает громадной, титанической силой, необходимой для примирения. Мало того, что художник одарен…».
Далее в первой публикации: «Художник, может быть, иногда и сам хотел бы забыться, жить, как все, верить, как обыкновенные люди верят, всецело отдаться порыву чувства, но никакими усилиями, никакой страстью он не может уничтожить темного, холодного, бесстрастного уголка души, в котором сознание заглядывает в область чувства и разлагает все мечты, все верования, как бы они ни были дороги, наблюдает за ними с таким же равнодушным любопытством, как иногда путник в горах, с ясным, голубым небом над головой, спокойно смотрит на грозу, которая проносится у ног его в долине».
Далее в первой публикации: «Возрастание аналитической способности, чрезвычайно выгодное для художественного творчества, приводит писателя в жизни к мрачному скептицизму, к полному разочарованию в человечестве и в себе, если только опять‑таки поэт не обладает огромной силой любви, прощения, необходимой для того, чтобы победить страшную, разлагающую силу анализа.
В превосходной статье П. Бурже о Флобере есть намеки на третью существенную причину „болезни гениальности”. Дело в том, что поэт переживает жизнь со всеми ее радостями и страстями в воображении гораздо раньше, чем в действительности: мечта рисует ему счастье в таких обаятельных образах, что, когда он встречается с ним в реальной жизни, оно ему кажется и тусклым, и ничтожным. У восточных поэтов есть прелестное сравнение: люди гонятся за своими грезами, как дети за бабочками, но только что удается схватить их руками, как золотая пыль, которая подымала мотылька на воздух, — слетает, бабочка бессильно трепещет ранеными крыльями и уже не может подняться к небу. Поэт любит мечту, пока она далека и невозможна, но только что греза воплотится в жизнь, она в их глазах теряет почти всю свою прелесть: они тратят слишком много души, страсти, силы на ожидание наслаждения, на мечты о нем, так что, когда оно приходит, они оказываются утомленными, холодными, неспособными взять его, и в уме их при сравнении того, что есть, с тем, чего они ожидали, возникает даже в минуты полного удовлетворения страсти вечный, скептический вопрос: „Только‑то?”. В этой злополучной для большинства мечтателей способности предупреждать действительность воображением кроется третья причина того, что „гений пожирает все чувства”, самое сердце поэта, если только он не обладает огромной силой ума, необходимой для того, чтобы трезвым реалистическим отношением к жизни победить в себе зародыши романтического пессимизма.
Итак, эти три причины — во–первых, противоположность эстетического созерцания и волевой нравственной деятельности; во–вторых, чрезмерное развитие и напряженность аналитической способности в писателе; в–третьих, преобладание воображения над впечатлениями, происходящими от внешнего мира, — эти три причины производят тоску, разочарование, глубокую, болезненную раздвоенность, на которую жалуется большинство людей, одаренных резко обозначенным художественным темпераментом. В самом деле, поэт носит в себе два совершенно самостоятельных, иногда враждебных друг другу существа — художника и человека; они постоянно борются, и ареной для их ожесточенного поединка служит внутренний мир, душа поэта. Редко оказывается она достаточно могущественной, чтобы до конца выдержать на себе всю борьбу чрезмерных стихийных сил — искусства и жизни, не дать победить ни тому, ни другой, достигнуть окончательного идеального примирения эстетического и нравственного миросозерцания. К несчастью, этот величайший синтез выпадает на долю лишь очень немногих избранников (Гомер, Шекспир, Гёте) — большинство же делается рано или поздно жертвой страшной внутренней борьбы, остается, — по выражению Бальзака, — „либо без сердца, либо без таланта”».
Речь шла о статье П. Бурже «Гюстав Флобер», вошедшей в состав его книги «Очерки современной психологии: Этюды о выдающихся писателях нашего времени» (СПб., 1888. С. 78—110).
Письма Флобера, — изданные в двух книгах… — Имеются в виду парижские издания 1884 и 1887 гг., названные в подзаголовке первой публикации настоящей статьи.
Далее в первой публикации: «Внутренняя трагическая их коллизия принимает поистине грандиозные размеры благодаря тому, что имеем здесь дело не только с великим талантом, но и с великим характером. С первых же страниц вы предчувствуете неизбежность роковой развязки, и перед вашими глазами развертывается вся эта внутренняя драма так же стройно и величественно, как гениальное художественное произведение.
Мы привыкли смотреть на Флобера как на убежденного последователя теории объективного творчества: он всегда сознательно стремился — насколько успешно — это другой вопрос — к тому, чтобы субъективные мнения писателя как можно меньше отражались на его созданиях: впрочем, этим требованием он вовсе не предполагал в них, как некоторые думают, безличности, отсутствия объединяющей идеи и определенного философского направления: ему только казалось желательным, чтобы художник, по мере сил, старался жертвовать всем, что есть мелкого, случайного, произвольного в его маленьком авторском „я”, в пользу широкого, беспристрастного эпического миросозерцания, и в самом деле, произведения Флобера отмечены печатью объективного спокойствия и высшей гармонии, которые свойственны очень немногим великим писателям. Поэт скрывал свои личные страдания, всю субъективную сторону жизни, нарочно сдерживал, подавлял ее, не давая ей простора в эпических произведениях, как будто стыдился „торговать то гневом, то тоской послушной и гной душевных ран немедля выставлять на диво черни простодушной”; он прятал от людей „болезнь гениальности” со всеми ее муками, подобно тому как спартанский юноша скрывал под одеждой на своей груди зверя, пожравшего ему внутренности. Зато в те минуты, когда поэт не боится быть кем‑нибудь подслушанным, в письме к другу детства, к любимой женщине, к товарищу–писателю помимо воли автора лиризм его внутренней жизни вырывается неудержимой, горячей волной, как слезы, слишком долго сдержанные. Вам просто не верится, чтобы тот же самый писатель, который в эпическом творчестве поражает невозмутимым, холодным бесстрастием жреца во время священнодействия, мог явиться здесь, в этой задушевной исповеди таким же великим, но вместе с тем бесконечно простым, близким, понятным, глубоко страдающим человеком: письма Флобера не только знакомят вас до мельчайших подробностей с интимной внутренней жизнью одной из самых скрытных, загадочных натур, кроме того, они открывают вам в художнике, которого до сих пор вы привыкли считать исключительно эпическим, объективным поэтом, гениального лирика. Лучшие страницы его переписки можно смело сопоставить с самыми вдохновенными лирическими произведениями Мюссе, Шиллера, Гейне». Здесь цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839).
Далее в первой публикации: «Нет такого высокого, самоотверженного порыва, в котором нельзя было открыть при внимательном исследовании хотя несколько атомов фальши, эгоизма, тщеславия, пошлости. Обыкновенные люди не замечают этой примеси, вполне довольствуются внешним впечатлением и ищут только на каждом поступке, на чувстве знакомую этикетку: „героизм”, „любовь к женщине”, „самоотверженность”, подобно тому как люди не очень прихотливые ищут на бутылках только названия знакомых вин, нисколько не опасаясь возможной фальсификации. Но большинство поэтов, на свое несчастье, обладает слишком сильным, точным аппаратом внутреннего химического анализа: только это чувство попадает в него, оно тотчас же теряет весь свой блеск, свежесть и благоухание, разлагается, как самые прочные, яркие ткани линяют и разрушаются под действием серной кислоты. Здесь мы наталкиваемся на вторую причину „болезни гениальности”, о которой говорит Бальзак».
…«если бы у меня в поэтических замыслах со унизительной шутки». — Из письма к Эрнесту Шевалье от 29 августа 1834 г. (VII, 60).
…«будем всегда заниматься искусством со в своей божественной диадеме». — Из письма к Эрнесту Шевалье от 14 августа 1835 г. (VII, 61).
…«человек — ничто; произведение — все» — «I’homme nest rien, /’oeuvre est tout!». — Из письма к Жорж Санд после 20 декабря 1875 г. (VIII, 452). Далее в первой публикации: «С того момента, как в нем пробудилось сознание, до самой смерти, он остался верным бойцом этого принципа».
«Навсегда уйти в искусство и презирать все остальное со по вечерам двух свечей на столе». — Из письма к Альфреду Ле Пуатвену от 13 мая 1845 г. (VII, 113—114).
Через год он советует тому же другу: «сделай, как я, — порви с внешним со почти головокружение». — Здесь неточность. Письмо к Альфреду Ле Пуатвену датировано сентябрем 1845 г. (VII, 124).
Далее в первой публикации: «подобно тому как слабый пламень поглощается и исчезает в более сильном».
…«нет, лучше люби искусство, а не меня со потому что идея одна — бессмертна». — Из письма к Луизе Коле от 2 сентября 1846 г. (VII, 167).
«Искусство со вот единственное, что я в себе уважаю». — Из письма к Луизе Коле от 13 сентября 1846 г. (VII, 172). Далее в первой публикации: «Как все, кто не ставит себе конечной целью воздействие на реальные факты, стремление к общественному идеалу, Флобер принужден искать опоры для своего миросозерцания в метафизическом, сверхчувственном принципе, в так называемом „абсолюте”, который он, конечно, помещает в искусстве. В совершенстве человеческой речи, по его мнению, лучше и полнее всех других форм воплощающей в себе красоту, он с наивностью человека, ослепленного страстью, мечтает найти архимедов рычаг, способный перевернуть весь мир, что‑то вроде философского камня средневековых алхимиков или метафизического „начала всех начал”».
…«самодовлеющий принцип, который так же мало нуждается в какой бы то ни было поддержке, как звезда». — Из письма к Луизе Коле от 12 августа 1846 г. (VII, 153).
«Подобно звезде, — говорит он, — искусство со никогда не исчезнет». — Из письма к Луизе Коле от 30 августа 1846 г. (VII, 167).
…«какая‑то внутренняя сущность, что‑то вроде божественной силы — такое же вечное, как принцип…». — Из письма к Жорж Санд от 3 апреля 1876 г. (VIII, 454).
«Иначе почему же существует необходимое отношение между самым точным и самым музыкальным выражением мысли?». — Там же.
Далее в первой публикации: «Есть что‑то глубоко трагическое в том, как Флобер, сам не веря ни во что, против неверующего века, защищает этот последний, не разрушенный алтарь „Неведомому Богу” с энергией отчаяния, с ожесточением фанатика–жреца, сознающего, что рано или поздно кумир его должен быть низвергнут. „Старайся любить искусство, — пишет он своей подруге, — любить ревнивой, страстной, самоотверженной любовью”». (Цитируется письмо к Луизе Коле от 9 августа 1846 г.; VII, 143).
…«жизнь и мысль которых была лишь слепым орудием инстинкта красоты. со как мы смотрим на муравейник». — Из письма к Луизе Коле от 9 августа 1846 г. (VII, 143).
…«больной, раздраженный со не боясь ни дождя, ни града, ни ветра, ни грома». — Из письма к Альфреду Ле Пуатвену от сентября 1845 г. (VII, 123).
…из биографии Флобера, написанной Мопассаном… — Статья «Гюстав Флобер» (1884) была помещена как предисловие к «Письмам Флобера к Жорж Санд». В русском переводе см.: Мопассан Г. де. Поли. собр. Соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 11. С. 199—247.
Далее в первой публикации: «(G. Flaubert, par Guy de Maupassant). Сейчас мы увидим, каким образом этот громадный перевес эстетической способности над всеми остальными силами души отразился на нравственной личности Флобера, как художник мало–помалу убил в нем человека, как метафизическая формула — искусство выше жизни — уничтожила для него самый смысл жизни, довела его до глубочайшего пессимистического отрицания, напоминающего отвлеченный, безнадежный пессимизм восточных религиозных систем. Здесь мы можем исследовать на живом примере, с каким удобством и точностью, как хирург на анатомическом препарате, все мельчайшие детали, весь последовательный ход „болезни гениальности”…».
…«я анализирую себя и других со я уважаю себя больше других». — Из письма к Максиму Дю Кану 1838 г. (VII, 116).
…«я люблю анализировать — это занятие меня развлекает, со одни — из бриллианта, другие — из жести». — Из письма к Луизе Коле от 8 августа 1846 г. (VII, 142).
Далее в первой публикации: «проходя сквозь эту фантастическую среду, как лучи света преломляются в призме».
«Антитеза постоянно возникает перед моими глазами со прочитанное в книге волнует меня больше, чем действительное горе». — Из письма к Луизе Коле от 8 августа 1846 г. (VII, 134).
«Насколько я чувствую себя мягким со они кристаллизуются в нем». — Из письма к Максиму Дю Кану от 20 марта 1846 г. (VII, 125). Далее в первой публикации: «Художник тратит так нерасчетливо и необдуманно весь свой жар, нежность, чувствительность на фантастическую жизнь, что, когда ему приходится неожиданно столкнуться с фактом реального мира, он может не найти в себе достаточно свежей впечатлительности, чтобы отнестись к нему с той средней степенью отзывчивости, на которую способны даже обыкновенные люди: вот почему в минуты сильной радости, когда по здравому смыслу, по естественному ходу вещей, следует чувствовать полное удовлетворение, поэт иногда напрасно ищет в своей душе искорки этого законного, хотя для приличия необходимого восторга и находит в себе только утомление, непонятное равнодушие и стыд, и страх перед самим собою, что этой радости нет. Таким же образом он способен смотреть с непостижимой для обыкновенных людей холодностью на страдания и даже смерть любимого существа, умом считая их величайшим для себя несчастьем: ему было бы гораздо легче отдаться искреннему, простому горю, как все, плакать обыкновенными человеческими слезами, которые смягчают страдание и утоляют его, но напрасно он ищет в своей душе хоть каплю жалости, любви, сердце его сухо и черство, он ощущает в нем только ужас, равнодушие, пустоту и отвращение к собственному эгоизму, к своей мнимой бесчувственности. Это — то самое состояние, чрезвычайно сложное, болезненное, знакомое лишь натурам с чрезмерно чутким художественным темпераментом, которое Пушкин гениально изобразил в своей дивной элегии».
Напрасно чувство возбуждал я со Не нахожу ни слез, ни пени. — Цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Под небом голубым страны своей родной…» (1826).
…«я был сух, как могильный камень, и только страшно раздражен»… — Из письма к Максиму Дю Кану от 23 или 24 марта 1846 г. (VII, 126).
…«ничего не отнимая от своих ощущений» со «как артист». — Из письма к Максиму Дю Кану от 7 апреля 1846 г. (VII, 127).
«Это меланхолическое занятие со мне приходилось гораздо больше жалеть себя». — Там же (VII, 127—128).
Далее в первой публикации: «обыкновенной задушевной скорби об утрате любимого существа: сквозь обаятельную красоту гениального лирического порыва вы все‑таки невольно чувствуете, что сердце поэта осталось „сухим, как могильный камень, и только страшно раздраженным”».
Далее в первой публикации: «такого громадного подъема чувства, что вы готовы простить автору его странную холодность, отсутствие той мягкой теплоты и нежности, которые делают иногда скорбь даже самых обыкновенных людей человечной и прекрасной. Вот отрывки из этого описания».
«На теле покойника со тысячи воспоминаний из прошлого долетали ко мне с волнами ароматов, с аккордами музыки…». — Из письма к Максиму Дю Кану от 7 апреля 1848 г. (VII, 215—216).
Далее з первой публикации: «Впрочем, насколько в поэтическом созерцании объективность полезна для наблюдателя, ставя его на чрезвычайно оригинальную, возвышенную точку зрения, настолько же в деятельной жизни эстетическая отвлеченность опасна для нравственной личности писателя, гранича с бездушным эгоизмом, с жестокостью. Приведу в пример мелкую, но характерную психологическую черту из писем Флобера».
…«это место со свежие тени под горячим солнцем!». — Фрагмент письма к Луи Буйе от 4 сентября 1850 г. (VII, 291). Далее в первой публикации: «Не правда ли, как от описания, несмотря на его блеск и художественность, веет холодом».
Далее в первой публикации: «эстетическое впечатление от этого, может быть, выигрывает, но представьте себе не поэта, не художника, а живого человека, который с невозмутимым спокойствием, как в театре перед интересной подробностью декорации, надевает пенсне, чтобы лучше полюбоваться фигурой несчастного, протягивающего к нему „клочья своего мертвенно–бледного тела”. Сколько наивной эстетической безнравственности в этом бесчеловечном и вместе с тем для каждого истинного поэта понятном восклицании: „вот куда бы привести колористов!”. Мы увидим, как жизнь отомстила Флоберу, который, опра- вившись от ложной, но необходимо вытекавшей из свойств его темперамента посылки: искусство выше жизни, мало–помалу дошел до отрицания ее смысла, до полного нравственного и политического абсурда; только в области этических и социальных идеалов можно измерить громадность вреда, причиняемого человеческой личности ненормальным преобладанием художественного инстинкта. В силу именно этого нравственного дальтонизма, который является результатом „болезни гениальности”, т. е. слишком отвлеченного эстетического отношения к жизни, такой чуткий писатель, как Флобер, не только не чувствует и не понимает красоты христианского учения, принципов милосердия, любви и равенства, но прямо ненавидит их, отрицает всеми силами души как что‑то чуждое, враждебное, уничтожающее тот смысл жизни, в который ему хочется верить».
Далее в первой публикации: «объявляет он с некоторого рода самодовольством в письме к Жорж Санд, причем он так наивно и грубо смешивает нравственную сущность христианства и средневековую теологию, как самые поверхностные скептики XVIII века. Нечего говорить о научной несостоятельности этого взгляда, но до какого ослепления, до какой несправедливости надо дойти, чтобы идею братства, высочайший принцип, какой до сих пор вырабатывало человечество, сводить к узкому ортодоксальному, католическому представлению „Grace”, т. е. божеского милосердия».
«Я не христианин ()е пе suis pas chretien)», — говорит Флобер в письме к Жорж–Занд. — Из письма от 12 декабря 1872 г. (VIII, 396).
«Идея равенства со право — ничто». — Из письма к Жорж Санд от 8 сентября 1871 г. (VIII, 334).
«Мы гибнем от избытка снисходительности, сострадания, от нравственной дряблости». — Из письма к Жорж Санд от 14 ноября 1871 г. (VIII, 341—342). Далее в первой публикации: «(Vacherie). Наша эпоха подверглась нападкам с самых разнообразных точек зрения, но, кажется, никому еще в голову не приходило обвинять железный век Бисмарка и чудовищного милитаризма, пушек и капиталистической эксплуатации, ожесточенной борьбы партий и национальных побоищ — в избытке чего же? — нежности, милосердия, христианской любви, в которых будто бы заключается главная причина всех наших бедствий. В другом письме Флобер говорит…».
«Я убежден со напрасно проповедуют любовь». — Из письма к Жорж Санд от 4 или 5 октября 1871 г. (VIII, 336). Далее в первой публикации: «Или, может быть, автор считает эту ненависть недостаточной, находит, что во взаимных отношениях классов все‑таки слишком преобладает принцип любви и братства, может быть, он жалеет, что ненавистным ему христианством отнято у богатых юридическое право над жизнью и смертью бедных».
…«Я ненавижу демократию со антисоциальное начало (Гanti‑sociabili- te)». — Из письма к Жорж Санд от 29 апреля 1871 г. (VIII, 312).
«Право милости (вне области теологии) оо помешать исполнению закона?». — Из письма к г–же Роже де Женетт от сентября 1873 г. (VIII, 422). Далее в первой публикации: «Конечно, никто и ни по какому, если понимать справедливость в том ограниченном и вместе с тем абсолютном смысле, как склонен ее понимать Флобер. Шейлок требует перед венецианским судилищем фунта мяса из груди должника. Он ведь тоже прав. На все возражения, исходящие из принципов христианского милосердия, он отвечает: „тот мяса фунт мне дорог, я требую его, откажете — я плюну на законы Венеции, — в них, значит, силы нет”. Интересно знать, на чьей стороне в данном случае оказался бы Флобер: решился ли бы он подтвердить чудовищное требование жида Шейлока своим патетическим восклицанием: „по какому праву кто бы то ни было может помешать исполнению законов?” Конечно, не для метафизиков, не для византийских юрисконсультов и средневековых легистов, а для современных людей с научным миросозерцанием, к каковым себя причисляет Флобер, есть принцип неизмеримо высший официального закона, — закон христианской нравственности — „милость, которая падает как тихий дождь, струящийся на землю из облаков”, и Порция могла бы ответить Флоберу, отрицающему любовь во имя справедливости, как она ответила жиду Шейлоку:
…ты на правосудье Ссылаешься, но взвесь мои слова,
С буквальностью, никто б из нас не мог Спасти тебя. О милости взываем В молитве мы, и милосердным быть Нас эта же молитва научает.
Неужели Флобер, в самом деле, искренне предан дикому, кровавому девизу — око за око, зуб за зуб, который он пишет на своем знамени, поднятом против социального идеала, этой последней веры человечества? Едва ли это так. Кажется, он и сам не верит в метафизический принцип справедливости, на который ссылается только по необходимости». В отрывке цитируется «Венецианский купец» Шекспира в переводе П. И. Вейнберга (акт IV, сцена 1).
…«людская справедливость кажется мне самой шутовской вещью в мире. со Я не знаю ничего нелепее права, кроме разве его изучения». — Из письма к Эрнесту Шевалье от 15 марта 1842 г. (VII, 92).
Далее в первой публикации: «конечно, не потому, чтобы Флобер не чувствовал в нем потребности; напротив, всю жизнь он только и делает, что рвется к чему‑то, ищет, тоскует, мечется, но роковая, неизбежная для таких людей, как он, формула: искусство выше жизни, — эстетическая отвлеченность, „болезнь гениальности” помешали ему найти единственно возможный исход из пессимизма, исход, который заключается в нравственном отношении к жизни.
Сейчас мы увидим, что социальные идеи Флобера так же несостоятельны, как и эстетические. По–видимому, в этой области взгляды его проходят через несколько последовательных фазисов. В молодости он искренне идеализировал Нерона, находил его „величайшим человеком древнего мира (l’homme culminant du monde antique)”. Ему нравится в монархическом строе „обоготворение государя”, он называет это чувство „любовью исключительной, бессмысленной (ab- surde), возвышенной, истинной человеческой”. Но едва ли это не фраза, потому что в другом письме он признается, что в сущности ему нет дела ни до какой политики…».
«В мире для меня существует только одно со какое когда‑либо было». — Из письма к Луизе Коле от 8 августа 1846 г. (VII, 138). Далее в первой публикации: «К старости Флобер как будто делает попытку смягчить свой взгляд, но это ему плохо удается. Он смутно чувствует, что в отношении его к людям что‑то неладно, он даже готов пойти на компромисс с ненавистной ему демократией, но замечательно, что вынужденное признание прав человечества сопровождается самыми откровенными оскорблениями по адресу того же человечества».
«У меня не много убеждений со в ней таятся семена громадной плодородности (d une fecondite incalcuable)». — Из письма к Жорж Санд от 4 или октября 1871 г. (VIII, 336).
«Единственный разумный исход есть правительство со В этой законной аристократии в настоящее время все наше спасение». — Из письма к Жорж Санд от 29 апреля 1871 г. (VIII, 313).
«Человечество не представляет ничего нового, со лжи и фальши (de blagues ecoeurantes)». — Из письма к Жорж Санд от 8 сентября 1871г. (VIII, 333—334). Далее в первой публикации: «„Через три года все французы будут грамотными. Думаете ли вы, что это нас далеко подвинет? Но представьте себе, что в каждой волости будет хоть один буржуа, прочитавший сочинение Бас- тиа, — и положение вещей, конечно, изменится”. Едва ли сам Флобер искренне верит в подобный идеал. Его основная мысль, хотя не в том политическом, изуродованном виде, в каком он мечтает применить ее на практике, может быть, заключает некоторую долю истины. Но беда в том, что автор, одной рукой составляя курьезный проект правительства из ученых мандаринов, другой пишет роман («Bouvard et Pecuchet»)». Роман «Бувар и Пекюше» был написан в 1881 г.
…познакомившись с позитивизмом О. Конта, он нашел эту систему «нестерпимо глупой (cest assomant de bStise)». — Высказывание о книге О. Конта «Опыт позитивной философии» из письма к Луи Буйе от 4 сентября 1850 г. (VII, 289). Далее в первой публикации: «Вера в современную науку, даже простое внешнее уважение к ней едва ли совместимы с подобным отношением к труду одного из ее величайших представителей. Очевидно, что Флобер так же мало верит в знание, как в своих „ученых мандаринов”. Но странно, что писатель, обладавший замечательной чуткостью к политическим сторонам чужих ошибок, не разглядел карикатурности своего собственного политического идеала. В самом деле, сколько наивности в представлении Парижской академии наук в роли римской курии, рассылающей эдикты и буллы, ученых мандаринов, буржуа, восседающих во всех мэриях Франции с сочинениями Бастиа в руках, крестьян, доверчиво приходящих к ним за разрешением проклятых вопросов. Неужели автор серьезно полагает, что достаточно подобной меры, для того чтобы „масса идиотов”, как он называет народ, сочла себя вполне удовлетворенной и облагодетельствованной учеными мандаринами, чтобы престиж социализма был навсегда уничтожен, чтобы рай воцарился на земле и молочные реки потекли в кисельных берегах».
Далее в первой публикации: «Напрасно он сам перед самим собой притворяется, будто бы „уважает толпу за скрытые в ней семена громадной плодородности”, на самом деле он чувствует почти такую же физиологическую ненависть и непреодолимое отвращение к ней, как римский патриций — к рабу, брамин — к парию, американский плантатор — к негру».
«Сколько бы вы ни откармливали зверя–человека со я очень сомневаюсь, чтобы это было возможно». — Из письма к Жорж Санд от конца сентября 1868 г. (VIII, 231).
«Я вижу в настоящее время со я ищу и не нахожй той идеи, от которой должно зависеть все остальное». — Из письма к Жорж Санд после декабря 1875 г. (VIII, 453).
Далее в первой публикации: «Формула — искусство выше жизни — привела его к полному абсурду. Красота не могла дать удовлетворение, вот почему он помимо нее ищет „идеи, от которой должно зависеть все остальное”».
Далее в первой публикации: «ни в прошлом, потому что давно понял ложь и несостоятельность прошлого, ни в настоящем, потому что он оторван от жизни эстетической отвлеченностью, ни в будущем, потому что природе его единственное верование, которое может дать смысл будущему, непонятно и чуждо».
Далее в первой публикации: «отдается ей с отчаянием, как женщина — ласкам любимого человека, когда чувствует, что любовь скоро от нее ускользнет».
Далее в первой публикации: «в тупую, грязную и все‑таки страшно могучую толпу, которую он так ненавидит. Отчего же он не может успокоиться на этой ненависти? Чего ему надо от „человеческого стада”? Какого сочувствия требует он от „массы идиотов”, если в самом деле презирает их? Зачем он так сердится за то, что они не понимают его страданий, порывов, вдохновения? Если красота, действительно, — все, верховный принцип мира, отчего стремление к ней не удовлетворяет его, какой высшей объединяющей идеи требует он от жизни? Слепо, инстинктивно ненавидит он социальную веру, как древние римляне ненавидели христианство, чувствуя, что оно неминуемо, стихийно должно стереть их с лица земли, уничтожить, „как обессиленные щепки победоносных кораблей”. Утонченный патриций с аристократическими вкусами, с объективным, философским, взглядом на жизнь, холодный, отвлеченный эстетик, всеми силами души презирает он „человеческое стадо”, бросает ему вызов, как римлянин Деций:
И в полном праве с высоты Глядеть, как в безотчетном страхе,
Внизу барахтаются в прахе Все эти темные кроты!..
Да, если есть душа вселенной,
Есть божество — оно во мне!
И если, чтоб ему вполне Раскрыться, нужно непременно,
Чтоб гибли тысячи тупых Существ немыслящих, слепых, —
Пусть гибнут!., такова их доля Им даже счастие — неволя!
Лишь с дня, когда он в рабство впал.
Для мира раб — хоть нечто стал!
Но римлянин Деций может спокойно презирать толпу, потому что за ним весь Рим, вся многовековая цивилизация, которая готова подтвердить его вызов». Здесь цитируется трагедия А. Н. Майкова «Два мира» (1872) (см.: Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 618. (Библиотека поэта. Большая серия)).
Далее в первой публикации: «Не принадлежа ни к какой партии, в своих ошибках он остается искренним, глубоко правдивым человеком: на его самых крайних заблуждениях лежит печать рыцарской честности и благородства. Он безгранично презирает обыкновенный, слишком знакомый тип реакционера, ненавидящего социальную веру из‑за недостойных, эгоистических мотивов; ненависть Флобера к массам, к демократии прежде всего бескорыстна, вытекает из романтического идеализма, из ложного, но тем не менее глубоко выстраданного отношения к искусству; он одинок, потому что отрицает социальную веру во имя метафизического принципа красоты; между тем никто из его современников не обладал достаточно героической любовью к этому принципу, чтобы, подобно Флоберу, во имя искусства восстать на все человечество, начать ожесточенную борьбу с целой эпохой, с самой жизнью. Это был одинокий, всеми покинутый боец непонятной религии. И, может быть, в его положении всего ужаснее то, что, презирая толпу, он все‑таки не мог не чувствовать ее громадной, подавляющей, непонятной силы, которая разрушала смысл его жизни, и за это он еще мучительнее ненавидел ее и вместе с тем боялся, бежал, искал спасения в искусстве, но здесь холодное, объективное, эстетическое созерцание не утоляло жгучей, с каждым днем возрастающей жажды жизни, участия, любви».
«Когда я не держу книги в руках со я готов просто кричать», — признается он в письме к Жорж Занд. — Из письма от 20 июля 1873 г. (VIII, 412).
«Мне кажется, что я превращаюсь в ископаемое животное, в существо, лишенное всякой связи с окружающей вселенной». — Из письма к Жорж Санд от конца мая 1870 г. (VIII, 263).
«Чувство всеобщей гибели со так мало мне товарищи». — Из письма к Жорж Санд от 20 июля 1873 г. (VIII, 413).
«Я провожу целые недели, не меняясь словом ни с одним человеческим существом со сердце начинает биться из‑за каждого пустяка». — Из письма к Жорж Санд с 12 на 13 января 1867 г. (VIII, 194).
«Одна только надежда меня утешает со Довольно усталости!». — Из письма к Жорж Санд после 20 декабря 1875 г. (VIII, 453).
Далее в первой публикации: «В этом несмелом признании жажды сочувствия слышится крик о помощи гибнущего человека».
«Напрасно я напрягаю силы со что кажется, я умру от них». — Из письма к Жорж Санд от 15 марта 1870 г. (VIII, 260). Далее в первой публикации: «Что может быть трагичнее этих слез старика Флобера!»
Далее в первой публикации: «И вот, обессиленный, одинокий, он плачет холодными, старческими слезами отчаяния над недоконченной работой. Как бы ни были велики заблуждения гениального писателя, одна подобная минута искупила их».
о parto а тапо а тапо со И я готов упасть, изнеможенный. — Цитируется четверостишие Микеланджело «Jo parto а тапо, а тапо…» (1503—1504) (Frey, XXII; Girardi, 2).
В первой публикации вместо этого абзаца: «Смерть пришла наконец. Она застала его за рабочим столом, как солдата на посту. Нервы и мозг не выдержали страшного напряжения работы. Смерть поразила труженика, внезапная, как громовой удар, и, выронив перо из рук, он упал бездыханный, убитый своей великой, единственной страстью, любовью к искусству.
Он встретил смерть лицом к лицу Как в битве следует бойцу.
Флобер так и умер, не находя исхода. Но раз в жизни, незадолго перед смертью он был так близко, на самом краю, почти касался истины, которая могла бы его спасти, утолить жажду, дать ему счастье. В своей „Легенде о св. Юлиане” — одном из гениальнейших произведений мировой поэзии, он рассказывает судьбу человека, который, подобно ему, искал и не находил смысла жизни, не мог удовлетвориться ни богатством, ни властью, ни любовью женщин, ни славой, ни красотой: он шел, как Флобер, „через бесконечную пустыню, неведомо куда”, — тысячи раз приходил в отчаяние, изнемогал, но наконец нашел единственно возможный, простой исход в любви к людям, в работе для них. Отчего Флобер, сумевший передать лучше, чем кто‑либо из современных художников, эстетическую сторону, бесконечную красоту этого чувства, не понял, что в нем заключается ответ на все вопросы, исход из безнадежного пессимизма, последняя неразрушенная вера, которую он так жадно искал всю жизнь и не мог найти. Прокаженный приходит к Юлиану: „Я голоден”. Юлиан накормил его. „Я жажду”. Юлиан напоил его. „Мне холодно”. Юлиан зажег костер. Прокаженный просится на постель. Юлиан положил его на свое ложе. „Точно лед в моих костях! Ложись возле меня!” — говорит больной, и Юлиан лег рядом с ним бок о бок. „Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела!” Юлиан снял одежду, затем, нагой, как в день своего рождения, снова лег он на постель свою и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему; она была холодней змеиной кожи и шероховата, как пила. „Ах! Я умираю! Приблизься! Отогрей меня, не руками, а всем существом твоим!” Юлиан снова лег на него ртом ко рту, грудью к груди. Тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятьях и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание его ноздрей стало свежей и сладостней благовония розы… Нечеловеческая радость затопила душу Юлиана, а тот, кто все еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал, касаясь руками и ногами обоеих стен палаты. Крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь, лицом к лицу с нашим Господом Иисусом Христом, — уносившим его в небо («Легенда о св. Юлиане», перев. Тургенева).
Кто знает, если автор этого гениального апофеоза христианской любви нашел бы в себе силу отдаться человечеству так же, как Юлиан прокаженному, если бы, победив отвращение, он захотел пожалеть людей не издали, а всем существом своим, так, чтобы, прижавшись к больному рот ко рту, грудью к груди, почувствовать прикосновение гнойных струпьев, „холоднее змеиной кожи”, может быть, „масса”, „человеческое стадо”, грязная чернь, которую всю жизнь он так слепо ненавидел, превратилась бы для него во что‑то светлое, могучее, и он испытал такое же счастье, как Юлиан — в объятиях Христа. Но это, конечно, не могло случиться. В душе его не было места для каких бы то ни было чувств, кроме любви к красоте, эта страсть, — по выражению Бальзака, — „пожрала” в нем сердце и она помешала ему понять другую великую страсть, единственную, которая может нас утолить, — страсть к человечеству». Здесь цитируются строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1839).
Платон в одном из своих мифов рассказывает, как души людей в колесницах, на крылатых конях странствуют по небесному своду… — Речь идет о диалоге «Федр» (246 Ь, с) (см.: Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 181—182).
Далее в первой публикации: «и вот почему —
Долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли».
Цитируется последняя строфа стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел»
(1831).
В одном из юношеских стихотворений оо как о «неприглашенном в гости на пышный пир житейский». — Стихотворение Ибсена датируется 1850 г. Приведено по книге: Г. Ибсен (1828—1888). Биография и характеристика. Соч. Г. Иегера / Пер. с норв. К. Бальмонта. М., 1892. Из этого же источника Мережковским почерпнуты сведения о биографии Ибсена, важнейших этапах его творческого пути, а также воспоминания и отклики родственников и людей, близко знавших его, цитируемые в этой статье.
…читает Саллюстия и речи Цицерона против Катилины… — Имеются в виду «Заговор Катилины» Гая Саллюстия Криспа (41 г. до н. э.) и обработанные самим Цицероном его речи против Катилины, произнесенные в ноябре—декабре 63 г. до н. э. По словам Ибсена, он «с жадностью проглотил эти сочинения и через несколько месяцев» у него «уже была готова драма»: «Как видно из нее, я в то время не разделял воззрений этих двух древних римских писателей на характер и поступки Катилины…» (Предисловие автора ко второму изданию, 1875; см.: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 60). Драма была впервые издана в 1850 г. под псевдонимом Брюньольф Бьярме.
Отмщенья жажду я — за все мечты со За жизнь разбитую — отмщенья! — Цитируются слова Катилины из 2–го действия одноименной драмы Ибсена (1849) (в пер. А. и П. Ганзен; Там же. С. 94).
…пьеса его, оказавшаяся гораздо более по плечу публике и театральной дирекции, чем «Катилина», была принята на сцену… — Имеется в виду драматическая поэма в одном действии «Богатырский курган» (1850) — переработка написанной Ибсеном еще в Гримстаде драмы «Норманны». Поставлена на сцене Христианийского театра 26 сентября 1850 г.
«Воители на Гельголанде» — драма была завершена в 1857 г., поставлена на сцене Христианийского театра 24 ноября 1878 г.
Недаром Брандес («Modeme Geister») со («К общению с людьми со я никогда не имел большой склонности»). — Из письма Ибсена к Г. Бранде — су 1871 г. (см.: Брандес Г. Ибсен // Собр. соч. Г. Брандеса: В 20 т. / Пер. с датского М. В. Лучицкой. СПб., б. г. Т. 1. С. 119). Слова Ибсена в этом переводе: «Я собственно никогда не чувствовал острого пристрастия к солидарности».
«Комедия любви» — пьеса была написана в 1862 г., первая постановка осуществлена в 1873 г.
И Бьернсон в своей «Перчатке», и Л. Толстой в «Крейцеровой сонате»… — «Перчатка» — драма Б. Бьернсона (1883), посвященная женскому вопросу. «Крейцерова соната» — повесть Л. Толстого (1890).
…в «Symposion» Платона… — Имеется в виду диалог Платона «Пир» (380–е гг. до н. э.), содержащий учение об Эросе.
…«отряхнуть прах от ног». — «Отряхнем его прах с наших ног!» — строка из революционной «Новой песни» («Отречемся от старого мира!..», 1875) П. Л. Лаврова, исполнявшаяся на музыку «Марсельезы». См.: Вольная русская поэзия XVIII‑XIX веков: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 190.
Подобно Освальду, — герою «Призраков»… — Речь идет о пьесе Ибсена «Привидения» (1881).
…начинает поэму «Бранд»… — Работа над поэмой началась в 1864 г.; впоследствии произведение было переработано для сцены.
«Враг народа» (1882) — пьеса поставлена в столице Норвегии в 1883 г. В России известна под названием «Доктор Стокман» («Доктор Штокман»).
…заключительных сцен «Норы»… — Имеется в виду драма «Кукольный дом» (1879), за которой в России и Германии закрепилось название «Нора».
…«все, чем мы живем теперь со чисто внешнего свойства». — Письмо из Дрездена от 20 декабря 1870 г. (см.: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 693).
…«в коренном преобразовании всех наших нравственных понятий, всех человеческих отношений». — Из письма Г. Брандесу от 17 февраля 1871 г. (см.: Там же. С. 693—694).
«Женщина моря» («Эллида») — пьеса 1888 г. На русской сцене известна под названиями «Госпожа с моря» и «Дочь моря». Эллида — имя главной героини.
…«Гедду Габлер» и в особенности «Строителя Сольнеса»… — «Гедда Габлер» — пьеса 1890 г.; «Строитель Сольнес» — пьеса 1892 г.
…которые, по уверению Платона, в своих крайних пределах сливаются в одно. — Речь идет о диалоге «Федон» (60 Ь—с) (см.: Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 16).
…принимая, подобно Протею, самые разнообразные формы… — В греческой мифологии Протей является морским божеством, обладающим даром превращения и умеющего принимать облик зверя, воды и дерева. В переносном смысле — непостоянный, изменчивый человек.
…похожа на детоубийцу, на Медею… — В греческой мифологии дочь царя Колхиды Ээта. Полюбив Ясона, многократно спасала его от превратностей судьбы. Узнав о том, что он предпочел ее другой, убивает своих детей.
Посыпал пеплом я главу, /Из городов бежал я нищий… — Цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Пророк» (1841).
«Он с нами пил из общей чаши, как мы, отравлен и велик». — Цитата из стихотворения Я. П. Полонского «Блажен озлобленный поэт…» (1872).
1 Раскольников немного спустя после преступления со она ему кажется нелепою и унизительною. — Пересказ фрагмента из гл. 1 ч. II романа Достоевского «Преступление и наказание» (с. 76—82).
«Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась со до того вдруг опустело его сердце», со «мрачное ощущение со вдруг сознательно сказалось в душе его». — Цитируется гл. 1 ч. II (с. 83).
Когда Порфирий не решается подать руки преступнику со как будто личную ненависть за его подозрения. — Речь идет о фрагменте гл. 5 ч. IV (с. 257—258).
Когда Раскольников с окровавленным топором бежит по лестнице со чтобы преступлени ене могло быть открыто. — Речь идет о фрагменте гл. 7 ч. I (с. 67—70).
Мармеладов перед смертью со «в шелковом, неприличном здесь, цветном платье со с ярким огненного цвета пером». — Пересказ и цитирование гл. 7 ч. II (с. 143—144).
…Раскольников слышит в трактире за биллиардом разговор со все нравственные мотивы до последней подробности подсказаны ему как будто судьбой. — Пересказ фрагмента гл. 6 ч. I (с. 54—56).
Приблизительно в то же время, усталый и измученный со убийство решено окончательно. — Пересказ фрагмента гл. 6 ч. I (с. 52).
…«где‑то на дворе раздался чей‑то крик: семой час давно!» со «точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать». — Цитируется гл. 6 ч. I (с. 58—59).
…незнакомый мещанин, который на улице говорит Раскольникову «убивец». — Из гл. 6 ч. III (с. 212).
…«небо было без малейшего облачка со духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина». — Цитируется гл. 2 ч. II (с. 91).
… «я люблю, как поют под шарманку со а сквозь него фонари с газом блистают». — Цитируется гл. 6 ч. II (с. 122).
…«на последний розовый отблеск заката со на темневшую воду канавы». — Там же (с. 133).
«Огромный, круглый, медно–красный месяц глядел прямо в окна. „Это от месяца такая тишина”, — подумал он». — Цитируется гл. 6 ч. III (с. 215).
…«широкошумные дубровы»… — Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта…», 1827).
«Убей ее и возьми ее деньги со Она чужую жизнь заедает». — Цитируется гл. 6 ч. I (с. 55).
…«тут дело фантастическое, мрачное со убили по теории». — Цитируется гл. 2 ч. VI (с. 352).
«Вот в чем одном признавал он свое преступление со сделал явку с повинною». — Цитируется Эпилог, гл. 2 (с. 418).
…«у меня тогда одна мысль выдумалась со вот вся причина!..». — Цитата из гл. 2 ч. V (с. 323).
«И не деньги, главное, нужны мне были, со Тварь ли я дрожащая, или право имею?..». — Цитируется гл. 4 ч. V (с. 324).
…«казуистика его, — говорит автор, — выточилась, как бритва». — Цитата из гл. 6 ч. I (с. 59).
…«его характеру я никогда не могла довериться <^> А неужели он, неужели же он нас не любит?». — Цитируется гл. 2 ч. III (с. 168).
…в Раскольникове «точно два противоположные характера поочередно сменяются». — Цитата из гл. 2 ч. III (с. 167).
…«нет, те люди не так сделаны со Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!». — Цитируется гл. 6 ч. III (с. 213).
«Потому я… вошь, — прибавил он, скрежеща зубами со ни за что не прощу старушонке!». — Там же (с. 214).
…великого, но, к сожалению, мало известного в России романа Стендаля Le Rouge et le Noir… — Роман «Красное и черное. Хроника XIX века» (1830) ко времени создания этой статьи публиковался в России единственный раз в 1874 г. в сокращенном переводе и с кратким вступлением А. Н. Плещеева (Отечественные записки. 1874. Т. 213. № 3. С. 151—204; № 4. С. 391—428; № 5/6. С. 509—558).
…«Не будь ребенком, Соня… со Зачем я пойду?., не пойду». — Цитата из гл. 4 ч. V (с. 325).
«Преступление?.. Какое преступление?.. со О, как я их ненавижу!». — Цитаты из гл. 7 ч. VI (с. 400, 402).
…«для себя лишь хочет воли». — Слова Старика из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824): «Ты для себя лишь хочешь воли».
…«Более чем когда‑нибудь не понимаю моего преступления! со увидишь; я еще докажу…». — Цитируется гл. 7 ч. VI (с. 401).
…просит Поличку помолиться за него, помянуть и «раба Родиона». — Пересказ фрагмента из гл. 7 ч. II (с. 148).
«Дурнушка такая… собой, со Так… какой‑то бред весенний был…». — Цитируется гл. 3 ч. III (с. 180).
…«бежит подле лошаденки, он забегает вперед со обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы»… — Цитата из гл. 5 ч. I (с. 49—50).
«Поди на перекресток, поклонись народу со с наслаждением и счастием». — Цитируется гл. 8 ч. VI (с. 406).
…«все это были самые обыкновенные и самые частые со молодые разговоры и мысли». — Цитируется гл. 6 ч. I (с. 56).
…в статье О преступлении, напечатанной в Периодической речи. «По–моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия со известными свои открытия всему человечеству». — Пересказ и цитирование гл. 5 ч. III (с. 202).
«— Зачем спрашивать, чему быть невозможно? со кому жить, кому не жить?». — Цитируется гл. 4 ч. V (с. 315—316).
…«с одною логикой, — восклицает Разумихин, — нельзя через натуры перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!». — Цитируется гл. 5 ч. III (с. 200).
…Лизавету, которая была, по выражению Сони, «справедливая и Бога узрит». — Цитата из гл. 4 ч. IV (с. 252)
«Дело ясное, — восклицает Раскольников в негодовании, — для себя, для комфорта своего со для доброй цели». — Цитируется гл. 4 ч. I (с. 38).
«Знаете, — говорит Свидригайлов, который вовсе не склонен к идеализму, — мне всегда было жаль со и в окно выскочит». — Цитируется гл. 4 ч. VI (с. 367).
«Ты великая грешница со с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?». — Цитируется гл. 4 ч. IV (с. 249).
…«пойдем вместе, — говорит он ей восторженно, — мы вместе прокляты со стало быть, нам вместе идти по одной дороге! Пойдем!». — Там же (с. 254—255).
«оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек!» со «уголовное дело со за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь». — Цитаты из гл. 5 ч. VI (с. 372—373) И ГЛ. 2 Ч. IV (с. 230).
«Он ступил шаг со улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния». — Цитаты из гл. 5 ч. VI (с. 380—385).
” «В этом разврате, — говорит он, — есть нечто постоянное со не так скоро зальешь». — Цитируется гл. 3 ч. VI (с. 363).
«Мне все кажется, — уверяет он Раскольникова, — что в вас есть что‑то к моему подходящее». — Цитируется гл. 1 ч. IV (с. 227).
«Да–с… а я… лежал пьянень–кой–с» со «Пожалеет нас тот со Господи, да приидет царствие Твое!». — Цитаты из гл. 2 ч. I (с. 19, 23).
«Шторм был классический, по всей форме со в каюту переменить обувь и белье». — Цитируется гл. V «От мыса Доброй Надежды до острова Явы» т. I книги очерков И. А. Гончарова «Фрегат Паллада. Очерки путешествия» (Т. I‑II. 1858) (II, 250).
«Зачем оно, это дикое и грандиозное? со Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод»… — Цитируется гл. 9 ч. I («Сон Обломова») романа «Обломов» (1859) (с. 79).
…«ближе жмется к земле, но не с тем чтобы метать сильные стре — лы со долговременную жизнь до седины волос и незаметную, сну подобную, смерть». — Там же (с. 80).
…декорация для идиллии Феокритовских пастухов… — Речь идет об идиллиях Феокрита (III в. до н. э.), положивших начало жанру буколической пастушеской поэзии.
«Вон тот холм со перед которыми теснились бы суда с лесом мачт»… — Цитата из гл. I «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» т. II «Фрегата Паллады» (III, 15—16).
…в пустыне, внемлющей Богу… — Реминисценция из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841).
…«в торжественный хваленья час лишь человека гордый глас». — Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1839).
…«звуков небес заменить не могли скучные песни земли»… — Цитата из стихотворения «Ангел» (1831).
…байроновской Тьмы, поглотившей мир. — Имеется в виду стихотворение Байрона «Тьма» (1816).
…«безболезненная, мирная кончина живота»… — Слова из молитвы о даровании непостыдной и мирной кончины.
…«не страшна и смерть со в душу веет неведомое спокойствие»… — Цитата из гл. 6 ч. II романа «Обыкновенная история» (I, 316—317).
…«застала его, так же кротко покоящегося со охраняет сон его». — Цитируется гл. 10 ч. IV романа «Обломов» (с. 377, 376).
Элизиум — в греческой мифологии легендарная, простирающаяся на западном краю земли страна блаженных; райские поля с вечной весной или небольшая область в подземном мире, где живут герои, праведники и благочестивые люди.
«В душе Александра пробуждались воспоминания, со что это — Сион»… — Цитата из гл. 6 ч. II романа «Обыкновенная история» (I, 31). Ниже цитируется эпилог романа.
…«почти не заметил, как Захар раздел его со так и остался в кресле». — Цитата из гл. 12 ч. III романа (с. 290).
…«мерцающую, таинственную ночь», как называет ее Гончаров. — В романе «Обрыв»: «мерцание и тайна, как ночь» (гл. 16 ч. II) (V, 259).
Начали платья они полоскать, и потом, дочиста их со На берег плоский морскою волною, их все разостлали. — Цитата из «Одиссеи» (VI, 93— 95) в пер. В. А. Жуковского (Соч. СПб., 1878. Т. 4. С. 98).
«Хохот разлился по всему обществу со кто‑нибудь подхватит опять — и пошло писать». — Там же (с. 103).
Гончаров описывает комнату Обломова, оо «если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха». — Пересказ и цитирование гл. 1 ч. I романа (с. 10).
«Если книга в богатом переплете оказывалась лежащею на диване со закрывала свет». — Цитируется гл. 2 ч. I романа «Обрыв» (V, 20).
…«Венера Невы, окруженная крещенским холодом»… — О героине романа «Обрыв». Обыгрываются строки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 8, XXXIII): «…теперь окружена / Крещенским холодом она».
«Когда на душе Обломова было спокойно и тихо со попадал ногами прямо в туфли», со «приподнялся было с кресла оо и сел опять». — Цитаты из гл. 5 ч. II романа (с. 8, 147).
«Сашенька привык лежать на спине со лезут под утро». — Цитируется гл. 2 ч. I романа «Обыкновенная история» (I, 60).
…«присмотрите за Евсеем: он смирный и непьющий, да, пожалуй, там, в столице, избалуется — тогда можно и посечь». — Там же (I, 61).
…чтобы жить и «пользоваться жизнью», причем «трудиться казалось ему странным». — Цитата из гл. 5 ч. I романа «Обыкновенная история» (I, 131).
…«нет! если погибло для меня благородное творчество со в этом судьба меня не переломит!» — Цитата из гл. 2 ч. II романа «Обыкновенная история» (I, 200).
«Узкий щегольский фрак со он заменил широким халатом домашней работы». — Цитата из гл. 6 ч. II романа (I, 313).
«Я стремиться выше не хочу оо не хлопотать ни о чем, и быть покойным». — Цитата из гл. 4 ч. II романа (I, 250—251).
«Без малого в осьмнадцать лет»… — Цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 2, X).
«Илье Ильичу со доступны были наслаждения высоких помыслов со Сладкие слезы потекут по щекам его»… — Цитируется гл. 6 ч. I романа «Обломов» (с. 54).
…«другие, мол, не хуже нас, а переезжают» оо «…ему видятся все ясные дни оо сладкая еда да сладкая лень». — Цитируется гл. 8 ч. I романа (с. 71).
…«я любила будущего Обломова! со где ее нет!» со «да, я скуден, жалок, нищ,., бейте, бейте меня!..». — Цитируется гл. 11 ч. III романа (с. 74).
«Равнодушный ко всему на свете со ко всякому безобразию». — Цитируется гл. 17 ч. II романа «Обрыв» (V, 305).
…«нет, из вас ничего не выйдет… со Это все неудачники». — Цитата из гл. 15 ч. II романа (V, 276—277).
…«я урод… я больной, ненормальный человек, и притом я отжил, испортил, исказил… или нет, не понял своей жизни». — Цитата из гл. 4 ч. I романа (V, 31).
«Дядя любит заниматься делом со который он очень любит». — Цитируется гл. 2 ч. I романа «Обыкновенная история» (I, 79—80).
…«разве во мне меньше пыла и страсти оо да и не надо»… — Цитата из гл. 1 ч. IV романа «Обрыв» (VI, 175).
«— Что мне делать с Александром? со я попробую», со «села подле него со после многих бессонных ночей». — Цитируется гл. 6 ч. I романа (I, 172—173).
«Вот пример всякому со Дремлют да живут», оо «какие добрые оо должно быть, хорошо!» — Цитата из гл. И ч. I романа «Обрыв» (V, 85—86).
…«нравилась эта простота форм жизни со в которой приютился человек». со «готова и преподана родителям со как огонь Весты». — Цитаты из гл. 10 ч. II романа «Обрыв» (V, 224).
…«говорит языком преданий со по затверженным правилам», оо «Всякий день был для нее как будто новым оо она ожидала плодов». — Там же (V, 224—225, 226).
«Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему оо чулки со то он поддает Захарке ногой в нос». — Цитата из гл. 9 ч. I романа «Обломов» (с. 111).
…«мы так глубоко вросли корнями у себя дома со и никакие океаны не смоют ее!» — Цитата из гл. I т. I «Фрегата Паллады» (письмо от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.) (И, 70).
«Чего не знаешь, — с наивностью признается Марфинька, — так и не хочется со не хочу никуда». — Цитируется гл. 12 ч. II романа «Обрыв» (V, 253).
«Видно, что ей живется крепко со озаряет не только лицо, всю ее фигуру!». — Цитата из гл. 1 ч. II романа «Обрыв» (V, 157).
«Просить своих подчиненных бабушка не могла со слугой и девкой», со «Различия между „людьми” и господами со в размерах барских понятий». — Цитаты из гл. 7 ч. I романа (V, 64—65).
«Борюшка, ты не огорчай бабушку со да женись на богатой». — Цитируется гл. 10 ч. I романа (V, 80).
«Надо! Он велит смириться со своим грехом»… оо «Милосердствуй над ней оо и идарь опять в мою седию голови». — Цитирование и пересказ гл. 10 ч. V романа (VI, 337–341).
…«я боюсь, — размышляет он — чтобы быть добрым со она весь век трудится». — Цитируется гл. 10 ч. II романа (V, 231).
«Что за нежное, неуловимое создание! — думает Райский про Веру, — какая противоположность с сестрой со прелести и чудес». — Цитируется гл. 16 ч. II романа (V, 289)
…«блестит в глаза эта сияющая, таинственная ночь опасной безотрадной красотой». — Цитата из гл. 10 ч. III романа (VI, 75).
…«дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием со роскошь человека, в которой отказано животному». — Цитаты из гл. 6 ч. V романа (VI, 310).
«Живите вашей жизнью, Марк со Как вразумить вас?». — Цитата из гл. 12 ч. IV романа (VI, 260).
«„Правда и свет” со подходя к часовне», со «молча, глубоко глядела она со Никогда! какое ужасное слово!». — Цитаты из гл. 1 ч. IV романа (VI, 179).
Другой, позднейший предок, в 1775 году способствовал постройке первого русского театра. — Речь идет об участии помещика Ивана Степановича Майкова в открытии в Ярославле деревянного театра.
Древняя семья Майковых дала России оо своими критическими статьями. — Этот фрагмент в ранней редакции: «Древняя дворянская семья Майковых дала России много замечательных людей, послуживших родине на самых различных поприщах. Отец А. Н. был даровитым живописцем. Все братья поэта — тоже более или менее замечательные деятели в литературе или в науке. В России немного найдется таких семей». Этому фрагменту в публикации 1893 г. предшествовал фрагмент, в котором описывалось чтение Майковым своих стихов (см.: О причинах упадка… С. 107—109).
Все детство (род. в Москве 23 мая 1821 г.) Майков провел в имении отца оо среди деревенской природы и семейно–патриархального быта старинных помещиков. — Этого фрагмента в ранних редакциях нет.
Далее в ранней редакции: «Она вытекает из глубокого, древнего, источника — из патриархальной артистической семьи, в которой темные стороны крепостного права и связанной с ними обломовщины уничтожены благородным влиянием искусства и передаваемых из рода в род культурных преданий».
Тому уж больше чем полвека со Ты понял? — Фет и мы с тобой. — Отрывок из стихотворения А. Майкова «Я. П. Полонскому» (1887) (с. 418— 419).
Вместо этого стихотворного текста в ранней публикации: «Муза Пушкина и Лермонтова была не только музой красоты и природы, — она была музой человеческих страстей, борьбы, страдания, всего безграничного и бурного океана жизни. Муза Майкова, Фета и Полонского значительно сузила поэтическую программу Пушкина и Лермонтова. Она боится бурь исторических и душевных, слишком резкого современного отрицания, слишком болезненных и горьких сомнений, слишком разрушительных страстей и порывов. По–видимому, она возобновила в поэзии мудрое правило Горация о мере во всем, об „aurea mediocri- tas” [«золотой середине». — лат.] и поклонилась античному идеалу. Это — муза тихих книгохранилищ, уединенных садов, музеев, семейного очага, спокойных и созерцательных путешествий, мирных радостей и невозмутимой веры в идеал. Положительно люди эти внушают зависть своим здоровьем: тишина патриархального детства и вкусные хлеба помещичьих обломовских гнезд пошли им впрок. Нестареющие певцы, вдохновенные в 70 лет, они моложе молодых поэтов более нервного и мятежного поколения. Если собрать все печали и сомнения, которые отразились за полвека в произведениях Фета, Полонского и Майкова, если делать из этих страданий экстракт, то все‑таки не получится даже и капли той неиссякаемой горечи, которая заключена в двенадцати строках лермонтовского: „И скучно, и грустно, и некому руку подать” и в пушкинском „Анчаре”. Вот в чем ограниченность этого поэтического поколения. Увлеченное служением одной стороне искусства, оно произвольно отсекло от поэзии как „злобу дня” не только преходящие гражданские мотивы, но и все, что составляет помимо красоты важнейшую часть наследия Пушкина и Лермонтова, т. е. вечные страдания человеческого духа, мятежный, неугасающцй огонь Прометея, восставшего на богов. Форма осталась совершенной, содержание обеднело и сузилось. Пушкин и Лермонтов не менее жрецы вечного искусства, не менее артисты, чем Майков, Фет и Полонский, однако это не мешает Пушкину и Лермонтову быть современными и близкими к действительности, понимать и разделять все, чем страдало их поколение. Правда, жизнь их прошла не так спокойно и радостно. Они писали не только в тихих кабинетах, а также и среди горцев на Кавказе, и в цыганских таборах, и с декабристами дружили; не боялись ни бурь, ни пиров, ни вольных страстей, ни отрицания, ни дикой суровой природы, ни смертельных опасностей.
Если Пушкин и спасся благополучно (стихотворение «Арион»), то все‑таки он побывал в грозе, он насладился бурей, он сам говорил, что есть упоение в „разъяренном океане” и „бездне мрачной на краю”. В его песнях не потух, а был насильно потушен мятежный огонь; но все же в них остались крепость, величие и сила души, закаленной в опасностях.
Лермонтов тоже недаром сравнивал поэта с кинжалом, который не на одной груди провел страшный след и „не одну прорвал кольчугу”. Поэт негодует на то, что теперь „игрушкой золотой он блещет на стене, увы! бесславный и безвредный!”
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк,
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножен не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья!
Фет, Майков и Полонский вынули клинок, но отнюдь не на голос мщенья, — они только очистили ржавчину и, не позаботившись наточить его, покрыли хитрыми узорами и надписями, украсили, как ювелиры, золотые ножны с небывалым великолепием драгоценными каменьями и потом, считая задачу оконченной, повесили кинжал опять на прежнее место, чтобы он блистал не игрушкой, а удивительным произведением искусства, безвредный, но не бесславный.
Вкусы различны. Что касается меня, я предпочел бы, даже с чисто художественной точки зрения, влажные, разорванные волнами ризы Ариона самым торжественным ризам жрецов чистого искусства. Есть такая красота в страдании, в грозе, даже в гибели, которой не могут дать никакое счастие, никакое упоение — олимпийским созерцанием. Да, наконец, и великие люди древности, на которых любят ссылаться наши парнасцы, разве были они чужды живой современности, народных страданий и „злобы дня”, если только понимать ее более широко? Я уверен, что Эсхил и Софокл, участники великой борьбы Европы с Азией, предпочли бы, не только как воины, но и как истинные поэты, меч, омоченный во вражеской крови, праздному мечу в золотых ножнах с драгоценными каменьями!..».
…«прислушиваясь душой к шептанью тростников, говору дубравы» оо «размерные октавы». — Из стихотворения «Октава» (1841) А. Майкова (с. 47).
Далее в ранней редакции: «У него нет образа, который не мог бы быть изображен на полотне или даже высечен в мраморе».
Далее в первой публикации: «Не предпочту ли я произведение самого ничтожного поэта самому гениальному современному подражанию на том же основании, как предпочту крохотный живой листок наиболее совершенной подделке?».
И на коленях девы милой со Средь ароматов мирно спит. — Отрывок из драматической поэмы А. Майкова «Три смерти» (1851) (с. 460).
С зеленеющих полей оо В светлый луч не унеслась. (Два мира) — Цитируется трагедия «Два мира» (1872) (с. 590).
Больное, тихое дитя оо «Прекрасна — скажет— жизнь земная! / Богат и весел край земной!» — «На берегах Нормандии» (1858) (с. 150).
В одном антологическом стихотворении… — Имеется в виду стихотворение «На мысе сем диком, увенчанном бедной осокой…» (1840), которое далее цитируется (с. 53).
В день сбиранья винограда со Как когда‑то он любил! (Анакреон) — Цитируется стихотворение А. Майкова «Анакреон» (1852) (с. 120). Этого стихотворения в ранней редакции нет.
Как ты мил в венке лавровом со Как корабль средь волн морских. (Претор) — Цитируется стихотворение «Претор» (1857) (с. 123—124).
Рим все собой объединил со В пустынях — римские дороги! (Два мира) — Из трагедии «Два мира» (с. 553).
Вот жизнь моя! и что ж? ужель оо Но должен я и — буду жить! — Слова Лукана из драматической поэмы «Три смерти» (с. 449—450).
Простите ж, пышные мечтанья! со Средь начатого мирозданья!.. — Цитируются «Три смерти» (с. 456).
…перейти в веру великого Назареянина. — В сборнике «Философские течения русской поэзии» П. Перцов дает следующее подстрочное редакторское примечание к этим словам: «Здесь уместны, может быть, некоторые оговорки в заключениях уважаемого критика. Образ Сенеки в драме „Три смерти”, стихотворения „из гностиков” и мн. др. не позволяет считать творчество Майкова исключительным воплощением языческого материализма. Мистические элементы вливаются, очевидно, широкою волною в эту поэзию. Да и сам „классицизм”, от „Федона” и тускуланских бесед до неоплатоников, далеко не всегда ограничивал свои цели земными стремлениями. „Язычник”, „классик”, по справедливому диагнозу г. Мережковского, — индивидуалист, другими словами, Майков умел понимать и мистицизм древних, окрашивая свой индивидуализм идеалистическими цветами. Если в юных произведениях (в так называемой «антологии») он является певцом яркого материализма, то не следует забывать, что таково обычное настроение молодости. Наклонная ли к „язычеству” или к „христианству” — к индивидуализму или к коллективизму, она одинаково удовлетворена еще землею. Наряду с ликующим песнопением языческой антологии вспомним упрямый материализм наших наивных коллективистов–шестидесят- ников. Но с годами приходят иные требования. Как античный мир, стареясь, искал „неведомого” Бога, так ищет его и майковский Сенека, так смутно угадывают его гностические строфы. Конечно, жертвенник Павла в Афинах не разрешил загадки для Эллады — не решают ее и искания Майкова. Отдельная личность здесь идет тем же путем, каким шел некогда весь родственный ей народ. Песни Анакреона сменяются гимнами „Аполлодора Гностика”. До чистого христианства, до мистического коллективизма здесь, действительно, далеко, но не ближе было и прежнее расстояние от первобытного эпикуреизма до элементарной суровости коллективистов. Это два разных духовных типа, две различные дороги… Не „орлиные крылья” нужны были музе Майкова, чтобы оторваться от классицизма, а лишь другое оперение. Не „бездна” отделяет античный мир от христианского — это две соседние области, хотя изолированные и закрытые друг от друга. Усилия Майкова „перейти в веру великого Назареянина” были больше чем бесплодны — они не нужны. Рядом с беззаботным эгоизмом Люция, рядом с мятежными порывами полупрозревшего Лукана звучит высшая проповедь индивидуализма в устах Сенеки:
Смерть шаг великий! Верь, мой друг,
Есть смысл в Платоновом ученьи —
Что это миг перерожденья.
Пусть здесь убьет меня недуг —
Но, как мерцание Авроры,
Как лилий чистый фимиам,
Как лир торжественные хоры,
Иная жизнь нас встретит — там!
В душе, за сим земным предлогом,
Проснутся, выглянут на свет Иные чувства, роем целым,
Которым органа здесь нет.
Мы — боги, скованные телом,
И в этот дивный перелом,
Когда я покидаю землю,
Я прежний образ свой приемлю,
Вступая в небо — божеством!
Трудно представить себе более точное и яркое выражение мистики индивидуализма, и уже одной этой выписки достаточно, чтобы заметить всю неосторожность утверждения со стороны г. Мережковского, будто для античного мира „земное счастье являлось крайним пределом желаний”, и певец его — влюбленный, как язычник, как индивидуалист, в „красоту плоти” — остался „равнодушным ко всему остальному”. П. Перцов».
Молитесь! Будь благословенье со Чтоб славу в нас Твою явить! — Источник цитаты найти не удалось.
В одной молитве Лермонтова («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»)… — Первая строка стихотворения «Молитва» (1837).
Перечтите у Ренана его чудесный том «Les apotres» или «Saint Paul»… — «Апостолы» (1866) и «Святой Павел» (1869).
…предание о происхождении испанской инквизиции, о королеве Изабелле. — Имеется в виду стихотворение «Исповедь королевы. (Легенда об испанской инквизиции)» (1860).
…в «Житейских думах» со неаполитанский альбом «Мисс Мери». — «Житейские думы» — цикл стихотворений (1850—1859); далее перечисляются стихотворения Майкова: «Грезы. (Отрывок)» (1845), «Барышне» (1846), «Утопист» (1857), «После бала» (1850), «Мисс Мери» — цикл стихотворений (1857—1859).
…«ах, вы всему виною, о розы Пестума, классические розы!..». — Из стихотворения «Розы» (1857) (с. 115).
Откинешься на луг и смотришь в небеса со Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая… — Цитируется поэма «Рыбная ловля» (1856) (с. 351— 352).
Пускай бегут твои балованные сестры… со К сребристой старости был весел, как дитя! — Там же (с. 352).
Однажды старцы Илиона оо В этот миг оо И расступились перед ней. — Пересказ и цитаты из стихотворения «Сидели старцы Илиона…» (1869) (с. 173).
«Пушкин есть явление чрезвычайное оо на выпуклой поверхности оптического стекла». — Цитируется статья Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1832—1834) («Арабески», 1) (см.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. / Под ред. Н. Ф. Бельчикова, Б. В. Томашевского. Л.: АН СССР, 1952. Т. 8. Статьи. С. 50).
…«в последнее время набрался он много русской жизни оо осветить перед ним еще больше жизнь». — Цитируется статья Н. В. Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) («Выбранные места из переписки с друзьями», XXXI) (см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. Статьи. С. 385).
…«Сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России». — «Записки» (с. 13, 91, 266). В достоверном тексте соответствий нет.
Французский посол Барант оо «он мыслит, как опытный государственный муж». — «Записки» (с. 261). В достоверном тексте соответствий нет.
…«Ты записываешь, что говорит Пушкин, оо когда он был еще в лицее». — «Записки» (с. 138). В достоверном тексте соответствий нет.
Далее в первой публикации: «Конечно, у автора „Цыган” и „Медного всадника”, так рассуждали современные почитатели Пушкина, есть кое‑что, кроме воспевания женских ножек и шипучего аи, — но по глубине миросозерцания ему все же далеко до Гёте и Байрона, даже до Гейне и Шелли».
…никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль. ~ Мережковский имеет в виду Пушкинскую речь, произнесенную Достоевским 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности в зале Благородного собрания по поводу открытия памятника Пушкину в Москве (см.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1880. Август. Гл. II. Пушкин. Очерк // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 136—148).
Галуб — «Галубом» в изданиях Пушкина XIX в. называлась неоконченная и неозаглавленная поэма, ныне публикуемая под редакторским заглавием «Тазит»; имя героя новейшими текстологами читается как «Гасуб».
Блажен, кто праздник жизни рано оо Как я с Онегиным моим. — «Евгений Онегин» (гл. 8–я, LI) (VI, 190).
Теперь стою я, как ваятель оо Средь начатого мирозданья! — Цитируется предсмертный монолог Лукана из драматической поэмы А. Н. Майкова «Три смерти» (1851) (см.: Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 456. (Библиотека поэта. Большая серия)).
…жизнеописание Гёте… — По–видимому, речь идет о книге А. Шахова «Гёте и его время» (СПб., 1891), содержавшей наиболее последовательное изложение жизненного пути Гёте в связи с развитием национальной культуры.
Далее в первой публикации: «чтобы могло совершиться единственное в мире триумфальное шествие — жизнь по эта–олимпийца».
…«Я устал подчиняться со свою пошлость, неразборчивость и свое бормотание». — Неточная цитата из письма к А. И. Казначееву от начала июня 1824 г. (XIII, 95).
…«В 1820 году разнесся слух оо Я жаждал Сибири или крепости как восстановления чести». — Из чернового наброска письма к Александру I (XIII, 228).
«На меня и суда нет. оо Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем». — Из письма к В. А. Жуковскому от 31 октября 1824 г. (XIII, 116).
…«Решаюсь для спокойствия со милости от ходатайства вашего превосходительства». — Цитируется письмо от конца октября 1824 г. (XIII, 116).
…«очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по книге о лечении лошадей», — замечает Пушкин. — Цитируется письмо к В. А. Жуковскому от июня—июля 1825 г. (XIII, 186).
Зависеть от властей, зависеть от народа со Вот счастье! Вот права! — Отрывок из стихотворения «Из Пиндемонти» (1836) (III, 420).
…«Я конечно презираю со это чувство». (Письмо к Вяземскому из Пскова, 1826). — Цитируется письмо от 27 мая 1826 г. (XIII, 280).
…«Поэт отделяется от них со уединенных в свете», со «У нас литература со тем не менее их приговоры имеют решительное влияние». — Цитируется статья «Баратынский» (1830) (XI, 186).
…«под моим именем со Булгарину и Гречу!». — Из письма от 9 декабря 1830 г. (XIV, 133).
…«Выжигин приплыл и в Москву со им вместе жить, вместе и умирать». — Из письма к П. А. Плетневу от И апреля 1831 г. (XIV, 161); «Выжигин» («Иван Выжигин») — роман Ф. В. Булгарина (1829).
«Nathalie неохотно читает все, что он пишет со государь к вам благоволит». — «Записки» (с. 311—312). В достоверном тексте соответствий нет.
…«увезите меня в одном из ваших чемоданов со в первой молодости много думал о ней». — «Записки» (с. 340). В достоверном тексте соответствий нет.
Была пора: наш праздник молодой со Теперь не то… — Цитируется стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…» (1836) (III, 431).
«Сочинения Пушкина со это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина». — Из статьи Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. Статьи. С. 54). Далее в первой публикации:
«Короче становился день,
Лесов таинственная сень С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван Тянулся к югу».
Цитируется «Евгений Онегин» (гл. 4–я, XL) (VI, 89—90).
Встает заря во мгле холодной со Трещит лучинка перед ней. — «Евгений Онегин» (гл. 4–я, XLI) (VI, 90).
…«Критик смешивает вдохновение с восторгом со без коего нет истинно великого». — Из статьи Пушкина «Возражения на статьи Кюхельбекера в „Мнемозине”» (1825—1826) (XI, 41—42).
Далее в первой публикации: «в эпоху бесплотной и бескровной метафизики Шелли, демократической и мещански–безвкусной риторики Виктора Гюго».
Далее в первой публикации: «Такова обличительная черта людей упадка, людей прошлого в XIX веке: для них мудрость — отчаяние, смерть, отречение от жизни; тогда как для великих провозвестников будущего возрождения, каковы Гёте и Пушкин, мудрость — смех, солнце, веселие, вечная улыбка Диониса, бога пиров и трагедий».
Что смолкнул веселия глас? со Да здравствует солнце, да скроется тьма! — Цитируется с неточностями «Вакхическая песня» (1825) (II, 420).
…в «страну тени смертной». — Неточная цитата, см.: Иов (10, 22). Далее в первой публикации: «В настоящее время мы достигли конца подземной лестницы, — кажется, дальше идти некуда».
«В тот вечер со для храбрости пошлет за ним». — «Записки» (с. 196). В достоверном тексте соответствий нет.
«Пушкин прочитал нам стихи со в память предка Ганнибала». — «Записки» (с. 396). В достоверном тексте соответствий нет.
Далее в первой публикации: «солнечная улыбка Возрождения не имеет ничего общего ни с демоническим хохотом Мефистофеля, ни с едкою всеразла- гающей иронией Байрона».
Он вечно тот же, вечно новый со Струя и брызги золотые. — Цитата из «Путешествия Онегина» (VI, 204).
Быть может, на ступенях света со Благословения племен. — Цитируется «Евгений Онегин» (гл. 6–я, XXXVII) (VI, 133).
А может быть и то: поэта со Плаксивых баб и лекарей. — Там же (гл. 6–Я, XXXVIII. XXXIX).
Так, полдень мой настал, и нужно оо От жизни прошлой отдохнуть. — Там же (гл. 6–я, XLV) (VI, 136).
«Опять хандришь, — пишет он Плетневу из Царского Села в 1831 году. оо Были бы мы живы, будем когда‑нибудь и веселы». — Неточная цитата из письма к П. А. Плетневу от 22 июля (XIV, 197).
…«Мне отмщение и Аз воздам»… — Римл. (12, 19). Мережковский имеет в виду Л. Толстого; слова «Мне отмщение и Аз воздам» использованы как эпиграф к роману «Анна Каренина» (1877).
Далее в первой публикации: «Он звал людей в буддийскую нирвану жалости, в эту бездну бездн, чтобы, потонув в ней, скрыться от страха смерти».
«Прав судьбы закон, со благословен и тьмы приход». — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 6–я, XXI) (VI, 125—126).
«Я много думаю о смерти», — признается он Смирновой. — «Записки» (с. 340). В достоверном тексте соответствий нет.
День каждый, каждую годину оо Меж них стараясь угадать. — Цитируется стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829) (III, 194).
Пируйте же, пока еще мы тут оо Мы близимся к началу своему… — Неточная цитата из стихотворения «19 октября» (1825) (II, 428).
Покамест упивайтесь ею, / Сей легкой жизнию, друзья!.. — Цитируется «Евгений Онегин» (гл. 2–я, XXIX) (VI, 49).
Здравствуй, племя оо И старую главу их заслонишь… — Цитируется стихотворение «Вновь я посетил…» (1835) (III, 400).
Без неприметного следа оо Напомнил хоть единый звук. — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2–я, XXXIX) (VI, 49).
И хоть бесчувственному телу оо Мне все б хотелось почивать. — Из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (III, 195).
Но не хочу, о други, умирать / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. — Из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье…») (1830) (III, 228).
И пусть у гробового входа оо Красою вечною сиять. — Из стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (III, 195).
Достоевский отметил оо чувствовать себя как дома у всякого народа и времени. — Имеется в виду Пушкинская речь (см.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1880. Август. Гл. II. Пушкин. Очерк. С. 145— 146).
«Чтение поэтов всех народов и веков со одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем». — Из статьи Н. В. Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии…» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. Статьи. С. 383).
Далее в первой публикации: «так же, как всех истинных людей Возрождения, — например Гёте и Леонардо да Винчи».
Уже Баратынский, сверстник Пушкина, высказывал сомнения в благах культуры и знания. — Речь идет о стихотворении Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835).
…«понятным сердцу языком твердит о непонятной муке, и ноет, и взрывает в нем порой неистовые звуки». — Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной…» (1836).
…«в четыре упряжки»… — Имеется в виду разделение Толстым своего дня в трактате «Так что же нам делать?» (1886): «День всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он, по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. Серия I. Произведения. Т. 25. С. 388).
Когда б оставили меня со В пустые небеса. — Неточная цитата из стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума» (1833) (III, 322).
Зовет его взглядом и криком своим со «Давай улетим! со Туда, где гуляем лишь ветер… да я/..» — Цитата из стихотворения «Узник» (1822) (II, 276).
…задумывал поэму из народного быта — «Стенька Разин», героический образ которого давно уже преследовал и пленял его. — Источником сведений являются «Записки»: «Он написал поэму под названием „Стенька Разин”» (с. 70); «Пушкин прочел мне песнь о Стеньке Разине, которую сообщила ему Арина, и две другие, слышанные им в Екатеринославе, в ранней молодости (…) Пушкин хочет переложить все это в стихи; в настоящее время он очень заинтересован Стенькой Разиным; у него пристрастие к этому удальцу» (с. 184). В достоверном тексте соответствий нет.
Далее в первой публикации: «которому суждено было иметь великое значение для его последующего творчества».
Людей и свет изведал он. со Еще искал в подлунном мире. — Цитируется поэма «Кавказский пленник» (1820—1821) (IV, 95).
Далее в первой публикации: «По сдержанной страсти эту поэму можно сравнить с лучшими произведениями Байрона, по спокойному чувству меры — с лучшими произведениями Гёте».
Презрев оковы просвещенья со Ведет кочующие дни… — Цитируется поэма «Цыганы» (1824) (IV, 188).
Останься посреди степей со И пышной суеты наук. — Цитируются добавления к беловой редакции поэмы (IV, 445).
Подобно птичке беззаботной со И ни к чему не привыкал… — Цитата из поэмы (IV, 183). Далее в первой публикации продолжение цитаты:
«Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день Он отдавал на волю Бога,
И жизни не могла тревога Смутить его сердечну лень».
О чем жалеть? Когда б ты знала со И просят денег да цепей. — Цитата из поэмы (IV, 185). Далее в первой публикации продолжение цитаты:
«Что бросил я? Измен волненья,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор».
Далее в первой публикации: «Нужен был гений пушкинской простоты и ясности, чтобы в XIX веке создать нечто подобное».
Далее в первой публикации: «для которой нет закона, нет добра и зла, возвратом к мудрости природы».
К чему? Вольнее птицы младость, со Что было, то не будет вновь. «Я не таков со от прав моих не откажусь». — Цитаты из поэмы (IV, 195).
Ты долга крови не забыл… со И трижды тихо повернул?.. — Цитируется поэма «Тазит» (1829—1830) (V, 77). Далее в первой публикации продолжение цитаты:
«Упился бы его стенаньем,
Его змеиным издыханьем,
Где ж голова? Подай!.. Нет сил».
Далее в первой публикации: «свергающие цепи зла и добра, первобытные галилеяне. Тазит — такой же бесполезный член общества, как цыган: он не способен ни к чему пристроиться, не умеет принять участие в так называемых благах просвещения:
Не научился мой Тазит
Как шашкой добывают злата
— рассуждает Галуб. —
Ни стад моих, ни табунов,
Не наделят его разъезды.
Он только знает без трудов
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с нагайскими быками
И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать».
Но Тазит со В горах один молчит и бродит, со Он любит по крутым скалам со Младые сны его уводят?.. — Цитируется поэма «Тазит» (V, 74).
С его безнравственной душой со Кипящим в действии пустом. — Цитируется «Евгений Онегин» (гл. 7–я, XXII) (VI, 148).
Но я не создан для блаженства со Не тронут сердца моего… — Там же (гл. 4–я, XIV) (VI, 78). Далее в первой публикации продолжение цитаты:
«А будут лишь бесить его…
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней…».
Сменит не раз младая дева со Полюбите вы снова… — Цитируется гл. 4–я, XVI (VI, 79). Далее в первой публикации: «И это первобытное, как сама природа, целомудренное сердце, не умеющее лгать, учит он себялюбивой мудрости:
Учитесь властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
Враги! Давно ли друг от друга со Боится ложного стыда. — Цитируется гл. 6–я, XXVIII (VI, 128—129).
Конечно, быть должно презренье со И вот на чем вертится мир! — Там же (гл. 6–я, XI) (VI, 122).
…«горит и любит оттого, что не любить оно не может». — Цитата из стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829) (III, 158).
То в высшем суждено совете… со Тоску волнуемой души. — Цитируется гл. 3–я, «Письмо Татьяны к Онегину» (VI, 66).
Учитесь властвовать собою, со К беде неопытность ведет. — Цитируется гл. 4–я, XVI (VI, 79).
Не этой девочкой несмелой со Роскошной царственной Невы. — Там же (гл. 8–я, XXVII) (VI, 177).
Княгиня смотрит на него… со Был так же тих ее поклон. — Там же (гл. 8–Я, XVIII) (VI, 179).
Как изменилася Татьяна! со Законодательнице зал?.. — Там же (гл. 8–я, XXVIII) (VI, 178). Далее в первой публикации:
«И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемля томны очи,
Мечтая с ним когда‑нибудь
Свершить смиренной жизни путь».
Далее в первой публикации: «Какие страшные, ненужные насилия во имя долга, во имя чести!».
Ото всего, что сердцу мило со Как я ошибся, как наказан! — Цитируется гл. 8–я, «Письмо Онегина к Татьяне» (VI, 180).
О, кто б немых ее страданий со Теперь опять воскресла в ней! — Цитируется гл. 8–я, XLI (VI, 185).
Онегин, я тогда моложе со Меня преследуете вы?.. — Там же (гл. 8–Я, XLIII, XLIV) (VI, 186).
А мне, Онегин, пышность эта со Я буду век ему верна. — Там же (гл. 8–Я, XLVI‑XLVII) (VI, 188).
Далее в первой публикации: «Здесь поэма обрывается, не разрешая завязанного узла, заставляя читателя угадывать будущее Онегина и Татьяны. Поэт покидает героя „в минуту злую для него”. В самом деле, это злая минута для москвича в Гарольдовом плаще! Еще ни один из мировых поэтов с такою смелостью не развенчивал героя современной культуры».
«Я думаю со „вот единственная книга в мире — в ней все есть”». — «Записки» (с. 91). В достоверном тексте: «Знаешь ли, что Пушкин всегда тоскует весной. Плетнев сказал: „Ты все повторяешь: грустно, тоска, ничего не пишешь и не читаешь”. — „Любезный друг, — отвечал он, — вот уже год, что я, кроме Евангелия, ничего не читаю”» (Смирнова–Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 343).
Барант сообщает Смирновой со «я и не подозревал со что он так много размышлял над Евангелием». — «Записки» (с. 265). В достоверном тексте соответствий нет.
«Религия со создала искусство и литературу со не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности». — «Записки» (с. 162). В достоверном тексте соответствий нет.
«Не могу вам выразить со приближаться к нему», со «Как Пушкин созрел со Он несравненно более верующий, чем я». — «Записки» (с. 245). В достоверном тексте соответствий нет.
К чему, скажите мне, хранительная стража со Пускать не велено сюда простой народ? — Цитируется стихотворение «Мирская власть» (1836) (III, 417).
Но человека человек /Послал к Анчару властным взглядом… со «И умер бедный раб у ног непобедимого владыки…». А царь тем ядом напитал со К соседям в чуждые пределы. — Цитируется стихотворение «Анчар» (1828) (III, 134).
Мы — вольные птицы; пора, брат, пора! со Туда, где гуляем лишь ветер да я! — Цитата из стихотворения «Узник» (II, 276).
Отец Углубленный, провозвеститель Богоматери, Мария Египетская из «Житий святых» (лam.).
Далее в первой публикации: «От первобытной природы не веет на него, как на Гёте, языческим холодом и ужасом Духа земли».
…в гимнах Вед, в книге Ману и в законодательстве Моисея… — «Веды» — памятники древнеиндийской литературы (конец II—начало I тысячелетия до н. э.) на ведийском языке (сборники гимнов и жертвенных формул, теологические трактаты); книга Ману — книга законов Ману (ок. II‑I в. до н. э.) — наиболее известная из «Дхармашастр», сборников предписаний и правил, регламентирующих частное и общественное поведение индийца, а также наставлений по государственному управлению и судопроизводству; законодательство Моисея — т. е. Пятикнижие (первые пять книг Библии, известные также под названием Закона, или учения).
Молчи, бессмысленный народа Ты пищу в нем себе варишь. — Из стихотворения «Поэт и толпа» (1828) (III, 141).
…автор Царствия Божия… — Речь идет о Л. Толстом и его трактате «Царствие Божие внутри Вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1893).
…«procul este, profani»… — Слова, взятые Пушкиным в качестве эпиграфа к стихотворению «Поэт и толпа» (из «Энеиды» Вергилия (VI, 258)).
Нет, если ты небес избранник со А мы послушаем тебя. — Из стихотворения «Поэт и толпа» (III, 142).
Подите прочь — какое дело со Для звуков сладких и молитв. — Из стихотворения «Поэт и толпа» (III, 142).
Во все времена, — говорит Пушкин в беседе со Смирновой, — были избранные, предводители со нет и равенства…». — «Записки» (с. 252—253). В достоверном тексте соответствий нет.
«…Все перемены к добру или худу затевало меньшинство со существует и в природе — неравенства». — «Записки» (с. 259—260). В достоверном тексте соответствий нет.
Далее в первой публикации: «Вызов, брошенный торжествующему духу пользы — духу черни, приобретает особенное значение в устах Пушкина — начинателя той литературы, которая более всех других европейских литератур подверглась демагогическим и утилитарным течениям, которая в этом отношении изменила своему учителю, покинула его в совершенном одиночестве, обратилась против него — не только в лице наивных угодников черни, как Писарев, но и в лице гениальных продолжателей Пушкина, — что в сущности и Гоголь, и Достоевский, и Толстой отошли, замолчали, презрели эту героическую сферу пушкинской мудрости и противоположность довели до односторонних, дисгармонических, иногда прямо болезненных и чудовищных крайностей».
…«Толпа жадно читает исповеди со не так, как вы, — иначе!» — Из письма к П. А. Вяземскому от второй половины ноября 1825 г. (XIII, 244).
Дорогою свободной со Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд… — Из стихотворения «Поэту. (Сонет)» (1830) (III, 223).
Всех строже оценить умеешь ты свой труд, оо И в детской резвости колеблет твой треножник. — Там же.
…душа его «вкушает хладный сон»… — Здесь и ниже цитируется стихотворение «Поэт» (1827) (III, 65).
И он мне грудь рассек мечом со Как труп в пустыне я лежал… — Здесь и ниже цитируется стихотворение «Пророк» (1826) (I, 30).
…«как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час». — Из стихотворения «К морю» (1824) (II, 331).
Далее в первой публикации: «ибо — подлые столь же, как и малые — от всей души ненавидят они единственный закон, освященный единственной, безропотной святыней — волей героя, Божьего избранника».
…То был сей чудный муж, посланник провиденья оо Владыка Запада грозящий предстоял. — Цитируется стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге…» (1824) (II, 311). Далее в первой публикации: «Героическая мудрость вождей и пророков столь же вечная и необходимая форма религии, как всепрощающая мудрость, простота сердца, смирение первобытных людей».
Далее в первой публикации: «что он обладает этим волшебным талисманом, ключом двойственной мудрости, который срезывает все Соломоновы печати, открывает все замки на вратах в неведомые миры истории».
Альгамбра — дворец мавританских владельцев Гранады; памятник арабской архитектуры XIII‑XV вв.
Недаром вы приснились мне оо Вы победили: Слава вам!.. — Цитируются «Подражания Корану» (1824) (II, 355).
Щедрота полная угодна небесам… оо Исчезнут — Господом отверженная дань. — Там же (II, 356).
Он человеку дал плоды оо Открыл сияющий коран. — Цитируются с неточностями «Подражания Корану» (II, 355).
Нет, не покинул я тебя, оо Дрожащей твари проповедуй! — Там же (II, 352). Далее в первой публикации цитата (II, 353):
«Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет —
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом —
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом».
…«Пушкин сказал, что личность Моисея всегда поражала и привлекала его оо „Моисей — титан оо И умирает он один перед лицом Всевышнего”». — «Записки» (с. 195). В достоверном тексте соответствий нет.
…«суть в нашей душе, в нашей совести и в обаянии зла. оо великая философская истина». — «Записки» (с. 210). В достоверном тексте соответствий нет.
Далее в первой публикации: «напоминающих самые мудрые и обольстительно–двойственные из рисунков Леонардо да Винчи».
…«над школою надзор хранящей строго». — Цитата из стихотворения «В начале жизни школу помню я…» (1830) (III, 254).
Но я вникал в ее беседы мало. оо И праздно мыслить было мне отрада. — Здесь и ниже цитируется то же стихотворение (III, 254—255).
Далее в первой публикации: «Для нас, нашедших единство в двойственности, это уже не лживые идолы, не призраки умерших богов, а вечно–живые демоны, два идеала героической мудрости, — ибо на Олимпе их также двое».
…«сей чудный муж со исчезнувший, как сон, как тень зари»… — Здесь и ниже цитируется стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге…» (II, 311).
Зажжем огни, нальем бокалы оо Бессмертья, может быть, залог! — Цитируется «Пир во время чумы» (1830) (VII, 180). Далее в первой публикации продолжение цитаты:
«И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.
Итак — хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!».
Далее в первой публикации: «Недаром Достоевский, исследователь человеческих глубин и мраков отнюдь не робкий, у которого голова не кружится над самыми страшными безднами, — заглянув в глубину этой поэмы, ужаснулся дерзновению Пушкина».
«…свою любовь я продаю оо ценою жизни ночь мою»… — Здесь и ниже цитируются «Египетские ночи» (1835) (VIII, 275).
Александрийские чертоги оо Земным готовятся богам. — Цитата из стихотворения «Клеопатра» (1824) (III, 132).
Внемли же, мощная Киприда, оо Глава счастливцев отпадет! — Цитируются «Египетские ночи» (VIII, 275).
Но тайну прелесть находила /Ив самом ужасе она. — Цитируется «Евгений Онегин» (гл. 5–я, V) (VI, 100). Далее в первой публикации: «Разве могут в одной душе зародиться два таких образа: по выражению Достоевского, идеал Содома рядом с идеалом Мадонны, разве может одно сердце заключить в себе две таких бездны? Да, как в музыке сфер, — бездна отвечает бездне, темное небо отвечает светлому. Сонмы ангелов так же благословляют Единого благословениями, как сонмы демонов — проклятьями, голоса двух бездн сливаются в одну гармонию». Выражение из романа «Братья Карамазовы», слова Мити (кн. 3, гл. III).
…Как некий демон со Я — царствую. — Цитата из драмы «Скупой рыцарь» (1830) (сцена II) (VII, 112).
Далее в первой публикации: «Можно сказать, что в лице Пушкина дух русского народа впервые поднялся на мировую высоту героической мудрости и оглянул тысячелетний путь человечества, от Магомета до Наполеона, от библейских пророков до Байрона, от Моисея, готового разбить свои скрижали, до современного поэта, среди торжества новой черни, пляшущей вокруг Золотого Тельца».
«Я утверждаю, — говорил Пушкин у Смирновой со византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра». — «Записки» (с. 179). В достоверном тексте соответствий нет.
«Петр был нетерпелив, — говорит он в заметке о просвещении России со в сказках и летописях» — Цитата из статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834) (см.: XII, 501; «Ранние редакции»).
«Я роюсь в архивах со Петр был революционер–гигант, но это гений, каких нет». — «Записки» (с. 288). В достоверном тексте соответствий нет.
…«Pierre I est tout a la fois со (воплощенная революция)». — Из статьи «О дворянстве» (ок. 1832) (XII, 205).
Тогда‑то, свыше вдохновенный со Могущ и радостен, как бой… — Цитируется поэма «Полтава» (VIII, 56—57).
Что пирует царь великий со Как победу над врагом. — Цитируется «Пир Петра Первого» (1835) (III, 408).
«Петр не успел довершить многое со еще только в полножны вложив победительный свой меч». — Из статьи «О ничтожестве литературы русской» (XI, 269).
Далее в первой публикации: «быть может, во всей русской литературе нет произведения более вещего, более дерзновенно устремленного к будущему, чем „Медный всадник” — лебединая песня Пушкина».
…«стоят два льва со Евгений». Его отчаянные взоры со Гигант на бронзовом коне. — Неточные цитаты из поэмы «Медный всадник» (V, 142). Далее цитируется то же произведение.
Далее в первой публикации: «с непреклонною суровостью того древнего героического духа, на котором основано — доныне в глубочайших гранитных фундаментах своих незыблемое — миро державное здание римского права».
Далее в первой публикации: «искажавшей арабские комментарии к сочинениям Аристотеля. Точно теперь в первый раз…».
В первой публикации вместо этого абзаца: «До сих пор, за пять веков возобновляющихся попыток Возрождения, только двум всеобъемлющим гениям — Леонардо да Винчи и Гёте, удалось достигнуть этой всеобъемлющей гармонии.
Пушкин, подобно Петру Великому, первый доказал, если не чужеземцам, то нам, русским, что Россия имеет право участвовать в мировой жизни духа. Мало того, — он доказал, что в глубине русского миросозерцания скрываются хотя бы бессознательные и первобытные, но все же великие задатки будущего Возрождения, — той высшей гармонии, равновесия двух миров, которые и для народов Западной Европы являются самым редким плодом тысячелетних усилий мировой культуры».
Пушкин поглотил Евфориона оо и устремился дальше… — Евфорион — сын Фауста и Елены, воплощение стремления ввысь, что становится причиной его гибели (Гёте, «Фауст», часть 2–я, действие 3–е).
«Гений Байрона бледнел с его молодостью оо и первые звуки его уже ему не возвратились». — Письмо к П. А. Вяземскому от 24/25 июня 1824 г. (XIII, 99).
«Это — великий лирик оо нем был в 1826 году». — Цитируются «Записки» (с. 282). В достоверном тексте соответствий нет.
«Фауст стоит совсем особо. оо альфа и омега человеческой мысли со времен христианства». — Цитируются «Записки» (с. 155). В достоверном тексте: «Это правда, я думаю, что в целом мире нет подобного Шекспиру и Гёте в „Фаусте” и в других его трагедиях. Не надобно забыть Лессинга» (Смирнова–Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 456).
…«английские критики оспаривали у лорда Байрона драматический талант <у> служит памятником классической древности». — Из чернового наброска «О драмах Байрона» (1827) (см.: XI, 51).
Далее в первой публикации: «Перелетая через пропасти с бесстрашием, с беспечностью бога, Пушкин не видит их последней глубины. В его произведениях, в разговорах со Смирновой нет намека на то, чтобы он давал себе отчет в дивном равновесии, примирении двух миров, которое совершается в его поэзии и делается, по выражению Гоголя, необычайным, единственным явлением русского духа».
Далее в первой публикации: «Гёте говаривал, что и счастливцы, получающие наследство от природы, т. е. гении, для того чтобы извлечь истинную пользу из этого дара, должны купить право на него собственными усилиями и страданиями, как будто то, что они имеют, им вовсе не принадлежит. Пушкин отчасти купил это право; Гёте — вполне.
Гёте первый сознал неминуемый трагизм всякого Возрождения, противоположности двух миров — христианского и языческого, и необходимость их примирения».
«Ты знаешь лишь одно стремленье, / Другое знать — несчастье для людей. / Ах, две души живут в больной груди моей, / Друг другу чуждые, — и жаждут разделенья! — Из них одной мила земля — / И здесь ей любо, в этом мире; / Другой — небесные поля, / Где духи носятся в эфире» (нелг). Пер. Н. Холодковского.
Du bist dir nur einen Triebs bewust oo Zu den Gefilden hoher Ahnen. — Цитата из «Фауста» Гёте (часть 1–я, сцена вторая; «За городскими воротами»).
Далее в первой публикации: «— самого Гёте. Примирение, которое находит создатель „Фауста”, может быть, уже не вполне утоляет современные „две души”. XIX век с Шопенгауэром, Достоевским, Львом Толстым, Фридрихом Ничше прошел для нас недаром. Мы присутствуем при муках разлада и раздвоения, более глубоких, чем те, которые преодолевает Фауст, мы предчувствуем возможность примирения более всеобъемлющего и гармонического, чем то, которого достигает Гёте. Но во всяком случае Гёте первым выразил борьбу двух начал в создании, имеющем мировое значение, первый сделал великую, сознательную попытку их примирения. В отношении сознательности Гёте выше всех представителей итальянского Возрождения, в котором также христианское и языческое начало мгновениями достигало равновесия и гармонии, но всегда помимо их воли, помимо их сознания. Гёте выше величайшего из них — того, с кем германский поэт имеет так много сходного, по олимпийскому спокойствию, по геометрической точности ума, по дивному синтезу искусства и науки, — я разумею Леонардо да–Винчи. Гёте пошел по пути, указанному создателем „Тайной Вечери”, показал, что искусство и наука, синтез и анализ, вдохновение и разум вытекают из одного источника, служат одной цели, что самый яркий свет сознания, направленный в высшие области художественного творчества, не ослабляет, а, напротив, усиливает его, углубляя бездны, раздвигая пределы бессознательного. Но Гёте жил три века спустя после Винчи; он должен был пойти дальше: ясную разуму сознания, слова, вечного Логоса, автор „Фауста” дал тому, что автору „Codex Adantieus” только смутно мерещилось сквозь немые пророческие образы его пророческих снов, — т. е. единству, побеждающему двойственность я и не–я, знания и веры, язычества и нового мистицизма.
Но, с другой стороны, у Пушкина, который уступает германскому поэту в отношении сознательности, есть одно великое преимущество перед Гёте. В лучших созданиях Гёте встречаются места неживые, от которых веет не высшим метафизическим, а бесплодным, рассудочным холодом. Спокойствие превращается в окаменелую неподвижность, живая ткань истории в археологию, символ в аллегорию. Гёте слишком ограничил и обуздал первобытную стихию — то, что он сам в природе своей называет демоническим. Недостаток примирения языческого и христианского мира во второй части „Фауста” заключается в том, что это примирение только отчасти органическое слияние: в значительной же мере просто внешнее, рассудочное, механическое соединение. Для того чтобы примирить две враждующие стихии, Гёте если и не насилует их, то по крайней мере охлаждает, доводит до неподвижности, кристаллизует, так что слишком часто языческое переходит у него в аллегорию, мифологию, христианство — в схоластическую теологию.
Этого недостатка у Пушкина нет».
«Jenseits von Cut und Bose» — книга Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла. (Прелюдия к философии будущего)» (1885—1886).
Силоамская купель — целебный источник в юго–восточной части Иерусалима у подножия Сиона.
…«может быть; я не мерил количества братской любви со А они были бы нам полезны». — Цитируются «Записки» (с. 148). В достоверном тексте соответствий нет.
…«если мы ограничимся со создадим только „приходскую литературу”». — «Записки» (с. 163). В достоверном тексте соответствий нет.
…неожиданное… — В первой публикации вместо этого слова: «сверхчеловеческое, недоброе, так как смотришь и не узнаешь: он или не он? Правда это или только мерещится ужасающий оборотень, двойник, волк под овечьей шкурой? А великий инквизитор шепчет, с чуть слышным, сумасшедшим хохотом, от которого мороз пробегает по телу».
Далее в первой публикации: «Таково мщение поруганных языческих богов. Когда византийцы творят над ними кощунство, тени олимпийцев превращаются в средневековых вампиров, инкубов, ведьм; пушкинские боги превращаются в „бесов” Достоевского, которые справляют свой шабаш на Лысой горе русского нигилизма. Дельфийский демон — тот, чей „лик был гневен, полон грустью ужасной и дышал неземной силой”, вселяется в полоумного студента, петербургского пролетария, одержимого магией величия, затравленного сыщиками, подражателя Наполеона, убийцу старухи, Родиона Раскольникова. Другой, женообразный, сладострастный, волшебный демон обречен на еще более печальную метаморфозу: он превращается в Карамазова, любовника Лизаветы Смердящей, в Свидригайлова, который ночью перед самоубийством видит в отвратительном кошмаре соблазненную им пятилетнюю девочку».
Далее в первой публикации: «В настоящее время мы давно обтерпелись, привыкли ко всякому уродству и дисгармонии, а так, конечно, все почувствовали бы, как дико и безобразно великий художник сам себя убивал, в самом себе кощунственно попирал дар Бога, всенародно кается в лучшем из созданий своих, как в преступлении: „чем вы любуетесь в «Анне Карениной»”? — говорит он людям, — ведь это разврат, это — языческая мудрость души моей».
Далее в первой публикации: «дельфийский бог силы, гнева и славы, „сей чудный муж, посланник провиденья, свершитель роковой безвестного веленья, сей царь исчезнувший, как сон, как тень зари”».
Далее в первой публикации: «До какой степени героическая сторона поэзии Пушкина не понята и презрена, ясно из того, что два величайших ценителя Пушкина — Гоголь и Достоевский, точно сговорившись, не придают ей ни малейшего значения. Как это ни странно, но, если говорить не о школьных учебниках, не о мертвом академическом признании, Пушкин, единственный певец единственного героя, в стране Л. Толстого и Достоевского, в стране русского нигилизма и русской демократии, до сих пор — забытый певец забытого героя».
Далее в первой публикации: «Каким веселием и благодатным ужасом окружено это сказочное явление богатыря».
У тебя ль, было, / В ночь безмолвную оо И несет свои / Тучи за море. — Здесь и ниже неточные цитаты из стихотворения А. Кольцова «Лес» (1837).
Далее в первой публикации: «эту „черную” осень, безнадежные сумерки демократического равенства и утилитарной добродетели, с унылыми слезами покаяния, смирения и жалости.
Если когда‑нибудь дух Пушкина воспрянет, если явится победитель всемирного разлада, гений высшей гармонии, который увидит солнце Возрождения, он скажет этой тени смертной, этой нависшей над нами темной и грозной туче, языческому безумию Фридриха Ничше, галилейскому безумию Льва Толстого:
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, колебля вершины древес,
Тебя с успокоенных гонит небес».
(Цитируется стихотворение Пушкина «Туча» (1835) (III, 381)).
В Москве в нынешнем году поставлена трагедия Софокла «Антигона» со с излишними сценическими эффектами. — Трагедия Софокла в переводе Мережковского (1892) была поставлена в Московском Художественном театре 12 января 1899 г. Ср. отзывы о постановке: «Поставить „Антигону” так, как ее ставили во времена автора, — вот задача вчерашнего спектакля. На сцене — сцена, перед суфлерской будкой — жертвенник, по обе стороны — хор, на боковых скамьях — музыканты (в плохом трико, но с древнегреческими инструментами в руках), артисты все время принимают пластические позы, самый тон исполнения должен перенести нас в те времена, когда спектакли происходили на площади, под открытым небом (…) Во времена Софокла страшно кричали, потому что под открытым небом нельзя говорить перед многотысячною толпой обыкновенным голосом (…) Уж если восстанавливать древнегреческое исполнение, то нужно было бы прежде всего добиться от артистов, чтобы не только криком и хореографическими упражнениями, а и общим своим душевным настроем они напоминали времена Софокла. Это нелегко. (…) туники древнегреческие, крик древнегреческий, позы древнегреческие, а интонации самые московские. (…) Костюмы, амфоры, жертвенник, декорации — ужасно много тщательности, внимания, труда» (Ар. // Русское слово. 1899. Январь. № 13. С. 3, в рубрике «Театр и музыка»). По словам рецензента газеты «Русские Ведомости», постановка прошла с успехом, «театр был переполнен. Артистов много вызывали. По окончании второго действия г. Санину, режиссировавшему постановкой трагедии, поднесен лавровый венок при дружных аплодисментах публики» (Русские Ведомости. 1899. № 13. 13 января. С. 3 в рубрике «Театр и музыка». Без подписи).
…мелодиями Мендельсона… — В русском театре, как правило, музыкальное оформление спектаклей составлялось из разных музыкальных произведений. Тенденция к целостному, специально для данного спектакля создаваемому музыкальному сопровождению сложилась позднее
…остальные части трилогии — «Эдип–царь» и «Эдип в Колонне». — Мережковский перевел обе трагедии: «Эдип–царь» (с предисловием): ВИЛ. 1894. № 1. С. 5—36; № 2. С. 13—34, отд. изд.: СПб.: Т–во «Знание», 1902; «Эдип в Колонне»: BE. 1896. № 7. Отд. XXII. С. 22—70, отд. изд.: СПб.: Т–во «Знание», 1902 (2–е изд. — 1904 г. и 3–е изд. — 1910 г.).
…в «Ипполите»… — Мережковскому принадлежит перевод «Ипполита» Еврипида (BE. 1893. № 1. Отд. I. С. 5—55; отд. изд.: СПб.: Т–во «Знание», 1902; 2–е изд. — 1903 г.); смысл трагедии он истолковывает в статье «О новом значении древней трагедии» (НВ. 1902. № 9560. 15 окт.).
А есть такой обычай у блаженных со Когда и мне его, богине, жаль! — Здесь и далее цитируется «Ипполит» в переводе Мережковского.
В Петербурге, на частной сцене, предполагается постановка «Ипполита» со бар(онесса) Е. Овербек. — «Ипполит» был поставлен на сцене Алек- сандринского театра 14 октября 1902 г. (режиссер Ю. Э. Озаровский). Баронесса Елизавета фон Овербек, английский композитор, была автором музыки к постановкам на сцене Александринского театра трагедий Еврипида «Ипполит» и Софокла «Антигона» в переводах Мережковского. Перед спектаклем Мережковский прочитал доклад «О новом значении древней трагедии», в которой призывал к религиозному возрождению театра и говорил о превращении театрального действия в мистерию. См. отклики: Беляев Ю. // НВ. 1902. № 9561. октября; РМ. 1902. № 7. Библиогр. отд. С. 221. Без подписи.
Бодлэр видит в теле возлюбленной la charogne, падаль. — Имеется в виду стихотворение Ш. Бодлера «Падаль» из книги стихов «Цветы зла» (1857).
«Прологи» — сборник кратких житий святых, патериковых легенд, поучений и назидательных рассказов, расположенных по месяцам и дням года.
…«звериный крик, вой, рев» рожающей Китти… — Речь идет об эпизоде из романа Л. Толстого «Анна Каренина» (ч. 7, гл. XV) (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Серия I. Произведения. Т. 19. С. 293).
У Гёте Пандора со «Это — смерть» — Из драматического отрывка Гёте «Прометей» (1773) (действие 2–е). Ср. в переводе А. Дейча: Гёте И. — В. Собр. соч.: В 10 Т. М., 1977. Т. 5. С. 83—84.
…как тела гоголевских русалок, сквозь которые светит луна. — Имеется в виду повесть Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831—1832): «Тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце» (V. Утопленница; Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1940. Т. 1. С. 176).
…как Эллис в «Призраках» или видение Клары Милин. — Эллис — фантастическая героиня философской новеллы Тургенева «Призраки» (1864); Клара Милич — героиня повести «После смерти (Клара Милич)» (1883).
«Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая со нто это с тобою слупилось?». — Цитируется рассказ «Живые мощи» (1874) из «Записок охотника» (Складчина. Литературный сборник, состоящий из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874. С. 65) (III, 327). Далее цитируется это же произведение (с. 328— 334).
«Я видел себя юношей со оно и есть лицо Христа». — Из «Стихотворений в прозе» Тургенева («Христос», 1878) (X, 161—162).
…«по–мужицки, по–дурацки»… — Выражение из статьи Л. Толстого «О переписи в Москве» (1882) (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. Серия I. Произведения. Т. 25. С. 181).
…у Достоевского в его высокомерном презрении к «безбожному, гнилому Западу»… — Мережковский приводит обобщенную формулу многочисленных высказываний Достоевского по этому поводу. Об отношении писателя к Западу в последние годы его жизни Мережковский писал в статье «Пророк русской революции. (К юбилею Достоевского)» (Весы. 1906. № 2. С. 27—45; № 3/4. С. 19—47).
Эккерман — секретарь Гёте. Их знакомство произошло 10 июня 1823 г. На основе записей Эккермана в 1836 г. издана книга «Разговоры с Гёте, собранные Эккерманом».
«Я ощущал перед ними страх», — признается Тэккерей, посетивший его в Веймаре в 1831 г. — Речь идет о письме к Дж. Льюису от 28 апреля 1855 г., в котором содержался рассказ Теккерея о визите к Гёте в Веймар: «Goethe in his Old Age», 1855; см.: Александров H. Н. Теккерей: его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891. С. 16—19.
«Ему скоро будет восемьдесят оо он кажется человеком вечной, неразрушимой юности». — «Разговоры» (I, 186).
«Я подал ему лук. оо Иль старость меня покидает? / Или детство вернулось опять?». — «Разговоры» (I, 202).
…влюбился в 19–летнюю девушку… — Имеется в виду Ульрика фон Ле- вецов, одна из дочерей знакомой Гёте, которой в 1823 г. было 17 лет. Гёте сделал предложение, однако родители девушки настаивали на отсрочке на год, которую Гёте воспринял как отказ.
«Мариенбадская элегия» (1823) — второе стихотворение «Трилогии страсти» (1824), значительного лирического достижения позднего Гёте. (Первое стихотворение — «Вертеру», третье — «Умиротворение»).
«— Ах, я научился страдать и терпеть! оо все равно, настоящего сна не будет…». — «Разговоры» (I, 55).
Но вот разговор с Гумбольдтом оо «приятное подтверждение одного из законов своего учения о цветах». — «Разговоры» (I, 59).
«Обнаженное тело было обернуто белой простыней, оо что бессмертный дух уже оставил эту оболочку». — В сокращении цитируется следующий фрагмент: «Обнаженное тело было обернуто белой простыней, подле был положен большой кусок льда, чтобы сохранить его, насколько возможно, свежим. Фридрих отвернул простыню, и я подивился на божественное великолепие этих членов. Грудь была необычайно сильная, широкая и выпуклая; руки и ноги были полные и нежные; следки ног изящны и правильны по форме, и нигде на целом теле не было и следа ожирения, отощания или разложения. Передо мной лежал совершенный человек в полной своей красе, и восторг, который я при этом почувствовал, заставил меня позабыть на миг, что бессмертный дух уже оставил эту оболочку» («Разговоры» (II, 403)).
С природой одною он жизнью дышал. — Строка из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).
«Меня позвали в кабинет императора, оо Вы писали трагедии?..». — «Разговоры» (I, 74—75).
…«Наполеон был молодец (ein Кег!); он находился в состоянии непрерывного просветления». — «Разговоры» (II, 58).
«На таких людях не тело, а бронза», — говорит Раскольников. — Из гл. 6 ч. III романа Достоевского «Преступление и наказание» (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Изд. подгот. Л. Д. Опульская и Г. Ф. Коган. М.: Наука, 1970. С. 213 (Серия «Литературные памятники»)).
О, тяжело / Пожатье каменной его десницы! — Цитата из «Каменного гостя» Пушкина (1830) (сцена III, слова Дон Гуана).
Weh! Ich er/rag’ dich nicht! Горе! Я не могу тебя вынести! — Цитата из «Фауста» Гёте (1, «Ночь»).
«Сегодня, по дороге к Гёте, я узнал о смерти великой герцогини–матери оо высшее существо, которому недоступны земные страдания». — «Разговоры» (II, 243).
«Кто никогда не ел своего хлеба со слезами оо тот вас не знает, Силы Небесные!». — Цитата из 3–го стихотворения цикла «Арфист» (1795) Гёте.
«Меня всегда считали за особенного счастливца оо который надо было снова подымать». — «Разговоры» (I, 84).
Когда узнал о внезапной смерти сына оо «Он был вполне спокоен оо о сыне он не вспомнил ни словом». — «Разговоры» (II, 297—298).
…«потерял шесть фунтов крови оо весьма серьезно», оо «его удивительное сложение и на этот раз одержало победу». — «Разговоры» (II, 299).
«Истину удобно сравнить с алмазом, от которого лучи расходятся не в одну, а во многие стороны»… — «Разговоры» (II, 69).
…как в том страшном царстве Матерей… — Символ созидательного и охранительного принципа, от которого берет свое начало все, чему на поверхности земли дана форма и жизнь. Представления о Матерях как о богинях Гёте, по словам Эккермана, почерпнул у Плутарха, «остальное — выдумал сам».
Versinke denn! Ich konnt auch sagen: steige! / s ist einedei. / Опустись же! Я мог бы сказать: подымись! / Это все равно. — Цитата из «Фауста» Гёте (часть 2, действие 1–е, «Темная галерея»).
«Величайшее искусство, — говорит Гете, — суметь ограничить и уединить себя». — «Разговоры» (I, 166).
«Я много потерял времени на вещи, которые не относятся к моему прямому делу». — Там же.
«Я все больше понимаю, что значит быть действительно великим в одном деле». — «Разговоры» (I, 167).
На небе Кронос пожирает детей своих… — В греческой мифологии Кронос — самый сильный сын Урана и Геи, титан. Как только Гея производила на свет детей, заглатывал их, желая сохранить свою власть над миром.
«Люди будут непрестанно колебаться то в ту, то в другую сторону со Я всегда был роялистом». — «Разговоры» (I, 93).
«К чему нам излишек свободы оо предназначенных ему Богом пределах». — «Разговоры» (I, 223).
«Необходимость возбуждает ум; вот почему мне нравится ограничение свободы печати». — «Разговоры» (И, 9).
«Говорят, что я государев холоп… оо потому что они противны природе». — «Разговоры» (I, 189).
«Шекспир подает нам золотые яблоки в серебряных чашах, а неумелые критики валят в них картофель». — «Разговоры» (I, 219).
«Известия о начавшейся июльской революции дошли сегодня до Веймара оо спора между Кювье и Жоффруа Сен–Илером…». — «Разговоры» (и. 291—293). Речь идет о революции 1830 г. во Франции, приведшей к падению династии Бурбонов.
«Растение развивается от узла к узлу оо прибавляются и заканчиваются головою». — «Разговоры» (II, 144).
«Отныне, при испытании природы со которое указывает движение каждой частице материи»… — «Разговоры» (II, 145).
«Малое знание удаляет нас от Бога, великое приближает к Нему»… — Цитата из «Математических начал натуральной философии» (1864) И. Ньютона.
«Рассудок не достигает природы со открывается в живом, а не в мертвом». — «Разговоры» (II, 146).
«Существуют явления первичные (Urphanomenen), божественную простоту которых разрушать не следует». — «Разговоры» (II, 415).
«Я всегда был уверен, что мир не мог бы существовать, если бы не был так прост». — «Разговоры» (II, 146).
«Высшее, чего может достигнуть человек в познании, есть чувство изумления (Erstaunen)». — «Разговоры» (II, 149).
«— Бог жалеет вопиющих к нему воронят! со Вот что я зову вездесущием Божиим». — «Разговоры» (И, 369)
Матка–малиновка кормит детенышей в клетке со «— Глупый вы человек со и всюду действует вечная любовь». — «Разговоры» (II, 368— 369).
В проповеди св. Франциска «сестрам–птицам»… — Ср. в поэме Д. С. Мережковского «Франциск Ассизский. Легенда» (1891).
…монахи принесли Пару диких горлиц. Их нашли Во поле. Бедные попались в сети.
Чтоб вскормить могли они птенцов,
Гнездышко под кровлей, над дверями Он слепил из глины и сучков Слабыми, дрожащими руками.
…Благословил Франциск Господа за то, что, умирая,
Видел, как рождалась молодая Жизнь, и свет еще сильней любя,
Окруженный мраком вечной ночи,
К. солнцу поднял он слепые очи,
«Господи, благодарю Тебя!..»
…«Бог не почил от дел Своих». — Ср.: Быт. (II, 2): «почил от дел своих». «Разговоры» (II, 395).
И, заходя, остаешься все тем же светилом! — Цитата из поэмы «Деяния Диониса» Нонна (IV‑V вв.). «Разговоры» (I, 122).
«При мысли о смерти, — добавил он, — я совершенно спокоен со никогда не заходит». — «Разговоры» (I, 122).
В разговоре с Фальком в день похорон Виланда он выразил это чувство бессмертия со «— Никогда и ни при каких обстоятельствах со природа никогда не расточает так своих сокровищ…». — «Разговоры» (II, 406).
…свое учение о душах–монадах, сходное с учением Лейбница со «— Минута смерти есть именно та минута со еще буду жить тысячи раз…». — «Разговоры» (II, 409—410). Речь шла об учении Лейбница о монадах («Монадология», 1714); взгляды Гёте изложены Фальком в «Добавлениях» к «Разговорам» (II, 406—416).
«Для меня Христос, — признается он в минуту откровенности, — навсегда останется существом в высшей степени значительным, но загадочным»… — «Разговоры» (II, 208).
Я за тобой не пойду… со кощунствует о Воскресении с возмутительной легкостью. — Имеются в виду «Эпиграммы. Венеция. 1790» (опубликованы в 1796 г.); писались во время итальянского путешествия, закончившегося в Венеции, и вскоре после него; цитируется эпиграмма 103 (см.: Гете И. В. Собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 210); ср.: «„Камень отвален от гроба. Великое чудо! Воскрес он! / Бог наш”. Кто верит? Плуты, вами же он унесен».
…«Сколько бы ни возвышался дух человеческий, высота христианства не будет превзойдена». — «Разговоры» (II, 217).
«Величие Христа настолько божественно, насколько вообще божественное может проявиться на земле». — «Разговоры» (II, 392).
А все же что‑то тут неладно /Затем, что ты не христьянин. — Цитата из «Фауста» (часть 1, сцена 16, «Сад Марты»).
«Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду и не будет меня»… — Пс. (38, 14).
…не опроститься ли со «по–мужицки, по–дурацки»… — См. примеч. 12 к статье «Тургенев», с. 828.
Удрученный ношей крестной со Исходил, благословляя… — Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1855).
Кто вечно трудится, стремясь, /Того спасти мы можем… — Цитата из «Фауста» (часть 2, действие 5–е, сцена «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня»).
«Les origines de la France contemporaine» — «Происхождение современной Франции» (1875—1895).
«Histoire des origines du Christianisme» — «История происхождения христианства» (1863—1883).
Было : двух современных историков, те, в которых видны их личность и темперамент, — всегда.
Далее было: Ни один из прежних историков не был до такой степени поэтом и художником в самых строгих научных исследованиях, как Тэн и Репан.
…(«тайный яд страницы знойной», как говорит Лермонтов)… — Цитата из стихотворения «Журналист, читатель и писатель» (1840).
…«о Христос со Кто же вызовет нас из могилы?» («Rolla»). — Ци- тируется поэма А. де Мюссе «Ролла» (1833).
…отзыв об нем Этьена Пакъе. — При встрече с Монтенем в Блуа в 1588 г. Э. Пакье упрекал его в использовании французских слов на гасконский манер. Этот отзыв он повторил в своем письме от 1619 г. к г–ну Пельже, советнику короля и главе Счетной палаты (Les lettres d’Estienne Pasquier. Paris, 1619. Т. II. P. 377).
…Эмиль. — Имеется в виду педагогический трактат Ж. — Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).
…биография С. Б'ева… — Имеется в виду, видимо, сходство в общественной позиции Монтеня и Сент–Бёва, который уклонялся от прямых столкновений в литературной или общественной борьбе. Один из известных фактов такого рода в биографии Сент–Бёва — отказ от участия в борьбе со сторонниками классицизма в составе кружка романтиков под руководством В. Гюго после Июльской революции. По образному выражению Г. Брандеса, «он был вообще так создан, что глядел на партии, школы, системы как на гостиницы, в которых он останавливался, никогда не распаковывая вполне своих вещей; кроме того, он был всегда склонен к сатире или насмешке над тем, что он оставил, но чему раньше поклонялся» (Брандес Г. Романтическая школа во Франции (начало) // Собр. соч. Г. Брандеса: В 20 т. / Пер. с датского М. В. Лучицкой. СПб., б. г. Т. 9. С. 321).
…шаткость познания происходит тоже от того со моя заметка об этом. — Имеется в виду статья «Мистическое движение нашего века».
Напротив вписано на полях последняя сторона его скептицизма — стоицизм с главой о терпимости. См. 1
…идеализация Ла Боэси. — Одна из глав «Опытов», «О дружбе» (I, XXVIII), посвящена дружбе Монтеня и Ла Боэси.
Гурзон, Диана де Фуа — жена Луи де Фуа, графа Гюрсона. Луи де Фуа и два его брата с юных лет были близкими приятелями Монтеня.
…в переводе знаменитого Амио… — Амио перевел на французский язык все сочинения Плутарха, роман Лонга «Дафнис и Хлоя» и другие античные произведения. Особенно знаменит его перевод «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (1559), который высоко ценил Монтень (см.: Опыты, кн. II, гл. IV «О любознательности»).
…Nizard. His(toire) de la litterature frangaise… — «История французской литературы» (Т. I. Paris: Firmin‑Didot, 1844).
Паскаль утверждал, что «Опыты» Монтаня книга «вредная, безнравственная, полная слов грязных и позорных»… — В «Мыслях» (I, 77).
Паскаль сказал про Монтаня: «не в Монтане я нахожу то, что в нем вижу, но в самом себе» (Се п ent pas dans Montaigne со je trouve ce que fe vois). — Там же (I. 79).
Паскаль о Монтане: «Laisser aux autres со agir comme les autres». — «Предоставить другим заботу искать истину и добро; пребывать в покое; вскользь упоминать о причинах из опасения уйти вглубь против своей воли; не преследуя упорно истину и добро из опасения, что они не проскользнут сквозь пальцы; следовать общим понятиям; поступать, как другие» (фр.). Цитируется «Беседа с господином де Саси об Эпиктете и Монтене» (1655) Паскаля.
«Vous etes ип homme. Das war ein ganzer Kerl!». — Вы человек (фр.). Совершенный человек (нем.).
«Wer те sein Brot mit Tranen ass». — Кто никогда не ел хлеба своего со слезами (нем.).
«Wer immer strebend sich bemiiht, Den konnen wir erldsen». — «Кто вечно трудится, стремясь, Того спасти мы можем» (нем.).
I. 16. — «Мужественное загорелое лицо в складках, и каждая складка полна выражения» вписано
«Правда и поэзия» — автобиографическая книга Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда» (Ч. 1—4, 1811—1833).
…il nest plus maftre de Г instant quand va le soire. — он больше не хозяин мгновения, когда наступает вечер (фр.).
Гете — Марфа, которая печется о многом. Часть Марии благая — не его часть… — Речь идет о Марии, сестре Лазаря, воскрешенного из мертвых Господом. В Евангелии от Луки — Мария «сидела у ног Иисуса и слушала слово, тогда как Марфа заботилась о большом угощении» (10, 39).
«Mir bleibt Chnstus immer ein hochst bedeutendes, aber problematisches We- sen». — Для меня Христос навсегда останется существом в высшей степени значительным, но загадочным (нем.).
«Mag die geistige Kultur nur immer fortschreiten, — iiber die Hoheit und sitt- liche Kultur des Christentums, wie es in dem Evangelium schimmert und leuchtet, wird es nicht hinaus kommen». — Духовная культура должна всегда продвигаться вперед, — о величии и моральной культуре христианства, которая становится явной в Евангелии; это оттуда не исходит (нем.).
«Kein Wesen kann zu nicht zerfalien». — Ни одно существо не может распасться в ничто (нем.). Имеется в виду запись от 15 мая 1831 г.: «В то же время Гёте окончил два замечательные стихотворения: Перед черепом Шиллера и Kein Wesen капп zu nicht zerfallen. Он пожелал обнародовать и эти стихи, и мы поместили их в конце обоих отделов».
Спенсер в своей статье о музыке… — Речь идет о статье «Происхождение и назначение музыки» (1857).
Г–н Чехов, издавший в прошлом и нынешнем году две книжки новелл… — Имеются в виду издания: Антон П. Чехов. В сумерках. Очерки и рассказы (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1887) и Антон Чехов. Рассказы (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1888).
…«с нею одною жизнью дышал оо чувствовал трав прозябанье» оо «была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна». — Из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).
«Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо оо сущность жизни представляется отчаяннойТ ужасной» («Степь»). — «Рассказы», с. 186..
Есть прелесть бездны на краю. — Неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830): «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю»
«Позади сквозь скудный свет звезд оо темной, безгранично глубокой и холодной ямой» («Враги»). — «В сумерках», с. 234.
…«какой‑то мягкий махровый цветок оо он не спит»… — Цитируется рассказ «Агафья» («В сумерках», с. 211).
…«золотые полосы вечерней зари оо располагаются на ночлег». — Ци- тируется повесть «Степь» («Рассказы», с. 185).
«В жизни ничего нет дороже людей!» — восклицает один из его героев… — Цитируются слова Огнева из рассказа «Верочка» («В сумерках», с. 93).
«Это маленький, тщедушный человек оо крайне неопределенными чертами». — «В сумерках», с. 12.
«Так меня приспособили оо слова сказать», оо «…Живу по писанию оо кушаю по благовремении». — «В сумерках», с. 16.
… «я так о себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё… оо благородный господин»… — «В сумерках», с. 17.
…«на траве виснут тусклые недобрые слезы со стройных длинноносых кроншнепов!» — «В сумерках», с. 13.
«Совестно! Боже, как совестно!.. со Даже перед престолом…». — «В сумерках», с. 264—266.
«Абогин и доктор стояли лицом к лицу со способны понимать друг друга». — «В сумерках», с. 243.
…«красу долин, небес и моря»… — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и Гражданин» (1856).
…«вдохновение, звуки сладкие, молитвы»… — Образы из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
…в личности армейского офицера, мечтающего об идеальной и несуществующей «сиреневой барышне»… — Речь идет о штабс–капитане Рябови- че, герое рассказа «Поцелуй» (1887).
…«бегал в Америку, уходил в разбойники, просился в монастырь, нанимал мальчишек, чтобы они его мучили за Христа». — «В сумерках», с. 156.
…«что у каждой науки есть начало со как у периодической дроби», со «Ведь я, сударыня со рвала на части мое тело». — «В сумерках», с. 159—160.
…«изнывал от тяжкого, беспорядочного труда со по Архангельским и Тобольским губерниям». — «В сумерках», с. 160.
…«резать, жечь — вникать иль изучать… со Резать будешь или жечь?..» — Цитируется стихотворение Я. П. Полонского «В прилив» (1872).
…«подобно тому, — от себя уже замечает г. Чехов со проплыл океан». — «В сумерках», с. 168.
…«так и веет безмятежностью со спустя рукава», со «хуже всякого бобыля». — «В сумерках», с. 206—207.
…«в сторожа и пугало общественных огородов, со было как раз по его натуре». — «В сумерках», с. 207.
…«любопытно… Про что ни говори, все любопытно. Птица теперя, человек ли… камешек ли этот взять — во всем своя умственность!..». — «В сумерках», с. 209.
…«остается одна только бледно–багровая полоска со как уголья пеплом» со «кажется, звучат и чаруют слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядящие с неба». — «В сумерках», с. 210—211.
«Этого симпатичного поэтического человека со кроткими и грустными чертами лица». — «В сумерках», с. 286.
…(«гордый демон так прекрасен, так лучезарен и могуч»)… — Цитата из стихотворения А. Майкова «Ангел и демон» (1841) (см.: Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 77. («Библиотека поэта». Большая серия)).
«Вера (имя девушки) была пленительно хороша со книг и истин…», со «как ни рылся в своей душе, не находил даже искорки». — «В сумерках», с. 106.
…«Это не рассудочная холодность со номерной, бессемейной жизни». — «В сумерках», с. 110.
…«опытный правовед, полжизни упражняющийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях»… — «В сумерках», с. 61.
«Chatiments» Виктора Гюго… — «Возмездие» (1853), книга политических стихотворений В. Гюго.
«Не мне управлять песнопевца душой» со «Он высшую силу признал над собой со При звуках воспрянув, пылает». — Цитата из баллады Ф. Шиллера «Граф Габсбургский» (1803) в пер. В. А. Жуковского.
«Все, что он мне говорил со бесчеловечным грабителям». — Цитата из автобиографической книги Руссо «Исповедь» (ч. I, кн. IV) (т. 3, с. 1730— 1731).
«Кто, кроме нас двоих со вот лучшие из всех приправ!». — «Исповедь» (ч. II, кн. VIII) (т. 3, с. 1748—1755).
…«мне до такой степени приедались салоны со и румяны, и фалбалы, и амбру». — «Исповедь» (ч. II, кн. IX) (т. 3, с. 1756).
Нам кажется, что автор желает здесь подчеркнуть ту сторону психической жизни Руссо, которую точнее было бы назвать не «переворотом внутренней психической жизни», а чересчур большой субъективностью или просто рефлексией, т. е. перевесом созерцания собственных душевных процессов и явлений над наблюдением и обдумыванием процессов внешнего мира, откуда и является чересчур субъективное отношение ко всему внешнему. — Примеч. ред.
Подобно Руссо, который оклеветал однажды из боязни позора невинную девушку со неблаговидных поступков… — Перечисляются факты биографии Руссо («Исповедь», ч. I, кн. II, IV; ч. II, кн. VII).
…«стоило какому‑нибудь вождю со можно было в нем насчитать». — Цитата из «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (часть вторая) (Трактаты, с. 93).
…«скорее пятьдесят пешеходов будут раздавлены, чем один бездельник остановится в своей золоченой карете……. — Из трактата «О политической экономии» (Трактаты, с. 136).
…«всякое мышление по природе своей противоестественно; человек мыслящий не что иное, как развращенное животное». — Цитируется «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (часть первая) (Трактаты, с. 51).
«Добро, справедливость, великодушие со священное слово „родина». — Цитируется «Рассуждение по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (часть вторая) (Трактаты, с. 25).
«Великие философы со отплатят вам за них!». — Цитата из «Рассуждения по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (часть вторая) (Трактаты, с. 27).
…«пусть все погибнут, только бы мне было спокойно со голос возмущенной природы». — Цитата из «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (часть первая) (Трактаты, с. 66).
…«не подкупит весь этот блеск со под колесом или на куче навоза». — Цитата из Примечания к трактату «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (Трактаты, с. 104).
…«если в этих книгах говорится не то, что в Алкоране со в жизни знаменитого папы». — Цитирование подстрочного примечания к «Рассуждению по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (часть вторая) (Трактаты, с. 28).
…идеалы феодального строя, столь «абсурдного», по выражению самого Руссо… — Выражение из гл. IV «О рабстве» кн. I трактата «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (Трактаты, с. 157).
…родоначальника реакционной литературы эмигрантов, как называет ее Брандес. — Из гл. «Литература эмигрантов» кн. Г. Брандеса: Главные течения в литературе XIX века. Лекции, читанные в Копенгагенском университете: В 4 ч. М., 1881. Ч. 1 / Пер. А. Штродмана. С. 15.
«Никогда не случалось со какого‑нибудь великого переворота». — Цитата из гл. VIII «О народе» кн. II трактата «Об общественном договоре» (Трактаты, с. 182).
…«предоставим наукам и искусствам смягчать нравы людей со чтобы они не пожирали наших детей». — Цитируются «Фрагменты и наброски. [О роскоши, торговле и ремеслах]» (Трактаты, с. 434).
…«они сумеют, — по собственному выражению Руссо, — скрыть железные цепи под гирляндами цветов». — Цитата из «Рассуждения по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (часть вторая) (Трактаты, с. 29).
«Естественное призвание человека, — пишет Сен–Пре в «Новой Элои зе» со дают самые верные средства к защите». — Цитата из Письма XXIII ч. I эпистолярного романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) (т. 2, с. 53).
…«они сумеют, — по собственному выражению Руссо, — скрыть железные цепи под гирляндами цветов». — Цитата из «Рассуждения по вопросу: Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (часть вторая) (Трактаты, с. 29).
…учение о «власти земли» Гл. Успенского… — Имеется в виду цикл очерков Г. Успенского «Власть земли» (1883).
…«зависимость же от людей» со «будучи неестественной со развращают друг друга». — Цитата из «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (часть вторая) (Трактаты, с. 81).
«То искусство со ближе к самостоятельности». — Цитируется «Проект конституции для Корсики» (Трактаты, с. 280).
…по описанию Лабрюйера, «только когда встают на ноги, проявляют человеческий образ». — Цитата из книги Ж. де Лабрюйера «Характеры, или Нравы нынешнего века» (1688) (гл. XI «О человеке», 128) (в рус. пер. Э. Линецкой и Ю. Корнеева, см.: Лабрюйер Ж. де. Характеры. М.; Л., 1964. С. 263).
…«для народа недоступны со возлагаемых на личность законом». — Цитата из гл. VII «О законодателе» кн. II трактата «Об общественном договоре» (Трактаты, с. 181).
…«великие государственные принципы недоступны ему (пе sont pas а sa portee)»… — Там же.
…«так дольше жить нельзя»… — Заключительные слова стихотворения А. А. Голенищева–Кутузова «Так жить нельзя! В разумности притворной…» (1884).
…старик Аким, несмотря на то что он пересыпает речь косноязычным «таё» и занимается очисткой выгребных ям… — Имеется в виду герой пьесы Л. Толстого «Власть тьмы» (1887).
…«глаза лихорадочно загорались со волосы поднимались на голове дыбом» со Иду!., со Иду обличать нечестивых!» — «Очерки и рассказы», с. 23—24.
«Можно сказать с уверенностью со сопровождавшей новоявленного пророка…». — «Очерки и рассказы», с. 24.
«Макар, тот самый Макар со говорил убедительно». — «Сон Макара. (Святочный рассказ)» («Очерки и рассказы», с. 132).
«Он ему не подчинится со бьют отовсюду жестокие метели». — «Очерки и рассказы», с. 133—134.
«Он было понурил голову со в сердце его истощилось терпение», со «Тогда в его душе стало темно со забыл все, кроме своего гнева…». — «Очерки и рассказы», с. 136—137.
«Лес шумит» — рассказ Короленко «Лес шумит. (Полесская легенда)» опубликован в книге «Очерки и рассказы» (с. 138—174).
……. собственно, держат его в одиночке за непризнание властей со Собственно, для обличения». — «Очерки и рассказы», с. 203.
……. стою за Бога, за великого Государя, за Христов закон со поступал так „для души»». — Там же.
……. отрекись, вишь, от Бога со души в нем живой нету!». — «Очерки и рассказы», с. 206.
…«он успел своим неукротимым стуком раздражить им нервы со „Думаете, заперли со поддерживает меня Бог–от!”». — «Очерки и рассказы», с. 210—211.
…«Веры какой? — Никакой. — Как никакой?! со За то и суж- ден…». — «Очерки и рассказы», с. 225.
…«Чудак! Пра–а, чудак! со Он бесстрастно исповедует свое „ничего” перед врагами этого оригинального учения». — «Очерки и рассказы», с. 227.
…«В четырех стенах за решеткой со какие‑то смутные чувства…» (Северный Вестник, 1888, №2). — Цитируется рассказ «По пути» (с. 12), однако приведены выходные данные рассказа «За иконой».
«Человека я хорошего, настоящего не видал со в понятие войти, в добродетель?..». — «По пути» (с. 18).
…«Эх, барин, говорю тебе, на такую линию поставлен… со надо мне жизни своей конец сделать…». — «По пути» (с. 19).
«Посадил меня отец к оконцу: ну–ко, говорит, Яша! со и весь пролезешь». со «Не лезет, говорю со „Тятька, кричу со Голова‑то пролезла”». — Там же.
«У нас, барин, — объясняет он Залесскому со никогда не жаловались…». — «По пути» (с. 21).
«Что он не более, как ничтожная случайность со боли человеческого сердца…». — «По пути» (с. 20).
…разрабатывает комическую, донкихотовскую сторону протеста в личности сапожника Андрея Ивановича («За иконой». Северный Вестник, 1887, №9). — Речь идет о рассказе «За иконой», однако приводятся неверные выходные данные.
«Работник он был примерный со „Я так об них полагаю со всех бы их запретил'’». — «За иконой» (с. 10).
«Быть может, — говорит автор, — в своих религиозных взглядах со более развитые люди», со…«инстинктивное, искреннее искание со учения человечности и любви». — «За иконой» (с. 31).
«Я люблю со Разливы рек ее, подобные морям», со «дрожащие огни со чету белеющих берез». — Цитаты из стихотворения «Родина» (1841).
«Давай, улетим! со туда, где гуляем — лишь ветер да я!» — Цитируется стихотворение «Узник» (1822).
«Ты, барин, генерала Кукушкина не знаешь, видно? со Тут мы, бродяги, к нему и собираемся». — Цитируется рассказ «По пути» (с. 19).
«Теперь я уже знаю, — говорит автор, — привычный бродяга обманывал себя со заманчивая и обманчивая даль». — Цитируется рассказ «Соколинец» (1885) («Очерки и рассказы», 2–е изд., с. 346).
……. а ветер‑то все гудет по проливу со море на берег лезет!». — Ци–тируется рассказ «Соколинец» (Там же, с. 375).
«Казалось, меня обдавал свободный ветер со Я забылся под давлением неразрешимого вопроса…». — Цитируется рассказ «Соколинец» (Там же, с. 395—396).
…«Крепко меня люди обидели — начальники, со Всяк о себе думает, была бы мамона сыта…» («Убивец»). — Цитируются «Очерки сибирского туриста», III, «Убивец» (с. 53).
«Он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти „на гору'. со „Тогда пропадать буду”, — говорил он, но все‑таки собирался…». — Цитируется рассказ «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 98— 99).
«In deinem Nichts hoff ich das All zu finden», как говорит Тетевский Фауст Мефистофелю… — «В твоем Ничто я Все найти надеюсь» (пер. Н. А. Холодковского). Цитата из «Фауста» (ч. 2, акт I, «Темная галерея»).
…« наш век страстно ищет веры”. — Это верно! — сказал Панов. — Что верно? — Справедливо здесь написано насчет веры». — Цитируется рассказ «По пути» (с. 30—31).
…«резкий дым махорки стоял целою тучей» со «Луна поднялась уже высоко, со огненные столбы начинавшегося северного сияния». — Цитируется рассказ «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 104).
«Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием, со опять удалялись». — «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 105).
«Он ее видел — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться, со полосы разноцветных огней…» со «Чем дальше со все опять потонуло во мраке, полном молчания и тайны». — «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 107).
«„Пропадать буду!” — подумал он и решил сделать это немедленно. со Звон стих. И Макар умер». — «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 112—113).
«Прежде всего, точно первые удары могучего оркестра со и, колеблясь, понеслись кверху». — «Сон Макара» («Очерки и рассказы», с. 125).
«А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу? — Эге! Давненько, со Может, и вовсе не жил…». — Цитируется рассказ «Лес шумит» («Очерки и рассказы», с. 143—144).
…«Со двора слышался шум дождя, со сливаясь в один стройный, нескончаемый гул». — Цитируется рассказ «Ночью» (с. 1).
…«Он слышал, как бегут потоки весенней воды… со точно они тихо таяли в воздухе» («Слепой музыкант»). — Цитата из повести «Слепой музыкант» («Очерки и рассказы», с. 18).
«Из‑за стены стройно несутся со раскаты ружейного выстрела перед замолкшею в ужасе ночью». — «Очерки и рассказы», с. 185 —186.
«Старый звонарь» — рассказ опубликован с подзаголовком «Весенняя идиллия» («Очерки и рассказы», 2–е изд., с. 241—250).
……. помнил ли я ее? О да, я помнил ее! со слезы прожигали горячими струями мои щеки». — Цитата из рассказа «В дурном обществе» («Очерки и рассказы», с. 36).
…«звучнее и плавнее, звенящие, поющие и рокочущие аккорды»… — Из повести «Слепой музыкант» («Очерки и рассказы», с. 121—122).
…«в неопределенный перезвон и говор (?) аккордов вплетались чудные мелодии со удалью разгула и надежды». — Цитата из повести «Слепой музыкант» («Очерки и рассказы», с. 85).
……. это были звуки, которые оживали со качались, как ветви задумчивых буков»… — «Слепой музыкант» («Очерки и рассказы», с. 156).
«Несколько крупных тараканов разместились в кружок, около таза со свечой, со грустные размышления», со «В то же самое время со дождь буянит совершенно напрасно». — Цитируется рассказ «Ночью» (с. 1, 2—3).
…в повести «С двух сторон», недавно напечатанной в «Русской мысли» (ноябрь и декабрь)… — Повесть опубликована с подзаголовком «Рассказ о двух настроениях»: Русская мысль. 1888. № И. Отд. VIII. С. 174— 206; № 12. Отд. VI. С. 214—266.
…«Взглянув вниз на шпалы, на отсыревший щебень, я вздрогнул со Я опять засмеялся». — Цитируется повесть «С двух сторон» (РМ. 1888. № 12. Отд. VI. С. 219).
…«распростерлось что‑то темное, слякотное (!), холодное…» со «Небо казалось увешенным грязноватыми лоскутьями, со потечет на меня невероятная гадость». — Там же. С. 222.
Еще Нибур предсказывал грядущее со Гете на склоне лет с глубокою скорбью подтвердил это мрачное предсказание. — Ср.: «Нибур был прав, видя приближение варварства, — сказал Гёте. — Оно уже наступило, мы уже погрузились в него; да и в чем же варварство, как не в неумении распознавать хорошее?» («Разговоры», II, 351; запись от 22 марта 1831 г.).
…«Рассудок не достигает до природы со оно скрывается за ними, и они исходят от него». — Там же (II, 146; запись от 13 февраля 1829 г.).
«Когда меня спрашивают: лежит ли в моей природе почитание солнца, я отвечаю: вполне, со пощадите меня с вашими нелепостями». — Там же (II, 392; запись от 11 марта 1832 г.).
…«Бог доныне не почил от дел своих». — Там же (II, 395; запись от И марта 1832 г.). Ср.: «Бог (…) почил в день седьмой от всех дел Своих» (Быт.: 2, 2).
…«Высшее, чего может достигнуть человек, есть чувство изумления со тут граница». — «Разговоры» (II, 149; запись от 18 февраля 1829 г.).
…«есть высшая степень удивления со и есть поклонение…». «Наука много сделала для нас со продавать с прилавка». — Цитата из Беседы V («Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бёрнс») книги Т. Карлейля «Герои и героическое в истории» (в пер. В. М. Яковенко. 2–е изд. СПб., 1898. С. 129).
…проповедник–индепендент… — Здесь, вероятно, подразумевается представитель соответствующей партии, наиболее радикально настроенной части пуритан.
…старик Гете приветствовал Карлейля как новую грядущую силу. — Имеется в виду высказывание Гёте: «Ему предстоит огромная будущность; невозможно предвидеть ни того, что он сделает, ни влияния, которое он будет оказывать» («Разговоры»; II, 22; запись от 25 идля 1827 г.).
«Первые начала» («Основные начала») (1862) — одна из частей главного труда Г. Спенсера «Система синтетической философии» (1862—1896).
«Основы этики» («Основания этики») (1879—1893) — одна из частей труда Г. Спенсера «Система синтетической философии».
…психологического трактата «Биологии»… — Имеется в виду книга «Основания биологии» (1864—1867) — одна из частей труда Спенсера «Система синтетической философии».
…«Мы видим одно глубоко вкорененное чувство со мы можем назвать творческою способностью человека». — Речь Д. Тиндаля опубл.: Nature. 1874. N 251, 253.
Он не возмущался против «научной науки», подобно Толстому… — Речь идет о высказывании Л. Толстого из трактата «Так что же нам делать?» (1886) (см.: Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. Серия I. Произведения. Т. 25. С. 365).
Тихо все — одно кладбище /Не пустеет, не молчит. — Строки из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830).
Не поймет и не заметит со В красоте твоей смиренной. — Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1855).
…Данте говорил, что «горек хлеб чужих людей»… — Слова из поэмы «Божественная комедия» («Рай», XVII, 55).
Как ни тепло чужое море со Размыкать русскую печаль. — Цитата из гл. 1 поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857).
«Буживалъ, 21 или 28 июня 1883 года. Милый и дорогой Лев Николаевич со Не могу больше… Устал!». — Цитируется письмо Тургенева к Л. Толстому от 29 июня (И июля) 1883 г. Опубликовано: Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг. / Изд. Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. С. 550—551. См. также: Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. Письма: В 15 т. Т. 13. Ч. 2. М.; Л.: Наука, 1968. С.180.
…«Где двое или трое собрались во имя мое, там я среди них». — Неточная цитата, см.: Матф. (18, 20).
Достоевский, произносящий пламенную речь о всечеловеческой примиряющей терпимости русского народа на пушкинских празднествах… — Имеется в виду Пушкинская речь Достоевского, посвященная открытию памятника Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. См. примеч. 5 к статье «Пушкин» с. 810.
…пишет на одного из величайших русских поэтов со карикатуру Кар- мазинова в «Бесах». — Имеется в виду И. С. Тургенев.
…к «жестокому таланту»… — «Жестокий талант» — заглавие статьи Н. К. Михайловского о Достоевском, впервые опубликованной в 1882 г. в сентябрьском и октябрьском выпусках «Отечественных записок».
…как он изображен на известной картине Репина. — Речь идет о картине «Пахарь. (Лев Николаевич Толстой на пашне)» (1887).
Была ему звездная книга ясна, /И с ним говорила морская волна. — Цитируется стихотворение Е. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).
Слезает Святогор с добра коня со А по белу лицу — не слезы, а кровь течет… — Цитата из былины «Святогор и сумочка переметная» (см.: Былины / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. Ф. М. Селиванова. М., 1988. С. 34). (Библиотека русского фольклора; Т. 1)).
Румяный критик мой, насмешник толстопузый со Взгляни, какой здесь вид… — Начальные строки стихотворения А. С. Пушкина «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» (1830).
…«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий со чтобы такой язык не был дан великому народу». — Цитируется стихотворение в прозе «Русский язык» (1882).
…которую Салтыков называл «рабьим эзоповским языком». — Образ из цикла очерков М. Е. Салтыкова–Щедрина «Круглый год» (1879—1880) («Первое августа»); см.: Салтыков–Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1972. Т. 13. С. 505—506.
…драма Генриха Ибсена «Нора» в первый раз была поставлена со перевели имя французского поэта Леконта де Лиля — граф де Л иль. — Драма «Кукольный дом» (1879), за которой в России и Германии закрепилось название «Нора», впервые была поставлена сразу после опубликования в 1879 г. в Христиании (ныне — Осло); Гёте был назначен директором придворного Веймарского театра в 1791 г. «Граф де Лиль» — источником ошибки является созвучие фамилии поэта Leconte de Lisle фр. le comte — граф.
Пушкин уверял со у московских просвирен. — Имеются в виду слова А. С. Пушкина из «Опровержений на критики» (1830?); см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд–во АН СССР, 1949. Т. И. С. 149.
Т. Карлейлъ говорит, что в современной Европе со могли бы сделаться только писатели. — См.: Беседа V. «Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бёрнс» в книге «Герои и героическое в истории. Публичные беседы Т. Карлей- ля» (в пер. с англ. В. М. Яковенко. 2–е изд. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1898. С. 223—224).
Эдгар Поэ умирает, как последний пьяница, как нищий, едва не на большой дороге в самой богатой стране мира… — Э. По умер 7 октября 1849 г. в больнице в Балтиморе, куда был доставлен из городской таверны в беспомощном, изможденном состоянии и в грязной одежде.
…«У нас писатели взяты из высшего класса общества, со с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин». — Здесь неточность, цитируется письмо к А. А. Бестужеву от конца мая—начала июня 1825 г. (см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. м.; Л., 1937. Т. 13. С. 179).
…как «власть имеющий»… — Неточно приводятся слова Раскольникова из романа Достоевского «Преступление и наказание» (ч. V, гл. 4) (см.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Изд. подгот. Л. Д. Опуль- ская и Г. Ф. Коган. М.: Наука, 1970. С. 324 (Серия «Литературные памятники»)).
И. Тэн сделал первую попытку применения строгого научного метода к искусству. — Речь идет о трудах, положивших начало европейской куль- турно–исторической школе: «Происхождение современной Франции» (т. 1—5, 1875—1895), «История английской литературы» (1863—1864), «Философия искусства» (1865—1869) и пр.
…популярные статьи с громкими заглавиями, как Рошфор в «L’intran- sigeant»… — Речь идет о статьях французского писателя Рошфора, в 1890–х гг. публиковавшихся под заглавиями «Les Frangais de la decadence» («Французы декаденса»), «Les Signes du temps» («Признаки времени»), «Napoleon dernier» («Последний Наполеон»), «La Grande Boheme» («Великая Богема») и др.
«Очерки из истории русской цензуры» (СПб., 1892) — охватывают развитие цензуры с 1700 по 1863 г.
Однажды на Передвижной выставке я видел картину известного русского художника со смотрит на жестокосердного отца. — Речь идет о картине В. Е. Маковского «Не пущу!» (1892). Впервые экспонировалась на XX выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Петербурге в феврале 1892 г.
В Апокалипсисе есть одно страшное место: «…Дух говорит Церквам со и нищ, и слеп, и наг». — Откр. (3, 14—17).
Selbst die ungestalte Spinne / Kroch herbei und sog gewaltig. — «Приплелся паук нелепый, / И тянул что было силы» («Die Nektaropfen», 1781) (см.: Гете И. — В. Собр. соч.: В 13 т. М., 1932. Т. 1. С. 149. Пер. с нем. Б. Ярхо).
Насекомым — сладострастье… / Ангел — Богу предстоит. — Цитата из «Песни радости» Ф. Шиллера (1823—1824) в переводе Ф. И. Тютчева.
…недавно издал драгоценную книгу «Письма Бенедикта Спинозы» в превосходном переводе г–жи Л. Гуревич. — Имеется в виду издание: Жизнь Б. де Спинозы, описанная Иоганном Колерусом на основании некоторых данных, почерпнутых из сочинений этого знаменитого философа, из показаний многих лиц, вполне достойных доверия и близко знавших его. Переписка Бенедикта де Спинозы / Пер. с латинского Л. Я. Гуревич; примеч. А. Л. Волынского. СПб., 1891.
…статьи г. Волынского о Канте. — Мережковский имеет в виду статью «Критические и догматические элементы философии Канта» (СВ. 1889. № 7. Отд. И. С. 67—87; № 9. Отд. II. С. 61—83; № 12. Отд. II. С. 55—78). Волынскому также принадлежит статья «Критика и догматика Канта», вошедшая в сборник его статей «Книга великого гнева» (СПб., 1904).
Caveant consules. — Первые слова ставшей крылатой фразы Цицерона и других ораторов римского сената: «Caveant consules ne quid res publica detriment capiat» — «Да позаботятся консулы, чтобы республика (общественное дело, общественный интерес) не понесла какого‑либо ущерба» (лат.).
…m. Huret — газетному интервьюисту, написавшему книгу «L’enque- te sur l evolution litteraire en France». — «Исследование литературной эволюции во Франции» (Paris, 1888) — книга Ж. Юрэ, французского писателя и критика.
«Что они предлагают, чтобы нас заменить? Как на противовес огромной позитивной работе последних пятидесяти лет указывают на неопределенный этикетик „символизм”, прикрывающий бездарные вирши. Чтобы завершить изумительный конец этого громадного века, чтобы выразить всеобщую горечь сомнения, тревогу умов, жаждущих чего‑нибудь незыблемого, нам предлагают неясное щебетание, грошовые вздорные песенки, сочиненные трактирными завсегдатаями! Все эти молодые люди (которым, кстати сказать, за тридцать, за сорок лет), занятые в столь важный момент исторической эволюции идей подобными глупостями, подобным ребячеством, кажутся мне ореховыми скорлупками, пляшущими на водопаде Ниагары» (фр.). — Примеч. авт.
Автор «Ругон–Макаров»… — «Ругон–Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» (1871—1893), серия из романов Э. Золя.
«Да, скоро и с великой жаждой со чистым и благородным», со «И что такое реальность сама по себе? со который исходит из сердца поэта», со Чем несоизмеримее со тем оно прекраснее». — «Разговоры» (I, 356; запись от июля 1827 г.).
…после трагической ночи в «Cespenster»… — Речь идет о сцене из драмы Г. Ибсена «Привидения» (1881).
«Мысль изреченная есть ложь». — Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (не позднее 1830).
…по выражению Гете, — Schwankende Gestalten… — Выражение из первой строки «Посвящения» к «Фаусту»: «Ihr naht euch wieder Schwankende Gestalten» («Вы вновь со мной, туманные виденья». — Пер. Н. А. Холодковского).
Характерно письмо Тургенева со просит снисхождения у г. Стасюле- вина к своим лучшим созданиям. — Речь идет о письме от 5 (17) августа 1882 г. Впервые опубликовано: BE. 1911. № 12. С. 24—25 (см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. Соч.: В 15 т. Письма. Т. 13. Ч. 1. М.; Л.: Наука, 1968. С. 327).
…Морелла и Аигейя из новелл Эдгара Поэ. — Героини одноименных новелл 1835 г. и 1838 г. прозе Тургенев
и бледно–зеленое небо над снегами Финстераангорн… — Речь идет о стихотворении в а «Разговор» (1878). Финстераанхорн — гора в Швейцарии, в Бернских Альпах, высотой 4374 м.
…Гончаров в одной критической статье признается, что бабушка в «Обрыве» была для него не только характером живого человека, но и воплощением России. — Речь идет о статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) (см.: Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Подгот. текста, коммент. Е. А. Крас- нощековой. М., 1979. Т. 8. С. 125).
…что в Байроне Бодлэр называет /е satanique. — Имеется в виду набросок письма к Ж. Жанену из набросков Ш. Бодлера последних лет: «Ему присущи ваши достоинства и ваши недостатки… и то, что делает поэта, — демоническая личность» (см.: Бодлер Ш. Проза. Пер. с фр. / Сост. Е. Витковский; коммент. Е. Витковского, Е. Баевской. Харьков: Фолио, 2001. С. 430).
…«Мертвого дома»… — Имеются в виду «Записки из Мертвого дома» (1861—1862) Достоевского.
…«Истинно говорю вам со тот не войдет в него». — Неточная цитата, см.: Матф. (10, 15).
Один русский писатель со отвечает таким явлением, как Пушкин. — Пересказаны слова Достоевского из Пушкинской речи (см.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1880. Август. Гл. II. Пушкин. Очерк. С. 144).
…популярные брошюры о пьянстве со уверяет, что люди курят табак, чтобы заглушить совесть. — Имеется в виду ряд работ Л. Толстого: «О браке и призвании женщины («Вся неразрешимая сложность…») (1868); «Согласие против пьянства» (1887); «К молодым людям» (1888); «Об отношениях между полами» (1890). Толстым написано предисловие к книге доктора медицины А. Стокгэм «Топология, или Наука о рождении детей» (1888), он выступил как переводчик и редактор «Частного письма к родителям, докторам и начальникам школ» Э. Бернс (1880). В конце приводятся слова из статьи Толстого «Для чего люди одурманиваются?» (V) (1890) (см.: Толстой А. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Серия I. Произведения. Т. 27. С. 282).
Выдь на Волгу: чей стон раздается со Где народ — там и стон… — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).
Тяжелей горы со Дума черная… — Цитируется стихотворение Кольцова «Не шуми ты, рожь…» (1834) (см.: Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. 2–е изд. Л., 1958. С. 106. (Библиотека поэта. Большая серия)).
Чтоб порой пред бедой со Песни петь соловьем. — Цитата из стихотворения Кольцова «Путь» (1839) (см.: Там же. С. 157).
Снаряжу коня… со Шапку до земли. — Цитируется стихотворение Кольцова «Удалец» (1833) (см.: Там же. С. 104).
И сила есть — да воли нет… со А душой тебе я кланяюсь. — Цитата из стихотворения Кольцова «Тоска по воле» (1837) (см.: Там же. С. 160).
С твоим талантом стыдно спать со И ласки милой воспевать! — Цитируется стихотворение Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).
Не для житейского волнения, / Не для корысти, не для битв… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
…«в чистое золото поэзии», по выражению Белинского. — Выражение из статьи «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846) (см.: Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. / Под общ. ред. Ф. М. Головенченко; ред. В. И. Кулешов. М., 1948. Т. 3. С. 137).
На поля, сады со И с молитвою. — Цитата из стихотворения Кольцова «Урожай» (1835) (см.: Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. С. 108— 109).
Выйдет в поле травка… со Хлеб — мое богатство. — Цитата из «Песни пахаря» (1831) Кольцова (см.: Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. С. 95—96).
Видит солнышко со Божьей Матери. — Цитата из стихотворения Кольцова «Урожай» (1835) (см.: Там же. С. 110).
Храм Божий на горе мелькнул со Пред этим скудным алтарем\ — Цитата из гл. I поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857).
…рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
Треволненья мирского далекая со Ты, чистейшей любви божество… — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).
О, Муза! я у двери гроба! со Кнутом иссеченную Музу… — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «О Муза, я у двери гроба…» (1877).
…«Царя Небесного в рабском виде», по выражению Тютчева… — Выражение из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1857).
В произведениях одного из современнейших классиков русской прозы Д. В. Григоровича, которые по дивной гармонии и законченности можно сравнить разве только с «Записками охотника» Тургенева, ясно видно, как в своих первоначальных источниках народническое течение неразрывно связано с культом и обоготворением красоты, с благоговением к эстетическим традициям Пушкина, с утонченной европейской образованностью и неподражаемым изяществом формы. — Примеч. авт.
Антей — в греческой мифологии — великан, сын Посейдона и Геи, получавший необоримую силу от соприкосновения с матерью Геей — землей. Когда Антей чувствовал, что начинает слабеть, он прикасался к земле, восполнявшей его силы.
Мы имели еще недавно случай наблюдать со чувство нравственного возмущения. — Речь идет о статье В. В. Розанова «Почему мы отказываемся от „наследства 60—70–х годов”?» (Московские ведомости. 1891. № 185. июля); позднее вошла в его сборник «Литературные очерки» (СПб., 1899). Последний абзац этой статьи был посвящен высказыванию Н. К. Михайловского, называвшего отказ нового поколения от «наследия 60–х годов» «ничем не оправдываемым». Возражая ему, Розанов писал: «Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как‑нибудь самому? Не встал ли бы он, оставаясь таким же и только родясь в наше время (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним „со стороны”), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обусловливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им — и значение его пропадает; изменяет оно этим идеалам — и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину — это не есть ли идеал? В сфере нравственной — относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека — не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?» (Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 168. (Собр. соч.)).
…в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере… — Речь идет о статье: Что такое прогресс? // Отечественные записки. 1869. Т. 182. № 1; Т. 186. № 5; Т. 187. № 6 и книге «Теория Дарвина и общественная наука» (М., 1870).
…статья о Лермонтове. — Имеется в виду статья «Герой безвременья», опубликованная в «Русских ведомостях» (1891. № 192. 15 июля; № 216. 8 августа; № 270. 1 октября); позднее включена в книгу Михайловского «Критические опыты» (СПб., 1894. Т. 3. С. ИЗ—164).
Он имел одно виденье со В сердце врезалось ему. — Цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» (1829).
…«которое человек взял и посеял на поле своем со укрываются в ветвях его». — Матф. (13, 32).
…Гете случалось говорить: «Немецкий писатель — немецкий мученик». — «Разговоры» (II, 265; запись от 14 марта 1830 г.).
…он прочел рассказ Чехова «Степь» со на минуту заставила его позабыть страдания. — Отзыв известен в записи В. Фаусека; опубликован в сборнике «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889. С. 119—120). См.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1977. Т. 7. С. 643 (ком- мент. М. П. Громова).
…освободить человеческое сердце от бремени жизни. — Ср. в записных книжках Мережковского: «Каждое утро я слышу за стеной своей комнаты унылые бесконечные и терпеливые гаммы какой‑то прилежной ученицы и думаю — в жизни очень редко бывают мелодии, песни скорби и радости, обычная человеческая жизнь похожа на эти фортепианные гаммы — безнадежные, бесконечные и бесценные» (Записные книжки и письма Д. С. Мережковского / Публ. Е. Андрущенко и Л. Фризмана // Русская речь. 1993. № 4. С. 33).
Здесь в моем изложении — неполнота и незаконченность почти непоправимые. Кроме Г аршина и Чехова у нас есть другие талантливые представители современной русской художественной прозы. Я не буду пытаться определить, я только намекну на те особенные черты, которые присоединяют их к течению Современного Идеализма. П. Д. Боборыкин, кажется, один из первых ввел в России приемы западноевропейского экспериментального романа. Насколько было возможно, он освободил этот условный род беллетристики от тяжеловесной скуки и придал ему изящную легкость. Но великое современное течение коснулось и русского натуралиста. В едва ли не лучшем из всех произведений Боборыкина, романе–дневнике «Перед чем‑то» (в «Северном вестнике», умный, чуткий и талантливый наблюдатель современной жизни окончательно порывает с традициями условного натурализма. Вероятно, наши рецензенты не оценят этого произведения, как всего слишком оригинального и нового. Борьба мятежного пессимизма Шопенгауэра с пантеистическим примирением Спинозы — в душе современного человека, в мрачной, грозовой и болезненной атмосфере 90–х годов — изображена с такою силою возвышенного смелого идеализма, до которой немногие из наших современных писателей достигают. С другим прозаиком, И. И. Ясинским, произошел столь же характерный внутренний переворот. У прежнего натуралиста, обращенного в идеализм, осталось многостороннее и безотрадное познание людей, горький и насмешливый опыт, умение рисовать серый фон жизни. Но надо всем этим, как иногда тени высочайших облаков над скучным, пыльным и суетным городом, пролетают веяния какого‑то мрачного и обаятельного мистицизма, которые придают произведениям Ясинского таинственную прелесть. Он тоже импрессионист, как Чехов. Я бы мог проследить влияние самых глубоких и болезненных страниц Достоевского на талантливых психологических, иногда психиатрических исследованиях современного безверия, вырождения, сплина и неврастении 80–х годов у г. Альбова и кн. Голицына (Дм. Муравлина). Мне кажется также весьма нехарактерным, что автор «Гнилых болот» и «Лес рубят, щепки летят», г. Михайлов (Л. К. Шеллер), знаток и талантливый бытописатель петербургского мелкого чиновничества и буржуазии, так хорошо владеющий мягкими красками городской будничной идиллии, чувствует потребность покинуть знакомую обстановку, из современного Петербурга перенестись не более, не менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса, в мир патриархальной фантазии: он пишет великолепную экзотическую картину, пишет роман–поэму на библейскую тему — «Эсфирь». В этой области г. Лесков всю жизнь оставался верен себе. Огромный талант–самородок, вечно неожиданный, оригинальный, близкий к духу народа, он слишком мало оценен нашей поверхностной критикой. Его мистические легенды из «Пролога» — очаровательны. Какая неувядаемая свежесть, какая наивная и младенческая грация! Эти тысячелетние, засохшие цветы с едва заметным слабым ароматом, заложенные между пыльными пергаментными страницами древнецерковных или раскольничьих книг, под пером художника каким‑то чудом вдруг оживают, распускаются, вспыхивают вешними красками как только что расцветшие, как только что сорванные. Читатель может, хоть отчасти, судить по этой беглой заметке, как все литературные темпераменты, все направления, все школы охвачены одним порывом, волною одного могучего и глубокого течения, предчувствием божественного идеализма, возмущением против бездушного, позитивного метода, неутолимой потребностью нового религиозного или философского примирения с Непознаваемым. Всеобъемлющая широта и сила этого страстного, хотя еще неопределенного и непризнанного течения заставляет верить, что ему принадлежит великая будущность. — Примеч. авт.
…в романе–дневнике «Перед чем‑то» (в «Северном вестнике»)… — Повесть Боборыкина публиковалась в журнале в 1892 г. (№ 10, И).
«Эсфирь» — речь идет о повести А. К. Шеллера–Михайлова «Эсфирь. Историческая повесть из древнеперсидской жизни» (1893).
Перечтите помещенные года два тому назад в «Русском обозрении» письма Фета. — Имеется в виду публикация: В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой. Из воспоминаний А. А. Фета // РО. 1890. № 1. С. 7—73; № 2. С. 463—514; № 3. С. 5—44; № 4. С. 479—505; № 5. С. 49—67; № 7. С. 6—29; № 8. С. 451—469.
Столица бредила в чаду своей тоски со В зеркальных окнах трепетали. — Первые строки стихотворения Фофанова «Столица бредила в чаду своей тоски…» (1884) (см.: Фофанов К. М. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 60. (Библиотека поэта. Большая серия)).
Вселенная во мне, и я в душе вселенной со И без него она ничтожна и темна. — Цитируется стихотворение Фофанова «Вселенная во мне…» (1880) (см.: Там же. С. 51).
…переписывали из «Вестника Европы» в отдельные альбомы и тетради: О родина моя, о родина терзаний! — В «Вестнике Европы» Н. Минским (Н. М. Виленкиным) напечатаны: поэма «На родине» (1877. № 1), «Белые ночи» (1879. № И), «Солнце. Сцены из поэмы о мироздании» (1880. № 5), поэма «Прокаженный» (1885. № 6). Цитируется заключительный стих поэмы «На чужом пиру», впервые опубликованной в «Вестнике Европы» (1880. № И. С. 151—157).
«При свете совести» — речь идет о книге «При свете совести (мысли и мечты о цели жизни)» (СПб., 1890).
Все мысль, да мысль! Художник бедный слова! со И смерть, и жизнь, и правда без покрова. — Цитата из стихотворения «Все мысль, да мысль! Художник бедный слова!..» (1840).
Есть хмель ему на празднике мирском оо Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная. — Цитируется то же стихотворение Е. Баратынского.
Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном со Среди пустыни бесконечной. — Цитируется стихотворение Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей…» (1887) (см.: Минский М., Добролюбов А. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 152—153. (Новая библиотека поэта)).
И здесь поневоле мне приходится оставить весьма важные пробелы в моем очерке. Я выбрал только двух представителей современной русской поэзии как наиболее характерные явления того литературного поворота к идеализму, которым я занимаюсь. Если бы задача моя заключалась в более подробном изучении поэзии, я должен бы начать с произведений истинных преемников Пушкина и Лермонтова, я должен бы показать, как возвышенный идеализм XIX века отразился на олимпийски–лучезарной, могучей и блаженной поэзии А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, Мея и в особенности Тютчева. Значение Фета несколько преувеличено. Тонкие ценители поставят, конечно, выше Фета менее признанного, но более глубокого поэта–философа, неподражаемо–прекрасного Тютчева. Это не певец толпы, это — певец певцов. Такой же искренний и непосредственный лирик Я. П. Полонский. Недаром Тургенев любил его и понимал. Это один из немногих современных людей, сохранивших с природою древнюю, священную и таинственную связь. В его лучших песнях, по–моему, больше сумеречного, безглагольно–прекрасного, похожего на откровения природы, чем в искусственно–филигранной и довольно слащавой лирике Фета. К старшему поколению поэтов принадлежит еще один писатель, который стоит между ними особняком, — А. И. Плещеев. Его поэзия отличается удивительной простотой и ясностью формы. Некоторые ошибочно принимают эту простоту за бедность. Дети, иногда лучшие судьи в поэзии («Будьте просты, как дети» относится и к области красоты), недаром так любят и верят, когда Плещеев с ними говорит. Это — муза нежной и покорной меланхолии, того, что Шиллер называл Resignation, муза русской печали. Она недоступна пресыщенным, скептически–равнодушным эстетикам, ее поймут только люди очень простые, даже несколько наивные в поэзии и «чистые сердцем». Лучше всего то в стихах А. Н. Плещеева, что вы невольно чувствуете в них светлую, тихую и прекрасную душу человеческую. Я мог бы остановиться на С. Я. Надсоне, который, впрочем, уже вполне оценен и понят нашими рецензентами. Сознание болезненного бессилия, разочарование в утилитарных идеалах, страх перед тайною смерти, тоска безверия и жажда веры — все эти современные мотивы Надсона произвели быстрое и глубокое впечатление даже не столько на молодое, как на отроческое поколение 80–х годов. Я должен бы указать на то, как возрождение свободного религиозного чувства отразилось в лучшем произведении г. Апухтина — «Год в монастыре», Апухтина, одного из самых нежных, изящных и благородных преемников Полонского и Тютчева. Наконец, я должен бы отметить, как великое успокоение в природе, примирение с жизнью и смертью, то глубочайшее русское смирение, которое напоминает божественную Нирвану Бодизатвы, вдохновляет лучшие произведения гр. Голенищева–Ку ту зова, как например «Рассвет», эту чуждую поэму, совершенно не понятую и не оцененную критиками. Если бы все эти разрозненные явления, еще до сих пор не связанные и не разработанные ни одним исследователем, соединить в одну живую картину, в одно громкое и непреложное свидетельство, может быть, и самый скептический читатель почувствовал бы, как много скрытых сил дремлет в современной русской поэзии. — Примеч. авт.
…Пушкин почтил непонятого и отвергнутого русской критикой Баратынского: «Он оригинален, ибо мыслит… он шел своею дорогою, один и независим». — Соединение цитат из статьи А. С. Пушкина «Баратынский» (1830).
…«У нас литература не есть потребность народная со большею частью по личным расчетам». Пушкин писал это в 31–м году. — Цитата из статьи «Баратынский» 1830 г
…превосходные монографии русских писателей — Тургенева, Лермонтова, Толстого, Баратынского, Некрасова, Достоевского… — Речь идет о статьях «Поэзия Баратынского» (1888), «Братья Карамазовы» (1888), «О Некрасове» (1889), «Лермонтов. Характеристика» (1889), «Из мыслей о Льве Толстом» (1890) и «Тургенев» (1892), вошедших в книгу С. А. Андреевского «Литературные чтения» (СПб., 1891). По словам С. Венгерова, «сильной стороной этюдов Андреевского является то, что они написаны не только „по поводу”, как это часто бывает в нашей критике, но действительно задаются целью прежде всего обрисовать духовный облик разбираемого писателя» (Венгеров С. А. Этапы неоромантического движения. Статья первая // Русская литература XX века. 1890—1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 2000. Т. 1. С. 57).
никто не вступил, — по выражению Гете, — «на его почву»… — Цитата из «Разговоров» (I, 353; запись от 2 января 1824 г.).
…маленькая художественная монография Андреевского. — Речь идет о статье С. А. Андреевского «Лермонтов. Характеристика», вошедшей в сборник его статей «Литературные чтения» (с. 217—250). Впервые опубликована в «Новом времени» (1890. 16—17 января), вышла также отдельной брошюрой (СПб., 1890).
Работы его о Байроне, Мицкевиче, Словацком, Лермонтове, Пушкине написаны превосходным языком. — Имеются в виду статьи «Столетний юбилей лорда Байрона» (Пантеон литературы. 1882. № 2), «Байронизм Пушкина и Лермонтова. Из эпохи романтизма» (BE. 1888. № 3. С. 50—86; № 4. С. 500—548), «Байронизм у Лермонтова» (Спасович В. Д. Соч. СПб., 1889. Т. 2. С. 343—406), «Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого» (BE. 1887. № 4. С. 743—793; то же в кн.: Спасович В. Д. Соч. СПб., 1889. Т. 2. С. 225—290). В той же кн.: «Мицкевич в раннем периоде его жизни (до 1830 г.) как байронист» (с. 171—221). Статья Спасовича «Ю. Словацкий» опубликована в кн.: Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. СПб., 1881. Т. 2. С. 677—690. В той же книге — его же: «Период Мицкевича» (с. 607—676).
…Пушкин говаривал о статьях Вяземского — вот критика европейская. — См. письмо к П. А. Вяземскому от 25 мая и около середины июня 1825 г.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 183.
Автор перевода… — Мережковский перевел обе трагедии Софокла об Эдипе: см. примеч. 3 к статье «Трагедия целомудрия и сладострастия», с. 827.
Бальзак, как он сам говорит в предисловии со своих произведений. — Предисловие к роману «Крестьяне» (1844) (см.: Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 18. С. 6). Далее Мережковский пересказывает и цитирует текст романа по изданию: Balzac Honore de. Les paysans. Scenes de la vie de campagne. Paris: Caiman‑Levy, 1883.
…развитое Миьиле в его книге «Le Peuple»… — Книга Мишле «Народ» (Michelet Jule. Le peuple. Paris: Hachette et Paulin, 1846) легла в основу второго очерка, «Мишле». (См.: Мишле Ж. Народ / Изд. подгот. В. Г. Дмитриев и Ф. А. Коган–Бернштейн. М.: Наука, 1965. (Серия «Литературные памятники»)).
Благодаря исследованиям Тайлора, Л'ебокка и Мак–Ленана мы гораздо ближе знакомы с жизнью и бытом какого‑нибудь полинезийского дикаря… — Речь идет об исследованиях в области антропологии (Э. Б. Тайлор), археологии (Ж. Леббок) и этнографии (Д. Ф. Мак–Ленан).
В 1788 г. аббат С. — Пьер замечает со собственности во Франции. — Замечание из гл. 1 «Тяготы крестьянина» ч. I «О порабощенности и вражде» указанной книги Мишле. Мишле упоминает А. Юнга, автора книги «Путешествия по Франции» (1859), которая вследствие отсутствия точных статистических данных долгое время оставалась единственным источником сведений об историческом и экономическом развитии Франции накануне революции и после нее.
…напиток Цирцеи превращает самых лучших людей в безобразных животных… — Речь идет о напитке, превратившем спутников Одиссея в свиней («Одиссея». Песнь X, 235—240).
Тантал — в греческой мифологии лидийский или фригийский царь, обреченный богами на вечные муки: стоя по горло в воде, он не мог утолить жажду, так как вода уходила из‑под его губ.
…почувствовал потребность стать со могли выдержать натиск… — Здесь и далее излагаются положения книги Ф. Брюнетьера «Эпохи французского театра» (Les epoques du theatre Frangais. Paris, 1892).
…современница Мидийских войн… — Мидия воевала с Ассирией в IX— VIII вв. до н. э.; в середине VI в. до н. э. Мидия была завоевана Персией.
Саламинская битва — сражение, во время которого греческий флот разгромил персидский флот; 27 или 28 сентября 480 г. до н. э.
«Жиль Блаз» и «Фигаро»… — «Жиль Блаз де Сантильяна» — роман А. Р. Лесажа (1715—1735), «Женитьба Фигаро» — комедия Бомарше (1784).
«Le mysticisme аи theatre» — «Мистицизм в театре», статья Ж. Леметра, вошедшая в его сборник «Театральные впечатления» (Impression de theatre. Si- xieme Serie. Paris, 1892).
…«Рождество Христово» и «Св. Цецилия» Мориса Бушора со как заключительную часть Елевзинских таинств. — «Рождество Христово» и «Св. Цецилия» — пьесы из цикла «Три мистерии» М. Бушора: «Tobie», «Noel, ou Le mystere de la nativibe», «Le legende de sainte Cecile»; опубл.: Paris: E. Kolb, 1892. Пьеса «Рождество, или Тайна рождения» (1890) была поставлена в парижском театре марионеток Marionnettes du Petit‑Theatre 25 ноября 1890 г. (издана отдельно: Paris: Е. Kolb, 1890). Стихотворная драма в трех частях «Легенда о св. Цецилии» поставлена в январе 1891 г. в том же театре (издана отдельно: Le legende de sainte Cecile. Paris: E. Kolb, [1892]). «Путь к Звезде» («La Marcho a l’etoile») — мистерия А. Ривьера в 10 картинах; впервые поставлена в театре du Chat Noir в Париже 6 января 1890 г.; опубл.: Paris: Ensch fre- res et Costallat, C. Marpon et E. Frammarion, s. а.). «Св. Женевьева Парижская» («Sainte Genevieve de Paris») — мистерия в 4 актах и 12 картинах А. Ривьера; впервые поставлена в парижском театре du Chat Noir 7 января 1893 г.; опубл.: Revue encyclopedique. N 53. Fevrier. 1893. P. 156—206. «Свадьба Сатаны» — пьеса «Свадебный пир Сатаны» Ж. Буа; опубл.: Les Noces de Sathan, drame esoterique. Paris: Chamuel, 1892. Елевзинские таинства — древнегреческие мистерии, представления которых устраивались в г. Элевсин.
…«благочестие без веры»… — Парафраз названия пьесы Тирсо де Молина «Осужденный за недостаток веры» (ок. 1615; опубл. 1635).
«…Недаром зрители „Рождества Христова” и „ 'Св. Цецилии 9 — та же публика, которая создала успех шансонеточной певицы Иветты Гиль- берг». — Леметр имеет в виду публику, посещавшую представления в Му- лен–Руж, где сделала карьеру певицы несостоявшаяся актриса Иветта Гильбер. С 1885 г. она обучалась драматическому искусству, служила в театрах Парижа, с 1889 г. — в варьете. Становится певицей в 1889 г., переходит в Мулен–Руж в 1891 г.
…«moralites»… — Моралите — средневековый жанр религиозно–назида- тельной стихотворной драмы.
…Метерлинк с своими «Тремя драмами для марионеток»… — Речь идет о пьесах «Алладина и Паломид», «Там, внутри» и «Смерть Тентажиля» 1894 г.
…во вкусе Поля Бурже… — Имеется в виду выраженное в произведениях Бурже стремление к возвращению в общество и семейные нравы католических ценностей.
«Принцесса Малейн» — «Принцесса Мален» — первая пьеса М. Метерлинка (1889; опубл.: Gand: Louis van Melle, 1889).
…этюд о «Будущности трагедии»… — Статья вошла в гл. X книги М. Метерлинка «Сокровище смиренных» (1896) (см.: Метерлинк М. Полн. собр. соч. Пг.: Изд. А. Ф. Маркс, б. г. Т. 2. С. 74—81).
…на страницах со «Neue Revue»… — Имеется в виду венский журнал «Wiener Literatur Zeitung», в котором сотрудничали К. Альберти (Зиттенфельд) и К. Краус (о нем Мережковский упоминает ниже). В апрельском номере журнала за 1892 г. помещена рецензия К. Альберти на пьесу Г. Гауптмана «Ткачи».
…мнение молодого французского поэта Октава Мирбо: «Драмы Метерлинка стоят наравне, если не превосходят самое прекрасное, что есть у Шекспира». — Эти слова О. Мирбо сказаны о пьесе «Принцесса Мален»: «Г. Морис Метерлинк одарил нас самым гениальным произведением современности, самым необыкновенным, но так же и наивнейшим из всех, и пьеса его — осмелюсь ли сказать? — превосходит по красоте все, что есть самого прекрасного в Шекспире» (Figaro. 1890. 24 aout).
«А Rebours» («Наоборот») — роман Ж. — К. Гюисманса; опубл.: Paris: G. Charpentier et Cie, 1884.
«La princesse Maleine», «Peleas et Melisande», «Les sept princesses». — «Принцесса Мален», «Пелеас и Мелисанда» (пьеса 1890 г.; опубл.: Bruxelles: P. Lacomblez, 1892), «Семь принцесс» (пьеса 1891 г.).
«Елевзинские таинства» — стихотворная драма М. Бушора в 4 картинах «Les mysteres cTEleusis» (1893); ставилась в парижском театре марионеток Marionnettes du Petit‑Theatre; опубликована с предисловием автора: Paris: Legene Oudin et Cie, 1894.
…символическая драма «L image» («Образ»), которой он дебютировал в своем новом парижском театре LCEuvre… — Речь идет о первой пьесе М. Бобура в 3 действиях «Образ» (1894), премьера которой состоялась 27 февраля 1894 г. в Париже в театре de L’OEuvre; опубликована с предисловием автора: Paris: P. Ollendorff, 1894.
«Enquete sur Г evolution litteraire» («Анкета о литературной эволюции») — книга Жюля Юрэ (Paris: G. Charpentier, Е. Fasquelle, 1891).
«Рассказы для убийц» — «Сказки для убийц» — первый сборник новелл М. Бобура: Contes pour les assassins. Paris, 1890, с предисловием автора и М. Барреса.
…Баррес, автор homme libre… — Обыгрывается название романа М. Барреса «Свободный человек» («Un Homme libre», 1889), второй части трилогии «Культ я».
…в духе «Доктора Паскаля»… — «Доктор Паскаль» («Le docteur Pascal», 1893) — роман Э. Золя, завершающий серию «Ругон–Маккары».
В очень интересной статье о своерменной немецкой драме со классического века Гете и Шиллера. — Имеется в виду статья Ф. Шпильгагена «Das Drama, die neutige Litterarische Vormacht» (1894); включена в книгу: Neue Beitrage zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik. Leipzig, 1898. S. 227—243.
…трагедии «Ткачи» («Die Weber») и романтической мистерии «Ханнеле»… — «Ткачи» — пьеса 1893 г. «Ханнеле» («Ганнеле») («Hanneles Him- melfahrt») — пьеса 1892 г.; в рус. пер. опубл.: ВИЛ. 1894. № 3. С. 275— 280.
…с первою драмою «Перед солнечным восходом» в Берлине, на сцене Lessing‑Theater… — Пьеса «Перед восходом солнца» («Vor dem Sonnenauf- gang») была поставлена на сцене берлинской «Вольной сцены», организованной кружком литераторов.
…«Одинокий человек», «Праздник мира»… — Речь идет о пьесах «Одинокие» («Einsame Menschen», 1890) и «Праздник примирения» («Das Frieden- fest», 1890).
«парнасцы» — группа французских поэтов (Ш. Леконт де Лиль, Сюл- ли–Прюдом, Л. Дьеркс, К. Мендес, Ж. Эредиа и др.), заявившая о себе в сборнике «Современный Парнас» (1866), выпустившая второе (1871) и третье (1876) его издания. Основывалась на принципе Леконт де Лиля, выраженном Теофилем Готье, — «искусство для искусства», отказываясь и от бунтарских идеалов романтиков, и от критики действительности реалистами ради ухода от современности в мир бесстрастной поэзии, холодных прекрасных форм.
…той «научной науке», по выражению Льва Толстого… — См. примеч. 1 к статье «Памяти Тургенева», с. 848.
…«Poemes Barbares» или «Poemes Tragiques»… — «Варварские поэмы» и «Трагические поэмы» 1862 г.
…того, что Бодлэр называет «La morne incuriosite». — Выражение «беспристрастное любопытство» использовано в статье Ш. Бодлера «Леконт де Лиль» (1861) (см.: Бодлер Ш. Проза / Пер. с фр. Харьков: Фолио, 2001. С. 375).
…по отношению ко всему «теологическому периоду человечества», как выражался Огюст Конт. — Речь идет о «Законе трех стадий», сформулированном в «Курсе позитивной философии» О. Конта (1830—1842), согласно которому жизнь человечества поделена на теологическую, метафизическую и позитивную стадии.
…в «Докторе Паскале» и «Лурде»… — См. примеч. 25 к статье «Неоромантизм в драме», с. 861. «Лурд» (1894) — роман из серии «Три города».
«Reflexions sur /’Art des Vers» — «Размышления об искусстве стиха»; опубл.: Paris: Lemerre, 1882.
…«Мне кажется, что если бы В. Гюго мог услышать нас со „Благодарю вас! со желая быть свободным”» (Адольф Ретте). — Цитируется статья А. Ретте: Du Role des Poetes // La Plume. Paris, 1893. Annee 5 / N 83—112. P. 454—527.
…к автору «Цветов зла»… — Имеется в виду Ш. Бодлер, автор книги стихов «Цветы зла» («Les fleurs du mal», 1857).
«Poemes Satumiens» — «Сатурнические стихотворения» — первая книга стихов П. Верлена (1866).
«De la musique encore et toujours»… — «Музыка прежде всего», строка из программного стихотворения «Поэтическое искусство» («Art poetique», 1874), которое цитируется ниже.
«Sagesse» — «Мудрость» — сборник стихотворений (1880); ниже цитируются строки из стихотворений этого сборника.
«Blasphemes» («Богохульства») — сборник стихотворений Ж. Ришпе- на (1884); опубл.: Paris: Maurice Dreyfous, 1884.
«Mes paradis» («Мои эдемы») — сборник стихотворений Ж. Ришпена «Мой рай» (1894); опубл.: Paris: Е. Fasquelle, 1894. Ниже цитируются строки из стихотворений этого сборника.
…сделавшись другом Сары Бернар, он написал для нее пьесу «Нана Саиб» и появился на сцене театра «Port Saint‑Martin» в главной роли. — Речь идет о постановке стихотворной драмы в 7 картинах «Nana Sahib» в Париже декабря 1883 г. в театре Porte‑Saint‑Martin; опубл.: Paris: М. Dreyfous, 1883).
…в «Песнях уличных бродяг»… — Речь идет о сборнике стихов Ж. Ришпена «Песнь босяков» («La chanson des gueux», 1876).
Прохладное вино, которое падает душем / В дыру, которая у людей под носом. / Дыра зевает, нужно, чтобы ее заткнули! (фр.).
…эпикурейское «carpe diem»… — Девиз эпикурейства, восходящий к поэтической формуле Горация (Оды, I, И).
…в духе Сара Жозефа Пеладан. — Речь идет об оккультном писателе Жозефе Пеладане, присвоившем себе титул sar. До выхода в свет этой статьи Мережковского он был известен как автор двух трактатов мистического содержания: «Constitution de la Rose‑Croix, le Temple et le Graal» (Paris, 1893) и «L’art idealiste et mystique, doctrine de l’Ordre et du salon annuel des Rose‑Croix» (Paris, 1894).
«Летучие мыши» — первый сборник стихотворений Р. де Монтескью- Фезенсака («Les Chauves‑Souris», 1892); опубл.: Paris: G. Richard, 1893.
…считает себя даже выше правил французской грамматики, со «La rose de Noel а Г air religieuse». — Речь идет о нарушении правила согласования по роду: Г air (вид, м. p.), religieuse (религиозная, ж. р.).
1…синолог Эдуард Шаванн не так давно читал блестящую вступительную лекцию оо «социальной роли китайской литературы». — Лекция «О социальной роли китайской литературы» («Du Role Social de la Litterature chinoise») явилась первой лекцией Э. Шаванна как професора College de France, прочитанной им 5 декабря 1893 г. Опубл.: Revue Ыеие. 1893. Т. LII. N 25. 16 decembre. P. 474—782. Статья Мережковского основана на этой публикации, которая далее подробно пересказывается и цитируется.
«Advancement of Learning» — «Продвижение учености» (1605). Э. Шаванн цитирует следующее издание книги Ф. Бэкона: L., Ed. Ellis and Spedding, 1857—1859. Vol. III. P. 399—400.
«On the population of China» — «Население Китая»; речь идет о репортаже Д. Даджона (J. Dudgeon), британского врача, фотографа, члена Лондонского миссионерского общества, сведения из которого приводит в своей статей Э. Шаванн (с. 775).
…Гете называл «священным изумлением». — Неточная цитата из «Разговоров»: «Высшее, чего может достигнуть человек, есть чувство удивления, и когда первичное явление природы приводит его в изумление, он должен быть доволен…» (II, 149; запись от 18 февраля 1829 г.).
…обескрылить вечно мятежную, огненную Психею и превратить ее в добродетельную, покорную и ползучую тварь! — Речь идет о Психее как олицетворении человеческой души, обычно изображаемой в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. Представление о страдающей, вечно мучающейся Психее (душе) отражено в «Метаморфозах, или Золотом осле» Апулея.
сборника г. Перцова «Философские течения русской поэзии»… — В публикации ошибочно напечатано «нации» вместо «поэзии».
…«Порт–Рояля» или первых томов «Происхождения современной Франции». — Пор–Рояль (Port‑Royal) — янсенистский монастырь, в стенах которого в спорах с иезуитами сформировалась целая плеяда полемистов и памфлетистов, крупнейшим из которых был Б. Паскаль. «Происхождение современной Франции» (Т. 1—3. Париж, 1876—1893) — исследование И. Тэна.
…созданием критики Ронсара, а из «Литературы» т–те де Сталь… — Имеется в виду ряд теоретических положений, высказанных Ронсаром в поэтических посланиях, в предисловии к «Франсиаде» (1572), а также его участие в разработке положений трактата «Защита и прославление французского языка» (1549) Жоашена Дю Белле. «Литература» — книга Ж. де Сталь «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями» (1800).
«Гамлет и Дон Кихот» Тургенева со «Мефистофель» Кавелина… — «Гамлет и Дон Кихот» — статья И. С. Тургенева, впервые опубл.: Современник. 1860. № 1; статья «Миллион терзаний» И. С. Гончарова впервые опубл.: BE. 1872. № 3; «Пушкин» Достоевского — имеется в виду речь Ф. М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности в зале Благородного собрания в честь открытия памятника Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. (опубл.: Дневник писателя. 1880. Август. Гл. 2); «Поэт пошлости» — статья о Н. В. Гоголе Ал. Градовского: BE. 1890. № 1; «Мопассан» Л. Толстого — речь идет о «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (Мопассан Г. де. Собр. соч.: В 5 т. М.: Посредник, 1894. Т. 1); «Мефистофель» Кавелина — статья «Мефистофель Антокольского» (BE. 1880. № 7; см.: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 476—488).
…после переводных статей Золя, Брандеса, Пелисье, после неоднократных изданий его произведений в переводах, после оригинальных статей Арсеньева, Тур, Боборыкина и многих других… — На русский язык переведены статьи Э. Золя «Парижские письма. Густав Флобер как писатель и как человек» (BE. 1880. № 7), «Реализм Флобера» (Живописное обозрение. 1880. № 22. 31 мая). Статья Г. Брандеса «Флобер» опубликована в журнале «Пантеон литературы» (1889. Апрель. Отд. III. С. 97—128). Статьи Ж. Пелисье о Флобере в русском переводе в кн.: «Литературное движение в XIX столетии» (М., 1895) и «Французская литература XIX века» (М., 1895). Статья К. Арсеньева «Современный роман в его представлении. Г. Флобер» опубликована в «Вестнике Европы» (1880. № 8). Статья Е. Тур «Нравоописательный роман во Франции» опубликована в журнале «Русский вестник» (1857. № И); статья П. Д. Боборыкина «Реальный роман во Франции» — в «Отечественных записках» (1876. № 6, 7).
…вышло еще два тома переписки… — Здесь неточность. К моменту выхода в свет «Вечных спутников» вышло три тома переписки Г. Флобера: Сог- respondance. 2 ser. (1850—1854). Paris, 1889; 3 ser. (1854—1869). Paris, 1891; 3 ser. (1869—1880). Paris, 1893.
Хорошая критика та, которая рассказывает о приключении своей души посередине шедевра (фр.).
Le bon critique go au milieu des chefs d’oeuvre. — Выражение А. Франса из его книги «La vie Litteraire» (1888—1892).
«Поэзия ставит нас в центр, от которого по всем направлениям исходят луни, соединяющие нас с бесконечным», — говорит В. Гумбольдт. — Цитата из главы «Характер языков. Поэзия и проза» его книги «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание» (СПб., 1859. С. 216).
Только у вас (у поэтов) мимолетные грезы / Старыми в душу глядятся друзьями. — Цитата из стихотворения А. А. Фета «Поэтам» (1890).
Характерно, что немецкий ученый сошелся с русским поэтом и для объяснения этой мысли не нашел другого сравнения. «Der typische Gegenstand tritt uns, wie ein guter Bekannter entgegen» (Groos, Einleitung in die Aesthetik). — Примеч. авт. «Типичная тема противится нам, как хороший знакомый» (Грос. Введение в эстетику) (нем.).
«Der typische Cegenstand tritt uns, wie ein guter Bekannter entegegen» go (Грос. Введение в эстетику). — Выражение из книги К. Гроса «Einleitung in die Aesthetik» (Giessen, 1892).
«Отдельный случай, — замечает в том же смысле Гёте, — становится общим именно потому, что он обрабатывается поэтом». — Цитата из «Разговоров» (I, 19; запись от 18 сентября 1823 г.).
…афоризм Гёте: «Das kleinste Haarwirft seinen Schatten». — Выражение из «Максим и рефлексий» Гёте (Maximen und Reflektionen, 1847. Allgemeines, Ethisches, Literarisches, IV, 228).
Bourgeois‑gentilhomme у Мольера удивился, узнав лишь на старости лет, что он всю жизнь говорит прозой. — Речь идет о Журдене, персонаже комедии «Мещанин во дворянстве» (действие 2–е, явление 6–е).
…он подсказывает, удачно переводит этот термин А–pH. Веселовский; он получает свойство постоянно обобщаться, быть иносказательным, подходит под бесчисленное множество применений, — говорит А. А. По- тебня. — Имеются в виду работы «Введение в историческую поэтику» (Журнал министерства народного просвещения. 1893. Ч. 293. Май. С. 22) А. Н. Веселовского и «Мысль и язык» А. А. Потебни (глава X «Поэзия. Проза. Сгущение мысли») (2–е изд. Харьков, 1892).
«Ко мне приходят, — говорит Гёте Эккерману оо Точно я сам знаю это и могу выразить!». — Цитата из «Разговоров» (I, 346; запись от 6 мая 1827 г.).
Разбирая сцену с Шаховским (челобитье бояр о разводе с женою) в «Царе Федоре» оо происходит от одного негодования» (проект постановки трагедии «Царь Федор»). — Цитируется раздел «Характеры. Царь Федор» «Проекта постановки на сцену трагедии „Царь Федор Иоаннович”» А. К. Толстого (см.: Собр. соч.: В 4 т. М., 1969. Т. 3. С. 504).
…Белинский только что прочел «Бедных людей» оо «Да вы понимаете ль сами–mo оо чтобы самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно!». — Цитата из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 г. (Январь. Гл. 2, IV) (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С. 30).
Анатоль Франс, La vie litteraire: «Tous les livres en general et meme les plus admirables me paraissent infiniment moins precieux par ce qu’ils contiennent, que par ce qu’y met celui qui les lit». — Примеч. авт. «Литературная жизнь»: «Все книги вообще и даже самые восхитительные мне кажутся гораздо менее ценными тем, что они содержат, чем тем, что туда вкладывает тот, кто их читает» (фр.).
…тот немецкий критик, который усмотрел в дяде Гамлета образцового государя и человека, тяготимого кознями интригана племянника… — Речь идет о К. Вердере («Лекции о „Гамлете” Шекспира»: Werder К. Vorle- sungen iiber Shakspeares Hamlet. Berlin, 1875).
…«частью той силы, которая желает добра и творит зло»… — Из «Фауста» Гёте (часть 1–я, сцена 3, «Рабочая комната Фауста»). В оригинале наоборот: «Ein Teil von jener Kraft / Die stets das Bose will und stets das Gute schafft» («Частица силы я, / Желавшей вечно зла, творившей лишь благое» (пер. Н. А. Холодковского).
…переходит в статую Антокольского, из статуи Антокольского в стихотворение гр. Голенищева–Кутузова… — Речь идет о скульптуре М. М. Антокольского «Голова Мефистофеля» (1879); экспонировалась в Петербурге весной 1880 г. на персональной выставке Антокольского. Имеется в виду стихотворение А. А. Голенищева–Кутузова «К Мефистофелю. Между „Христом” и „Сократом”» (BE. 1880. № 6), вошедшее в цикл «На выставке М. Антокольского» (см. об этом в статье К. Д. Кавелина «Мефистофель Антокольского»: Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. С. 476—488).
…Г. Мережковский обещал в предисловии к своему «Отверженному» написать роман из жизни Леонардо да Винни… — Предисловие к роману «Отверженный» (позднейшее заглавие «Смерть богов. (Юлиан Отступник)»), первой части трилогии «Христос и Антихрист» (см.: Отверженный. СПб., 1896. С. III). Роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» — вторая часть этой трилогии (1899).
спорить с Rimbaud (автором знаменитого сонета «А noir, Е Ыеи, I rouge») о том, что А не нерно, а бело… — Речь идет о сонете А. Рембо «Гласные» (1883): «А — черный, белый — Е; И — красный; У — зеленый; О — синий…».
… направление Буало и Дезире Низара… — Речь идет о Н. Буало как авторе классицистского трактата «Поэтическое искусство» (1674) и о Д. Низаре как противнике романтизма во французской литературе.
Ein jeder sieht was er im Herzen tragt. — Цитата из «Пролога в театре» «Фауста» Гёте.
Стихи подобны разноцветным стеклам / Церковных окон. Заглянув снаружи, / Мы ничего там не увидим толком. / «Сплошная муть, а может быть, и хуже!» — / Так скажет обыватель. Он сердит, / Когда он ничего не разглядит! (нем.). (Пер. Б. Заходера).
«Cedichte sind gemalte Fensterscheiben go Und so sieht’s auch der Herr Phi- lister». — Цитата из стихотворения Гёте «Стихи подобны разноцветным стеклам…» (1827) (см.: Гете И. — В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература, 1975. Т. 1. С. 433).
…«поэтическое произведение есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим»… — Цитата из книги «Из записок по теории словесности» (Харьков, 1905. С. 314).
…«Три пальмы» Лермонтова со «человек не понимает природы — пальмы поняты человеком и изрублены им на костер» (Андреевский). — Цитируется статья С. Андреевского «Лермонтов» (Андреевский С. Литературные чтения. СПб., 1891. С. 230).
Она вызывает именно индивидуальное, особое видение мира, которое присуще одному мастеру. Способ видеть, слышать, чувствовать (нем.).
Cerade das Persdnliche reizt sie go zu fiihlen. — Цитата из брошюры Г. Бара: Zur kritik der Modern. Zurich, 1890.
Es fragt sich also nur, eb er eine Weise habe. — Цитата из «Максим и рефлексий» Гёте (Maximen und Reflektionen. Allgemeines, Ethisches, Literarisches, IV, 277).
«Вера» — повесть в стихах Мережковского (впервые: РМ. 1890. № 3. С. 11—45; № 4. С. 8—39), вошла в его книгу «Символы. (Песни и поэмы. 1887—1891)» (СПб., 1892).
«Jeder Mensch ist einmaliges Wunder». — Афоризм Ф. Ницше («Unzeit- gemasse Betrachtungen», III: «Schopenhauer als Erzieher»).
«Он жаждал образа оо „наполовину выросшей из почвы”, „может быть — недоброй”». — Неточная цитата из письма И. С. Тургенева к К. К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г., Париж (впервые: Тургенев И. С. Первое собрание писем. 1840—1883. СПб., 1884. С. 104—107; см. также: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1988. Т. 5. С. 59).
…«мне мечтался какой‑то странный pendant с Пугачевым». — Из того же письма И. С. Тургенева к К. К. Случевскому.
«А mesure qu on a plus d'esprit oo ne trouvent pas de differance», — заметил Паскаль. — Цитируются «Мысли» (1669) (Pensees. I, 7).
…книги Фагэ у французов… — Речь идет о работах французского критика и историка литературы Эмиля Фаге (1847—1916): «Dix‑septieme siecle» («Семнадцатый век»), «Dix‑neuvieme siecle» (1887) («Девятнадцатый век»), «Dix‑huitieme siecle» (1890) («Восемнадцатый век»), «Seizieme siecle» (1894) («Шестнадцатый век»), «Etudes litteraires» (1890) («Литературные исследования») и др. На русский язык были переведены работы Э. Фаге: Семнадцатый век. Литературные очерки / Пер. слушательниц Высших женских курсов. СПб.: Тип. Д. Руднева, 1883; Очерк жизни и литературной деятельности Расина // Расин Жан Батист. Гофолия. М., 1892.
У одних любовь прямо сердечная оо такова она была, по описанию А. Ф. Кони, у Ф. Гааза («Вестник Европы», 1891, № 1). — Речь идет об очерке А. Ф. Кони (1844—1927) «Доктор Ф. П. Гааз» (BE. 1897. № 1. Отд. I. С. 8—62), посвященном подвижнической деятельности тюремного врача, которого заключенные называли «святой доктор» и «Божий человек». Сравнивая его с предшественником, А. Ф. Кони писал: «Его личность представляет не меньший интерес, чем личность Говарда. Он нам ближе, понятнее… Скажем более — от нее веет большим сердечным теплом» (с. 12).
…произведут взрыв получше тех, которые неудачно сошли для Вальяна и 12–го февраля 1894 для Анри. — Речь идет о событиях конца 1893 г. и начала 1894 г. в Париже. Анархист Вальян взорвал бомбу в палате депутатов в Париже в октябре 1893 г., он был арестован и приговорен судом присяжных к смертной казни; казнен 24 января (5 февраля) 1894 г. (Новости и биржевая газета. 1894. № 25. 25 января (6 февраля). С. 1). О новом взрыве газета сообщала 2 (14) февраля 1894 г.: «В кафе „Терминюс” брошена бомба внутри заведения. Виновник покушения бросился бежать. Преследуемый народом, он произвел шесть выстрелов из револьвера и ранил двух человек (…) Взрыв был очень сильный и произвел невыразимую панику. Ранено около 15 человек, все они парижане (…) Арестованный объявил, что его зовут Лебретоном, ему лет, по убеждениям он анархист (…) Вследствие взрыва в кафе „Терминюс” и манифестаций на могиле Вальяна, на кладбище Иври, совет министров решил воспрепятствовать манифестации» (Новости и биржевая газета. 1894. № 33. 2 (14) февраля. С. 1). Газета публиковала результаты расследования, согласно которым под именем Лебретон скрывался Эмиль Анри, родившийся сентября 1872 г. в Барселоне (Новости и биржевая газета. 1894. № 34. (15) февраля. С. 1). В редакционной заметке этого же выпуска газеты говорилось: «Едва успели в Париже казнить анархиста–динамитчика Вальяна, произведшего взрыв в палате депутатов, как новое преступление того же рода взволновало Францию. Преступления вроде подвигов Равашоля, Вальяна и вчерашнего парижского оказываются возможными лишь потому, что в общественных французских сферах еще не пришли к осознанию страшного вреда анархизма»(с. 1).
Я буду похож на того поэта–декадента Талъяда оо жест кидавшего бомбу Вальяна был божественно красив. — Французский поэт–символист Лоран Тальяд в 1894 г. был ранен бомбой, брошенной Э. Анри в ресторане «Терминюс». Незадолго перед тем по поводу взрыва в палате депутатов, произведенного Вальяном, он высказался, что не беда, если гибнут люди, «когда жест красив».
«Я собственно никогда не чувствовал острого пристрастия к солидарности» (нем.). Пер. М. В. Лучицкой.
Известно также его изречение: «Fiir das Solidansche hab'ich eigentlich niemals ein starkes Gefuhl gehabt». — Из письма к Г. Брандесу от 24 сентября 1871 г. (см.: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 695). Мережковский в статье «Ибсен» переводил это изречение так: «К общению с людьми — собственно говоря — я никогда не имел большой склонности» (см. с. 795).
…удалось добыть издательнице «Северного вестника» записки матери для напечатания в этом журнале. — Речь идет о Л. Я. Гуревич, получившей у дочери Смирновой готовую для печати копию мемуаров на французском языке. «Записки» публиковались в журнале «Северный вестник» с февраля 1893 г. по сентябрь 1894 г., затем выпущены отдельным изданием (см. преамбулу к примеч. к статье «Пушкин», с. 809).
Соч. Пушкина, издание Морозова, т. V, стр. 240: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства, я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков». — Примеч. авт.
…Веллингтоновский «Reformbill»… — Веллингтон Артур–Коллей Вел- леслей (1769—1852), герцог, премьер–министр Великобритании с 1828 по 1830 г., под давлением массового движения провел акт «Об эмансипации католиков» (1829), хотя был его противником.
…«Воспоминаниях и Очерках» Анненкова… — Точное название: «Воспоминания и критические очерки» (Т. 1—3. СПб., 1877—1881).
…когда начал действовать негласный (бутурлинский) комитет 2–го апреля… — Речь идет о создании в 1848 г. «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений», председателем которого стал Д. П. Бутурлин (1790—1849), военный историк, генерал–майор, с 1843 г. — директор императорской Публичной библиотеки, считавший, что «если бы Евангелие не была такая известная книга, надо бы цензуре исправить ее».
Дорогая госпожа Осипова, хотя жизнь — siisse Gewohnheit (сладкая привычка (нем.). — Ред.), однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной, а свет — мерзкая куча грязи (фр.). (Цит. по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 375— 376).
…(все conventionelle Liigen, как выражается Max Nordau)… — Парафраз названия книги М. Нордау «Die conventionellen Liigen der Kulturmen- schheit» («Условная ложь культурного человечества») (Leipzig, 1883).
Кстати, аргументы г. Спасовича против достоверности записок Смирновой положительно блестящи и во многом неотразимы. Он указывает массу фактических и хронологических ошибок во всем, что касается сведений о Пушкине. И больше: по его мнению, Пушкин в «Записках» не таков, каким он был в действительности. Жаль поэтому, что «Записки» вышли вторым изданием: они могут ввести в заблуждение многих, как уже ввели г–на Мережковского. — Примеч. авт.
…к методе С. Бёва. со оставить о нем лишь приятное воспоминание. — Автор рецензии иронизирует над нетвердостью убеждений Ш. О. Сент–Бёва, его зависимостью от громких литературных репутаций, что зачастую приводило к непоследовательности в его оценках. См. оценку, данную ему Г. Брандесом, в примеч. 4 к «Выпискам и заметкам о Монтане», с. 835.
…я уже достаточно говорил на столбцах «Новостей» и, следовательно, с этим пунктом я согласен. — Скриба имеет в виду высказанную им в статье «Что сей сон значит? (Нечто удивительное и нравоучительное)» (Новости и биржевая газета. 1896. № 340. 9 (21) декабря. С. 2) мысль о многоли- кости Мережковского: «Протей, настоящий Протей! То он выступит с критической статьей, то с переводом древнегреческой трагедии, то с историческим романом. Я не говорю уже о стихах, поэмах, лирических драмах, мелких рассказах и даже ученых исследованиях (наприм., о Монтене). Очевидно, для полноты коллекции не хватает только надписей на монументы или гимнов пряникам… Но если нет надписей и гимнов — появились зато новеллы, что и оригинально, и поразительно».
Поводом к этому выступлению стала публикация в «Северном вестнике» двух новелл Мережковского под общим названием «Две новеллы XV века»: «Наука любви. Итальянская новелла» и «Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла» (1896. № 8. С. 89—113). Скриба обвинил Мережковского в присвоении чужого произведения. Пересказывая содержание новеллы Джованни Фио- рентино, в которой Буччиоло обращается к своему профессору с просьбой научить его «науки любви», Скриба писал: «Новелла, как вы видите, из веселеньких. Но она становится еще интереснее, если сравнить ее с «Наукой любви» г. Мережковского: мы видим не только полное сходство в произведениях двух «гениев» XV и XIX столетий, но… просто буквальный перевод итальянского текста на русский». Завершая рецензию, Скриба писал: «Читая его произведения теперь уже трудно отрешиться от вопросов: „А это откуда? А то? А роман «Отверженный»?” и т. д. В романе „Отверженный”, например, так много сцен, эти сцены так различны по стилю, что как‑то невольно приходит в голову: нет ли и тут каких‑нибудь заимствований?..». Мережковский в «Письме в ред(акцию). (Ответ Скрибе)» объяснил ситуацию так: «(…) Текст второй новеллы, озаглавленной „Любовь сильнее смерти”, принадлежит мне целиком. Что же касается рассказа „Наука любви”, заимствованного у одного итальянского новеллье- ра эпохи Возрождения, то выясненный мной контраст культурных идей и настроений в двух противоположных и преднамеренно сопоставляемых любовных новеллах, так же как некоторые введенные мною сокращения и добавления, настолько изменили внутренний эстетический строй и дух старинного текста, что я счел себя не вправе приписывать его Джиованни Фиорентино… Я не предполагал, что это заглавие, которое я продолжаю считать точным и достаточно определяющим общий характер моей работы, могло дать повод для каких‑либо недоразумений» (Новости и биржевая газета. 1896. № 342. 11 (23) декабря. С. 2).
Скриба не посчитал ответ Мережковского убедительным. В следующем выпуске газеты в рубрике «Письма в редакцию. II» он поместил заметку, в которой высказал удивление позицией Мережковского: «Оставьте, г. Мережковский. Вы лучше всякого другого знаете, что ваши слова — пустая отговорка. Вы перевели, не указав источника — вот и весь инцидент». Название публикации, которое Мережковский «продолжает считать правильным», Скриба также оспаривал: «Оно неправильно уже потому, что новелла Фиорентино принадлежит XIV веку» (1896. № 343. 12 (24) декабря. С. 2).
…«я хочу, чего нет на свете» со «злой дух! Неужели ты непризнанный учитель великой красоты?» — Неточно цитируются стихотворения 3. Гиппиус «Песня» (1893; опубл.: Гиппиус (Мережковская) 3. Н. Рассказы. СПб., 1896) и «Гризельда» (1895).
…читатели нашего журнала знают оо (см. июльскую книгу)… — Речь идет о рецензии А. Богдановича на книгу «Философские течения русской поэзии»: А. Б. Критические заметки // Мир Божий. 1896. Кн. VII. Июль. Отд. II. С. 239—241.
…(…в «Философских течениях русской поэзии», изд. г. Перцева). — Фамилия составителя — Перцов.
Д. С. Мережковский. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб., 1897. — Примеч. авт.
…предсказывал «день великого крушенья»… — Неточно цитируется стихотворение «Предчувствие» (1886) (у Мережковского: «грозный час великого крушенья»).
…его стихотворением о семи нищих и статуе Будды… — Речь идет о стихотворении «Сакья–Муни» («По горам, среди ущелий темных…»; опубл.: BE. 1886. № 2, с подзаг. «Буддийское предание»).
…ни в поэзии белого слона со «вся преступная, вся обнаженная». — Речь идет о поэмах «Орваси» (1886) и «Леда» (1895).
Долинин А. Дмитрий Мережковский // Русская литература XX века. 1890—1910 / Под ред. С. А. Венгерова: В 2 т. М.: XXI век—Согласие, 2000. Т. 1. С. 279—280.
Ильин В. Памяти Дмитрия Сергеевича Мережковского // Ильин В. Эссе о русской культуре. СПб., 1991. С. 311.
Бердяев Н. А. Новое христианство. (Д. С. Мережковский) // Н. А. Бердяев о русской философии: В 2 ч. Свердловск, 1991. Ч. 2. С. 127.
^ См. подробнее: Андрущенко Е. Тайновидение Мережковского // Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000. С. 481—529. (Серия «Литературные памятники»).
Гиппиус 3. Дмитрий Мережковский // Гиппиус 3. Живые лица: В 2 т. Тбилиси: Мерани, 1991. Т. 2. С. 247.
Мережковский Д. С. Записные книжки и письма / Публ. Е. А. Андрущенко, Л. Г. Фризмана // Русская речь. 1993. № 5. С. 30. (Письмо к В. Я. Брюсову. (2 февраля 1906 г.)).
Шестов Л. Власть идей. (Д. Мережковский. «Л. Толстой и Достоевский». Т. II) // Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления / Предисл. Н. Б. Иванова. Л., 1991. С. 209.
Зайисв Б. Памяти Мережковского. 100 лет // Мережковский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет / Сост. Е. Я. Данилова. М., 1991. С. 483.
Мережковский Д. С. Автобиографическая заметка // Русская литература XX века. 1890— 1910. Т. 1. С. 277.
Позднее Мережковский признавался А. В. Половцову, что «Флобера совсем не изучал» (см.: Соболев А. Л. Мережковский в работе над романом «Смерть богов. Юлиан Отступник» // Д. С. Мережковский. Мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 44).
См.: Эльзон М. Д. «В литературе известен такой случай…». (Н. С. Лесков против… Д. С. Мережковского) // Русская литература. 1995. № 4. С. 156 —159.
Письмо к А. В. Амфитеатрову от 10. VIII.(1930) // Письма Д. С. Мережковского А. В. Амфитеатрову / Публ., вступ. заметка и примеч. М. Толмачева и Ж. Шерона // Звезда. 1995. № 7. С. 161.
Мережковский Д. С. Пролог на небе. (Из «Фауста» Гёте) // РО. 1892. № 2. Февраль. С. 202—207.
3! Мережковский Д. С. Я. П. Полонский // Мережковский Д. С. Эстетика и критика: В 2 т. / Вступ. ст., сост. и примеч. Е. Андрущенко, Л. Фризмапа. М.: Искусство; Харьков: Фолио, 1994. Т. 1. С. 533.
Мережковский Д. С. Письмо к В. Ф. Коммиссаржевской от октября 1908 г. // Мережковский Д. С. Акрополь: Избранные литературно–критические статьи / Сост., авт. предисл. и коммент. С. Н. Поварцов. М., 1991. С. 323—324.
Мережковский Д. С. Марк Аврелий // Мережковский Д. С. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. СПб.: Академический проект, 2000. с. 339—340.
Цит. по: Соболев А. Л. Мережковский в работе над романом «Смерть богов. Юлиан Отступник» // Д. С. Мережковский. Мысль и слово. С. 44—45.
Розанов В. В. В чем главный недостаток «наследства 60—70–х годов»? // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 168—169. (Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина).
Скабичевский А. М. Курьезы и абсурды молодой критики // Сочинения А. М. Скабичевского: В 2 т. 3–е изд. СПб., 1903. Т. 2. С. 539.
История издания «Записок А. О. Смирновой. (Из записных книжек. 1826—1845)» (СПб., 1895) подробно восстановлена С. В. Житомирской в статье «А. О. Смирнова–Россет и ее мемуарное наследие»: Смирнова–Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989. (Серия «Литературные памятники»).
Адамович Г. Мережковский // Адамович Г. Сомнения и надежды. М.: ОЛМА—Пресс, 2002. С. 60.
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. М.: Наука, 1982. С. 174.
Никольский Б. В. «Вечные спутники» г. Мережковского // Исторический вестник. 1897. Т. LXX. Кн. XI. Ноябрь. С. 593.
Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Ныо–Иорк, 1987. С. 30—31.
Спасович В. Д. Д. С. Мережковский и его «Вечные спутники» // BE. 1897. № 5—6. С. 559—560.
Спасович В. Д. Тезисы мои для беседы о «Вечных спутниках» — тезисы к лекции о Мережковском // ИРЛИ. Ф. 62. (Арх. П. И. Вейнберга). Оп. 3. № 444. Л. 62—63.
Краткую характеристику статьи об Ибсене см. в кн.: Шарыпкин Д. М. Скандинавская литература в России. Л.: Наука, 1980. С. 282—283.
Мережковский Д. С. Вечные спутники. Пушкин. СПб.: М. В. Пирожков, 1906. 90 с. С пометами и приписками Лернера // РНБ. Ф. 430. Н. О. Лернер. Ед. хр. 99.
Мережковский Д. С. Праздник Пушкина // Мережковский Д. С. Эстетика и критика. Т. 1. С. 542, 544.
Мережковский Д. С. Байрон // Мережковский Д. С. Было и будет: Дневник. Пг., 1915. С. 15.
Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // Мережковский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет / Сост. Е. Я. Данилова. М.: Советский писатель, 1991. С. 393, 404.
Мережковский Д. С. Наполеон // Мережковский Д. С. Данте. Наполеон. М.: Республика, 2000. С. 255.
Адамович Г. Мережковский // Адамович Г. Сомнения и надежды. М.: ОЛМА—Пресс 2002. С. 58—59, 60.
Document ID: ooofbtools-2012-3-20-21-19-41-611
Document version: 1
Document creation date: 20.03.2012
Created using: ExportToFB21, FictionBook Editor Release 2.6 software
This file was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter version 1.1.5.0.
(This book might contain copyrighted material, author of the converter bears no responsibility for it's usage)
Этот файл создан при помощи конвертера FB2EPUB версии 1.1.5.0 написанного Lord KiRon.
(Эта книга может содержать материал который защищен авторским правом, автор конвертера не несет ответственности за его использование)