Православный портал «Азбука веры»
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»
(Псалтирь 118:18-19)

«Столп и утверждение истины» — центральная книга свящ. Павла Флоренского и во многом всего русского религиозного возрождения.
«Столп и утверждение истины» — гениальная попытка тематизации основных истин христианской веры. Принципиальна, поэтому, форма, избранная Флоренским — письма Другу. Только в опыте, личном обращении, в ситуации встречи возможно говорить о Боге. «Столп и утверждение истины» можно разделить на две части. Первая рисует ситуацию человека перед отсутствием истины, поиска ума опоры себе. Твердой истины не оказывается, все плывет. Флоренский рисует ад сомнения, мышеловку ума, вечное кружение в пустоте. Только скачком ум может прийти к Троице — скачком безумной веры. Если истина есть, то она — Троица. Пожалуй, это главное достижение книги: постановка тринитарного мышления в основу философии. Действительно, если философия хочет быть православной, то в основе своей она должна иметь немыслимую бездну Троицы (вот, кстати, подлинное следование святоотеческому богословию). Для описания такого мышления Флоренский вводит термин «антиномия», которому суждено будет сыграть определяющую роль в христианской философии. Антиномическое мышление — мышление в противоречии, мышление, не «снимающее» конкретность, реальность в абстракции, твердо держащиеся того, что есть — несхватываемого бытия. Т. о. Флоренский наметил магистральный путь православной мысли в XX веке: скажем, Харт или Зизилуас не будут повторять ни тезисов, ни доказательств Флоренского, но вот эти тринитаризм и антиномизм мышления останутся.
Вторая часть «Столпа и утверждения истины», утвердившись в безопорности Триличной Истины раскрывают первопонятия христианской философии: Триединство, антиномия, грех, геена, Творение, София, любовь, дружба, ревность (как видите, своеобразная подборка).
Розанов справедливо называл «Столп и утверждение истины» «густой книгой». Можно не соглашаться с аргументацией или самими мыслями Флоренского, но «Столп и утверждение истины» не могут не поражать исключительным богатством материала (не говоря про литературное совершенство). Математика и лингвистика, литургические богатства Церкви и писания Св. Отцов, философы — древние и современные, художественная литаратура — это и многое другое вошло в ткань «Столпа и утверждения истины» Флоренкого.
Флоренский так описывает замысел «Столпа и утверждения истины»: «Живой религиозный oпыт, как единственный законный способ познания догматов» — так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моихъ набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный опыт можно обозреть и оценить духовные сокровища Церкви. […] Что такое церковность? — Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? — Красота. Да, есть особая красота духовная, и она, неуловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой краcoты — cтapцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые omцы называют аскетику. Cтapцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный.»
Здесь мы приводим ПОЛНУЮ, максимально близкую к оригиналу версию книгу, включающую 15-20 дополнительные главы, все примечания, иллюстрации и пр. (онлайн-версия, кнопки fb2, epub, mobi). При нажатии кнопки pdf — репринт издания 1914 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
«ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ»
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА
1990
Издание книги «Столп и утверждение истины» было продумано П. А. Флоренским с чрезвычайной тщательностью: сам он разработал проект обложки, подобрал шрифты ко всему тексту, титульную иллюстрацию и гравюрные заставки–розетки, предпосланные главам; помимо этого книга изобилует схемами, рисунками и репродукциями. Таким образом, перебор текста при новых изданиях «Столпа» не только представляет сложную задачу, но грозит исказить первоначальный замысел автора, более того, уничтожить замечательный памятник книжной культуры. Руководствуясь этими соображениями и следуя сложившейся уже традиции репринтного переиздания «Столпа», редакция серии «Из истории отечественной философской мысли» представляет факсимиле издания книги 1914 года, которое (уже по современным техническим условиям) разделено на два полутома. Содержание ко всему тому помещено в начале первого полутома.
СОДЕРЖАНИЕ
СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ
Часть 1
I. — К читателю 3
II. — Письмо первое: Два мира 9
III. — Письмо второе: Сомнение 15
IV. — Письмо третье: Триединство 51
V. — Письмо четвертое: Свет Истины 70
VI. — Письмо пятое: Утешитель 109
VII. — Письмо шестое: Противоречие 143
VIII. — Письмо седьмое: Грех 166
IX. — Письмо восьмое: Геенна 205
X. — Письмо девятое: Тварь 260
XI. — Письмо десятое: София 319
XII. — Письмо одиннадцатое: Дружба 393
XIII. — Письмо двенадцатое: Ревность 464
XIV. — Послесловие 483
Часть 2
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ЧАСТНОСТЕЙ, В ТЕКСТЕ ПРЕДПОЛАГАВШИХСЯ УЖЕ ДОКАЗАННЫМИ
XV. — Некоторые понятия из учения о бесконечности 493
XVI. — Задача Льюиса Кэрролля и вопрос о догмате (к стр. 61) 500
XVII. — Иррациональности в математике и догмате (к стр. 59) 506
XVIII. — Понятие тождества в схоластической философии (к стр. 79) 515
XIX. — Понятие тождества в математической логике (к стр. 81) 519
XX. — Время и Рок (к стр. 193) 530
XXI. — Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия (к стр. 267) 535
XXII. — Икона Благовещения с космическою символикою (к стр. 353) 540
XXIII. — К методологии исторической критики (к стр. 362) 544
XXIV. — Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего света (к стр. 375) 552
XXV. — «Амулет» Паскаля 577
XXVI. — К истории термина «антиномия» (к стр. 153) 582
XXVII. — Эстетизм и религия (к стр. 7, 99 и др.) 585
XXVIII. — Гомотипия в устройстве человеческого тела (к стр. 266) 587
XXIX. — Заметки о Троичности (к стр. 50, 223) 593
XXX. — Основные знаки и простейшие формулы логистики (для справок) 600
Примечания и мелкие заметки 607
Разъяснения некоторых символов и рисунков 807
ПРИЛОЖЕНИЯ
Священник Павел Флоренский. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги «О Духовной Истине» 817
Игумен Андроник (Трубачев). Из истории создания книги «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского».
ή δέ γνώσις αγάπη γίνεται.
Св. Григорий Huccкий.
МОСКВА
1914.
Всеблагому и Пречистому
Имени
Девы и Матери
{стр. 1}

FINIS AMORIS, UT DUO UNUM FIANT.
ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ — ДА ДВОЕ ЕДИНО БУДУТ.
{стр. 2}
«— Не позазрите на мя, господия мои и братие яко юнейший аз всем вам, и дерзаю писати о чюдесех святаго. Вем бо и аз свою худость и зазираем бываю совестию и худоумием своим; паче ж и греха ради моего многа тягостно ми сие великое дело есть. И не мое дело сие есть, но ваше древних и великих отец, еже в чюдесех преподобнаго отца нашего Сергия поучатися и нас грубых просвещати учением и впредь будущим родом писанием возвещаши. Но молюся вам, послушайте прилежно: аще аз не буду писати, а вы тако ж не изволите, то от ково повеление царево исполнится и о чюдесех святаго кто возвестит, яко ж и прежний не писаша толико лет? Аще бо и грешен есмь и невежда и неискусен на такое дело, но строение ми прилежит и нужда ми есть сицево дело начати, совершитель же всякому благому делу — Отец и Сын и Святый Дух».

Е me alo. Собою питаю.
{стр. 3}
«Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов» — так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моих набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный опыт можно обозреть и оценить духовные сокровища Церкви. Только водя по древним строкам влажною губкой можно омыть их живою водою и разобрать буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для живых и мертвы для мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, для параличной — тела их застывают в жуткой неподвижности, разве не известно, что кликуши и бесноватые боятся их? и не грех ли пред Церковью заставляет боязливо коситься на нее? Но ясные очи по–прежнему видят лики угодников сияющими, «как лицо ангела». Для очищенного сердца они по–старому приветливы; как встарь вопиют и взывают к имеющим уши слышать. Я спрашиваю себя: почему чистая непосредственность народа невольно тянется к этим праведникам? Почему у них находит себе народ и утешение в немой скорби, и радость прощения, и красоту небесного празднества? Не обольщаюсь я. Знаю твердо, что зажег я себе не более, как лучинку или {стр. 4} копеечную свечечку желтого воску. Но и это, дрожащее в непривычных руках, пламешко мириадами отблесков заискрилось в сокровищнице св. Церкви. Многими веками, изо дня в день собиралось сюда сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая крупинка за крупинкою, червонец за червонцем. Как благоуханная роса на руно, как небесная манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости богообщения и святые муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно–глубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь — любовь без конца… Текли века, а это все пребывало и накапливалось.
И каждое мое духовное усилие, каждый вздох, слетающий с кончика губ, устремляет на помощь мне весь запас накопленной благодатной энергии. Невидимые руки носят меня по цветущим лугам духовного мира. Загораясь тьмами тем и леодрами леодров [1], сверкающих, искрящихся, радужно–играющих взглядов, переливаясь воронами воронов светозарных брызог, сокровища Церкви приводят в благоговейный трепет бедную мою душу. Неисчислимы, несметны, несказуемы богатства церковные. Мне можно взять себе часть их для пользования, для своей пользы, — может ли глаз не разгореться? Жадность разбирает меня, я хватаю первую попавшуюся пригоршню. Я еще даже не посмотрел, что́—это: алмазы, карбункулы или смарагды? или, быть может, нежные маргариты? Я не знаю, лучше ли, хуже ли моя пригоршня, нежели все остающееся. Но, — по слову Афанасия Великого, — из многого взяв немногое» я знаю, что я заранее недоволен своею работою, потому что глаз слишком разгорелся на ценности. Что́ значит одна–две кучки само{стр. 5}цветных камней, когда их мерят четвериками? и я невольно вспоминаю, как постепенно менялся в моем сознании общий дух работы. Сперва было предположено не делать ни одной ссылки, а говорить только своими словами. Но скоро пришлось вступить в борьбу с самим собою и дать место коротеньким выдержкам. Далее, они стали расти, ширясь до целых отрывков. И, наконец, мне начало казаться, что необходимо отбросить все свое и печатать одни только церковные творения. Может быть, это — единственный правильный путь, — путь прямого обращения к самой Церкви. Да и кто́ я, чтобы писать о духовном? «Вем бо и аз свою скудость и зазираем бываю совестию и худоумием своим; паче ж грехa ради моего многа тягостно ми сие великое дело есть». И если я все–таки придаю некоторое значение своим Письмам, то исключительно подготовительное, для оглашенных, пока у них не будет прямого питания из рук Матери, — значение, как бы, огласительных слов во дворе церковном. —
Ведь, церковность — вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум. Пусть ни я, ни другой кто не мог, не может и, конечно, не сможет определить, что́ есть церковность! Пусть пытающиеся сделать это оспаривают друг друга и взаимно отрицают формулу церковности! Самая эта неопределимость церковности, её неуловимость для логических терминов, её несказанность не доказывает ли, что церковность — это жизнь, особая,новая жизнь, данная человекам, но, подобно всякой жизни, недоступная рассудку [2]? А разномыслия при определении церковности, возможность с разных сторон пытаться установить в словах, что́ есть церковность, эта пестрота неполных и всегда недостаточных словесных формул церковности не подтверждает ли нам опытно, в свою очередь, то, что было нам уже сказано Апостолом; ведь Церковь есть тело Хри{стр. 6}стово, «полнота (τό πλήρωμα) наполняющего все во всем» (Еф. 1, 23). Так как же эта полнота, — το πλήρωμα, — Божественной жизни может быть уложена в узкий гроб логического определения? Смешно было бы думать, будто эта невозможность что–либо свидетельствует против существования церковности; напротив, последнее таковою невозможностью скорее обосновывается. И, поскольку церковность первее отдельных проявлений своих, поскольку она есть та бого–человеческая стихия, из которой, так сказать, сгущаются и выкристаллизовываются в историческом ходе церковного человечества чинопоследования таинств, формулировки догматов, канонические, правила и, отчасти даже, текучий и временный уклад церковного быта, — постольку к ней, к этой полноте по преимуществу относится пророчество Апостола: «Надо быть и разномыслиям между вами — δεί — καί αίρέσεις έν υμίν είναι» (1 Кор. 11, 19), — разномыслиям в понимании церковности. И, тем не менее, всякий, не бегущий от Церкви, самою жизнью своею приемлет в себя единую стихию церковности и знает, что е́сть церковность и что́ есть она.
Там, где нет духовной жизни, — необходимо нечто внешнее, как обеспечение церковности. Определенная должность, папа, или совокупность, система должностей, иерархия, — вот критерий церковности для католика. Определенная вероисповедная формула, символ, или система формул, текст Писания, — вот критерий церковности для протестанта. В конечном счете, и там и тут решающим является понятие, — понятие церковно–юридическое у католиков и понятие церковно–научное — у протестантов. Но, становясь высшим критерием, понятие тем самым делает уже ненужным всякое проявление жизни. Мало того, так как никакая жизнь не может быть соизмерима с понятием, то всякое движение жизни неизбежно переливается за намеченные понятием границы и, тем самым, оказывается зловредным, нетерпимым. Для католицизма (разумеется, беру как {стр. 7} католицизм, так и протестантизм в их пределе, в их принципе) всякое самостоятельное проявление жизни неканонично, для протестантизма же — оно ненаучно. И там и тут жизнь усекается понятием, загодя отвергается во имя понятия. Если за католицизмом обычно отвергают свободу, а протестантизму ее решительно приписывают, то и то и другое одинаково несправедливо. И католицизм признаёт свободу, но… заранее определенную; все же, что вне этих пределов, то — незаконно. И протестантизм признаёт насилие, но… тоже лишь вне заранее намеченного русла рационализма; все, что вне его — то ненаучно. Если в католицизме можно усматривать фанатизм каноничности, то в протестантизме — нисколько не меньший фанатизм научности.
Неопределимость православной церковности, — повторяю, — есть лучшее доказательство её жизненности. Конечно, мы не можем указать такой церковной должности, про которую могли бы сказать: «Она суммирует в себе церковность», да и к чему были бы тогда все остальные должности и деятельности Церкви. Не можем равным образом указать мы и такой формулы, такой книги, которую можно было бы предложить, как полноту церковной жизни, и опять, если бы были такая книга, такая формула, то к чему были бы тогда все прочие книги, все прочие формулы, все прочие деятельности Церкви. Нет понятия церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но жизнь церковная усвояется и постигается лишь жизненно, — не в отвлечении, не рассудочно. Если уж надо применять к ней какие–нибудь понятия, то ближе всего сюда подойдут понятия не юридические и не археологические, а биологические и эстетические. — Что такое церковность? — Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? — Красота. Да, есть особая красота духовная, и она, неуловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к опреде{стр. 8}лению, что́ православно и что́ нет. Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называют аскетику. Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный. Рассказывают, что плавать теперь за границею учатся на приборах. — лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью, — в кабинете своем. Но, чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно, — и нет иного пути.
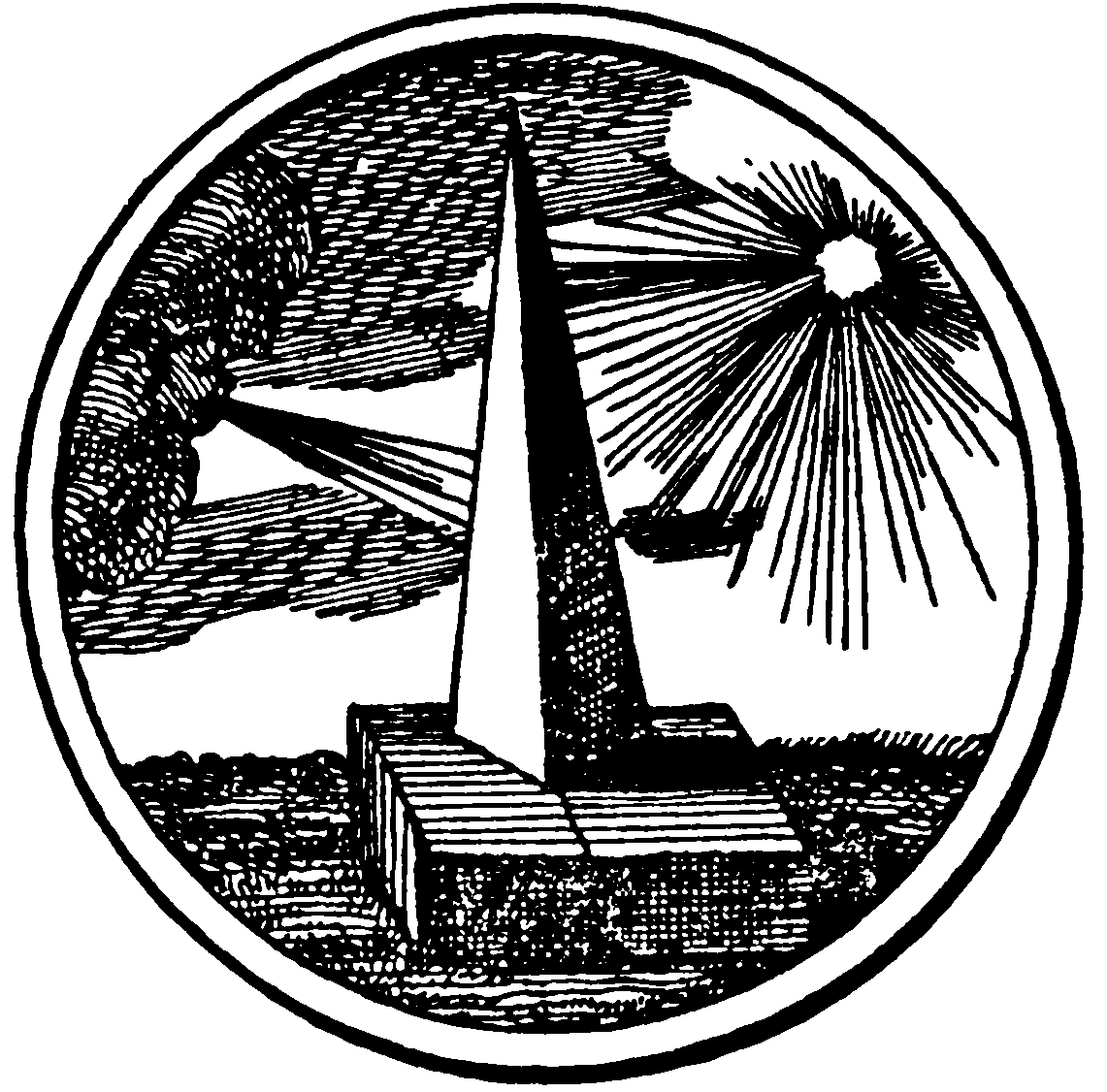
Sic semper. — Всегда такова.
{стр. 9}
Мой кроткий, мой ясный!
Холодом, грустью и одиночеством дохнула на меня наша сводчатая комната, когда я в первый раз после поездки открыл дверь в нее.
Теперь, — увы!, — я вошел в нее уже один, без тебя.
Это не было только первое впечатление. Вот, я примылся и прибрался. По–прежнему выстроились на полках ряды материализованных мыслей. По–прежнему постлана твоя постель, и твой стул стоит на своем месте неизменно (пусть будет хоть иллюзия, что ты — со мною!). На дне глиняного горшочка по–прежнему горит елей, бросая сноп света вверх, на Нерукотворенный Лик Спасителев. По–прежнему поздними вечерами шумит в деревах за окном ветер. По–прежнему ободрительно стучат колотушки ночного сторожа, кричат. грудными голосами паровозы. По–прежнему перекликаются под утро горластые петелы. По–прежнему около четырех часов утра благовестят на колокольне к заутрени. Дни и ночи сливаются для меня. Я, как будто, не знаю, где́ я и что́ со мною. Безмирное и безвременное водворилось под сводами, между узких стен нашей комнаты. А за стенами приходят люди, говорят, рассказывают новости, читают газеты, потом уходят, снова при{стр. 10}ходят, — вечно. Опять кричат глубоким контральто далекие паровозы. Вечный покой — здесь, вечное движение — там. Все по–прежнему… Но нет тебя со мною, и весь мир кажется запустелым. Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые кружатся ветром на дорожках.
Встал сегодня ранним утром и как–то почуял нечто новое. Действительно, за одну ночь лето надломилось. В ветряных вихрях кружились и змеились по земле золотые листья. Стаями загуляла птица. Потянулись журавли, заграяли вороны да грачи. Воздух напитался прохладным осенним духом, запахом увядающих листьев, влекущею в даль тоскою.
Я вышел на опушку леса.
Один за другим, один за другим падали листья. Как умирающие бабочки медленно кружились по воздуху, слетая на́земь. На свалявшейся траве играл ветер «жидкими тенями» сучьев. Как хорошо, как радостно и тоскливо! О, мой далекий, мой тихий брат! В тебе — весна, а во мне — осень, всегдашняя осень. Кажется, вся душа исходит в сладкой истоме, при виде этих порхающих листьев, обоняя
«осинников поблекших аромат».
Кажется, душа находит себя, видя эту смерть, — в трепете предчувствуя воскресение. Видя смерть! Ведь она окружает меня. И сейчас я говорю уж не о думах своих, не о смерти вообще, а о смерти дорогих мне. Скольких, скольких я потерял за эти последние годы. Один за другим, один за другим, как пожелтевшие листья, отпадают дорогие люди. В них осязал я душу, в них сверкал мне порою отблеск Неба. Кроме добра я ничего не имел от них. Но моя совесть мечется: «Что ты сделал для них?». Вот, нет их, и между ними и мною легла бездна.
{стр. 11}
Один за другим, один за другим, как листья осени, кружатся над мглистою пропастью те, с которыми навеки сжилось сердце. Падают, — и нет возврата, и нет уже возможности обнять ноги каждого из них. Уж не дано более облиться слезами и молить о прощении, — молить о прощении перед всем миром.
Снова и снова, с неизгладимою четкостью проступают в сознании все грехи, все «мелкие» низости. Все глубже, как огненными письменами, вжигаются в душу те «мелкие» невнимательности, эгоизм и бессердечие, понемногу калечившие душу. Никогда ничего явно худого. Никогда ничего явно, осязательно грешного. Но всегда (всегда, Господи!) по мелочам. Из мелочей — груды. И, оглядываясь назад, ничего не видишь, кроме скверны. Ничего хорошего… О, Господи!
Неизменно падают осенние листья; один за другим описывают круги над землею. Тихо теплится неугасимая лампада, и один за другим умирает близкий. «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». И все таки, с какою–то умиротворенною мукой, повторяю пред нашим крестом, который тобою сделан из простой палки, который освящен нашим ласковым Старцем: «Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
Все кружится, все скользит в мертвенную бездну. Только Один пребывает, только в Нем неизменность, жизнь и покой. «К Нему тяготеет все течение событий; как периферия к центру, к Нему сходятся все радиусы круга времен». Так говорю не я, от своего скудного опыта; нет, так свидетельствует человек, всего себя окунувший в стихию Единого Центра, — еп. Феофан Затворник. Напротив, вне этого Единого Центра «единственное достоверное, — что ничего нет достоверного и ничего — человека несчастнее или надменнее; — solum certum nihil esse certi et homine nihil miserius aut superbius», как засвидетельствовал один из благороднейших {стр. 12} язычников, всецело отдавший себя на удовлетворение своей беспредельной любознательности— Плиний Старший. Да, в жизни все мятется, все зыблется в миражных очертаниях. А из глуби души подымается нестерпимая потребность опереть себя на «Столп и Утверждение Истины», на στυλός και έδραίωμα της άληθείας (1 Тим 3, 15) της άληθείας, а не просто άληθείας, — не одной из истин, не частной и дробящейся истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но истины все–целостной и веко–вечной, — истины единой и божественной, светлой–пресветлой истины, — Той «Правды», которая, по слову древнего поэта есть «солнце миру» [3].
Как же подойти к этому Столпу?
У нетленного тела Серия Преподобного, всегда умиротворяющего встревоженную душу, каждодневно и каждочасно слышим мы призыв, обещающий покой и смущенному разуму. Все, — читаемое на молебне Преподобному, — 43–е зачало от Матфея (Мф. 11, 27–30) имеет преимущественно познавательное значение, — осмелюсь сказать теоретико–познавательное, гносеологическое; и таковое значение этого зачала делается тем более ясным, когда мы вглядимся, что предмет всей 11–ой главы от Матфея есть вопрос о познании, — о недостаточности познания рассудочного и о необходимости познания духовного [4]. Да, Бог «утаил» все то, что единственно может быть названо достойным познания, «от премудрых и разумных» и «открыл это младенцам» (Мф. 11, 16). Было бы неоправдываемым насилием над словом Божиим перетолковывать «премудрых и разумных» как «мнимо–мудрых», «мнимо–разумных», а на деле не таковых, равно как и в «младенцах» видеть каких–то добродетельных мудрецов. Конечно, Господь сказал без иронии именно то самое, что хотел сказать: истинная человеческая мудрость, истинная человеческая разумность недостаточна по тому самому, что она — человеческая. И, в то же время, умственное «младенчество», отсутствие умст{стр. 13}венного богатства, мешающего войти в Царство Небесное, может оказаться условием стяжания духовного ведения. Но полнота всего — в Иисусе Христе, и потому ведение можно получить лишь чрез Него и от Него. Все человеческие усилия познания, измучившие бедных мудрецов, тщетны. Как нескладные верблюды нагружены они своими познаниями, и, как соленая вода, наука только разжигает жажду знания, никогда не успокаивая воспаленного ума. Но «благостное иго» Господне и «легкое бремя» Его дают уму то, чего не дает и не может дать жестокое иго и тяжкое, неудобоносимое бремя науки. Вот почему, у гроба преизлияющего благодать все звучат и звучат, как неумолчный ключ воды живой, божественные глаголы:
«Вся Мне предана суть Отцем Моим: и никтоже знает (έπιγινώσκει) Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыти (άποκαλύψαι). Приидите ко мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою (αναπαύσω) вы. Возьмите иго мое на себе, и научитеся от мене (μάθετε άπ’ έμού), яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой (άνάπαυσιν) душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11, 27–30)».
Но прочь отсюда да бежит желание убеждать кого–нибудь. От скудости своей даю. И если бы хоть одна душа почувствовала, что я говорю ей не устами и не в уши, я большего не хотел бы. Знаю, что ты примешь меня, потому что это ты разрушаешь грани моего эгоизма.
Брат, едино–душный мой Брат! и оторванный, и одинокий — я все–таки с тобою. Подымаясь над временем, вижу ясный твой взгляд, снова лицом к лицу говорю с тобою. Для тебя думаю писать свои прерывистые строки. Ты не взыщешь, что я стану набрасывать их без системы, намечая немногие лишь вехи.
Глухими осенними ночами, в святые часы молчания, когда на ресницах заискрится слеза восторга, украдкою стану писать тебе схемы и жалкие обрывки тех вопросов, которые мы столько обсуждали с тобою. Ты за{стр. 14}ранее знаешь, что я напишу. Ты поймешь, что это — не поучения и что важный тон — от глупой моей неумелости. Если мудрый наставник и трудное делает как бы шутя, то неопытный ученик и в пустяках принимает торжественный тон. А я, ведь, — не более как ученик вторящий за тобою уроки любви.
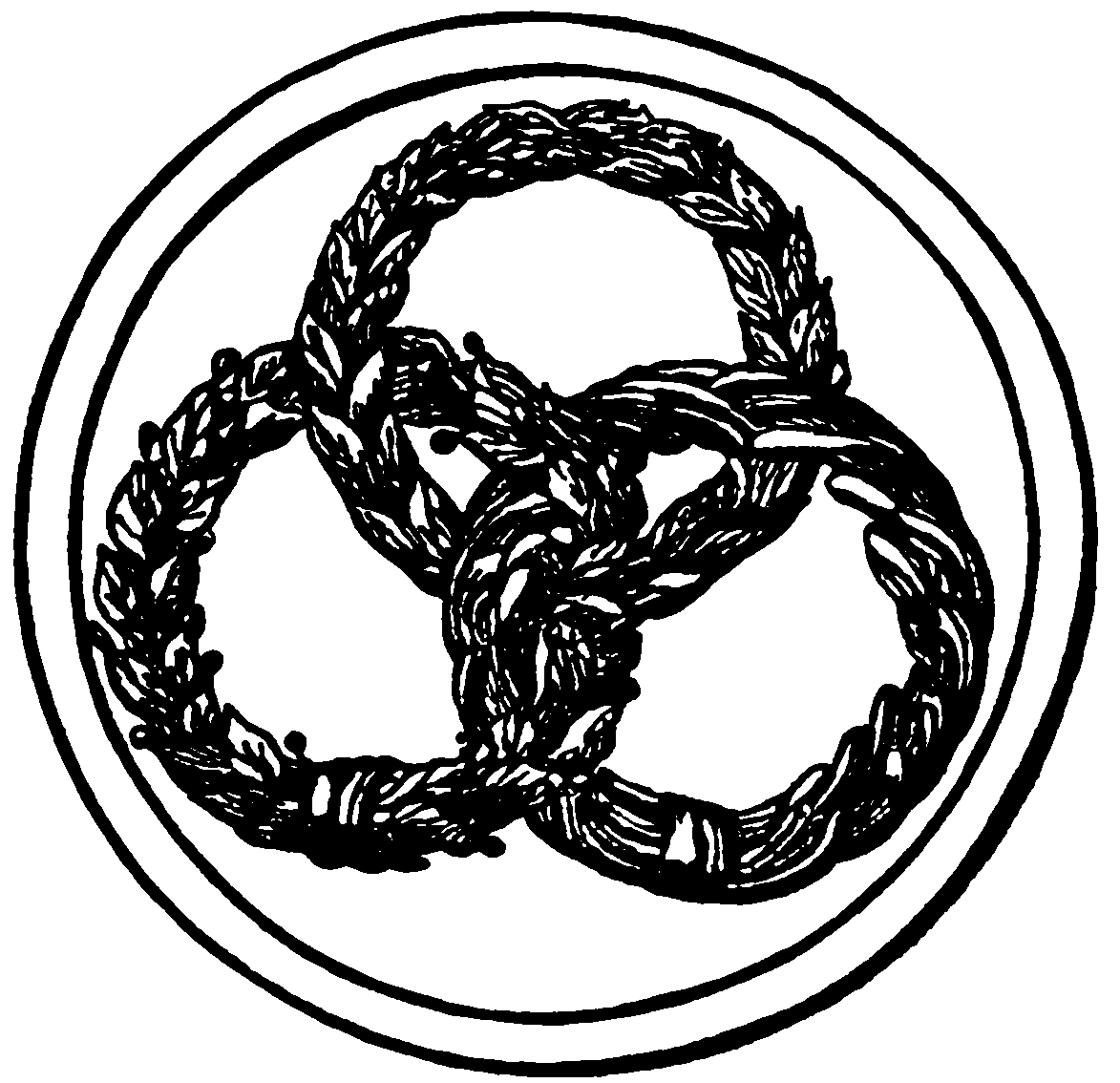
His ornari aut mori. — Смерть или корону принять.
{стр. 15}
«Столп и Утверждение Истины». Но как узнать его?
Этот вопрос неизбежно вводит нас в область отвлеченного знания. Для теоретической мысли «Столп Истины» это — достоверность, certitudo.
Достоверность удостоверяет меня, что Истина, если она достигнута мною, действительно есть то самое, чего я искал. Но что́ же я искал? Что́ разумел я под словом «Истина»? — Во всяком случае — нечто такое полное, что оно все содержит в себе и, следовательно, только условно, частично, символически выражается своим наименованием. Истина есть «сущее всеединое», определяет философ [5]. Но тогда слово «истина» не покрывает собственного своего содержания, и чтобы, хотя приблизительно, ради предварительного осознания собственных исканий, раскрыть смысл слова истина, необходимо посмотреть, какие стороны этого понятия имелись в виду разными языками, какие стороны этого понятия были подчеркнуты и закреплены посредством этимологических оболочек его у разных народов.
Наше русское слово «истина» лингвистами сближается с глаголом «есть» (истина — естина). Так что «истина», согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: истина — «сущее», подлинно–существующее, τό {стр. 16} όντως όν или ό όντως ών, в отличие от мнимого, не действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи. Поэтому «истина» обозначаешь абсолютное само–тождество и, следовательно, само–равенство, точность, подлинность. «Истый», «истинный», «истовый» — это выводок слов из одного этимологического гнезда.
Онтологического разумения «Истины» не чуждалась и схоластическая философия. Для примера можно указать на полуфомиста доминиканца Иоанна Гратидеи из Асколи († 1340), который со всею решительностью настаивает, что «Истину» должно понимать не как равенство или согласие, вносимое в вещь познающим актом разума, а как то равенство, которое сама вещь вносит в свое существование во–вне; «формально истина есть та равность или та согласованность, которую сама вещь, поскольку она мыслится, вносит в себя самое в природе вещей во–вне» [6].
Обратимся теперь к этимологии. Ист–ин–а, ист–ин–ый = истовина от ист–ый, ист–ов–ый, ист–ов–ьн–ый, ср. с лотышским ist–s, ist–en–s находится в связи с ес–ть, ест–е-ств–о (i- в прошедшем времени=j–Ѣ- = j–e). Можно сделать сопоставление с польскими: istot–a = cyщeство, istot–nie = действительно, istnieс́ = действительно существовать [7]. Так же смотрят на этимологию слова «истина» и друтие. По определению В. Даля, например, «истина» — «все что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть. Все, что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина спрашивает он [8]. То же говорят и Миклошич [9], Микуцкий [10] и наш старинный лингвист Ф. Шимкевич [11]. Отсюда понятно, что среди прочих значений слова ״истый" мы находим и ״очень похожий". По старинному изъяснению некоего купца А. Фомина «истый: подобный, точный». Так что древний оборот: «истый во отца» (= «истый отец») объясняется им чрез «точно подобен отцу» [12].
Этот онтологизм в русском понимании истины усиливается и углубляется для нас, если мы дадим себе отчет, что́ за содержание первоначального глагола «есть». Ведь «есть» — от √es, в санскрите дающего as (например ásmi = есми; asti = ести), c есмь, есть нетрудно сопоставить древне–славянское есми; ести, греческое είμι (έσμι); латинское (е)sum, est, немецкое ist, санскритское asmi, asti и т. д. [13]. Но, согласно некоторым намекам, сохранившимся в санскрите, этот √es обозначал в древнейшей своей, конкретной фазе развития дышать, hauchen, athmen. В подтверждение такого взгляда на корень as Курциус указывает санскритские слова as–u–s — жизненное дыхание, дыхание жизни; asu–ra–s — жизненный, lebendig и на одной доске с латинским {стр. 17} os — рот стоящее âs, âs–ja–m, тоже обозначающее рот; сюда же относится и немецкое athmen, дыхание. Итак «есть» первоначально значило «дышит». Но дыхание, дуновение всегда считалось главным признаком и даже самою сущностью жизни; и по сю пору на вопрос: «Жив?» обычно отвечают: «Дышит», как если бы это были синонимы. Поэтому второе, более отвлеченное значение «есть» — «жив», «живет», «силен». И, наконец, «есть» получает значение наиболее отвлеченное, являясь просто глаголом существования. Дышать, жить, быть — вот три слоя в √es в порядке их убывающей конкретности, — по мнению лингвистов соответствующем порядку хронологическому.
Корень as обозначаете, как дыхание, равномерно пребывающее существование (ein gleichmässig fortgeselze Existenz) в противоположность корню bhu, входящему в состав быть, fui, bin, φύω и т. д. И обозначающему становление (ein Werden) [14].
Э. Ренан, указывая связь понятий дыхания и существования дает параллель из семитских языков, а именно еврейское глагольное существительное ﬧוה haja — случиться, возникнуть, быть или הוה hawa — дышать, жить, быть [15], в них он видит звукоподражательные процесса дьхания.
Благодаря такой противоположности корней es и bhu, они взаимно восполняют друт друга: первый применяется исключительно в длительных формах, производных от настоящего времени, а второй — преимущественно в тех формах времени, которые, как аорист и перфект, означают наступившее или завершенное становление [16].
Возвращаясь теперь к понятию истины, в русском её разумении, мы можем сказать: истина — это «пребывающее существование; — это — «живущее», «живое существо», «дышащее», т. е. владеющее существенным условием жизни и существования. Истина, как существо живое по преимуществу, — таково понятие о ней у русского народа. Нетрудно, конечно, подметить, что именно такое понимание истины и образует своеобразную и самобытную характеристику русской философии [17].
Совсем другую сторону подчеркивает в понятии истины древний эллин. Истина, — говорит он, — άλήθεια. Но чтό же такое эта άλήθεία? — Слово άλήθε(σ)ια, или, в ионической форме, άληθειη, равно как и производные: άληθής — истинный, άληθευω — истинствую, соответствую истине и др., образовано из отрицательной частицы ά (ά privativum) и *λήθος, дорическое λάφος. Последнее же слово, от √ladho, со–коренно с глаголом λάθω, ионическое λήθω, и λανθάνω — миную, ускользаю, остаюсь незаметным, остаюсь неизвестным; в среднем же залоге этот {стр. 18} глагол получает значение memoria labor, упускаю памятью, для памяти (т. е. для сознания вообще) теряю, забиваю. В связи с последним оттенком корня λαθ стоят: λήθη, дорическое λάθα, λαθσύνα, λήσμοσύνα, λήστις — забвение и забывчивость; ληθεδανός — заставляющий забывать; λήθαργος — забывающий и, отсюда, λήθαργος — позыв к сну, Schlafsucht, как хотение погрузиться в состояние забвенности и бессознательности, и, далее, название патологического сна, летаргия [18]. Древнее представление о смерти, как о переход в существование призрачное, почти в само–забвение и бессознательность и, во всяком случае, в забвение всего земного, — это представление символически запечатлено в образе испиения тенями воды от подземной реки Забвения, «Леты». Пластический образ летейской воды, τό Λήθης ύδορ, равно как и целый ряд выражений, в роде: μετά λήθης — в забвении; λήθην εχειν — иметь забвение, т. е. быть забывчивым; εν λήθη τινός είναι — быть в забвении чего, забыть о чем; λήθην τινός ποιείσθαι — производить забвение чего, предавать что забвению; λησμοσύναν θέσθαι — положить забвение, привести в забвение; λήοτιν ίσκειν τι — забывать что и др. — все это вместе ясно свидетельствует, что забвение было для эллинского понимания не состоянием простого отсутствия памяти, а специальньм актом уничтожения части сознания, угашением в сознании части реальности того, что забывается, — другими словами, не неимением памяти, а силою забвения. Эта сила забвения — сила всепожирающего времени.
Все — текуче. Время есть форма существования всего, что ни есть, и сказать: «существует» — значит сказать: «во времени», ибо время есть форма текучести явлений. «Все течет и движется, и ничто не пребывает; πάντα ρεί καί κινείται, και ούδεν μένει»,— жаловался уже Гераклит. Все ускользает из сознания, протекает сквозь сознание, — забывается. Время–χρόνος производит явления, но, как и его мифологический образ, как Κρόνος, оно пожирает своих детей. Самая сущность сознания, жизни, всякой реальности — в их текучести, т. е. в некотором метафизическом забвении. Оригинальнейшая из философий наших дней, — философия времени Анри Бергсона [19] — всецело построена на этой несомненной истине, на идее о реальности времени и его мощи. Но, не смотря на всю несомненность этой последней, у нас незаглушимо требование того, что не забвенно, что не забываемо, что «пребывает, μένει» в текущем времени. Эта незабвенность и есть истина, в понимании эллина, есть ά–λήθεια, т. е. нечто способное пребывать в потоке забвения, в летейских струях чувственного мира, — нечто превозмогающее время, нечто стоящее и не текущее, нечто вечно памятуемое. Истина есть {стр. 19} вечная память какого–то Сознания; истина есть ценность, достойная вечного памятования и способная к нему.
Память хочет остановить движение; память хочет неподвижно поставить пред собою бегущее явление; память хочет загатить плотину навстречу потоку бывания. Следовательно, незабвенное сущее, которого ищет сознание, эта άλήθεια есть покоящийся поток, пребывающее течение, неподвижный вихорь бытия. Самое стремление памятовать, эта «воля к незабвенности», превышает рассудок; но он хочет этого само–противоречия. Если понятие памяти, по существу своему, выходит за границы рассудка, то Память в высшей мер своей, — истина, — тем более выше рассудка. Память–Мнемосина есть мать Муз — духовных деятельностей человечества, спутниц Аполлона — Творчества Духовного. И, тем не менее, древний Эллин требовал от истины того же самаго признака, который указуется и Словом Божиим, ибо там говорится, что «истина Господня пребывает во век, לעךלם» (Пс 116, 2 по еврейскому счету 117, 2) и еще: «В род и род Истина Твоя» (Пс 118, 90, по еврейскому счету 119, 90).
Латинское слово veritas, истина, происходит, как известно, от √var. В виду этого слово veritas считается со–коренным русскому слову вера, верить; от того же корня происходят немецкие währen — беречь, охранять и wehren — возбранять, не допускать, а также — быть сильнымь. Wahr, Wahrheit истинный, истина относится сюда же, равно как и прямо происходящее из латинского veritas французское verite Что √var первоначально указывает на область культовую — это видно, как говорит Курциус [20] из санскритского vra–ta–m — священное действие, обет, из зендского varena — вера, затем из греческих βρέ–τας — нечто почитаемое, деревянный кумир, истукан; слово έορτή (вместо έ–ορ–τή) — культовое почитание, религиозный праздник по–видимому относится сюда же; о слове веpa уже сказано. Культовая область √var и тем более слова veritas наглядно выступает при обозрении латинских же со–коренных слов. Так, глагол ver–e–or или re–vereor, в классической латыни у потреблявшийся в более общем смысле — остерегаюсь, берегусь, боюсь, пугаюсь, страшусь, почитаю, уважаю, благоговею со страхом, первоначально бесспорно относился к мистическому страху и происходящей отсюда осторожности при слишком близком подхождении к священным существам, местам и предметам. Табу, заповедное, священное — вот что заставляешь человека vereri; отсюда–то и получился католический титул духовных лиц: reverendus. Reverendus или reverendissimus pater — это лицо, с которым надо обходиться уважительно, осто{стр. 20}рожно, боязненно, иначе может худо выйти. Verenda, — orum или partes verendae — это pudenda, «тайные уды»; а известно, что древность относилась к ним почтительно, с боязливым религиозным уважением. Затем, существительное verecundia — религиозный страх, скромность, глагал verecundor — имею страх, verecundus — страшный, стыдливый, приличный, скромный, опять–таки указывают на культовую область применения √var. Отсюда понятно, что verus означает, собственно, защищенный, обоснованный, в смысле табуированный, заклятый. Verdictum — вердикт, приговор судей, — конечно в смысле религиозно–обязательного постановления лиц заведывающих культом, ибо право древности есть не более, как одна из сторон культа. Другие слова, как то veridicus, veriloquium и т. д., понятны и без объяснений.
Автор латинского этимологического словаря А. Суворов указывает на глаголы: говорю, реку, как на выражающие первоначальный смысл √var. Но несомненно из всего сказанного, что если √var действительно значит говорить, то — в том именно смысл, какой придавала этому слову вся древность, — в смысле вещего и могучего слова, будь то заклятие или молитва, способного сделать все заклятое не только юридически, номинально, но и мистически, реально внушающим в себе страх и благоговение [21]. Vereor тогда означает, собственно, «меня заговаривают», «надо мною разражается сила заклятия».
После этих предварительных сведений уже не трудно угадать смысл слова veritas. Отметим, прежде всего, что это слово, вообще позднего происхождения, всецело принадлежало к области права и лишь у Цицерона получило значение философское, да и вообще теоретическое, относящееся до области познания. — Даже в обще–моральном смысле искренности, παρρησία, оно встречается до Цицерона всего единожды именно у Теренция [22] в словосочетании: «obsequium amicos, veritas odium parit — ласкательство производит друзей, а искренность — ненависть». Далее, хотя у Цицерона оно сразу получает большое применение, однако по преимуществу в правовой и отчасти моральной области. Veritas означает тут: то настоящее положение разбираемого дела, в противоположность ложному его освещению одной из сторон, то справедливость и правду, то правоту истца, и лишь изредка равняется «истине» приблизительно в нашем понимании [23]. Религиозно–юридическое по своему корню, морально–юридическое по своему происхождению от юриста, слово veritas и впоследствии сохраняло и отчасти усилило свой юридический оттенок. В позднейшей латыни оно стало даже иметь {стр. 21} чисто–юридическое значение: veritas, — по дю Канжу, — значит depositio testis — отвод свидетеля, veridictum; затем veritas означает inqusitio judicaria — судебное расследование; значит еще, — право, привилегия, в особенности в отношении имущества и т. п. [24].
Древний еврей, да и семит вообще, в языке своем запечатлел опять особый момент идеи Истины, — момент исторический или, точнее, теократический. Истиною для него всегда было Слово Божие. Неотменяемость этого Божиего обетования, верность его, надежность его — вот что для еврея характеризовало его в качестве Истины. Истина — это Надежность. «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Лк. 16, 17); этот безусловно непреложный и неизменный «закон» есть то, чем в Библии представляется Истина.
Слово [25] אמת, 'эмет или, на жаргонном произношении, эмес, истина имеет в основе √אטז, √'мн. Происходящий отсюда глагол אטז 'аман значит, собственно, подпер, поддержал. Это основное значение глагола 'аман еще сильнее указуется со–коренными существительными из области архитектуры: אמנﬣ 'омна — колонна и ﬡﬦכח 'амон — строитель, мастер, а отчасти и словом אמן 'омен — педагог, т. е. строитель детской души. Затем, непереходное среднее значение глагола ’аман — был поддержан, был подперт — служит отправным пунктом для целого выводка слов более отдаленных от основного значения глагола 'аман, а именно: был крепок, тверд (— как подпертый, как поддержанный —), поэтому, — был непотрясаем; следовательно был таков, что на него с безопасностью для него можно опереться, и, наконец, был верен. Отсюда, слово אמן 'амен или новозаветное αμήν, аминь означает: «слово мое крепко», «воистину», «конечно», «так должно быть», «да будет, fiat» и служит формулою для скрепления союза или клятвы, а также употребляется в заключении доксологии или молитвы, тут — удвоенно. Смысл слова «аминь» хорошо уясняется из Откр. 3, 4: «τάδε λέγει ό 'Αμήν, ό μάρτνς ό πιστός και άληθινός — сие глаголет Аминь свидетель верный и истинный», ср. Ис 65, 16: אלﬧו־אמ 'элогэ 'амен — «бог, которому должно довериться». Отсюда понятна вся совокупность значений слова אמת 'эмет (вместо אמנת 'аменет. Непосредственнейшие значения его —: твердость, устойчивость, долговременность; отсюда — безопасность. Далее вера–вернoсть, fides, в силу которой, кто постоянен в себе, тот сохраняет и выполняет обещание, — понятия Treue и Glaube. Понятна, затем, связь этого последнего понятия с честностью, целостностью души. Как признак судьи или судебного {стр. 22} приговора 'эмет означает, поэтому, справедливость, истинность. Как признак внутренней жизни, она противополагается притворству и имеет значение искренности, — по преимуществу искренности в Бого–почитании. И, наконец, 'эмет соответствует нашему слову истина, в противоположность лжи; таков именно случай употребления этого слова в Быт. 42, 16; Втор. 26, 20; 2 Суд 7, 28; (2 Sam 7, 28), см. также I Reg 10, 5, 22, 16, Ps. 15, 2; 58, 8 и т. д.
Отсюда, от этого последнего оттенка слова 'эмет происходит и термин меамес, употребляемый еврейскими философами, например, Маймонидом, «для означения людей, стремящихся к умственному познанию истины, не довольствуясь авторитетом и обычаем» [26].
Итак, Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание». А так как надеяться «на князи, на сыны человечестии» — тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть непременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно–историческое, теократическое. При этом можно отметить, что четыре найденных нами оттенка в понятии истины сочетаются попарно, следующим образом: русское Истина и еврейское אמת 'эмет относятся преимущественно к божественному содержанию Истины, а греческое Άλήθεια и латинское Veritas — к человеческой форме её. С другой стороны, термин русский и греческий — характера философского, тогда как латинский и еврейский — социологического. Я хочу сказать этим, что в понимании русского и эллина Истина имеет непосредственное отношение к каждой личности, тогда как для римлянина и еврея она опосредствована обществом. — Таким образом, итог всего вышесказанного о делении понятия истины удобно может быт представлен в следующей табличке:
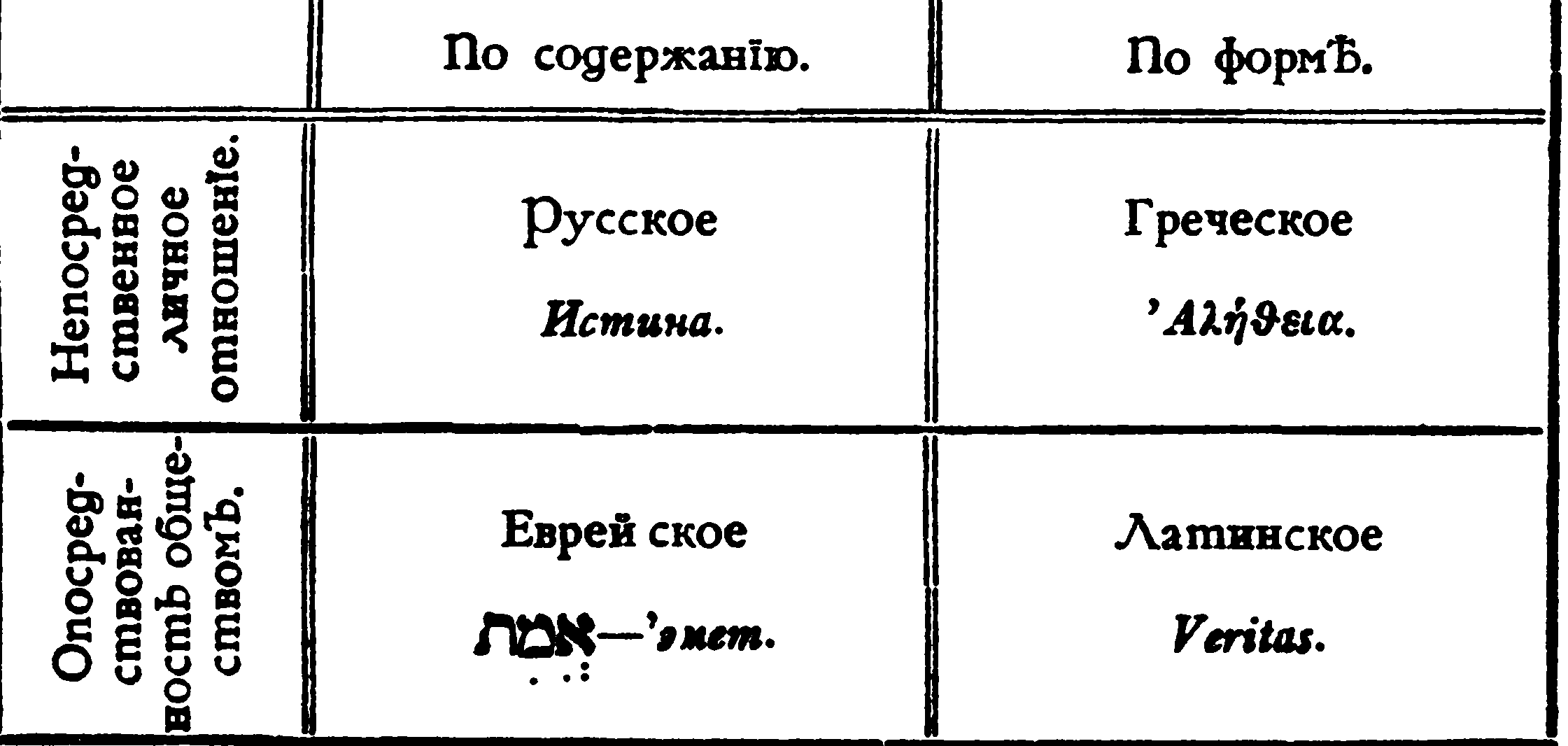
{стр. 23}
«Что́ есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есмь Истина». Но и тогда, опять таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину, не мог убедиться в подлинности её. Знание, в котором нуждался Пилат, знание, которого прежде всего не хватает у человечества, это есть знание условий достоверности.
Что ж такое достоверность? Это — узнание собственной приметы истины, усмотрение в истине некоторого признака, который отличает ее от неистины. С психологической стороны таковое признание знаменует себя как невозмущаемое блаженство, как удовлетворенное алкание истины.
Познаете истину (την αλήθειαν) и Истина (ή αλήθεια) сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). От чего? — Свободными вообще от греха (Ин. 8, 34), — от всякого грехa т. е., в области ведения, ото всего, что неистинно, что не соответствует истине. «Достоверность», — говорит † архимандрит Серапион Машки́н [27], — есть чувство истины. Оно возникает при произношении необходимого суждения и состоит в исключении сомнения в том, что произносимое суждение когда или где–либо изменится. Следовательно, достоверность есть интеллектуальное чувство принятия произносимого суждения в качестве истинного». Под критерием истины, — говорит тот же философ в другом сочинении, — мы разумеем состояние обладающего истиной духа, состояние полной удовлетворенности, радости, в котором отсутствуешь всякое сомнение в том, что выставляемое положение соответствует подлинной действительности. Достигается такое состояние удовлетворением суждения o чем–либо известному положению, называемому мерилом истины или её критерием».
{стр. 24}
Вопрос о достоверности истины сводится к вопросу о нахождении критерия. В ответ на последний стекается воедино, как бы в жало системы, вся её доказательная сила.
Истина делается моим достоянием чрез акт моего суждения. Своим суждением я восприемлю в себя истину [28]. Истина, как истина, открывается мне посредством моего утверждения её. И потому возникает такой вопрос:
Если я утверждаю нечто, то чем же гарантирую я себе его истинность? Я приемлю в себя нечто, в качестве истины; но следует ли делать это? Не есть ли самый акт суждения моего то, что удаляет меня от искомой истины? или, другими словами, какой признак я должен усмотреть в своем суждении, чтобы быть внутренне спокойным? —
Всякое суждение — или чрез себя, или чрез другого, т. е. оно или дано непосредственно или опосредствованно, как следствие другого, имея в этом другом свое достаточное основание. — Если же оно ни чрез себя не дано, ни другим не опосредствовано, то оно, тем самым, оказывается лишенным как реального содержания, так и разумной формы, т. е. оно вовсе не есть суждение, а одни лишь звуки, flatus vocis, колебания воздуха, — не более. Итак, всякое суждение необходимо принадлежите по меньшей мер к одному из двух разрядов. Рассмотрим же теперь каждое из них особо.
Суждение, данное непосредственно, есть само–очевидность интуиции, evidentia, ένάργεια. Далее она дробится:
Она может быть само–очевидностью чувственного опыта, и тогда критерий истины есть критерий эмпириков внешнего опыта (эмпирио–критицистов и проч.): «Достоверно все то, что может быть сведено к непосредственным восприятиям органов чувств; достоверно восприятие объекта».
Она может быть. само–очевидностью интеллекту{стр. 25}ального опыта, и критерием истины в этом случае будет критерий эмпириков внутреннего опыта (трансценденталистов и проч.), а именно: «Достоверно все то, что приводится к аксиоматическим положениям рассудка; достоверно само–восприятие субъекта».
И, наконец, само–очевидность интуиции может быть само–очевидностью интуиции мистической; получается критерий истины, как он разумеется большинством мистиков (особенно индусских): «Достоверно все то, что остается, когда отвеяно все неприводимое к восприятию субъект–объекта, достоверно лишь восприятие субъект–объекта, в котором нет расщепления на субъект и объект» [29].
Таковы три вида само–очевидной интуиции. Но все эти три вида данности, — чувственно–эмпирическая, трансцендентально–рационалистическая и подсознательно–мистическая, — имеют один общий недостаток; это — голая их данность, их неоправ–данность. Такую данность сознание воспринимает, как что–то внешнее для себя, принудительное, механическое, напирающее, слепое, тупое, наконец, неразумное, а потому условное. Разум не видит внутренней необходимости своего восприятия, а только — необходимость внешнюю, т. е. насильственную, вынужденную, — неизбежность. На вопрос же: «Где основание нашему суждению восприятия?» все эти критерии отвечают: «В том, что чувственное ощущение, интеллектуальное усмотрение или мистическое восприятие есть именно это самое ощущение, усмотрение и восприятие». — Но почему же «это» есть и именно «это», а не что–либо иное? В чём разум этого само–тождества непосредственной данности? — «В том, — говорят, — что и вообще всякая данность есть она сама: всякое А есть А».
А=А. Таков последний ответ. Но эта тавтологическая формула, это безжизненное, безмысленное и потому бессмысленное равенство «А=А» есть на деле лишь обобщение само–тождества, присущего всякой данности, но ни{стр. 26}коим образом не ответ на наш вопрос «Почему?..». Другими словами, она переносит наш частный вопрос с единичной данности на данность вообще, показывает наше тягостное состояние момента в исполинских размерах, как бы проектируя его волшебным фонарем на все бытие. Если мы наткнулись ранее на камень, то теперь нам заявлено, что это — не отдельный камень, а глухая стена, охватывающая всю область нашей пытливости.
А=А. Этим сказано все; а именно: «Знание ограничено суждениями условными» или, по–просту: «Молчи, говорю тебе!». Механически затыкая рот, эта формула обрекает на пребывание в конечном и, следовательно, случайном. Она заранее утверждает раздельность и эгоистическую обособленность последних элементов сущего, разрывая тем всякую разумную связь между ними. На вопрос «Почему?», «На каком основании?» она повторяет: «Sic et non aliter, — так и не иначе», обрывая вопрошающего, но не умея ни удовлетворить его, ни научить само–ограничетю. Всякое философское построение этого типа дается по парадигму следующего разговора моего со старухою–служанкою:
Я: Что такое солнце? — Она: «Солнышко». — Я: Нет, что́ оно такое? — Она: «Солнце и есть». — Я: А почему оно светит? — Она: «Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит. Посмотри, вон какое солнышко…» Я: А почему? — Она: «Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы — неучены».
Само собою ясно, что критерий данности, в той или иной своей форме применяемый подавляющим большинством философских школ, не может дать достоверности. Из «есть», как бы глубоко оно ни залегло в природе, или в моем существе, или в общем корне той и другого, никак не извлечь «необходимо».
Но мало того. Если бы даже мы не заметили этой слепоты голого тождесловия А=А, если бы нам не было душно в «есть потомучто есть», то, все равно, сама {стр. 27} действительность заставила бы нас устремить на нее умственный взор.
То именно, что принимается за критерий истины в силу своей данности, оказывается нарушаемым действительностью решительно со всех сторон.
По странной иронии, именно тот критерий, который хочет опираться исключительно на свое фактическое господство надо всем, на право силы над каждою действительною интуицией, — он–то и нарушается фактически каждою действительною интуицией. Закон тождества, претендующий на абсолютную все–общность, оказывается не имеющим места решительно нигде. Он видит свое право в своей фактической данности, но вся данность toto genere фактически же отвергает его, нарушая его как в порядке пространства, так и в порядке времени, — всюду и всегда. Каждое А, исключая все прочие элементы, исключается всеми ими; ведь если каждый из них для А есть только не–А, то и А супротив не–А есть только не–не–А. Под углом зрения закона тождества, все бытие, желая утверждать себя, на деле только изничтоживает себя, делаясь совокупностью таких элементов, из которых каждый есть центр отрицаний и, при том, только отрицаний; таким образом, все бытие является сплошным отрицанием, одним великим «Не». Закон тождества есть дух смерти, пустоты и ничтожества.
Раз наличная данность является критерием, то так — абсолютно везде и всегда. Поэтому все взаимо–исключающие А, как данные, истинны, — все истинно. Ho это приводит к нулю власть закона тождества, ибо он оказывается тогда содержащим в себе внутреннее противоречие.
Но, впрочем, нет надобности указывать на то, что один воспринимает так, а другой — иначе: не неизбежно ссылаться на само–разногласие сознания в пространстве. Такую же множественность являет в себе и каждый отдельный субъект. Изменение, происходящее во внешнем мире, в мире внутреннем и, наконец, в мире {стр. 28} мистических восприятий, — и это все согласно взывает: «Прежнее А не равно теперешнему А, и будущее будет разнствовать с настоящим». Настоящее так же противо–полагает себя своему прошедшему и будущему во времени, как в пространстве это было со всем, для элемента вне–положным. И во времени сознание само–разногласно. Везде и всегда — противоречие; но тождества — нигде и никогда.
Закон «А=А» обращается в совсем пустую схему само–утверждения, не синтезирующую собою никаких действительных элементов, — ничего, что стоило бы соединять знаком «=». «Я=Я» оказывается ничем более, как криком обнаженного эгоизма, — «Я!», — ибо, где нет различия, там не может быть и соединения. Есть, следовательно, одна лишь слепая сила косности и само–заключения, — эгоизм. Вне себе Я ненавидит всякое Я, ибо для него оно — не–Я, и, ненавидя, стремиться исключить его из сферы бытия; а так как прошедшее Я (Я в его прошлом) тоже рассматривается объективно, т. е. тоже является как не–Я, то и оно непримиримо подвергается исключению. Я не выносит себя же во времени, всячески отрицается себя самого в прошлом и в будущем, и, тем самым, — так как голое «теперь» есть чистый нуль содержания, — Я ненавидит всякое конкретное свое содержание, т. е. всякую свою же жизнь. Я оказывается мертвою пустынею «здесь» и «теперь». Но тогда что́ же подлежит формуле «А = А», — Только фикция (атом, монада и т. п.), только ипостазированное отвлечение от момента и точки, в себе — не сущих. Закон тождества есть неограниченный монарх, да; но его подданные только потому не возражают против его самодержавия, что они — бескровные призраки, не имеющие действительности, — не личности, а лишь рассудочные тени личностей, т. е. не–сущие вещи. Это — шеол; это — царство смерти.
Повторим, теперь, вместе все сказанное, рассудочно, т. е. сообразно мере рассудка, вместимо в рассудок, отвечает требованиям рассудка, лишь то, что выделено {стр. 29} из среды прочего, что не смешивается с прочим, что замкнуто в себя, — одним словом, что само–тождественно. Лишь А, равное самому себе и неравное тому, что не есть А, рассудок считает за подлинно сущее, за τό όν, τό όντως όν, за «истину»; и наоборот, всему неравному самому себе или равному не себе он отказывает в подлинном бытии, игнорирует его, как «не сущее» как не воистину сущее, как τό μή όν. Это μή όν он лишь терпит, лишь допускает, как не–истину, уловляя его, — по слову Платона, — чрез какое–то незаконное рассуждение, — άπτον λογισμω τινί νόθω (νόθος, собственно, значит незаконорожденный) [30].
Только первое, т. е. «сущее», рассудком признается; от второго же, т. е. «не–сущего», наклеив этикетку «τό μή όν», рассудок отделывается, не замечает его, делая вид, как если бы его вовсе не было. Для рассудка только высказывание о «сущем» есть истина; напротив, высказывание о «не–сущем» даже не есть в собственном смысле высказывание: оно — лишь δόξα, «мнение» лишь видимость высказывания, лишенная, однако, его силы. Оно — только «так».
Но поэтому и выходит, что рассудочное есть в то же время необъяснимое: объяснить А это значит привести А «к другому», к не–А, к тому, что не есть А и что, следовательно, есть не–А, вывести А из не–А, породить А. И, если А действительно удовлетворяет требованию рассудка, если оно действительно рассудочно, т. е. безусловно само–тождественно, то, тем самым, оно — и необъяснимо, неприводимо «к другому» (к не–А), невыводимо «из другого». Следовательно, рассудочное А есть безусловно неразумное, иррациональное, слепое А, непрозрачное для разума. То, что рассудочно, то неразумно, — несообразно мере разума. Разум противен рассудку, как и этот последний — первому, ибо требования их противоположны. Жизнь, — текучая, несамотождественная, — жизнь может быть разумна, может быть прозрачна для разума (так ли это — {стр. 30} пока еще мы того не узнали); но именно потому самому она была бы невместима в рассудок, противна рассудку, разрывала бы его ограниченность. А рассудок, враждебный жизни, — поэтому самому, в свою очередь, искал бы умертвить ее, прежде нежели согласится принять ее в себя [31].
Итак, если критерий само–очевидности недостаточен прежде всего теоретически, как останавливающий искание духа, то он негоден, затем, и практически, как не могущий осуществить своих притязаний и в им же обведенных границах. Непосредственная данность интуиции всех трех родов (объективной, субъективной и субъективно–объективной) не дает достоверности. Этим в корне осуждаются решительно все философские догматические системы, не исключая и кантовой, для которой чувственность и разум со всеми его функциями суть простые данности.
Обращаюсь теперь к суждению не непосредственному, а к опосредствованному, — к тому, что принято называть дискурсией, ибо здесь разумь discurrit, перебегает к суждению какому–то другому.
Достоверность его, по самому названию, полагается в приводимости его к другому суждению. На вопрос об основании суждения отвечает уже не оно само, но иное. В другом суждении данное является как оправ–данное, — в своей правде. Таково относительное доказательство одного суждения на почве другого; относительно доказать и значит показать, как одно суждение образует следствие другого, порождается другим [32]. Разум переходит при этом к суждению обосновывающему. И оно не может быть просто данным, ибо тогда все дело сводилось бы к критерию само–очевидности. И оно должно быть оправданным в другом суждении. И оно приводит к другому. Так идет дело и далее. — Это весьма похоже на то, как говорили наши деды, построяя целые цепи из объясни{стр. 31}тельных звеньев. Например, в одной сербско–болгарской рукописи XV–го века читаем:
«Да скажи ми: що дрьжить землю? рече: вода висока. Да що дрьжить воду? Ответ: камень плосень вельми. Да що дрьжить камень? рече: камень дрьжить 4 китове златы. Да что дрьжить китове златы? рече: река огньнная. Да что дрьжить того огня? рече: други огнь, еже есть пожечь, того огня 2 че(а)сти. Да что дрьжить того огня? рече: дуб железны, еже есть первонасажден отвесего же (его же) кореше на силе божией стоить» [33].
Но гдé конец? — Свои «объяснения» или «оправдания» наличной действительности наши предки заканчивали ссылкою на Божественные атрибуты; но так как они не показывали, почему же эти последние должно признать оправданными, то ссылка наших предков на волю Божию или на силу Божию, если только не была прямым отказом от объяснения, необходимо должна была иметь смысл формальный, как сокращенное обозначение продолжаемости объяснительного процесса. Современный язык пользуется для той же цели выражениями: «и проч.», «и т. д.», «и т. п.». Ho смысл того и другого ответа — один и тот же: ими хотят сказать, что нет конца этому оправдыванию данной действительности. В самом деле, раз уж кто, оставив детскую веру, вступил на путь объяснений и обоснований, для того неизбежно кантовское правило, что «самые дикие гипотезы более выносимы, чем ссылка на сверхъестественное» [34]. И потому, на вопрос: «Где же конец?» отвечаем: «Конца нет». Есть беспредельное отступление назад, regressus in indefinitum — нисхождение в серый туман «дурной» бесконечности, никогда не останавливающееся падение в беспредельность и в бездонность [35]. Этому удивляться не следует: иначе даже и быть не должно. Ведь если бы ряд нисходящих обоснований оборвался где–нибудь, то соответственное звено разрыва было бы слепым, было бы тупиком, разрушало бы самую идею достоверности {стр. 32} разбираемого типа — достоверности отвлеченно–логической, дискурсивной, в отличие от предыдущей — конкретно–воззрительной, интуитивной. В возможности оправдать всякую ступень нисходящей лестницы суждений, т. е. в непререкаемой всегдашней беспрепятственности спуститься еще хотя бы на одну ступеньку ниже всякой данной, т. е. во всегдашней допустимости перехода от n к (n+1), каково бы ни было n, — тут, — говорю, — заложена, как зародыш в яйце, вся суть, вся разумность, весь смысл нашего критерия.
Но эта–то суть его и есть его ахиллесова пята. Regressus in indefinitum дается in potentia, как возможность, но не in actu, не как законченная и осуществленная когда–нибудь и где–нибудь действительность, разумное доказательство только создает во времени мечту о вечности, но никогда не дает коснуться самой вечности. И потому разумность критерия, достоверность истины никогда не дана, как таковая, в действительности, актуально, в её оправданности, но всегда — только в возможности, потенциально, в её оправдываемости.
Интуиция, в данной непосредственно своей конкретности, была величиною действительною, хотя, правда, слепою и потому условною; она не могла удовлетворить нас. Но дискурсия, во всегда только оправдываемой посредственно своей отвлеченности, неотменно является величиною лишь возможною, ирреальною, хотя (— за то! —) разумною и безусловною. Конечно, и ее мы призна́ем неудовлетворительною.
Скажу по–просту: слепая интуиция — синица в руках, тогда как разумная дискурсия — журавль на небе.
Если первая доставляла нефилософское удовлетворение своею наличностью, своею надежностью, то вторая фактически бывает не достигнутой разумностью, но лишь регулятивным принципом, правилом деятельности разума, дорогою, по которой мы должны вечно идти, что{стр. 33}бы… чтобы никогда не прийти ни к какой цели. Разумный критерий есть направление, а не цель.
Если слепая и нелепая интуиция может еще дать успокоение уму нефилософскому, в его практической жизни, то разумная дискурсия, конечно, годится лишь для литературных упражнений школы или для научного самодовольства кабинета, — для «занимающихся» философией, но самоё её ни разу не вкусивших.
Несокрушимая стена и непереплываемое море; мертвенность остановки и суетливость непрекращаемого движения; тупость золотого тельца и вечная недостроенность вавилонской башни, т. е. истукан и «Будете как боги»; наличная действительность и никогда не завершенная возможность; бесформенное содержание и бессодержательная форма; конечная интуиция и безграничная дискурсия — вот сцилла и харибда на пути к достоверности. Диллема весьма грустная! Первый выход: тупо упереться в очевидность интуиции, в конце концов сводящейся к данности известной организации разума, откуда и вытекает пресловутый спенсеровский критерий достоверности. Второй выход: безнадежно устремиться в разумную дискурсию, являющуюся пустою возможностью, спускаться ниже и ниже в глубину мотивации.
Но ни там, ни тут нет удовлетворения в поисках Нетленной Правды. Ни там, ни тут не получается достоверности. Ни там, ни тут не видать «Столпа Истины».
Нельзя ли подняться над обоими препятствиями?
Возвращаемся к интуиции закона тождества.
Но, исчерпав средства реализма и рационализма, мы невольно поворачиваемся к скепсису, т. е. к рассмотрению, к критике суждения само–очевидного.
Как устанавливающее фактическую неразрывность подлежащего и его сказуемого в сознании, такое суждение ассерторично. Связь подлежащего и сказуемого есть, но её может и не быть. В складе её нет еще ничего, что делало бы ее аподиктически–небходимою, неотме{стр. 34}няемою и непреложною. То единственное, что может установить такую связь, есть доказательство. Доказать — это значит показать, почему мы считаем сказуемое суждения аподиктически–связанным с подлежащим. Не принимать ничего без доказательства — это значит не допускать никаких суждений, кроме аподиктических. Считать всякое не доказанное положение недостоверным — таково основное требование скепсиса; другими словами, — не допускать абсолютно–никаких недоказанных предпосылок, какими бы само–очевидными они ни были. Это требование мы находим отчетливо выражерныме уже у Платона и Аристотеля. Для первого, т. е. для Платона, даже «правильное мнение — το ορϑά δοξάζβιν», которое нельзя подтвердить доказательством, не есть «знание, επιστήμη», «ибо дело недоказанное как могло бы быть знанием — αλογον γάρ πράγμα πώς αν ειη επιστήμη», хотя оно, вместе с тем, не может быть названо и «незнанием, αμαϑία» [36]. А для второго, т. е. для Аристотеля, «знание, επιστήμη» есть не иное что, как «доказанное обладание — εξίς αποδεικτική» [37], откуда происходит и самый термин «аподиктический».
«Но, — скажут, — ведь последнее положение, — т. е. принятие только доказанных положений и отметание всего недоказанного, — само–то оно не доказано; вводя его разве не пользуется скептик как раз тою же самою не–доказанною предпосылкой, которую он осудил у догматика?». — Нет. Оно — лишь аналитическое выражение существенного стремления философа, его любви к истине. Любовь к истине требует именно истины, а не чего–либо иного. Недостоверное может и не быть искомою истиной, может быть не–истиной, и потому любящий истину необходимо заботиться о том, чтобы под личиною очевидности не проскользнула к нему не–истина. Но именно таким сомнительным складом отличается очевидность. Она — тупое первое, дальше не обосновываемое. А так как она и не доказуема, то философ попадает в апорию («απορία» [38], в затруднительной по{стр. 35}ложение. Единственное, что он мог бы принять, это — очевидность, но и ее он не может принять. И, не будучи в состоянии высказать достоверное суждение, он обречен «έπέχειν», — медлить с суждением, воздерживаться от суждения. 'Εποχή, или состояние воздержания от всякого высказывания, — вот последнее слово скепсиса [39].
Но что такое 'εποχή как устроение души? Есть ли это «невозмутимость, αταραξία» [40], — то глубокое спокойствие отказавшегося от каких бы то ни было высказываний духа, та кротость и тишина, о которых мечтали древние скептики, или что–нибудь иное? — Посмотрим.
И еще: решившийся на атараксию в самом ли деле делается мирным и успокоенным, подобно Пиррону, — тому самому Пиррону, в котором скептики всех времен видели своего патрона и чуть ли ни святого [41]? или, напротив, чарующий образ этого великого скептика имеет корень свой совсем не в теоретическом изыскании истины, а в чем–либо ином, чего не успел задеть скепсис?
— Посмотрим.
Выраженная в словах, 'εποχή сводится к следующему двух–составному тезису:
«Я ничего не утверждаю»;
«не утверждаю и того, что ничего не утверждаю».
Этот дву–домный тезис доказывается положением, установленным ранее, а именно: «Всякое недоказанное положение не достоверно»; а последнее есть обратная сторона любви к истине.
Раз так, то я не имею никакого доказанного положения; я ничего не утверждаю. Но, высказав только что высказанное, я и это положение должен снять, ибо и оно не доказано. Вскроем первую половину тезиса. Тогда она предстанет в виде двух–составного суждения:
«Я утверждаю, что ничего не утверждаю (А');
«я не утверждаю, что ничего не утверждаю (А")», слагающегося из частей А' и А". Теперь, как оказывается мы явно нарушаем закон тождества, высказывая {стр. 36} об одном и том же подлежащем, — об утверждении своем, А, — в одном и том же отношении, противоречивые сказуемые. Но мало того.
И та, и другая часть тезиса является утверждением: первая — утверждением утверждения, вторая — утверждением не–утверждения. К каждой из них неизбежно применяется тот же процесс. А именно, получаем:
«Я утверждаю (A'1);
«я не утверждаю (А'2).
«Я утверждаю (A1'');
«я не утверждаю (А2')».
Точно таким же образом процесс пойдет далее и далее, при каждом новом колене удваивая число взаимопротиворечащих положений. Ряд уходит в беcконечность, а рано или поздно, будучи вынуждены прервать процесс удвоения, мы ставим в неподвижности, как застывшую гримасу, явное нарушение закона тождества. Тогда получается властное противоречие, т. е. зараз:
А есть А;
А не есть А.
Не будучи в состоянии активно совместить эти две части одного положения, мы вынуждены пассивно предаться противоречиям, раздирающим сознание. Утверждая одно, мы в этот же самый миг нудимся утверждать обратное; утверждая же последнее — немедленно обращаемся к первому. Как тенью предмет, каждое утверждение сопровождается мучительным желанием противного утверждения. Внутренне сказав себе «да», в то же мгновение говорим мы «нет»; а прежнее «нет» тоскует по «да». «Да» и «нет» — неразлучны. Теперь далеко уже сомнение, — в смысле неуверенности: началось абсолютное сомнение, как полная невозможность утверждать что бы то ни было, даже свое не–утверждение. Последовательно развиваясь, выявляя присущую ему in nuce идею, скепсис доходит до собственного отрицания, но не может перескочить и чрез последнее, так что {стр. 37} обращается в бесконечно–мучительное томление, в потуги, в агонию духа. Чтобы пояснить себе это состояние, вообрази утопающего, который силится ухватить полированную облицовку отвесной набережной; он царапается ногтями, срывается, снова царапается и, обезумев, цепляется еще и еще. Или, еще, представь себе медведя, старающегося спихнуть в сторону колотушку, подвешенную пред бортёвою сосною; чем дальше толкает он бревно, тем болезненнее обратный удар, тем более вздымается внутренняя ярость, тем слаще представляется мед.
Таково и состояние последовательного скептика. Выходит даже не утверждение и отрицание, а безумное вскидывание и корча, неистовое топтание на месте, метание из стороны в сторону, — какой–то нечленораздельный философский вопль. В результат же — воздержание от суждения, абсолютная 'εποχή, но не как спокойный и бесстрастный отказ от суждения, а как затаенная внутренияя боль, стискивающая зубы и напрягающая каждый нерв и каждый мускул в усилии, чтобы только не вскрикнуть и не завыть окончательно безумным воем.
Уж конечно, это — не атараксия. Нет, это наисвирепейшая из пыток, дергающая за сокровенные нити всего существа; пирроническое, поистине огненное (πυρ — огонь) терзание. Расплавленная лава течет по жилам, темный огонь проникает внутренность костей и, одновременно, мертвящий холод абсолютного одиночества и гибели леденит сознание. Нет слов, нет даже стонов, хотя бы на воздух, выстонать миллион терзаний. Язык отказывает повиноваться; как говорит Писание «язык мой прильпнул к гортани моей» (Пс. 21, 16; ср. Пс. 136, 5; Плач 4, 4; Иез 3, 26). Нет помощи, нет средств остановить пытку, ибо палящий огонь Прометея идет изнутри, ибо истинным очагом этой огневой агонии является самый центр философа, его «Я», домогающееся не–условного знания.
{стр. 38}
Истины нет у меня, но идея о ней жжет меня. Я не имею данных утверждать, что вообще е́сть Истина и что я получу ее; а сделав подобное утверждение, я отказался бы тем самым от жажды абсолютного, потому что принял бы нечто недоказанное. Но, тем не менее, идея об Истине живет во мне, как «огнь поядаяй», и тайное чаяние встретиться с нею лицом к лицу прилепляет язык мой к гортани моей; это оно, именно, огненным потоком кипит и клокочет в моих жилах. Не будь надежды, кончилась бы и пытка; сознание вернулось бы тогда к философскому филистерству, в область условностей. Ведь именно это огненное упование на истину, именно оно плавит своим черным пламенем гремучего газа всякую условную истину, всякое недостоверное положение. Впрочем, недостоверно и то, что я чаю Истины. Может быть, и это — только кажется. А кроме того, может быть, и самое казание есть не казание?
Задавая себе последний вопрос, я вхожу в последний круг скептического ада, — в отделение, где теряется самый смысл слов. Слова перестают быть фиксированы и срываются со своих гнезд. Все превращается во все, каждое слово–сочетание совершенно равносильно каждому другому, и любое слово может обменяться местом с любым. Тут ум теряет себя, теряется в безвидной и неустроенной бездне. Тут носится горячечный бред и бестолочь.
Но это предельно–скептическое сомнение возможно лишь как неустойчивое равновесие, как граница абсолютного безумия, ибо что́ иное есть безумие, как ни без–умие, как ни переживание без–субстанциональности, без–опорности ума [42]. Когда оно переживается, то его тщательно скрывают от других; а раз переживши вспоминают весьма неохотно. Со стороны почти невозможно понять, что́ это такое, бредовой хаос клубами вырывается с этой предельной границы разума, и все–пронизывающим холодом ум умерщвляется. Тут, за тонкой перегородкою, — начало {стр. 39} духовной смерти. И потому состояние предельного скепсиса возможно лишь в мановение ока, чтобы затем — либо вернуться к огненной пытке Пиррона, к 'εποχή, либо погрузиться в беспросветную ночь отчаяния, откуда нет уже выхода и где гаснет самая жажда истины. От великого до смешного — один шаг, а именно, шаг, уводящий с почвы разума.
Итак, путь скепсиса тоже не ведет ни к чему.
Мы требуем достоверности, и это наше требование выражает себя решением не принимать ничего без доказательства; но, при этом, и самое положение «не принимать ничего без доказательства» должно быть доказано. Посмотрим, однако, не сделали ли мы в предыдущем некоторого догматического утверждения? Снова обращаемся назад.
Мы искали положения, которое было бы абсолютно доказано. Но на пути исканий прокрался некоторый признак этого, искомого положения, и сам однако ж остался недоказанным. А именно, это искомое абсолютно–доказанное положение почему–то наперед было признано первым в своей доказанности, — тем, с чего начнется вся положительная работа. Несомненно, что это утверждение на счет изначальности абсолютно–доказанного суждения, как не доказанное, само является догматическою предпосылкою. Ведь возможно, что искомое положение будет в наших руках, но — не как первое, а как некоторый результат других положений, — недостоверных.
«Из недостоверного не может получиться достоверного» — вот несомненно догматическая предпосылка, лежавшая в основе утверждения о первичности истины достоверной: да, догматическая, ибо она нигде не доказана.
Итак, снова отрицаясь пройденного пути, мы отбрасываем обнаружившуюся догматическую предпосылку и говорим: «Мы не знаем, есть ли достоверное положение, {стр. 40} или нет его; но, если бы оно было, то опять таки мы не знаем, является ли оно первым, или нет. Впрочем, и того, что «мы не знаем», мы тоже не знаем» и т. д., — как доселе. Далее начнется наша 'εποχή в подобном прежнему виде. Но наше теперешнее состояние будет несколько новым. Мы не знаем, есть ли Истина, или нет её; но если она есть, то мы не знаем, может ли привести к ней разум, или нет; и, если разум может привести к ней, то не знаем и того, как мог бы привести к ней разум и где он ее встретит. Однако, при всем том, мы говорим себе: «Если бы была Истина, то можно было бы поискать ее. Может быть, мы найдем ее, проходя некоторый путь наудачу, и тогда, может быть, она заявит нам себя, как таковая, как Истина». Но почему я говорю так? Где основание для моего утверждения? — Его нет. И потому, при требовании доказать свое предположение, я сейчас же снимаю его с очереди и возвращаюсь к 'εποχή утверждением: «Может быть, это так, а, может быть, — и обратно». Раз от меня требуется ответ на вопрос: «Так ли это?», я говорю: «Это — не так». Но если меня спросят решительно: «Это — не так?», я скажу: «Это — так». Я спрашиваю, а не утверждаю, и то́, что́ вкладываю в свои слова, оно есть нечто вовсе не логическое. Что же оно? — Тон надежды, но не логическое высказывание надежды. И из этого тона следует только то, что я все–таки попытаюсь сделать предлагаемую неоправданную, но и не осужденную попытку найти истину. Если меня спросят об основаниях, я уйду в себя, как улитка. Я вижу, что мне грозит либо безумие воздержания, либо суетный, быть может, труд попыток, — работа с полным сознанием, что она не имеет для себя основания, и что оправдание её мыслимо лишь как случайность, — лучше сказать, как дар, как gratia quae gratis datur. Не о том же ли говорит преп. Серафим Саровский: «Если человек, из любви к богу, не имеет излишнего попечения о себе, то это — мудрая надежда»? {стр. 41} По слову святого Старца я и хочу «не иметь излишнего попечения о себе», о рассудке своем, т. е, — надеяться [43].
Итак, я иду ощупью, все время помня, что шаги мои не имеют никакого значения. Я попробую на свой страх, на авось вырастить что–нибудь, руководствуясь не философским скепсисом, а своим чувством, и покуда погожу испепеливать его пирронической лавою. Про себя–то я имею тайную надежду — надежду на чудо: авось поток лавы отступит перед моим ростком, и растенье окажется купиной неопалимою. Но это — только про себя. Только про себя я принимаю слово кафизм, тысячекратно слышанное в церкви, но только сейчас почему–то всплывшее в сознании: «Взыскающие Бога не лишатся всякого блага». Да, взыскающие, т. е. ищущие, жаждущие. Не сказано «имеющие», да так сказать было бы и лишне, — ибо само собою, что имеющие Бога, Первоисточника благ, не лишатся и каждого из них в отдельности, — и, быть может, неправильно, — ибо может ли кто сказать, что он всецело имеет Бога и, стало быть, уже более — не из числа взыскающих? — Но именно взыскающие Бога не лишатся всякого блага; взыскание утверждается Церковью уже как не–лишение; неимеющие оказываются как бы имеющими, — имеющими. Но, хотя это равенство еще и не доказано, но оно запало мне в душу. А раз у меня ничего нет, то почему бы не повиноваться этой сил Божьего слова?
Таким образом, я вступаю на новую почву — про–бабилизма, однако, под тем непременным условием, что мое вступление будет лишь пробою, опытом. Истинной родиною все еще остается 'εποχή. Но если бы я сопротивлялся своему предчувствию и хотел вовсе не уходить от 'εποχή, то нужно было бы опять таки доказать свое упорство, чего я так же не мог бы, как и теперь не могу доказать своего схождения. Ни для того, ни для другого у меня нет оправданий; но практически, конечно, естественнее искать пути, хотя бы {стр. 42} даже надеясь на чудо, нежели сидеть на месте в отчаянии. Однако, для искания необходимо оказаться вне рассудка. Тут опять возникает вопрос: «По какому же праву мы выходим за пределы нашего рассудка?» — Ответ таков: «По тому праву, которое дает нам сам рассудок: он нас к тому вынуждает [44]. Да и что же остается делать, когда, все равно, рассудок отказывается служить».
Я хочу сделать проблематическое построение, имея в виду, что оно, быть может, случайно окажется достоверным. «Окажется»! Этим словом я перенес свои искания с почвы умозрения в область опыта, фактического восприятия, но такого, которое должно соединить в себе еще и внутреннюю разумность.
Каковы же. формальные, умозрительные условия, которые удовлетворились бы, если бы такой опыт явился на деле? Другими словами, какие суждения мы необходимо составили бы по поводу этого опыта (— еще раз подчеркну, что его у нас нет —)?
Эти суждения суть следующие:
1#, — абсолютная Истина есть, т. е. она — безусловная реальность;
2#, — она познаваема, т. е. она — безусловная разумность;
3#, — она дана, как факт, т. е. является конечною интуицией; но она же абсолютно доказана, т. е. Имеет строение бесконечной дискурсии.
Впрочем, третье положение, при анализе, влечет за собою два первых. В самом деле, «Истина — интуиция»; это и значит, что она есть. Далее, «Истина — дискурсия»; это и значит, что она познаваема. Ведь интуитивность есть фактическая данность существования, а дискурсивность — идеальная возможность постижения.
Значит, все внимание наше сосредоточивается на двойственном по составу, но едином по идее положении:
«Истина есть интуиция, Истина есть дискурсия», или проще:
{стр. 43}
«Истина есть интуиция–дискурсия».
Истина есть интуиция, которая доказуема, т. е. дискурсивна. Чтобы быть дискурсивною, интуиция должна быть интуицией не слепой, не тупо–ограниченной, а уходящею в бесконечность, — интуицией, так сказать, говорящей, разумной. Чтобы быть интуитивною, дискурсия должна быть не уходящею в беспредельность, не возможною только, а действительною, актуальною.
Дискурсивная интуиция должна содержать в себе синтезированный бесконечный ряд своих обоснований; интуитивная же дискурсия должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу. Дискурсивная интуиция есть интуиция дифференцированная до бесконечности; интуитивная же дискурсия есть дискурсия интегрированная до единства.
Итак, если Истина есть, то она — реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, — выражусь математически, — актуальная бесконечность [45], — бесконечное, мыслимое как цело–купное Единство, как единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту бесконечного ряда своих оснований, глубину своей перспективы. Она — солнце, и себя и всю вселенную озаряющее своими лучами, бездна её есть бездна мощи, а не ничтожества. Истина — движение неподвижное и неподвижность движущаяся. Она — единство противоположного. Она — coincidentia oppositorum.
Раз так, то скепсис, действительно, не может уничтожить истины и, действительно, она — «сильнее всего» [46]: она всегда дает скепсису оправдание себя, она — всегда «ответчива». На каждое «почему?» есть ответ, и, при том, все ответы эти даны не разрозненно, не внешне сцепляясь один с другим, но свитыми в целостное, изнутри сплоченное единство. Единый миг восприятия истины дает ее со всеми её основаниями(— хотябы они {стр. 44} никем, — нигде и никогда, — не мыслились раздельно!). Мгновение ока дает всю полноту ведения.
Такова абсолютная Истина, буде она существует. В ней должен находить себе оправдание и обоснование закон тождества. Пребывая выше всякого внешнего для себя основания, выше закона тождества, Истина обосновывает и доказывает его. И, вместе с тем, в ней — объяснение, почему бытие неподвластно этому закону.
Пробабилистически–предположительное построение ведет к утверждению истины, как само–доказательного Субъекта, — такого Субъекта, qui per se ipsum concipitur et demonstratur, который через себя постигается и доказуется, — Субъекта, который безусловно Господин себе, Господь, владеет синтезированным в единство и даже в единичность бесконечным рядом всех своих обоснований, господствует над всеми своими основаниями. Мы не можем конкретно мыслить такого Субъекта, ибо не можем синтезировать бесконечный ряд во всей его целокупности; на пути последовательных синтезов мы всегда будем видеть лишь конечное и условное. Прибавляя сколько угодно раз к конечному числу конечное же число, мы не получим ничего, кроме числа конечного. Подымаясь на горы выше и выше, — воспользуюсь образом Канта [47], — мы тщетно надеялись бы тронуть рукою небо; и безумны расчеты на вавилонскую башню. Точно так же и все наши усилия всегда будут давать только синтезируемое, но никогда — осинтезированного. Бесконечная Единица трансцендентна для человеческих достижений.
Если бы в сознании у нас оказалось реальное восприятие такого само–доказательного Субъекта, то оно было бы именно ответом на вопрос скепсиса и, следственно, уничтожением 'εποχή. Если 'εποχή вообще разрешима, то только таким уничтожением, разгромом, — если, угодно полновластным удовлетворением; но ее решительно нельзя просто обойти или устранить. Попытка пренебречь 'εποχή непременно является логическим {стр. 45} фокусом, — не более, и в тщетном стремлении произвесть такой фокус загублены все догматические системы, не исключая и Кантовой.
В самом деле, если не удовлетворено условие интуитивной конкретности, то Истина будет лишь пустою возможностью; если же не удовлетворено условие разумной дискурсивности, то Истина является не более, как слепою данностью. Только осуществленный независимо от нас конечный синтез бесконечности может дать нам разумную данность или, другими словами, само–доказуемый Субъект.
Имея все основания себя и явления себя нам — в себе же, т. е., имея все основания своей разумности и своей данности — в себе, он само–обосновывается не только в порядке разумности, но и в порядке данности. Он — causa sui как по сущности, так и по существованию, т. е. он — не только per se concipitur et demonstratur, но и per se est. Он — «чрез себя есть и чрез себя познается». Это хорошо понимали схоластики.
Так, по определению Ансельма Кентерберийского [48] Бог — «per se ipsum ens», «ens per se». По замечашю Фомы Аквинского [49]природа Бога «per se necesse esse», ибо она есть «prima causa essendi, non habens ab alio esse». —
Вот более точное определение смысла этого «per se»: «Per se ens est, quod separatim absque adminicolo alterius existit, seu quod non est in subjecto inhaesionis: quod non est hoc modo per se est accidens» [50].
Это разумение Бога, как само–сущего и само–разумного, красною нитью проходит чрез всю схоластическую философию и свое крайнее, но одностороннее применение находит в философии Спинозы; по третьему определению Спинозовской «Этики» [51], налагающему своеобразный отпечаток на всю систему его, субстанция именно и есть то, что само–суще и само–разумно: «Per substantiam intelligo id, quod in se est et per se concipitur».
Само–доказуемый Субъект! Формально мы можем утверждать, что эта «(Бесконечная Единица» все объясняет, потому что дать объяснение чему–нибудь, это зна{стр. 46}чит, во первых, показать, ка́к оно не противоречит закону тождества и, во вторых, ка́к данность закона тождества не противоречит возможности его обоснования.
Встает, однако, новый вопрос. Как некое откровение в нашем восприятии явила себя (— допустим! —) синтезированная в конечную интуицию бесконечность ряда оснований. Пусть так. Но как же, именно, эта интуиция дала бы обоснование закону тождества со всеми его нарушениями?
Прежде всего, как возможна множественность со–существования (разногласие, вне–положность) и множественность последования (изменение, движение)? Другими словами, ка́к временно–пространственная множественность не нарушает тождества?
— Она не нарушает тождества только в том случае, если множество элементов абсолютно синтезировано в истине, так что «другое», — в порядке со–существования и в порядке последования, — есть в то же время и «не другое» sub specie aeternitatis, — если έτερότης, «инаковость», отчужденность «другого» есть только выражение и обнаружение ταυτότης, тождественности «этого же».
Если «другой» момент времени не является уничтожающим и пожирающим собою «этот», но, будучи «другим», он есть в то же время «этот», т. е. если «новое», открывающееся как новое, есть «старое» в его вечности, если внутренняя структура вечного: «этого» и «другого», «нового» и «старого» в их реальном единстве такова, что «это» должно появиться вне «другого» и «старое» — ранее «нового», если, — говорю, — «другое» и «новое» является таковым не чрез себя, а чрез «это» и «старое», а «это» и «старое» суть то, что они суть, не чрез себя, а чрез «другое» и «новое», если, наконец, каждый элемент бытия есть только член субстанционального отношения, отношения–субстанции, то тогда закон тождества, вечно нарушаемый, вечно восстановляется самым своим нарушением.
{стр. 47}
Последним положением, зараз, дается ответ и на старый вопрос, а именно: «Как возможно, что всякое А есть А?». Да, в таком случае из самого закона тождества течет источник, разрушающий тождество, но зато это разрушение тождества есть мощь и сила вечного его восстановления и обновления. Тождество, мертвое в качестве факта, может быть и непременно будет живым в качестве акта. Закон же тождества тогда окажется не всеобщим законом бытия, так сказать, поверхностного, а поверхностью бытия глубинного, — не геометрическим образом, а внешним обликом недоступной рассудку глубины жизни; и в этой жизни он может иметь свой корень и свое оправдание. Слепой в своей данности закон тождества может быть разумен в своей созданности, в своей вечной создаваемости; плотяный, мертвый и мертвящий в своей статике, он может быть духовным, живым и живо–творящим в своей динамике. На вопрос: «Почему А есть А?» отвечаеме: «Потому А есть А, что вечно бывая не–А, в этом не–А оно находит свое утверждение как А». Точнее: А потому есть А, что оно есть не–А. Не будучи равно А, — т. е. самому себе, — оно в вечном порядке бытия всегда устанавливается силою не–А, как А. Впрочем, об этом peчь будет далее.
Таким образом, закон тождества получит обоснование не в своем низшем, рассудочном виде, но в некотором высшем, разумном. Эта «высшая форма закона тождества» — основное открытие о. архимандрита Серапиона Машкина́; впрочем, ценность открытия обнаруживается только при конкретной разработке системы философии [52].
Вместо пустого, мертвого и формального само–тождества «А=А», в силу которого А должно было бы самостно, само–утвержденно, эгоистически исключать всякое не–А, мы получили содержательное, полное жизни, реальное само–тождество А, как вечно отвергающегося себя и в {стр. 48} своем само–отвержении вечно получающего себя. Если в первом случа А есть А (А=А) вследствие исключенности из него всего (— и его самого в его конкретности! —), то теперь А есть А чрез утверждение себя как не–А, чрез усвоение и уподобление себе всего.
Отсюда понятно, каков само–доказательный Субъект и в че́м его само–доказательность, — если только вообще он е́сть.
Он таков, что он есть А и не–А. Обозначим для ясности не–А чрез Б. Что же — Б? Б есть Б; но оно само было бы слепым Б, если бы не было вместе и не–Б. Что же такое не–Б? Если оно — просто А, то А и Б были бы тождественны. А, будучи А и Б, было бы одним только простым, голым А, равно как и Б. (Как увидим, в ересеологии это соответствует модализму, савеллианству и т. п.). Чтобы не было простого тождесловия «А=А», чтобы было реальное равенство «А есть А, ибо А есть не–А», необходимо, чтобы Б само было реальностью, т. е. чтобы Б было зараз и Б, и не–Б; последнее, т. е. не–Б для ясности обозначим чрез В. Чрез В круг может замкнуться, ибо в его «другом», — в «не–В», — А находит себя, как А. В Б переставая быть А, А от другого, но не от того, которому приравнивается, т. е. от В, опосредствовано получает себя, но уже́ «доказанным», уже́ установленным. То же относится и к каждому из субъектов А, Б, В троичного отношения.
Само–доказательность и само–обоснованность Субъекта Истины Я есть отношение к Он чрез Ты. Чрез Ты субъективное Я делается объективным Он, и в последнем имеет свое утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает Себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина — созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности — ούσια» само–доказательного Субъекта, которая {стр. 49} есть, как видно, субстанциональное отношение. Субъект Истины есть отношение Трех, но — отношение, являющееся субстанциею, отношением–субстанциею. Субъект истины есть Отношение Трех [53]. А так как конкретное отношение вообще есть система актов жизнедеятельности, в данном же случае — бесконечная система актов, синтезированных в единицу или, еще, бесконечный единичный акт, то мы можем утверждать, что ουσία Истины есть Бесконечный акт Трех в Единстве. Потом мы конкретнее объясним этот бесконечный акт Жизни.
Но что такое каждый из «Трех» в отношении к бесконечиому акту–субстанции?
Реально это не то, что́ весь Субъект, и реально же — это то́ же, что́ и весь Субъект. Ввиду необходимости дальнейших рассуждений мы назовем его, — как «не то», — «ипостасью — υπόστασις», тогда как ранее уже установили мы термии «сущность — ουσία» — для обозначения его как «то́ же».—
Следовательно, Истина есть единая сущность о трех ипостасях. Не три сущности, но одна; не одна ипостась, но три. Однако, при всем том, ипостась и сущность — одно и то же. Выражаясь несколько неточно, скажу: «Ипостась — абсолютная личность». Но, спрашивается: «В чем же личность, как ни в сущности?». И еще: «разве дается сущность иначе как в личности?». — Да, и все–таки все предыдущее устанавливает, что не одна ипостась, а три, хотя сущность — конкретно едина. И потому нумерически, числом — один Субъект Истины, а не три.
«Святые и блаженные отцы наши, — пишет авва Фалассий, — как единое существо Божества триипостасным признают, так св. Троицу единосущною исповедуют. — Единица, простираясь у них до Троицы, пребывает Единицею; и Троица, собираясь в Единицу, пребывает Троицею. И cиe чудно. — Сохраняется так у них свойство ипостасей неподвижным и непреложным, и общность сущности, т. е. Божества, нераздельною. Исповедуем Единицу в Троице, и Троицу в Еди{стр. 50}нице, разделяемую нераздельно и совокупляемую разделительно» ([54]).
«Почему же ипостасей, именно, три?» спросят меня. Я говорю о числе «три», как имманентном истине, как внутренне неотделимом от нее. Не может быть меньше трех, ибо только три ипостаси извечно делают друг друга тем, что они извечно же суть. Только в единстве Трех каждая ипостась получает абсолютное утверждение, устанавливающее ее, как таковую. Вне Трех нет ни одной, нет Субъекта Истины. А больше трех? — Да, может быть и больше трех, — чрез принятие новых ипостасей в недра Троичной жизни. Однако, эти новые ипостаси уже не суть члены, на которых держится Субъект Истины, и потому не являются внутренне–необходимыми для его абсолютности; они — условные ипостаси, могущие быть, а могущие и не бышь в Субъекте Истины. Поэтому–то их нельзя называть ипостасями в собственном смысле, и лучше обозначить именем обо́женных личностей и т. п. Но, кроме того, имеется еще одна сторона, доселе опущенная нами; впоследствии мы обсудим ее со тщанием, а покуда заметим только: в абсолютном единстве Трех нет «порядка», нет последовательности. В трех ипостасях каждая — непосредственно рядом с каждой, и отношение двух только может быть опосредствовано третьей. Среди них абсолютно немыслимо первенство. Но всякая четвертая ипостась вносит в отношение к себе первых трех тот или иной порядок и, значит, собою ставит ипостаси в неодинаковую деятельность в отношении к себе, как ипостаси четвертой. Отсюда видно, что с четвертой ипостаси начинается сущность совершенно новая, тогда как первые три были одного существа.
Другими словами, Троица может быть без четвертой ипостаси, тогда как четвертая — самостоятельности не может иметь. Таков общий смысл троичного числа.

Semper adamas. — Всегда не сокрушаем.
{стр. 51}
«Троица единосущная и нераздельная, единица триипостасная и соприсносущная» — вот единственная схема, обещающая разрешить 'εποχή, если только вообще можно удовлетворить вопросу скепсиса. Лишь ее не расплавил бы пирронизм, если бы встретил ее осуществленной в опыте. Если вообще может быть Истина, то вот — путь к ней, при том, единственный. Но проходи́м ли он на деле, не есть ли он лишь требование разума, — хотя и необходимое и неизбежное для разума, — это не ясно. Найдена единственная для разума возможная идея Истины; однако не рискуем ли мы остаться с одною только идеею — вот вопрос. Истина есть несомненно то, что мы сказали о ней; но есть ли она вообще — мы того не знаем. Этот вопрос стоит на очереди. Но, прежде нежели идти вперед в исследовании нашего настоящего вопроса, поясню идею Триипостасного Бога, — о которой мы говорили доселе в терминах философских, — языком Богословия.
Идея едино–сущия, как известно, выражается термином όμοούοιος, омоусиос. Около него и из за него происходили, в существе дела, все тринитарные споры. Вглядеться в историю этих прений — значит обозреть {стр. 52} все цвета и все оттенки, которыми окрашивалась идея, едино–сущия. Но я могу избавить себя от этого труда, сославшись на «истории догматических споров» [55].
Как известно, ни светская языческая письменность, ни письменность церковная до–никейская не знали различия между словами ουσία и υπόστασις, впоследствии рассматривавшимися как termini technici; в философском словоупотреблении ουσία безусловно приравнивалось к υπόστασις. Так было даже еще в V в. по Р. X. Есть все основания думать, что и отцы первого вселенского собора принимали слова «ипостась» и «сущность» в качестве равно–значащих и совсем не имели в виду того различия между ними, которое было внесено позднейшею мыслию. Св. Афанасий Великий употребляет их как равно–значащие и, даже спустя 35 лет после никейского собора, он решительно утверждает в одном из посланий, что «ипостась есть сущность и не иное что обозначает, как самое существо». На одной почве с Афанасием стояло старое поколение никейцев [56]. А в конце IV–го века бл. Иероним, в послании к папе Дамасу, определенно говорит, что «школа светских наук не знает иного значения слова ипостась, как только сущность (usian)» [57]. Но известно также, что в позднейшем Богословии тот и другой термин стали различаемы, различаемы — да, но различны ли по содержанию? Несомненно, они различаемы друг относительно друга, подобно тому, как «правое» различается при соотношении с «левым»; и «левое» — с «правым», но, — спрашиваю, — различно ли их содержание безотносительно, о себе? Правильно ли утверждение, что один термин (ипостась, υπόστασις) означает индивидуальное, тогда как другой (сущность, ουσία) — общее?
— Тут ответом, прежде всего, может служить то обстоятельство, что выбрана пара слов, всячески совпадающих по содержанию. Почему так, — Только потому, что обозначенное ими логически разнствует друг с другом лишь относительно, взаимно, но — не в себе, не о себе.
{стр. 53}
Если позволить себе грубое сравнение, содержания рассматриваемых терминов относятся друг к другу, как предмет и его зеркальное отражение, как рука и её дружка, как кристалл право–вращающий и кристалл лево–вращающий и т. д. Во всех этих случаях существенная разность одного объекта от другого воспринимается вполне явственно, но логически не может быть охарактеризована иначе, как чрез ссылку на другой объект: в восприятии дается не одно и то же, но когда нас спрашивают, в чем же, именно, разность, то мы не можем фактически не отождествить разнствующего и формально вынуждены признать тождественность [58].
Так — и относительно терминов «ипостась» и «сущность». Ведь «едино–сущие» означает собою конкретное единство Отца и Сына и Духа Св., но иикак не единство номинальное; όμοούσιος у Афанасия и старших никейцев прямо равносильно έκ ουσίας τού Πατρός. Но если — так, то υπόστασις, — так сказать, личная сущность Отца и Сына и Духа Св., поскольку каждый из них рассматривается отдельно от других, — ни мало не сливаясь с другою υπόστασις, в то же время неотделима от неё. Если терминологически, формально слово υπόστασις стало принципиально–отличным от ουσία, то содержательно, по своему логическому значению υπόστασις остается решительно тем же, что́ и ουσία. В том–то и выразилось безмерное величие никейских отцов, что они дерзнули воспользоваться вполне тождествениыми по смыслу речениями, верою победив рассудок, и, благодаря смелому взлету, получив силу даже с чисто–словесною четкостью выразить невыразимую тайну Троичности. Отсюда понятно, что всякие попытки разграничить ουσία и υπόστασις, придать каждому из них самостоятельное логическое положение, не взаимо–относительное, вне контекста догмата, неизбежно должны были вести и вели на деле к рационализированию догмата, к «сечению Несекомаго» [59], к так называемому, трифеизму или трех–божной ереси. Еще с древности обвинение в трифеизме висит {стр. 54} над головою каппадокийцев. Конечно, оно несправедливо; но оно глубоко знаменательно. Еще бо́льшим уклоном к рационализму ознаменовали себя омиусиане. 'Ομοιούσιος, омиусиос или όμοιος κατ’ ουσίαν значит «такой же сущности», «с такою же сущностью», и, хотя бы даже ему было придано значение όμοιος κατά πάντα, «во всем такой же», — все едино, — оно никогда не может означать нумерического, т. е. численного и конкретного единства, на которое указывает όμοούσιος. Вся сила таинственного догмата разом устанавливается единым словом όμοούσιος, полно–властно выговоренным на Соборе 318–ти, потому что в нем, в этом слове — указание и на реальное единство, и на реальное же различие. Нельзя вспоминать без благоговейной дрожи и священного ужаса о том, без конца значительном и единственном по философской и догматической важности миге, когда гром «Ομοούσιος» впервые прогрохотал над Городом Победы. Тут дело шло не о специальном Богословском вопросе, а о коренном само–определении Церкви Христовой. И единым словом «ομοούσιος» был выражен не только христологический догмат, но и духовная оценка рассудочных законов мышления. Тут был на́-смерть поражен рассудок. Тут впервые было объявлено urbi et orbi новое начало деятельности разума.
Вспомним, в самом деле, что́ такое все христианское жизне–понимание? — развитие музыкальной темы, которая есть система догматов, догматика. А что есть догматика? — расчлененный Символ Веры. А что есть Символ Веры? — Да не иное что, как разросшаяся крещальная формула, — «Во имя Отца и Сына и Св. Духа». Ну, а последняя–то уж, несомненно, есть раскрытие слова ομοούσιος. Рассматривать ветвистое и широко–сенное древо горчичное жизне–понимания христианского, как разросшееся зерно идеи «едино–сущия», — это не логическая только возможность. Нет, исторически именно так и было. Термин ομοούσιος и выражает собою это антиномическое зерно христианского жизне–понимания, это единое имя {стр. 55} («во имя Отца и Сына и Св. Духа», а не «во имена» [60]) Трех Ипостасей[61]
Очагом омиусианского рационализирования были в значительной мере философские стремления. Вот почему, аскет и духовный подвижник Афанасий Великий, к тому же, быть может, по определению свыше не получивший философского образования и, во всяком случае, внутренне порвавший со всем, что — не от веры, математически–точно сумел выразить ускользавшее даже в позднейшую эпоху от точного выражения для умов интеллигентных.
И замечательно, сколько усилий пришлось тратить каппадокийцам, — они гордились своими университетскими годами! — чтобы сопротивляться тянувшей их к трифезиму философской терминологии. «Общность природы (κοινωνία), согласно смыслу всей терминологии каппадокийцев, — утверждает А. А. Спасский [62], — еще не говорит о реальном бытии сущности и не гарантирует её нумерического единства. Природа в божестве и в людях может быть едина, но свое конкретное осуществление находит в ипостасях».
Несмотря на этот трифеистический тон своих писаний, каппадокийцы в душе были вполне православны и явно, что внутреннее их разумение шло неизмеримо далее неточных слов. Как бы исправляясь, в 38–ом письме Василий Великий заявляет: «Не удивляйся, если говорим, что одно и то же и соединено и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, некое новое и необычайное разделение соединенное, и единение разделенное» [63]. А Григорий Нисский в своем «большом катехизическом поучении» решительно становится над рассудком:«Кто до точности вникает в глубины таинства, тот, хотя объемлет некоторое скромное по непостижимости понятие бого–ведения, не может однако уяснить словом этой неизреченной глубины таинства: ка́к одно и то же числимо и избегает счисления, и разделенно зримо и заключается {стр. 56} в единице, и различаемо в ипостаси и не делимо в подлежащем» [64].
Таким образом, последняя формула «единой сущности» и «трех ипостасей» приемлема лишь постольку, поскольку она одновременно отождествляет и различает термины «ипостась» и «сущность», т. е. поскольку она снова приводится к чисто–мистическому, сверх–логическому учению старо–никейцев или к слову ομοούσιος. И напротив, всякая попытка рационально истолковать указанную формулу посредством вложения в термины ουσία и υπόστασις различного содержания неминуемо ведет либо к савеллианству, либо к трифеизму. Богословие до–афанасиевское — Богословие апологетов, опиравшихся на античную философию, впадало в ошибку первого рода (разные виды монархианства), полагая несоразмерный вес в единстве Божественной сущности и тем лишая ипостаси собственного их бытия. Оно то субординастически подчиняло Сына и Духа Святого Отцу, то сливало ипостаси. Богословие после–афанасиевское, тоже связавшее себя античными терминами, грешило в сторону прямо противоположную, так как, в противовес апологетическому монархианству, чрезмерно настаивало на самостоятельности ипостасей и тем впадало в трифеизм. Если первое имело склонность обратить в видимость ипостасную множественность божества, то второе, несомненно, тяготело к уничтожению существенного Его единства.
Равновесие обоих начал — у Афанасия. Его Богословие — это та точка, где погрешность, прежде нежели вероучение перейдет с «-» на «+», делается строго нулем. И потому Афанасий Великий, можно сказать, — исключительный носитель церковного сознания касательно рассматриваемого — догмата Троичности. Может быть, после него Богословие усовершенствовалось в частных вопросах, но у кого из позднейших отцов в эпоху соборов равновесие двух начал было так математически–точно и у кого́ была очевиднее показана сверх–{стр. 57}логичность догмата, нежели у этого поборника единосущия, — святителя, из православных православнейшего.
«Среди защитников никейского собора — говорит А. А. Спасский [65], — Афанасий занял исключительное место; он был не только их вождем, но и показателем их положения в церкви. Все козни, направлявшиеся против никейского символа, начинались обыкновенно с Афанасия; изгнание служило ясным симптомом усиливающейся реакции; торжество его являлось торжеством никейского собора и его вероучения. Можно сказать, что Афанасий на своих плечах вынес никейский символ из бури сомнений, вызванных им на Востоке. Не даром позднейшее поколение никейцев назвало его спасителем церкви и столпом православия». Не даром, — добавлю, — Григорий Богослов не находит достаточно сильных слов, чтобы восхвалить Великого Александрийца. Он — «блаженный, поистине Божий человек и великая труба Истины», он «прекратил недуг» Церкви, он — «мужественный поборник Слова» и «строитель душ». Недаром «претерпеть за Афанасия что–либо самое тяжкое подвижники почитали величайшим приобретением для любомудрия, ставили это гораздо богоугоднее и выше продолжительных постов, возлежания на голой земле и других злостраданий, какими они всегда услаждаются» [66]. «Святейшее око вселенной, архиерея иереев, наставника в исповедании, сей великий глас, столп веры, сего, — если можно так сказать, — второго светильника и предтечу Христова, почившего в старости доброй, исполненной дней благородных, после наветов, после подвигов, после многой молвы о руке, после живого мертвеца, к себе переселяет Троица, для Которой он жил, и за Которую терпел напасти». «Я уверен, — добавляет Григорий Богослов, — что по сему описанию всякий узнает Афанасия» [67]. И действительно, он всегда был на страже. Когда пытались весьма тонко–рационалистически подделать όμοούσιος, Афанасий спешит предупредить Иовиана относительно тех, которые «принимают вид, что {стр. 58} исповедуют веру никейскую, в самой же истине отрицают ее, перетолковывая речение «едино–сущный», и не обинуясь называет их арианами. И вот почему: он понимает, — как говорил Григорий Богослов, — что «вместе со слогами распадутся и концы вселенной», что тут малого отступления быть не может, что всякое, по видимому тончайшее, рационализирование догмата делает его солью обуявшею, что нельзя говорить об искажении догмата, когда вечный Столп Истины подменяется прахом носимым в ветр по дорогам. «Отцов никейских. — писал сам Афанасий, — должно уважать, иначе не приемлющие символа должны быть признаваемы скорее всеми, но не христианами». Весь смысл догмата — в афанасиевском установлении όμοούσιος, и вне «едино–сущия» — лишь суета человеческих, мятущихся мнений.
Вот почему грубоватый Рим тоже не сдавался ни на какие ухищрения, и все льстивые, мудрствующие речи восточных полу–ариан, как много–шумливые волны, разбивались о камень веры, — о непреклонное со стороны Рима требование вернуться к никейскому символу.
Возвращаюсь к вопросу о скепсисе.
Чтобы закон тождества был дан не только как глухой корень рассудка, — чтобы избавиться от эмпирии рассудка, которая нисколько не лучше эмпирии чувственности, нужно было бы выйти за пределы рассудка, войти в ту область, где коренится рассудок со всеми своими нормами. Это значит, что нужно было бы в опыте осуществить синтез безотносительного и отношения, первого и выводного, покоя и движения, единицы и бесконечности и т. д. Рассудок не принимает этих сочетаний. Там, где каждое А есть А и только А, искомый синтез решительно невозможен. Если он возможен вообще, то только лишь за пределами рассудка, при чем для рассудка раз полученный синтез будет мыслиться как идеальный предел рас{стр. 59}судка, как по–ту–стороннее, за–предельное, трансцендентное для него образование, — как регулятивный принцип. Но, при попытке охватить этот синтез, рассудок, по самой структуре своей, не может воспринять его целостности и неминуемо разлагает его на несовместные, противо–полагающиеся термины. Coincidentia oppositorum неудержно распадается и рассыпается на взаимо–исключающие opposita. А раз так, то для рассудка будет безвыходным либо устранение одного из терминов в пользу другого, либо ритмическое чередование их, — борьба, подобная борьбе разно–цветных зрительных полей в стереоскопе. То или другое, но не синтез! Кстати сказать, победа одного термина над другим будет соответствовать той или иной ереси, а чередование полей — рассудочному «православию» учебников, какое на деле есть лже–православие, представляющее собою букет несовместимых ересей.
В поисках достоверности мы наткнулись на такое сочетание терминов, которое для рассудка не имеет и не может иметь смысла. «Троица во Единице и Единица в Троице» для рассудка ничего не обозначает, если только брать это выражение с его истинным, не потворствующим рассудку содержанием; это — своего рода √2. И, тем не менее, сама наличная норма рассудка, т. е. закон тождества и закон достаточного основания, приводит нас к такому сочетанию, требует, чтобы оно имело свой смысл, чтобы оно было исходным пунктом всего ведения. Осуждая себя самого, рассудок требует Троицы во Единице, но не может вместить Ее. А для того, чтобы в опыте пережить это требование, этот постулат разума (— если только он вообще может быть переживаем в опыте! —), разум должен мыслить его, должен построить себе новую норму. Для последней же необходимо препобедить рассудок, — единственное, что есть у нас, хотя и не оправданное: мудрость Божественная и мудрость человеческая столкнулись. Поэтому сам от себя разум никогда не {стр. 60} пришел бы к возможности такого сочетания. Только авторитет «Власть имеющего» может быть опорною точкою для усилий [68]. Доверившись и поверив, что тут, в этом усилии — Истина, разум должен отрешиться от своей ограниченности в пределах рассудка, отказаться от замкнутости рассудочных построений и обратиться к новой норме, — стать «новым» разумом. Тут–то и требуется свободный подвиг. Свободный: ибо разум может делать усилие и подняться к лучшему, а может и не делать его, оставаясь при том конечном, условном и «хорошем», что он уже имеет. Подвиг: ибо нужно усилие, напряжение, само–отречение, сбрасывание с себя «ветхаго адама», а в это время все данное, — «естественное», конечное, знакомое, условное, — тянет к себе. Нужно само–преодоление, нужна вера. Если вообще достижимо «бестрепетное Сердце непреложной Истины — άληθείης ευπειθέος άτρεμές ήτορ», о котором тосковал Парменид·[69], то путь к Нему не минует гефсиманского подвига веры.
Ариане и православные — вот типичный случай, когда две позиции явно противо–поставились одна другой. «В то время как православные, — пишет один исследователь [70], — ставили вопрос, нужно ли мыслить в Боге три действительных Лица, три нераздельных единства Божественной Сущности, и отвечали на этот вопрос категорическим утверждением, — ариане спрашивали: можно ли мыслить троичность Божественных Лиц, при нераздельном единстве их сущности, — и отвечали нет, нельзя». Творя подвиг веры, православные искали должного, высшего; ариане же, внутренне само–оберегаясь, расчетливо выспрашивали: «А не потребует ли Истина жертвы от нас?» и, завидя сад гефсиманский, пятились назад. И те другие делали свободный выбор; однако, ариане употребляли свою свободу на рабство себе, а православные — на освобождение себя от плена плотской ограниченности. «Вы дерзаете {стр. 61} учить и мыслить невозможное», — писал Евномий Василию Великому и Григорию Нисскому про догмат христологический [71]. Это — крик плотяности, крик рассудка, ходящего по стихиям мира и эгоистически дрожащего за свою целость, — рассудка довольного собою, несмотря на полное внутреннее разложение его, рассудка в своей безграничной боязни пред малейшею болью дерзающего самую истину приспособлять к себе, к своим слепым и бессмысленным нормам. Но для животного страха за себя есть одно только средство — бич. «Власть имеющий» поднял его над растленным рассудком: «Истинно, истинно говорю вам: Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода; любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12, 24, 25). Кто не хочет погубить душу свою, те пусть же пребывают в геенне, в неугасимом огне έποχή, «где червь их не умирает, и огонь их не угасает».
Итак, исходная точка — полное доверие и полная волевая победа над тяготением к плотяности, над колебаниями, удерживающими от подъема ввысь, от пленения рассудка в послушание вере. Обливаясь кровью буду говорить в напряжении: «Credo, quia absurdum est. Ничего, ничего не хочу своего, — не хочу даже рассудка. Ты один, — Ты только. Dic animae meae: salus tua Ego sum! Впрочем, не моя, а Твоя воля да будет. Троице Единице, помилуй мя!» [72].
Эта необходимая стадия личного развития — в истории Церкви типически представлена II–м веком и невольно связывается с именем Тертуллиана, всею своею пламенною личностью в чистоте выразившего первую ступень веры: Credo quia absurdum [73]. Верю вопреки стонам рассудка, верю именно потому, что в самой враждебности рассудка к вере моей усматриваю залог чего–то нового, чего–то неслыханного и высшего. Я не спущусь в низины рассудка, какими бы страхами он ни запугивал меня. Я {стр. 62} видел уже, что оставаясь при рассудке я гибну в 'εποχή; я хочу быть теперь безрассудным. А на льстивые уверения его я крикну: «Лжешь! слышал тысячу раз уже!», и пусть тогда свистнет безжалостный бич.
Блажен, кто сохранил еще знаменованье
обычаев отцов, их темного преданья,
ответствовал слезой на пение псалма;
кто волей оторвав сомнения ума,
святую Библию читает с умиленьем,
и, вняв церковный звон, в ночи, с благоговеньем,
с молитвою зажег пред образом святым
свечу заветную, и плакал перед ним.
Затем, поднявшись на новую ступень, обеспечив себе невозможность соскользнуть на рассудочную плоскость, я говорю себе: Теперь я верю и надеюсь понять то, во что я верю. Теперь бесконечное и вечное я не превращу в конечное и временное, высшее единство не распадется у меня на несовместимые моменты. Теперь я вижу, что вера моя есть источник высшего разумения, и что в ней рассудок получает себе глубину». И, отдыхая от пережитой трудности, я, спокойно, повторяю за Ансельмом Кентерберийскиме: «Credo ut intelligam. Сперва мне казалось, будто я нечто «знаю»; после перелома стал «верить». Теперь же знаю, потому что верю».
Нужно было 9 веков человечеству, чтобы придти к такому состоянию. И, сказав, я перехожу на третью ступень. Я уразумеваю веру свою. Я вижу, что она есть поклонение «Ведомому Богу» [74], что я не только верю, но и знаю. Границы знания и веры сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки; весь рассудок претворяется в новую сущность. И я, радостный, взываю; «Intelligo ut credam! Слава Богу за все. «Теперь мы видим, как бы, сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же — лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно тому, как я узнал себя самого [75] (1 Кор 13 12)». — Человечеству нужно было еще 9 веков, чтобы подняться на эту ступень.
{стр. 63}
Таковы три стадии веры, — как в фило–генезисе, так и в онто–генезисе. Но, описывая их, я забежал вперед. Необходимо оборотиться и раскрыть, в чем же заключается последняя стадия веры во Св. Троицу, — другими словами, ка́к в действительности переживается истинность догмата, ка́к разрешается 'εποχή.
Подвигом веры преодолена, побеждена и ниспровергнута рассудочная «нелепость» догмата. Сознано, что в нем — источник знания. Но конечною целью является ведь данность его. Последняя имеет, — в условиях земной жизни, — две ступени: ведение символическое и ведение непосредственное, — хотя и не всецелостное.
Подвиг веры — в том, чтобы от данной ассерторической Истины мира перейти к аподиктической, — но еще не данной, — истине догмата, — сомнительное, хотя и наличное, «здесь» предпочесть достоверному, но еще не наличному «там».
Закон тождества и его высшая форма поняты нами в их возможности. Требование воспринимать действительность этой возможности означает необходимость выйти из области понятий в сферу живого опыта. Разумная интуиция и была бы последним все–разрешающим звеном в цепи выводов. Без неё мы вращаемся в области постулатов и предпосылок достоверного познания, — правда, неизбежных, но не видим, удовлетворяются ли они. Вся цепь, закинутая к небу, на мгновение повисла в воздухе, на миг затвердела в стоячем положении. Но ведь если она не зацепится «там», то со зловещим лязгом и грохотом падет обратно на нашу голову. Или, быть может, Истины вовсе нет? — Тогда вся действительность обращается в абсолютно–бессмысленный и безумный кошмар, а мы вынуждены от разумной, но мучительной 'εποχή перейти к безумной и уж до конца мучительной агонии, вечно задыхаясь, вечно умирая без Истины.
Так или иначе, но между Триединым христианским {стр. 64} Богом и умиранием в безумии tertium non datur. Обрати внимание: я пишу это не преувеличенно, а до точности; у меня даже слов не хватает выразиться еще резче. Между вечною жизнью в недрах Троицы и вечною смертью второю нет промежутка, хотя бы в волосок. Или то, или другое. В самом деле: рассудок, в своих конститутивных логических нормах, или насквозь нелеп безумен до тончайшей своей структуры, сложен из элементов бездоказательных и потому вполне случайных, или же он имеет своею основою сверх–логическое. Что–нибудь одно: или нужно принять принципиальную случайность законов логики, или же неизбежно признание сверх–логической основы этих норм, — основы, с точки зрения самого рассудка, постулативно–необходимой, но тем самым имеющей для рассудка антиномический закал. И то и другое выводит за пределы рассудка. Но первое разлагает рассудок, внося в сознание вечно–безумную агонию, а второе укрепляет его подвигом само–преодоления, — крестом, который есть для рассудка нелепое отторжение себя от себя. Вера, которою спасаемся, есть начало и конец креста и со–распинания Христу. Но вера, — то что называется «разумная», — т. е. «с доказательствами от разума», вера по Толстовской формуле: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне, как необходимость разума» [76], — такая вера есть заскорузлый, злой, жесткий и каменный нарост в сердце, который не допускает его к Богу, — крамола против Бога, чудовищное порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога подчинить себе. Много есть родов безбожия, но худший из них — так именуемая «разумная», или, точнее, рассудочная вера. Худший, ибо кроме непризнания объекта веры («вещей невидимых») она, к тому же, являет в себе лицемерие, признает Бога, чтобы отвергнуть самое существо Его, — «невидимость», т. е. сверхрассудочность. «Что есть "разумная вера"?» — спрашиваю себя. Отвечаю: «"Разумная вера" есть гнусность и смрад пред Богом». Не поверишь, {стр. 65} доколе не отвергаешься себя, своего закона. А «разумная вера» именно и не желает отвергнуться самости, да вдобавок утверждает, что она ведает истину. Но, не отвергшись себя, она может иметь у себя только себя. Истина чрез себя познается, — не иначе; чтобы узнать истину, надо иметь ее, а для этого необходимо перестать быть только собою и причаститься самой Истины. «Разумная вера» есть начало диавольской гордыни, желание не принять в себя Бога, а выдать себя за Бога, — самозванство и самовольство. Отказ для Бога от монизма в мышлении и есть начало веры. Монистическая непрерывность — таково знамя крамольного рассудка твари, отторгающегося от своего Начала и Корня и рассыпающегося в прах само–утверждения и само–уничтожения. Дуалистическая прерывность — это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего Начала и в единении с Ним получающего свое обновление и свою крепость [77]. В противоположении двух паролей — противоположение твари, дерзнувшей возжелать стать на место Творца и неизбежно низвергающейся из Него в агонию вечного уничтожения, и твари, со смирением принимающей от Истины вечное обожение: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Но — так, если Истина существует. Последнее условие, как застава у моста, стоит при переходе в область Истины. Между пройденною уже областью знания в понятиях, знания об Истине (постулативного, а потому и предположительного) и предполагаемою, требуемою областью знания в интуиции, знания Истины (существенного, включающего в себя свое обоснование, а потому и абсолютного) лежит бездна, которую нельзя обойти никакими обходами, чрез которую нет сил прыгнуть никакими усилиями. Ведь надобно стать на вполне новую землю, о которой у нас нет и помину. Мы даже не знаем, есть ли и в действительности эта новая земля, — не знаем, ибо блага духовные, которых ищем мы, лежат вне области плотского познания: они — то, «чего око не видело и ухо {стр. 66} не слышало, и что на сердце человеку не восходило» (1 Кор. 2, 9; ср. Ис. 64, 4). Но мостом, ведущим куда–то, — может быть, на тот, предполагаемый край бездны, к Эдему неувядающих радостей духовных, а может быть, и никуда не ведущим, является вера. Нам надо или умирать в агонии на нашем крае бездны, или идти на авось и искать «новой земли», на которой «живет Правда» (2 Пет. 3, 13). Мы свободны выбрать, но мы должны решиться либо на то, либо на другое. Или поиски Троицы, или умирание в безумии. Выбирай, червь и ничтожество: tertium non datur!
Может быть, именно в созерцании неизбежности такого выбора у Блеза Паскаля возникла мысль о пари на Бога [78]. С одной стороны — все, но еще не верное; с другой — нечто, глупцу кажущееся чем–то, но для познавшего его подлинную стоимость делающееся абсолютно ничем без того и — всем, если будет найдено то. В самой наглядной форме идея такого пари была высказана одним лавочником: он понавешал у себя множество лампад, икон, крестов и всякой святыни. Когда же какой–то «интеллигент» стал по поводу этого высказывать свой скептицизм, то лавочиик выразился так: «Э, барин! Мне все это пятьдесят рублей стоит в год, — прямо ничто для меня. А ну, как пойдет в дело!». — Конечно, такая формулировка «пари Паскаля» звучит грубо, даже цинично. Конечно, даже у самого Паскаля она может казаться чересчур расчетливой. И, тем не менее, общий смысл этого пари, всегда себе равный, — не–сомненен: сто́ит верное ничто обменить на неверную Бесконечность, тем более, что в последней меняющий может снова получить свое ничто, но уже как нечто: однако, если для отвлеченной мысли выгодность такого обмена ясна сразу, то перевесть эту мысль в область конкретной душевной жизни удается не сразу: как раненый зверь защищает себя уличенная самость.
Само–утверждающийся языческий рассудок уже давно толковал, что обетования Христовы недоказуемы, так как они относятся к будущим благам. Но на это {стр. 67} Арнобий отвечает, что из двух недостоверных вещей ту, которая дает нам надежду, всегда надо предпочитать той, которая нам не дает её [79].
Человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него нет ничего. Но ведь вступить на мост и пойти по нему! Нужно усилие, нужна затрата силы. А вдруг эта затрата ни к чему? Не лучше ли быть в предсмертных корчах тут же, у моста? или идти по мосту, — может быть, идти всю жизнь, вечно ожидая другого края? Что лучше: вечно умирать, — в виду, быть может, обетованной страны — замерзать в ледяном холоде абсолютного ничто и гореть в вечной огневице пирронической 'εποχή; или истощать последние усилия, быть может, ради химеры, ради миража, который будет удаляться по мер того, как путник делает усилие приблизиться? — Я остаюсь, я остаюсь здесь. Но мучительная тоска и внезапная надежда не дают даже издыхать спокойно. Тогда я вскакиваю и бегу стремительно. Но холод столь же внезапного отчаяния подкашивает ноги, бесконечный страх овладевает душою. Я бегу, стремительно бегу назад.
Идти и не идти, искать и не искать, надеяться и отчаиваться, бояться истратить последние силы и, из–за этой боязни, тратить их вдесятеро, бегая взад и вперед. Гд выход? Где прибежище? К кому, к чему кинуться за помощью? «Господи, Господи, если Ты существуешь, помоги безумной душе, Сам приди, Сам приведи меня к Себе! Хочу ли я, или не хочу, спаси меня [80]. Как можешь и как знаешь дай мне увидеть Тебя. Силою и страданиями привлеки меня!».
В этом возглас предельного отчаяния — начало новой стадии философствования, — начало живой веры. Я не знаю, есть ли Истина, или нет её. Но я всем нутром ощущаю, что не могу без неё. И я знаю, что если она есть, то она — все для меня: и разум, и добро, и сила, и Жизнь, и счастие. Может быть, нет {стр. 68} её; но я люблю ее, — люблю больше, нежели все существующее. К ней я уже отношусь, как к существующей, и ее, — быть может, не существующую, — люблю всею душою моею и всем помышлением моим. Для нее я отказываюсь от всего, — даже от своих вопросов и от своего сомнения. Я, сомневающийся, веду себя с нею, как не сомневающийся. Я, стоящий на краю ничтожества, хожу, как если бы я уже был на другом крае, в стране реальности, оправданности и ведения. Трояким подвигом веры, надежды и любви преодолевается косность закона тождества. Я перестаю быть Я, моя мысль перестает быть моею мыслью; непостижимым актом отказываюсь от самоутверждения «Я=Я». Что–то или Кто–то помогает мне выйти из моей само–замкнутости. Это. — по слову св. Макария Великого, — «Сама Истина побуждает человека искать Истины — αυτη ή αλήθεια αναγκάζει τον άνθρωπον αλήθειαν έπιζητειν» [81]. Что–то или Кто–то гасит во мне идею, что Я — центр философских исканий, и я ставлю на это место идею о самой истине, будучи ничем, но единственным данным мне, я, себе данный, непостижимо для себя самого отказываюсь от этого единственного своего достояния, приношу Истине ту единственную жертву, которая предоставлена мне, но и ее–то приношу опять не своею силою, а силою самой Истины; как ранее греховная самость ставила себя на место Бога, так теперь помощью Божией я ставлю на место себя Бога, мне еще не ведомого, но чаемого и любимого. Я отказываюсь от боязливого опасения, что со мною будет, и решительным взмахом делаю себе операцию. Я покидаю край бездны и твердым шагом вбегаю на мост, который, быть может, провалится подо мною.
Свою судьбу, свой разум, самую душу всего искания — требование достоверности я вручаю в руки самой Истины. Ради нее я отказываюсь от доказательства. В том–то и трудность подвига, что приносишь в жертву самое заветное, — последнее, — и знаешь, что если и это обманет, если и эта жертва окажется тщетною, то {стр. 69} тогда деваться некуда. Ведь она — последнее средство. Если самой Триединой Истины не оказалось, то где же искать ее? и, при вступлении на мост веры, новая углубленность открывается в словах Послания к евреям: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (11, 4). — в тех самых словах, которые ранее были для рассудка столь неприемлемо противоречивыми.
Для большей конкретности изложения рассмотрим вкратце, каковы те основные направления в понимании веры, которые запечатлены самой этимологией слова «вера» в различных языках.
Русское «верить» означает, собственно, доверять, т. е. содержит в себе указание на нравственную связь того, кто верит, с тем, кому он верит. Несколько подобно этому и немецкое glauben верить, равно как и со–коренные: erlauben дозволять, loben хвалить, gelobengamb обет, lieben любить и английское believe верить во что, веровать, происходящие от √lub (ср. наш √люб в слов «любить») и первоначально означали почитать, доверять и также одобрять. Греческое πιστευειν связано с πείθεσθαι слушаться, а собственно — дать себя уговорить, «быть убеждену́», но также относится и к самому лицу: «дарить доверием», «доверять». При этом может быть написана пропорция:
πίστις : πιστός = вера : верный.
Еврейское האמין ге'эмин, от глагола אמן 'аман подпирать, означает твердость лица или вещи, когда на них основываешься и, вместе тем, — что чрезвычайно важно, — оказывается со–коренным со словом אּטת 'эмет истина. Следовательно, если русское верить и немецкое glauben указывают на субъективный момент веры, именно «веренье» как, нравственную деятельность соотношения с Каким–то Лицом, то еврейское האמין ге'эмин отмечает природу этого Лица, как природу Истины и указывает на веру — как на истинствование, как на пребывание в Истине, разумеемой, конечно, по–еврейски же.
Далее, латинское fides, как и греческое πίστις, означает удостаивание доверием и самое доверие; а глагол credere происходит от санскритского sraddha, т. е. «свое сердце полагать на (Богa)», так что имеет, по латинскому обычаю, значение сакральное [82].
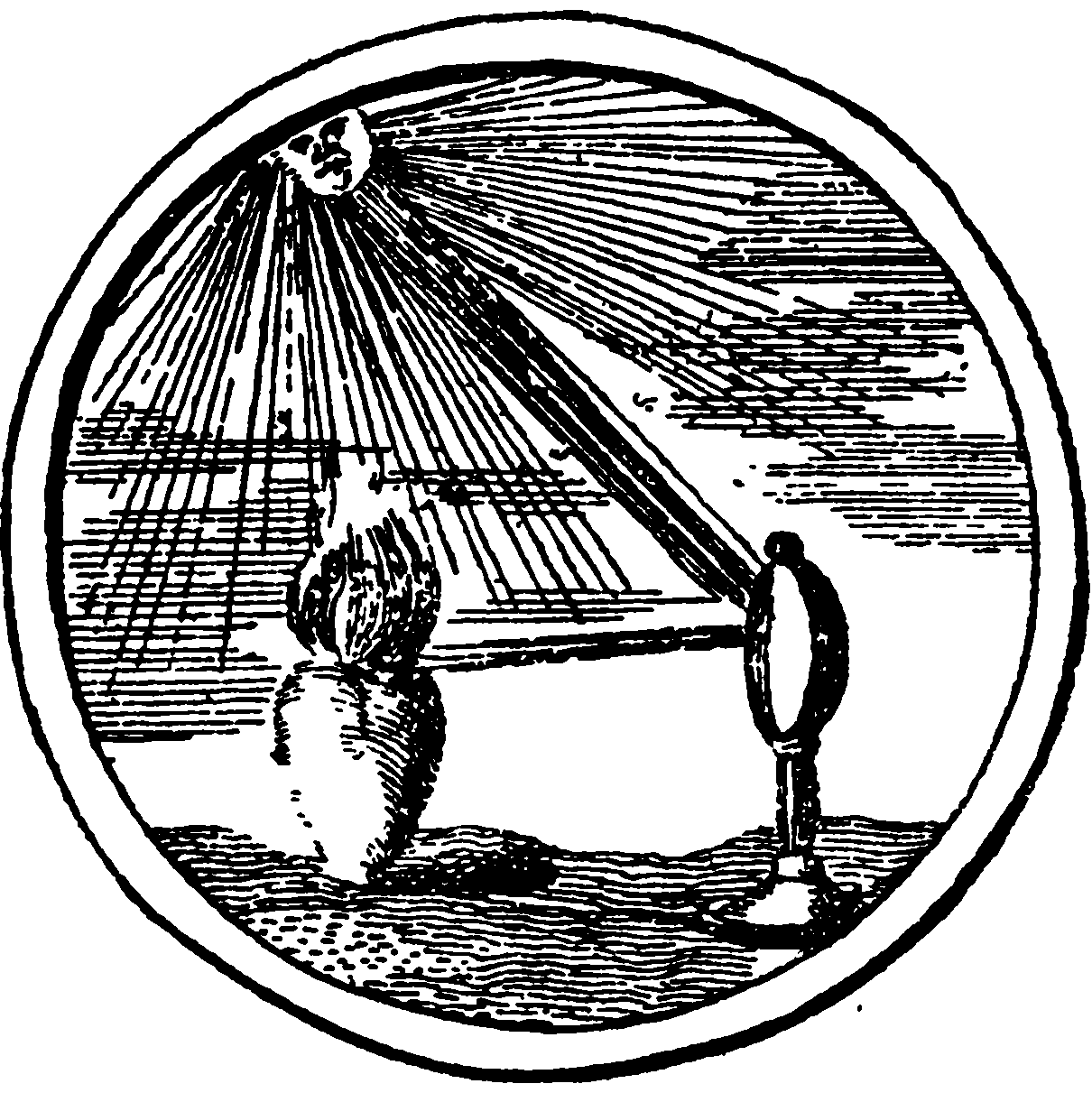
Inflammatur. Горю, но не убываю изнуренно.
{стр. 70}
Легче и выше моего возлетаешь ты над «пылающей стеною мироздания», мой окрыленный Друг. Но все–таки я пишу и буду писать тебе — больше ради себя, нежели ради тебя. Лампада неизменно бросает сноп света на Спасителев Лик. Сейчас глухая осенняя ночь. Под окном залегли снега. Все замерло, не слыхать даже ночных колотушек. Только я один мыкаюсь здесь еще в своей келлии, и мне кажется, что давно уж я умер. В этих небрежных и водянистых строках — моя связь с жизнью; если еще не совсем умер я, то — через беседу с тобою, одним только тобою, тихо–веющий Хранитель, самая мысль о котором очищает и подымает меня. Могу ли я не набрасывать тебе своих мыслей? Ведь я надеюсь, что, может быть, ты услышишь меня сколько–нибудь в этих письмах, и тогда ко мне еще вольется струя тихого примирения, чистоты и веры. Веры…
В самой вере я неожиданно нашел для себя первый намек на искомое мною. Как бывает в феврале: улыбнется ясною–ясною улыбкою примытое солнышко; повеет мягкий ветерок; хотя до весны–тодалеко, но
природа
сквозь сон встречает утро года, —
{стр. 71}
па́хнет чем–то вешним. Так и в молитве. Сделав усилие над собою ради любви к Истине, я вступил с Истиною в личное, живое общение (— неохотно добавляю казенное: если только Она е́сть вообще —). Я отказался от себя и тем самым нарушил низший закон тождества, потому что перестало быть голое «Я!». Явилось какое–то укрепление Я, но — в новом смысле. То Я, которое требовало доказательства, на́чало неясно воспринимать это доказательство, на́чало чувствовать, что доказательство будет. Как после болезни, получилось некоторое восстановление. Доносилась уже бодрящая свежесть и отдаленный прибой самой Вечности; я шел как в пред–утреннем тумане и разглядывал неясные облики самой Истины. Мне почему–то хочется сравнить состояние свое с тем, как если бы тело превратилось в мягкий воск, и по всем жилам разлилось молоко: ведь так именно бывает после долгой молитвы с поклонами. Кажется, смешно выходит мое сравнение, но лучшего не подберу. С этим как–то связалась любовь к людям, и в любви я нашел начальную стадию давно–желанной интуиции.
Если есть Бог, — а для меня это делалось несомненным, — то Он, необходимо, есть абсолютная любовь. Но любовь есть не признак Бога. Бог не был бы абсолютною любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия стояла бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайна. Бог есть существо абсолютное потому, что Он — субстанциальный акт любви, акт–субстанция. Бог или Истина [83] не только имеет любовь, но, прежде всего, «Бог есть любовь — о θεός αγάπη έστίν» (1 Ин. 4 8, 16), т. e. любовь — это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Ему присущее промыслительное Его отношение. Другими словами, «Бог есть любовь» (точнее — «Любовь»), а не только «Любящий», хотя бы и «совершенно» [84].
{стр. 72}
В этом положении — вершина теоретического («отрицательного») познания и перевал к практическому («положительному» [85]). Доселе каждое суждение сопровождалась своею неизбежною тенью, — условием: «Если только Бог вообще есть». Теперь, в свете знания интуитивно–дискурсивного, эта тень тает и расплывается. Но вместе с нею исчезает и возможность убеждать, потому что пришла пора подвижничества. Тут можно только обще наметить некоторые черты этого нового пути, но только личным опытом каждый может убедиться в правильности всего дальнейшего. То, что для пережившего является уже абсолютным ведением, для теоретика представляется лишь продолжением пробабилизма. Но у философа experimentum crucis произведен. Его предположительное построение или оказалось Истиною, и тогда — Истиною достоверною, или же — пустым домыслом. Но, если и это построение ложь, то вообще нет Истины; в таком случае самое положение о ложности не может быть истинным и т. д. Философ впадает в 'εποχή и вынужден начинать все сначала, мучиться, снова пробовать и верить, вечно верить, — верить до муки и до смерти. Не может успокоиться на простом нигилизме тот, кто хочет Истины. «Верь в Истину, надейся на Истину, люби Истину» — вот голос самой Истины, неизменно звучащий в душе философа. И если бы его постигла неудача с первою попыткою веры, он с удвоенною решимостью взялся бы за нее снова. — Впрочем, все это пишу более для формального ответа на вопрос «А если..?», нежели по существу, ибо опыт доказывает, что вера всегда удается. Как говорит Единственная Книга про Авраама: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Быт. 15, 6 = Рим. 4, 8) — послушался таинственного зова Неведомой Истины, «верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой» (Евр. 11, 8, 9).
{стр. 73}
Как Авраам, так — и другие праведники (см. Евр. 11). «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, т. е. к небесному; посему и Бог не стыдился их, называя себя их Богом» (Евр. 11, 15, 16). Вот опыт истории. Праведники беззаветно стремились к «Невидимому», т. е. Им не данному Небу, и Небо приняло их. И философ, стремясь к Истине, не вернется ни к идоло–поклонству слепой интуиции, ни к самоволию горделивой дискурсии; нет, он не оставит стремления своего к
ВЕДОМОМУ БОГУ [86].
Но присмотримся ближе, ка́к и в силу чего принимает философа Небо.
Что бы мы ни думали о человеческом разуме, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он — орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, λόγος. В противном же случае, в случае признания его «самим по себе» и потому — чем–то ирреальным, — διάνοια, — мы неизбежно обречены на столь же бесспорное и наперед предрешенное отрицание реальности знания [87]. Ведь если разум непричастен бытию, то и бытие непричастно разуму, т. е. алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающийся дряблым и жалким скептицизмом. Единственный выход из этого болота относительности и условности — признание разума причастным бытию и бытия причастным разумности. А если — так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный. Познание есть реальное выхождение познающего из себя или, — что то же, — реальное вхождение познаваемого в познающего, — реальное единение познающего и познаваемого [88]. Это основное и характерное положение всей русской и, вообще, восточной философии. Мы его получили ранее несколько иным и более твердым путем, прямо указывая на сердце и душу этого «выхожде{стр. 74}ния из себя», как на акт веры в религиозном, в православном смысл, ибо истинное «выхождение» есть именно веpа, все же прочее может быть мечтательным и пре́лестным. Итак, познание не есть захват мертвого объекта хищным гносеологическим субъектом, а живое нравственное общение личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом и субъектом. В собственном смысл познаваема только личность и только личностью.
Другими словами, существенное познание, разумеемое как акт познающего субъекта, и существенная истина, разумеемая как познаваемый реальный объект, — обе они — одно и то же реально, хотя и различаются в отвлеченном рассудке.
Существенное познание Истины, т. е. приобщение самой Истины, есть, следовательно, реальное вхождение в недра божественного Триединства, а не только идеальное касание к внешней форме Его. Поэтому, истинное познание, — познание Истины, — возможно только чрез пресуществление человека, чрез обо́жение его, чрез стяжание любви, как божественной сущности: кто не с Богом, тот не знает Бога. В любви и только в любви мыслимо действительное познание Истины. И наоборот, познание Истины обнаруживает себя любовью: кто с Любовью, тот не может не любить. Нельзя говорить здесь, что́ причина и что́ следствие, потому что и то, и другое — лишь стороны одного и того же таинственного факта, — вхождения Бога в меня, как философствующего субъекта, и меня в Бога, как объективную Истину.
Рассматриваемое внутри меня (по модусу «Я») «в себе» или, точнее, «о себе», это вхождение есть познание; «для другого» (по модусу «Ты») оно — любовь; и, наконец, «для меня», как объективировавшееся и предметное (т. е. рассматриваемое по модусу «Он»), оно есть красота. Другими словами, мое познание Бога, воспринимаемое во мне другим, есть любовь к воспри{стр. 75}нимающему; предметно же созерцаемая, — третьим, — любовь к другому есть красота.
То́, что для субъекта знания есть Истина, то́ для объекта его есть любовь к нему, а для созерцающего познание (познание субъектом объекта) — красота.
«Истина, Добро и Красота» — эта метафизическая триада есть не три разных начала, а одно. Это — одна и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая. Духовная жизнь, как из Я исходящая, в Я свое средоточие имеющая — есть Истина. Воспринимаемая как непосредственное действие другого — она есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как во–вне лучащаяся — Красота.
Явленная Истина есть любовь. Осуществленная любовь есть красота. Самая любовь моя есть действие Бога во мне и меня в Боге; это со–действование — начало моего приобщения жизни и бытию Божественным, т. е. любви существенной, ибо безусловная истинность Бога именно в любви раскрывает себя.
Бог, знающий меня, как творение свое; любящий меня чрез Сына, как «образ» свой, как сына своего; радующийся мною в Духе Святом, как «подобием» своим, активно знает, любит и радуется мною, ибо я дан Ему. Источником знания, любви и радости является тут сам Бог. Но мое знание Бога, моя любовь к Богу, моя радость о Боге пассивны, потому что Бог только отчасти дан мне и может быть даваем только по мер моего бого–уподобления. Уподобление же любви Божией есть активная любовь к уже данному мне. Почему любовь именно, а не знание и не радость? Потому, — что любовь есть субстанциальный акт, переходящий от субъекта на объект и имеющий опору — в объекте, тогда как знание и радость направлены на субъекта и в нем — точка приложения их силы. Любовь Божия переходит на нас, но знание и созерцательная радость — в Нем же пребывает. Потому–то воплотилась Ипостась не Отчая и не Духа Святого (Параклит = Утешитель, {стр. 76} Доставляющий радость), а Сын–Слово, ипостасная Божественная Любовь, Сердце Отчее, — если дозволительно воспользоваться сильным оборотом Якова Бёма: Сын божий, по Якову Бёму, есть «сердце во Отце, — das Herz im dem Vater» [89].
Во избежание недоуменных вопросов следует подчеркнуть онтологизм такого понимания любви, имеющий свои исторические корни в древнем, реалистическом жизне–понимании. В новом же жизне–понимании, иллюзионистическом, господствует психологическое трактование любви, хотя и не исключаемое первым, однако слишком бедное в сравнении с ним. Это понимание берет свое начало, кажется, от Лейбница, — и понятно почему. Ведь, для него, «монады не имеют окон или дверей» [90], чрез которые бы совершалось реальное взаимо–действие в любви; поэтому, обреченные на само–замкнутость онтологического эгоизма и чисто–виутренние состояния, они любят только иллюзорно, не выходя из себя посредством любви. Так возникает, под влиянием Фридриха Шпее, знаменитое лейбницевское определение любви, столь высоко ценимое им самим и столь многократно повторяемое [91] .
По Лейбницу, именно, любовь есть «радование счастием другого, или — счастие других, считаемое вместе с тем за собственное» [92]. — Подобное определение находится и в неизданных фрагментах Лейбница. Так, оно находится в Definitio justitiae universalis; затем, в 1–м письме к Арно́ (1761 г.) говорится, что «любовь есть наслаждение чужим счастием — amorem voluptatem ex felicitate aliena»; в письме к Арно́ от 23 марта 1690 г. находим то же; наконец, в предисловии Codex juris gentium diplomaticus (1693 г.) читаем: «Милосердие есть вселенское благоволение, а благоволение — состояние любви или ценения. Любить же или ценить значит наслаждаться счастием другого, или, что сводится к тому же, чужое счастие признавать за свое. — Caritas est benevolentia universalis, et benevolentia amandi sive diligendi habitus. Amare autem sive diligere est felicitate alterius delectari, vel, quod eodem redit, felicitatem alienam adsciscere in suam» и т. д.[93]
{стр. 77}
С небольшими видоизменениями Лейбницевское определение неоднократно было повторяемо и в последующей философии. —
По Хр. Вольфу «любовь есть расположение души к получению наслаждения от счастия другого — amor est dispositio animae ad percipiendam voluptatem ex alterius felicitate» [94]. Или еще: «расположение из счастия другого создавать значительное удовлетворение есть любовь. — Die Bereitschaft aus eines andern Glück ein merkliches Vergnügen zu schöpfen — ist die Liebe» [95].
Мендельсон [96] определяет: «Любовь есть гордость удовлетворяться счастием другого».
Столь же, — если не более, — иллюзионно понимание любви и у Спинозы: это, впрочем, можно было бы предвидеть и загодя, зная, что сущность нашей души, — по Спинозе, — в познании [97] и что самую душу Спиноза называет не иначе, как mens, что собственно значит ум, мысль. «Любовь есть наслаждение, сопровождающееся идеей внешней причины — Amor est Laetitia concomitante idea causae externae», — говорит он в «Этике» [98], причем психологизм этих слов особенно характерен, если принять во внимание общую онтологическую окраску спинозизма. Для Лейбница и его последователей, — как мы видели, — любовь обуславливается представлением счастья другого; для Спинозы же «идея внешней причины», т. е. Идея о некотором не–Я только сопутствует наслаждению, как чисто–субъективному состоянию Я. Но и при первом, и при втором понимании любви она истолковывается исключительно психологически и, значит, лишается своей значимости, как ценность. Мало того, она может считаться даже нежелательной: ведь, в самом деле, если любовь никого никуда метафизически не выводит, если она никого ни с кем не соединяет реально, если она не онтологична, а лишь психологична, то почему видеть в ней что–то более ценное, чем простую щекотку души? Но, будучи источником ложных представлений о взаимо–действии сущего, она тем {стр. 78} самым оказывается и лживой и вредной. Для психологического понимании любовь есть то же, что и вожделение. При этом такое смешение — вовсе не случайная и побочная черта философии рационалистической, а глубоко–залегающее своими корнями необходимое следствие самых существенных начал такого жизне–понимания. Ведь любовь возможна к лицу, а вожделение — к вещи; рационалистическое же жизне–понимание решительно не различает, да и не способно различить лицо и вещь, или, точнее говоря, оно владеет только одною категорией, категорией вещности, и потому все, что ни есть, включая сюда и лицо, овеществляется им и берется как вещь, как res. Этот недостаток указывал уже Шеллинг [99]. «Ошибка системы Спинозы, — говорит он, — отнюдь не в том, что он помещает вещи в Боге в том, что он говорит о вещах, т. е. в абстрактном понятии мировых существ, в понятии самой бесконечной субстанции, также являющейся для Спинозы вещью. — Отсюда безжизненность его системы, бездушность форм, бедность понятий и выражений, неумолимая суровость определений, совершенно согласующаяся с абстрактностью его образа мышления; отсюда же вполне последовательно вытекало и его механическое воззрение на природу».
В чём же, — раз так, — противоположность вещи и лица, лежащая в основе противоположности вожделния и любви? — В том, что вещь характеризуется чрез свое внешнее единство, т. е. чрез единство суммы признаков, тогда как лицо имеет свой существенный характер в единстве внутреннем, т. е. в единстве деятельности само–построения, — в том самом само–положении Я, о котором говорит Фихте. Следовательно, тождество вещей устанавливается чрез тождество понятий, а тождество личности — чрез единство само–построяющей или само–полагающей её деятельности. Но, далее, о двух вещах никогда нельзя в строгом смысле слова сказать, что они — «тождественны»; они — лишь «сходны», хотя бы даже и «во {стр. 79} всем — κατά πάντα», лишь подобны друг другу» хотя бы и по всем признакам. Поэтому, тождество вещей может быть родовым, генерическим, по роду (identitas generica, ταυτότης τώ ίδει [100]), или видовым, специфическим, по виду (identitas specifica). одним словом — признаковым по тому или иному числу признаков» включая сюда совпадение по трансфинитному множеству признаков и даже, — предельный случай, — по всем признакам, но все же — не нумерическим, не числовым, не по числу (identitas numerica, ταυτότης κατ’ αριθμόν).
Понятие о числовом тождестве неприложимо к вещам: вещь может быть лишь «такая же» или «не такая же», но никогда — «та же» или «не та же». Напротив, о двух личностях, в сущности говоря, нельзя говорить, что они «сходны», а лишь — «тождественны» или «нетождественны». Для личностей, как личностей, возможно или нумерическое тождество их, или — никакого. Правда, говорят иногда о «сходстве личностей», но это — неточное слово–употребление, так как на самом–то деле при этом разумеется не сходство личностей, а сходство тех или иных свойств их психо–физических механизмов, т. е. peчь идет о том, что, — хотя и в личности, — но — не личность. Личность же, разумеемая в смысле чистой личности, есть для каждого Я лишь идеал, — предел стремлений и само–построения. Но для любви чистых личностей, т. е. таких личностей, которые вполне овладели механизмом своих организаций, — которые одухотворили свое тело и свою душу, для любви таких личностей возможно лишь чистое нумерическое тождество, όμοουσία, тогда как для чистых вещей возможно лишь чистое генерическое подобие, όμοιουσία. Личности же не чистые еще, личности, поскольку они вещны, плотски, плотяны, постольку и способны к «уподоблению» вожделения; а поскольку они чисты и отрешились от «вещности», постольку способны к «отождествлению» любви.
Но что́ же такое эта вещность личности? Это — {стр. 80} тупое само–равенство её, дающее для неё единство понятия, само–заключенного в совокупности своих признаков, т. е. понятия мертвого и неподвижного. Иными словами, это есть ничто иное, как рационалистическая «понятность» личности, т. е. подчиненность её рассудочному закону тождества. Напротив, личный характер личности — это живое единство её само–созидающей деятельности, творческое выхождение из своей само–замкнутости, или, еще, это есть неукладываемость её ни в какое понятие, поэтому «непонятность» её и, следовательно, неприемлемость для рационализма. Победа над законом тождества — вот что подымает личность над безжизненною вещью и что делает ее живым центром деятельности. Но понятно, что деятельность, по самому существу её, для рационализма непостижима, ибо деятельность есть творчество, т. е. прибавление к данности того, что еще не есть данность, и, следовательно, преодоление закона тождества.
Рационализм, т. е. философия понятия и рассудка, философия вещи и безжизненной неподвижности, — рационализм, таким образом, еще раз всецело связан с законом тождества и может быть сжато охарактеризован как философия омиусианская. Это — философия плотская.
Напротив, христианская философия, т. е. философия идеи и разума, философия личности и творческого подвига, опирается еще раз на возможность преодоления закона тождества и может быть охарактеризована как философия омоусианская. Это — философия духовная.
Стремление к чистому омиусианству как к своему пределу, определяет историю новой философии в Западной Европе; тяготение к чистому омоусианству делает своеобразную природу русской и вообще православной философии. При этом нам нужды нет, что ни там, на Западе, ни здесь, у нас, нет доведенного до конца ни омиусианского, ни омоусианского мышления. Да {стр. 81} мы знаем, что первое — и вообще невозможно, иначе как в геенне огненной, а второе — иначе как в раю, — в просветленном и одухотворенном человечестве. Но тенденции той и другой философии настолько определенны, что классификация их по их идеальным пределам законна и удобна.
Господством западной философии объясняется загнанность и малая употребительность термина «нумерическое тождество». Когда говорят о тождестве, то, более или менее решительно, под ним разумеют полноту подобия, — не более, — как об этом в свое время, т. е. в начале XIX века, проговаривается Дестю де Траси [101] («тождество, — говорит он, — это значит совершенное и полное подобие; identite veut dire similitude parfait et complete») и как ныне об этом определенно сказал Палагий [102], а именно, что «"та же самая истина" есть та — которая может быть представлена (изложена) в бесконечно–многих согласующихся актах суждения». — Эта–то, или этой подобная, мысль положена в основу новейшего определения тождества в логистике. Тут тождество окончательно и сознательно подменяется подобием.
Уничтожение идеи нумерического тождества, — как сказано, — особенно ярко проявляется в современной логике. Но было бы слишком обременительным для читателей входить здесь в подробности.
В тех же случаях, где с тождеством нумерическим считались, попытка определить этот термин всегда оставалась или простым пояснением, или указанием, что источник идеи нумерического тождества должно искать в само–тождестве сознания. Так, Аристотель [103] определяет описательно тождество в словах: «ή ταυτότης ένότης τις έστιν ή πλειόνων του εΐναι, ή όταν χρήται ώς πλειόσιν, οιον όταν λέγη αυτό αυτω ταύτόν — тождество есть род единства в существовании, идет ли дело о нескольких различных существах (бытиях), или об одном единственном, которое рассматривают, как несколько. Таким, вот например, образом говорят, что единствен{стр. 82}ное и одно и то же существо тождественно самому себе, и тогда рассматривают это существо, как если бы оно было двумя существами вместо одного».
С другой стороны, уже по Лейбницу [104] в само–сознании делается известным реальное, а вместе с тем моральное личное тождество.
Эту идею, хотя в сильно измененном виде, как известно, развил далее Кант [105], а чрез него она легла в основу систем спекулятивного идеализма у Фихте и Шеллинга, бесчисленное множество раз и в разнообразнейших вариациях повторялась философами самых различных направлений та основная тема, что идея тождества вообще есть отражение само–тождества Я (то — как продукт рефлексии, то — как результат бессознательной проекции и привычки), или, другими словами, что тождество в собственном и первичном смысле может быть усматриваемо лишь в само–тождестве личности, а не в само–подобии вещи. Наконец, «старшина» [106] марбургской школы Герман Коген [107] снова объявляет, что «само–тождество бытия есть рефлекс тождества мышления — die Selbigkeit des Seins ist ein Reflex der Identität des Denkens».
Общий вывод из сказанного ясен: определение тождества, чем оно строже, тем отчетливее обособляет в свой предмет тождество признаковое и тем решительнее исключает из рассмотрения своего тождество нумерическое; при этом оно имеет дело исключительно с вещами. Напротив, когда считаются с тождеством нумерическим, то тогда могут лишь описывать его, пояснять его, ссылаясь на источник происхождения идеи тождества, и при этом названный источник, названное перво–тождество находят в недрах живой личности.
Естественно, что иначе и быть не может. Ведь нумерическое тождество есть глубочайшая и, можно сказать, единственная характеристика живой личности. Определить нумерическое тождество — это значило бы определить личность [108]. А определить — это значит дать понятие. {стр. 83} Дать же понятие личности невозможно, ибо тем–то она и отличается от вещи, что, в противоположность последней, подлежащей понятию и поэтому «понятной», она «непонятна», выходит за пределы всякого понятия, трансцендентна всякому понятию. Можно лишь создать символ коренной характеристики личности, или же значок, слово, и, не определяя его, ввести формально в систему других слов, и распорядиться так, чтобы оно подлежало общим операциям над символами, «как если бы» было в самом деле знаком понятия. Что же касается до содержания этого символа, то оно не может быть рассудочным, но — лишь непосредственно переживаемым в опыте само–творчества, в деятельном само–построении личности, в тождестве духовного само–сознания. Вот почему термин «нумерическое тождество» есть лишь символ, а не понятие.
Каков же общий вывод всего отступления? — Необходимость строгого разграничения тождества нумерического и тождества генерического и, отсюда, строгое разграничение любви, как психологического состояния, соответствующего вещной философии, от любви, как онтологического акта, соответствующего философии личной. Иными словами, христианская любовь должна быть самым непрекословным образом изъята из области психологии и передана в сферу онтологии и только приняв во внимание это требование, читатель может понять, что все сказанное о любви и все то, что предстоит еще сказать, — не метафора, а точное выражение истинного нашего разумения.
Познание человеком Бога неминуемо открывается и выявляет себя деятельною любовью к твари, как уже данною мне в непосредственном опыте. А проявленная любовь к твари созерцается предметно как красота. Отсюда — наслаждение, радование, утешение любовью при созерцании её. То же, что радует, — называется {стр. 84} кpасотою; — любовь, как предмет созерцания — есть красота.
Моя духовная жизнь, моя жизнь в Духе, совершающееся со мною «бого–уподобление» есть красота, — та самая красота перво–зданной твари, о которой сказано: «и виде Бог вся елика сотвори: и се добра зело» (Быт. 1, 31).
Любить невидимого Бога — это значит пассивно открывать перед Ним свое сердце и ждать Его активного откровения так, чтобы в сердце нисходила энергия Божественной любви: «Причина любви к Богу есть Бог — causa diligendi Deum Deus est», — говорит Бернард Клервосский [109]. Напротив, любить видимую тварь — это значит давать воспринятой Божественной энергии открываться, — чрез воспринявшего, — во вне и окрест воспринявшего, — так же, как она действует в самом Триипостасном Божестве, — давать ей переходить на другого, на брата. Для собственных человеческих усилий любовь к брату абсолютно невозможна. Это — дело силы Божией. Любя, мы любим Богом и в Боге.
Только познавший Триединого Бога может любить истинною любовью. Если я не познал Бога, не приобщился Его Существу, то я не люблю. И еще обратно: если я люблю, то я приобщился Богу, знаю Его; а если не люблю, то не приобщился и не знаю. Тут — прямая зависимость знания и любви к твари. Центром исхождения их является пребывание меня в Боге и Бога во мне.
«А что мы познали его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "Я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот — лжец, и нет в нем Истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы — в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал …» (1 Ин. 2, 3, 6). Но пока еще это взаимо–со–пребывание Бога и человека есть положение свободной веры, и не факт принудительно–властного опыта.
{стр. 85}
Почти исключительно этой зависимости посвящены Иоанновы Послания [110] .
Будем любить друг друга — άλλήλους, — потомучто любовь — от Бога — ότι ή αγάπη εκ του Θεου έστιν, — и всякий любящий рожден от Бога — ό του Θεου — и знает — γινώσκει — Бога; кто не любит Бога, тот не познал Бога — ουκ έγνω τον Θεόν, — потомучто — ότι — Бог есть любовь» (1 Ин. 4 7, 8). — «Всякий любящий рожден от Бога». Это — не только изменение, или улучшение, или усовершенствование; нет, это есть, именно, исхождение «от — εκ — Бога», приобщение Святому. Любящий возродился или родился во второй раз, — в новую жизнь; он соделался «чадом божиим — τέκνον Θεου», приобрел новое бытие и новую природу, был «мертв и ожил» для перехода в новое царство действительности (это–то и говорит притча о блудном сыне, Лк. 15, 82). Пусть другим, — людям с «окаменевшим сердцем», — он продолжает казаться тем же, просто человеком. Но на деле в невидимых недрах его «блудной» души произошло таинственное пресуществление. 'Εποχή и агония абсолютного скепсиса были лишь муками рождения из тесной и темной утробы плотской жизни в необъятную ширь жизни бесконечной и все–светлой. Любящий перешел от смерти к жизни, из царства века сего в Царство Божие. Он соделался «причастником Божеского естества — θείας κοινωνός φύσεως» (2 Пет. 1, 4). Он явился в новый мир Истины, в котором может расти и развиваться; в нем пребывает семя Божие, — семя божественной жизни (1 Ин. 3, 9), семя самой Истины и подлинного ведения. Зная Истину, он понимает теперь почему произошло с ним такое изменение: «Мы знаем οΐδαμεν, что мы перешли из смерти в жизнь [и, тем самым, — из тьмы неведения в свет Истины] потому что — ότι — любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Ненавидящий брата своего — не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин 3, 14, 15). Но это — не в тавтологическом значении, не в том смысле, что «не иметь жизни вечной» есть дру{стр. 86}гой лишь словесный оборот для «ненавидящий» и «не любящий», а в значении метафизической связи двух состояний. «Не имеющий жизни вечной», т. е. не вошедший в жизнь Троицы и любить–то не может, ибо самая любовь к брату есть некое проявление, как бы истечение Божественной силы, лучащейся от любящего Бога. Обычное, — морализирующее, — толкование делает плоским и пресным глагол Тайновидца, расслабляет метафизическую цепь, сковывающую эти два акта, — познания и любви. Да и вообще, — кстати замечу, — чем массивнее и метафизически–грубее и архаичнее мыслятся религиозные понятия, тем глубже символизм их выражения и, значит, тем ближе мы подходим к подлинному постижению собственно–религиозного переживания. Этою сгущенностью и уплотненностью религиозных понятий характеризуется все наше Богослужение, относясь к протестантскому и сектантскому, как старое красное вино — к тепловатой сахарной водице. — Напомню, хотя бы, порядок Богослужения пред «Верую» за литургией верных:
Диакон возглашает: «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы. — άγαπήσωμεν άλλήλους, ινα εν όμονοία όμολογήσωμεν [111], — …» Что же именно исповемы? На это отвечает лик, — т. е., в сущности, верующие в лице своих представителей, — подхватывая и доканчивая возглас диакона: «…Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную — Πατέρα, ϓίόν, καί άγιον Πνεύμα Τριάδα όμοούσιον, καί άχώριστον». Тогда иерей трижды покланяется и глаголет тайно: «Возлюблю тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое и прибежище мое»; если же священников несколько, то они, сверх того, выражают друг другу свою любовь братским целованием и взаимно свидетельствуют: «Христос посреди нас». После этого само–собирания в любви Церкви, как целого, необходимо отъединение ото всего внешнего, ото всего этой любви непричастного, от чуждого церкви, — мира. Поэтому диакон возглашает: «Двери, двери, премудростию вонмем — τάς θύρας, τάς θύρας εν σοφία {стр. 87} πρόσχωμεν»; т. е. «заприте двери, чтобы не вошел кто–нибудь чужой: мы будем внимать мудрости»; заметим, что славянский перевод речения «έν σοφία πρόσχωμεν» чрез «премудростию вонмем» — неверен, и требуется перевести этот оборот посредством «премудрости вонмем» [112]. Теперь когда все, что нужно для исповедания Троицы едино–сущной и нераздельной, подготовлено, следует и сама «мудрость»: народ — о λαός, — т. е. самое тело церковное, поет «Символ Веры». Но вспомним, что́ такое есть «Символ Веры». Это — и исторически, и метафизически есть ничто иное, как распространенное изложение, как объяснительная амплификация, как расчленение крещальной формулы: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» [113]. Произнося эту формулу, мы мыслим именно все то, что содержится в Символе Веры. Но, далее, что́ такое крещальная формула? — Это, в сущности говоря, ни более ни менее, как выражение догмата едино–сущия Пресвятой Троицы. Таким образом, все предваряющее «Верую» оказывается подготовкою ко «вниманию» слова «едино–сущие, όμοουσία». «Едино–сущие» и есть «премудрость».
Идея такого порядка Богослужения ясна: любовь взаимная одна только и бывает условием едино–мыслия — όμο–νοία, — единой мысли любящих друг друга, в противоположность с внешним отношением друг к другу, дающим не более, как подобно–мыслие — όμοι–νοία, — на котором основывается мирская жизнь, — наука, общественность, государственность и т. д. А едино–мыслие дает почву, на которой возможно совместное исповедание — όμο–λογήσωμεν, — т. е. постижение и признание догмата едино–сущия: εν όμονοία, в- или посредством этого едино–мыслия мы касаемся тайны Триединого Божества.
Та же идея о неразрывности связи между внутренним единством верующих и познанием, а потому и прославлением Бога, который есть «Троица во единице», содержится и в иерейском возглашении на литургии: «и даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына {стр. 88} и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков — και δός ήμιν εν ενι στόματι, και μια καρδία δοξάζειν, και άνυμνέΐν τό παντιμον και μεγαλόπρεπες όνομά σου [114]. Разница — лишь в дополнительном моменте прославления имени Триединого Бога, — прославления вытекающего из исповедания верующими этого единого, в трех именах сказуемого имени.
Точно так же, не юридически–моральный, а метафизический смысл имеет положение: «Кто говорит, что он во свете [в Истине], а ненавидит брата своего, тот во тьме [в неведении]. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна [т. е. тьмы неведения]; а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2, 9–11). Свет — Истина [115], и эта Истина непременно выявляет себя; вид её перехода на другого — любовь, точно так же, как вид перехода на другого упорствующей, не желающей признать себя за таковую тьмы–неведения — ненависть. «Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 1, 11). Внутренний свет души в себе и его явление в другом так точно соответствуют друг другу, что по колебанию одного можно решительно заключать о другом. Нет любви, — значит, нет Истины; есть Истина, — значит, неотменно есть и любовь. «Всякий пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» (1 Ин. 3, 5). «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Его — σπέρμα αύτού — пребывает в нем; и он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1 Ин. 3, 9, 10). Любовь с такою же необходимостью следует из познания Бога, с какою свет лучится от светильника и с какою ночное благоухание струится от раскрывшейся чашечки цветка: «познание делается любовью — ή γνώσις αγάπη γίνεται» [116]. Поэтому, взаимная любовь учеников Христо{стр. 89}вых есть знамение, знак их наученности, их ведения, их хождения в Истине. Любовь есть собственный признак, по которому признается ученик Христов: «По тому узнают все, что вы — Мои ученики, если будете иметь любовь — αγάπην — между собою» (Ин. 13, 85).
Но нельзя было бы сделать большей ошибки, как отождествив духовную любовь ведающего Истину с альтруистическими эмоциями и стремлением ко «благу человечества», в лучшем случае опирающимися на естественное сочувствие или на отвлеченные идеи. Для «любви» в последнем, — иудейском, — смысле все начинается и кончается в эмпирическом деле, ценность подвига определяется его зримым действием. Но для духовной любви, — в смысле христианском, — эта ценность — лишь мишура. Даже нравственная деятельность, — как–то филантропия и т. п., взятая сама по себе, — совершенное ничто. Не внешность, не «кожа» особых деятельностей желательны, а благодатная жизнь, переливающаяся в каждом творческом движении личности. Но «кожа», как «кожа», эмпирическая внешность, как таковая, всегда допускает подделку. Ни одно время не смеет отрицать, что «лже–апостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых»; что даже «сам сатана принимает вид Ангела Света» (2 Кор 11, 13, 14). Но если все внешнее может быть подделываемо, то даже высший подвиг и высшая жертва, — жертва жизнью своею, — сами по себе, — ничто:
«Если я языками
людей глаголю и даже ангелов, —
любви же не имею.
являюсь медью я звенящей,
иль кимвалом звучащим.
и если пророчество имею,
и знаю тайны все я,
и всю науку, —
и если веру всю имею,
чтоб горы преставлять,
{стр. 90}
любви же не имею:
нет пользы мне.
И если все раздам имущество свое
и если тело я предам свое,
чтоб быть сожженным мне, —
любви же не имею:
нет пользы мне
Так называемая «любовь» вне Бога есть не любовь, а лишь естественное, космическое явление, столь же мало подлежащее христианской безусловной оценке, как и физиологические функции желудка. И, значит, тем более само собою ясно, что здесь употребляются слова «любовь» «любить» и производные от них в их христианском смысле и оставляются без внимания привычки семейные, родовые и национальные, эгоизм, тщеславие, властолюбие, похоть и прочие «отбросы человеческих чувств», прикрывающиеся словом любовь [118].
Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность.
Любовь к другому есть отражение на него истинного ведения; а ведение есть откровение Самой Триипостасной Истины сердцу, т. е. пребывание в душе любви Божией к человеку: «если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4, 17), — мы вошли с Ним не только в безличное, промыслительно–космическое отношение, но и в личное отче–сыновнее общение. Поэтому–то, «если сердце наше не осуждает нас», — но, конечно, самое–то сердце должно быть для своего суждения хоть сколько–нибудь очищенным от коры скверны, истлившей его поверхность, и способным судить о подлинности любви, — т. е. если мы сознаём сознанием оцеломудренным, что действительно любим, «не словом или языком, но делом и истиною» (l Ин. 3, 18), что мы действительно получили новую сущность, действительно вошли в личное общение с Богом, — то «мы имеем дерзновение к Богу» (1 Ин. 1, 11), {стр. 91} ибо плотской обо всем судит по плотскому. Ведь «кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том» (1 Ин. 3, 24); если мы любим Его, то «мы в Нем пребываем и Он в нас» (1 Ин. 4, 13).
Мы говорим «любовь». Но, спрашивается, в чем же конкретно выражается эта духовная любовь? — В преодолении границ самости, в выхождении из себя, — для чего нужно духовное общение друг с другом. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним [Богом], а ходим во тьме, то лжем и не поступаем по Истине; если же ходим в свет, подобно как Он в свете, то имеем общение друг с другом» (1 Ин. 4, 13).
Абсолютная Истина познаётся в любви. Но слово «любовь», как уже разъяснено, разумеется не в смысле субъективно–психологическом, а в смысле объективно–метафизическом. Не то, чтобы самая любовь к брату была содержанием Истины, как утверждают это толстовцы и другие им подобные религиозные нигилисты; не то, чтобы ею, этою любовию к брату, все исчерпывалось. Нет, и нет. Любовь к брату — это явление другому, переход на другого, как бы втечение в другого того вхождения в Божественную жизнь, которое в самом Бого–общающемся субъекте сознается им как ведение Истины. Метафизическая природа любви — в сверх–логическом преоборании голого само–тождества «Я = Я» и в выхождении из себя; а это происходит при истечении на другого, при влиянии в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости. В силу этого выхождения Я делается в другом, в не–Я, этим не–Я, делается едино–сущным брату, — едино–сущным (όμοούσιος), а не только подобнo–сущным (όμοιούσιος), каковое подобно–сущие и составляет морализм; т. е. тщетную внутренне–безумную попытку человеческой, вне–божественной любви. Подымаясь над логическим, бессодержательно–пустым законом тождества и отождествляясь с любимым братом, Я тем самым свободно делает себя не–Я или, выражаясь языком священных песнопений, «опустошает» себя {стр. 92} «истощает», «обхищает», «уничижает» (ср. Фил. 2, 7) [119], т. е. лишает себя необходимо–данных и присущих ему атрибутов и естественных законов внутренней деятельности по закону онтологического эгоизма или тождества; ради нормы чужого бытия Я выходит из своего рубежа, из нормы своего бытия и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем включить свое Я в Я другого существа, являющееся для него не–Я. Таким образом, безличное не–Я делается лицом, другим Я, т. е. Ты. Но в этом–то «обнищании» или «истощании» Я, в этом «опустошении» или «кенозисе — κένωσις» себя происходит обратное восстановление Я в свойственной ему норме бытия, при чем эта его норма является уже не просто данною, но и оправданною, т. е. не просто наличною в данном месте и моменте, но имеющею вселенское и вечное значение. В другом, чрез уничижение свое, образ бытия моего находит свое «искупление» из–под власти греховного само–утверждения, освобождается от греха обособленного существования, о котором гласили греческие мыслители [120], и в третьем, как искупленный, «прославляется», т. е. утверждается в своей нетленной ценности. Напротив, без уничижения Я владело бы нормою своею лишь в потенции, но не в акте. Любовь и есть «да», говоримое Я самому себе; ненависть же — это «нет» себе. Непереводимо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг [121] отчеканивает в формуле: любовь есть «das lebhafte Sich–selbst–bejahen des Seins — живое себе–самому — «да» бытия». Любовь сочетает ценность с данностью [122], вносит в ускользающую данность долженствование, долг; а долг, ведь, и есть то, что дает данности долготу; без долга, она «ρει», а с долгом — «μένει». Это любовь единит два мира: «в том и великое, что тут тайна, — что мимоидущий лик земной и вечная Истина соприкоснулись тут вместе» [123].
Любовь любящего, перенося его Я в Я любимого, в Ты, тем самым дает любимому Ты силу познавать в {стр. 93} Боге Я любящего и любить его в Боге. Любимый сам делается любящим, сам подымается над законом тождества и в Боге отождествляет себя с объектом своей любви. Свое Я он переносит в Я первого чрез посредство третьего и т. д. Но эти взаимные само–предания, само–истощания, само–уничижения любящих только для рассудка представляются рядом, идущим в беспредельность. Подымаясь над границами своей природы, Я выходит из временно–пространственной ограниченности и входит в Вечность. Там весь процесс взаимо–отношения любящих есть единый акт, в котором синтезируется бесконечный ряд, бесконечная серия отдельных моментов любви. Этот единый, вечный и бесконечный акт есть едино–сущие любящих в Боге, при чем Я является одним и тем же с другим Я и, вместе, отличным от него. Каждое Я есть не–Я, т. е. Ты, в силу отказа от себя ради другого, и — Я, в силу отказа от себя другого Я ради первого. Вместо отдельных, разрозненных, само–упорствующих Я получается двоица, — дву–единое существо, имеющее начало единства своего в Боге: «finis amoris, ut duo unum fiant; предел любви — да двое едино будут». Но, притом, каждое Я, как в зеркале, видит в образе Божием другого Я свой образ Божий.
Эта двоица сущностью своею имеет любовь и, как конкретно–воплощенная любовь, она прекрасна для предметного созерцания. Если для первого Я исходною точкою едино–сущия бывает Истина, а для второго, для Ты, — любовь, то у третьего Я, у Он, такою точкою опоры будет уже красота. В нем красота возбуждает любовь, а любовь дает ведение Истины. Наслаждаясь красотою двоицы Он любит ее и чрез то — познаёт, утверждая каждого, каждое Я в её ипостасной само–бытности. Этим утверждением своим созерцающее Я восстановляет само–тождество созерцаемых ипостасeй: первого Я, как Я любящего и любимого; второго Я, как Я любимого и любящего, — как Ты. Тем самым, {стр. 94} чрез отдачу себя двоице, разрывом оболочки своей само–замкнутости, третье Я приобщается её едино–сущию в Боге, а двоица делается троицею. Но Он, это третье Я, как созерцающее двоицу предметно, само является началом для новой троицы. Третmbми Я все троицы срастаются между собою в едино–сущное целое — в Церковь или Тело Христово, как предметное раскрытие Ипостасей Божественной любви. Каждое третье Я может быть первым во второй троице и вторым — в третьей, так что эта цепь любви, начинаясь от Троицы Абсолютной, — которая силою своею, как магнит бахрому из железных опилок, сдерживает все, — простирается дальше и дальше Любовь, по бл. Августину, есть «некоторая жизнь, сочетающая или сочетать стремящаяся — vita quaedam copulans vel copulare appetens» [124]. Подобную мысль высказывает и Иоанн Скотт Эригена [125]: «Любовь, — говорит он, — есть связь или путы, посредством которых все вещи сочетаются неизреченною дружбою и неразрывным единством! — Amor est connexio aut vinculum quo omnium rerum universitas ineffabili amicitia insolubilique unitate copulatur». Это и есть веяние Духа Святого, утешающего радостию созерцания, везде–сущего и все исполняющего сокровищем благим, подающего жизнь и своим вселением очищающего мир от всякой скверны. Но для осознания живо–творческая деятельность Его делается явною лишь при высшем прозрении духовности.
Такова схема само–обоснования личностей. Но ка́к конкретно раскрывает себя любовь, — эта центро–бежная сила бытия, исходящая от знающего Истину? Не входя в подробности, напомню лишь обще–известное место (1 Кор. 13, 4–7) из Павлова «Гимна любви» [126], в котором сказано все:
«Любовь долготерпит:
милосердствует любовь,
не завидует любовь,
{стр. 95} не превозносится,
не надмевается,
не знает безобразия,
не ищет своего,
не прогневляется,
не мыслит зла,
не радуется о неправде.
А сорадуется истине,
все покрывает,
всему верует,
всего надеется,
все переносит».
Однако, каждая из ипостасей троицы, имея в себе духовную жизнь — знание–любовь–наслаждение, — в разных метафизических аспектах, сообразно особому положению в троиц отличается и особым типом духовной жизни своей, особым устроением её, особым складом всего пути к Богу. Это придает своеобразный, тот или иной, оттенок её знанию, её любви и её радости: так, любовь первой ипостаси — пламенная, ревнивая; второй — кроткая, жертвенная; а третьей — восторженная, трепетная.
Не интуиция и не дискурсия дают ведение Истины. Оно возникает в душе от свободного откровения самой Триипостасной Истины, от благодатного посещения души Духом Святым. Начатком такого посещения бывает волевой акт веры, абсолютно–невозможный для самости человеческой и совершающийся чрез «привлечение» Отцом, Сущим на Небесах (Ин. 5, 44). Но тот, кто совершил подвиг веры, не знает, Чьею силою совершен он. Только поверив в Сына и получив в Нем обетование Духа Святого, верующий узнает, кто есть Отец (Лк. 10, 22). — только в Сыне Божием узнаёт Отца, как Отца, и оттого сам делается сыном. Чрез Сына получает он Духа Святого и тогда, в утешителе, созерцает несказанную красоту сущности Божией, радуется неизъяснимым трепетом, видя внутри {стр. 96} сердца своего «свет умный» или «свет фаворский» [127]; и сам он делается духовным и прекрасным. Так, слышим мы об этом в тропаре преп. Сергию Радонежскому:
«— вселися в тя Пресвятый Дух,
Его же действием светло украшен еси»,
т. е. Святой Дух прямо называется источником и Причинителем светлой красоты Преподобного. «Свет умный», соединяющийся иногда с духовною «теплотою» и «благоуханием» — это и есть искомая нами разумная интуиция, интуиция, включающая в себя ряд своих обоснований, — совершенная красота как синтез абсолютной конкретной данности с абсолютною разумною оправданностью. Свет умный — это свет Самого Триипостасного Божества, сущность Божественная, которая не просто дается, но само–дается. Это — «свет разума», воссиявший для мира от рождества Господа Иисуса Христа, как и поется в тропарe Рождеству:
«Рождество твое Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума —».
Это — «Свет Христов», который «просвещает всех». Это — тот самый «свет мысленный», ради которая «душа утренюет Тебе», Богу, как говорит св. Церковь, — свет любви Божией, о которой молимся:
«Любовию озари, молюся,
ведети тя Слове Божий»[128]
тот свет, в зрении которого — созерцание Божие и потому — спасение нас, не могущих быть вне Бога. Не молится ли православный:
«Спаси мя Твоим осиянием»?[129]
И, узрев свет, не успокаивается ли он:
«Не ибо есмь един,с тобою Христе мой, светомь трисолнечным, просвещающим мир» [130].
{стр. 97}
И не воздает ли он на утрене хвалы «Отцу светов» или, точнее, «светил» [131] (Иак. 1, 17),
«показавшему нам свет»?
И еще, готовясь дать отпуск, не произносит ли иерей без конца умилительной молитвы:
«Христе, свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущаго в мiр, да знаменуется на нас свет лица твоего, да в нем узрим свет неприступный —»?
Напомним наконец:
«Свете тихий святыя славы, бессмертного Отца, небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе:
«Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний.
«Поем Отца, Сьна и Святого Духа Бога.
«Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй:
«тем же мiр Тя славит».
Тут выпукло обрисовывается связь всех разбираемых нами идей. Господь Иисус — кроткий, тихий свет от святой славы бессмертного, значит, святого, и потому блаженного Отца Небесного. Но Он, это тихое Солнце миру, взошло на земле и затем закатилось, снова стало как бы не с нами. Мы видели свет этого закатного Солнца и в нем, в свете этого Света «узрели свет» Присносущной Троицы. Поэтому и воспеваем теперь Ее, Отца и Сына и Святого Духа, — Бога; Сына же Божия, тем трисолнечным просветлением твари дающего жизнь миру, мир славит в благодарных песнопениях.
Но это — почти наудачу взятые, — из бесчисленного множества прочих, — места о свете фаворском. Идея света благодатного — одна из немногих основных идей всего Богослужения, ибо Богослужение составлялось людьми духо–носными, людьми по опыту познавшими благодатное ведение. Да, свет духовный…
{стр. 98}
Свет уже и в чувственном созерцании есть преимущественно само по себе прекрасное, интуитивно прекрасное. Все прочее, — как–то звук, запах, теплота и т. д., — бывает прекрасно скорее чрез ритмическое расчленение; оно прекрасно не в собственном, интуитивном смысл, а в смысле известной интеллектуальной удовлетворенности. Обратим внимание и на то, что тон, сам по себе, в своей абсолютной высоте почти даже не запоминаем, а запах или вкус — даже и не воспроизводим в представлении. Относительная высота тонов, т. е. некоторое бессознательно воспринимаемое рациональное содержание, — вот что составляет предмет музыкального наслаждения [132]: по остроумному выражению Лейбниц а, душа, слушая музыку, «бессознательно упражняется в арифметике» [133], т. е. в той деятельности, которая всегда считалась образцом и типом рациональности. Свет же прекрасен помимо всяких расчленений, помимо формы, — в себе, и он делает собою прекрасным все зримое. «Нет столь отталкивающего объекта, которого интенсивный свет не делал бы красивым— говорит один почти современный писатель. И стимул, которым он дает чувствам, и присущее ему свойство какой–то бесконечности, подобно пространству и времени, придает всякой материи веселый вид» [134]. Красота, как некое явление или выявление того, что делается объективным, существенно связана со светом, ибо все являемое является именно светом, или, — как свидетельствует Апостол, — «все обличаемое светом является — τά δέ πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερουνται» (Εф. 5, 13а). А чрез то оно со светом, его являющим, срастворяется и само преобразуется в свет, о чем опять–таки учит Апостол в словах: «все являемое свет есть — παν γάρ τό φανερουμενον φως εοτιν» (Еф. 5, 13б). Итак, если красота есть именно являемость, а являемость — свет, то, повторяю, красота — свет, и свет — красота. Абсолютный же свет есть абсолютно–прекрасное, — сама Любовь в её законченности, и она делает собою духовно–прекрасным всякую {стр. 99} личность. Венчающий Собою любовь Отца и Сына Дух Святой есть и предмет и орган созерцания прекрасная. Вот почему аскетику, как деятельность, направленную к тому, чтобы созерцать Духом Святым свет неизреченный, святые отцы называли не наукою и даже не нравственною работою, а искусством, — художеством, мало того, искусством и художеством по преимуществу, — «искусством из искусств», «художеством из художеств» [135]. Теоретическое знание — φιλοσοφία — есть любовь к мудрости, любо–мудрие; феоретическое же, созерцательное ведение, даваемое аскетикою, есть φιλοκαλία, любовь к красоте, любо–красие. Сборники аскетических творений [136], издавна называющиеся Филокалиями, Φιλοκαλίαι, вовсе не суть Добpoто–любие в нашем, современном смысле слова. «Доброта» тут берется в древнем, общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство [137], и φιλοκαλία значит красото–любие. Да и в самом деле, аскетика создает не «доброго» человека, а прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников — вовсе не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, свето–носной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная. «Прекраснее же Христа», — Единого безгрешного, — «ничего нет» [138]. Но впрочем, не будем говорит о подвижничестве: ведь посвящают целые книги, чтобы описать аскетический путь к вечной Истине — путь единственный: в аскетике, как и в математике, нет царских путей, ибо только очищенное сердце может принять в себя неизреченный свет Божества и стать прекрасным.
«Когда человек преступил заповедь, — говорит св. Макарий Великий, — диавол всю душу его покрыл темною завесою. Посему приходит, наконец, благодать и совлекает все покрывало, так что душа соделавшись уже чистою и восприяв собственную свою природу, это неукоризненное и чистое создание, всегда уже чисто и чистыми очами созерцает славу Истинного Света и Истин{стр. 100}ное Солнце Правды, воссиявшее в самом сердце» [139]. «Как видимое око, будучи чистым, всегда видит солнце; так и ум, совершенно очистившись, всегда видит славу Света–Христа, и с Господом пребывает день и ночь, подобно тому, как тело Господне, соединившись с Божеством, всегда сo–пребывает с Духом Святым. Но в сию меру не вдруг достигают люди, и то разве трудами, скорбно, великим подвигом —» [140].
Это очищение себя или само–исправление требуется для собрания всего существа в сердце [141], для внутреннего оплотнения около сердца всех сил духа — умом, волею и чувством. «Собрание ума в сердце есть внимание, собрание воли — бодренность, собрание чувства — трезвение» [142]. Это троякое само–собрание и ведет за собою «вхождение во храмину внутреннюю», в которой можно узреть «храмину небесную». Свет Божественного ведения есть достояние очищенной личности. Но Любовь Божия, озаряющая праведника, излучаясь уже от него, может, по неизреченной милости Божией, по молитвам Божией Матери, ради каких–нибудь особых целей— может порою быть созерцаема и другими не достигшими духовности людьми: одиночество подвижника — только путь к высшему единению. Грани само–упорного Я подточены и разрушены у подвижника, и чрез него в душу соприкасающегося с ним вливается нездешняя сила. Великий неизреченный свет блистает ему; но видит ли не достигший совершенства в свете этом все, что можно и должно видеть в нем, — Сомневаюсь.
Так было даже в Ветхом Завете: «и было, — повествует Священный Писатель, — когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали свидетельства были в руке у Моисея при сошествии его с горы; Моисей не знал, что стало сиять лучами лицо его оттого, что Бог говорил с ним.
И увидел Аарон и все сыны израилевы Моисея, и вот, сияет лучами лицо его, и боялись подойти к нему.
{стр. 101}
… и когда перестал Моисей говорить с ними, то положил на лицо свое покрывало.
Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним, снимал покрывало, доколе не выходил. — И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, пока не выходил говорить с Ним (Исх. 34, 29–35).
Но то, что было чуть ли ни единственным исключением в Ветхом Завете, для личного «друга Божия», то стало почти правилом в Новом. Можно без числа приводить рассказы о свете от святых подвижников. Вот, для примера, несколько таких случаев:
«Был авва, именем Памво, о котором рассказывают, что он три года молился Богу и говорил: "Подай мне славу на земле". Но Бог так прославил его, что никто не мог смотреть на лицо его, по причине блеска, который он имел на лице своем» [143].
«Говорили об авве Памво, что, как Моисей получил образ славы Адамовой, когда прославилось лицо его (Исх. 34, 29), так и у аввы Памво лицо сияло, как молния, и он был как царь, сидящий на престоле своем. Таков же был и авва Силуан и авва Сисой»[144].
«Рассказывали об авве Сисое. Пред смертию его, когда сидели около него отцы, лицо его просияло как солнце. И он говорит отцам: «Вот пришел авва Антоний». Немного после опять говорит: «Вот пришел лик Пророков». И лицо его заблистало еще светлее. Потом он сказал: с Вот вижу лик Апостолов». Свет лица его удвоился, и он с кем–то разговаривал. — Тогда старцы стали спрашивать его: «С кем ты, отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли Ангелы взять меня: а я прошу, чтобы на несколько времени оставили меня для покаяния». Старцы сказали ему: «Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии». {стр. 102} Он отвечал им: «Нет, я уверен, что еще и не начинал покаяния». А все знали, что он совершен. Вдруг опять лицо его заблистало подобно солнцу. Все пришли в ужас, а он говорит име: «Смотрите, вот Господь — Он говорит: "Несите ко мне избранный сосуд пустыни"», — и тотчас предал дух и был светл, как молния. Вся храмина исполнилась благоухания [145].
«Один из отцев рассказывал: некто встретился с аввою Силуаном и, увидев, что он лицом и телом светел, как Ангел, пал на лицо свое. Он говорил при сем, что и некоторые другие старцы имели сей дар» [146].
«Один брат, пришедши в скит, к кельи аввы Арсения, посмотрел в дверь и видит, что старец весь как бы огненный. Брат сей достоин был видения. Когда он постучался, старец вышел и, видя брата как бы в ужасе, спросил его: «Долго ли ты стучался? Не видел ли чего здесь?». Брат сказал ему: «Нет». Побеседовав, старец отпустил его» [147].
Из примеров почти современных беру один только отрывок из рассказа H. А. Мотовилова о посещении им в начале зимы 1831–го года, препод. Серафима Саровского [148]. Тут мы увидим, как умная интуиция воплощается во всех сферах конкретной данности. Святой объяснял Мотовилову, что вся цель христианского подвига — в стяжании Духа Святого. Мотовилов недоумевал, как же узнать, что находишься в Духе Святом. Продолжаю далее рассказ словами самовидца:
«Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мн:
— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. Что же ты не смотришь на меня?
Я отвечал:
— Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз Ваших молнии сыпятся. Лицо Ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли!..
О. Серафим сказал:
— Не устрашайтесь, Ваше Боголюбие! и Вы теперь сами также светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть.
{стр. 103}
И преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мн:
— Благодарите же Господа Бога за неизреченную к Вам милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи! удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться в свет великолепной славы Твоей». И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно просьбу убогого Серафима… Как же нам не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обоим. Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог милость Свою. Это благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая. по предстательству Самой Матери Божией… — Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? Смотрите просто и не убойтесь — Господь с нами!
Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с Вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто–то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху меня и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда!
— Что же чувствуете Вы теперь? — спросил меня о. Серафим.
— Необыкновенно хорошо! — сказал я.
— Да как же хорошо? что именно?
Я отвечал:
— Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу!
— Это, Ваше Боголюбие, — сказал батюшка о. Серафим, — тот мир, про который Господь сказал ученикам Своим: «Мир мой даю вам, не якоже мир дает, Аз даю вам. Аще бо от мира были есте, мир убо любил свое, но якоже избраны вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Обаче дерзайте, яко Аз победил мир». Вот этим–то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чувствуете… Что же еще чувствуете вы? — спросил меня о. Серафим.
— Необыкновенную сладость! — отвечал я.
И он продолжал.
{стр. 104}
— Это та сладость, про которую говорится в Св. Писании: «От тука дому Твоего упиются и истоком сладости Твоея напоиши я». Вот эта–то теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой–то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, которое никаким языком выражено быть не может… Что же еще вы чувствуете?
— Необыкновенную радость во всем моем сердце!
И батюшка о. Серафим продолжал:
— Когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии Своем: «Жена егда рождает, скорбь имать, яко прийде год ея, егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир. В мире скорбни будете, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости вашея никто же возмет от вас». Но как бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все–таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам Господь устами Своего апостола сказал, что радости той «никто не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыдоша благая, еже уготова Бог любящих Его» — Что же еще Вы чувствуете, Ваше Боголюбие?
Я отвечал:
— Теплоту необыкновенную!
— Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает… Какая же может быть тут теплота?!
Я отвечал:
— А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку и когда из неё столбом пар валит…
— И запах, — спросил он меня, — такой же, как из бани?
— Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда, еще при жизни матушки моей, я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя спрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших магазинах Казани, но те духи не издают такого благоухания…
И батюшка о. Серафим, приятно улыбнувшись, сказал:
— И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас — так ли вы это чувствуете? Сущая правда, Ваше Боголюбие! Никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь {стр. 105} ощущаем, потому что нас окружает благоухание Святого Духа Божия. Что же земное может быть подобно Ему!.. Заметьте же, Ваше Боголюбие, ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане, а посмотрите–ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает и под нами также. Стало быть теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Она–то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопиять к Господу: «Теплотою Духа Твоего Святого согрей мя»!.. Ею–то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мороза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду, от Св. Духа истканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Под царствием же Божием Господь разумел благодать Духа Святого. Вот это Царствие Божие теперь внутрь нас и находится, а благодать Духа Святого и отвне осиявает и согревает нас, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью неизглаголанною …».
Только что приведенный рассказ, как почти современный нам, и написанный, притом, человеком умелым, полон многозначительных частностей и жизненных черт. В этом отношении он неизмеримо ценен и, пожалуй, почти исключителен. Но самая действительность света свидетельствуется бесчисленным рядом житий и сказаний о святых, так что нужно быть без ума, чтобы решиться отвергать достоверность этих явлений благодатного света. Они подтверждаются еще и тем, что венчик на иконах, — будь то нимб или ореол, или слава в их различных и много–образных видах [149], — представляющий именно этот, истекающий от духо–носцев свет благодатный, что венчик не мог бы ни возникнуть, ни держаться в иконописи и других изобразительных искусствах, если бы был, — как это нередко полагают, — простою условностью, условным атрибутом святости.
Едва ли может столь упорное и столь широко распространенное явление возникнуть «без огня», не выражая собою никакой действительности, лежащей! в его основе. Но является вопрос: не бывало ли созерцания этого же {стр. 106} света у мистиков вне–христианских, ну хотя бы например у неоплатоников? [150] Ведь несомненно то, что и они видели какой–то свет; несомненно, что и они блаженствовали о своем ведении. Да, видели; и блаженствовали. Возможно даже, что они видели свет Божества. Говорю лишь «возможно», ибо видение внутреннего света может быть и «прелестью», т. е. явлением чисто–субъективного и психо–физиологического значения, иногда, — а быть может и всегда, — не без соучастия темных сил, принимающих вид ангела светла. Однако, если и было так, то этот свет, о котором учат мистики всех стран и народов и который толкуется ими именно как свет горнего мира, свет Божественный, этот Божественный свет для них был только интуицией, но не разумностью, не доказательностью, т. е. не разумной, не само–доказательною интуициею. Свет этот давал им новую духовную действительность, но он так же мало оправдывал ее, как обычная чувственная интуиция, слепо давая действительность чувственного мира, оставляет ее недоказанной, неоправданной. Свет мистиков не разрешал им 'εποχή, да и не мог разрешить её. Они, и видя, не видели. Ты спрашиваешь, почему так. — Потому, что у них не было догмата Троичности, а были лишь призраки учения о троичности [151], не имевшие в себе соли его, — сверх–логического препобеждения закона тождества. Чтобы усмотреть в духовном свете само–доказательность его, необходимо уже заранее знать результаты анализа этого света; тогда пред духовными очами нашими синтезируется Троичность во Единство, мы увидим фактически данным «ομοούσιος». Догмат, — который, по своей сверх–логичности, не мог быть возвещен никем, кроме Самого Бога; который в устах не Господа оставался бы набором слов, — является «апперцепирующею массою» Вундта [152], позволяющею обратить духовный взор на то, на что должно обратить его для разрешения 'εποχή. Никакие человеческие силы сами по себе не могли бы анализировать Бесконечную Единицу, — совершенно {стр. 107} так же, как они не могут синтезировать Её. Ведь Синтезированная Бесконечность абсолютно неразложима на единицы. И, только имея в сознании догмат, т. е. самим Богом сообщенный анализ, мы можем усмотреть в свете Божественном осуществление этого догмата.
Вот почему свет, виденный Плотином и другими мистиками, — каково бы ни было его происхождение, — столь же безразличен для абсолютного скептика, как и свет чувственный. Он только усложнял задачу скепсиса, указывая на новый род слепых интуиций, не имеющих в себе своего обоснования. Да и вообще, мало ли кто что видел, но не понимал и не мог понимать смысла его. Чтобы увидеть, нужна была гипотеза; но чтобы высказать гипотезу, явно противоречащую нормам рассудка, надо было жить в недрах Св. Троицы, быть Сыном Божиим, а чтобы этой гипотезе поверил кто бы–то ни было, надо было иметь бесконечный авторитет, опирающийся на само–отверженную любовь, на беспорочную чистоту, на непостижимую красоту и на необоримую мудрость. Вне Христа невозможна была гипотеза Троичности, — стало быть, невозможно было абсолютное видение.
Приблизительно так отвечает на поставленный вопрос о свете неоплатоников о. Серапион Машки́н. «Гипотеза, — пишет он в другом месте, — есть «око ума», она — возможность явления и, вместе с тем, апперцепирующая его «масса», у кого это «око» есть, тот воспринимает в опыте и действительность гипотетической возможности, получает знание, приближающееся к постижению необходимости бытия, дающему достоверность».
И если догмат есть «око ума», то преимущественный носитель догмата есть «око человечества», — то око, которым человечество взирает на неприступный свет неизреченной Божественной славы. Только теперь выясняется внутренний смысл определения, данного св. Григорием {стр. 108} Богословом Афанасию Великому. Он, выразивший и отстоявший догмат Троичности, поистине был «Святейшим оком вселенной» [153]. Им вселенная усмотрела Истину.
Тернистый путь умного делания венчается блаженством абсолютного ведения.
«Почувствовав потребность возвратиться к себе самому, я вошел, руководимый Тобою, в свой внутренний мир, я мог сделать это, так как Ты стал моим помощником, — говорить бл. Августин. — Я вошел и увидел каким–то оком моей души, выше этого самого ока души моей, выше моей мысли, неизменяемый свет. Это не был тот обыкновенный свет, который видел всякий почти. Он был сильнее света солнца, но не в том роде, как если бы этот свет светил во много раз яснее и занимал своею массою все. Ои был не то, а нечто иное, совершенно иное, чем все это. И Он был выше моей мысли, — не так, как мыло плавает выше воды или небо возвышается над землею: Он был выше меня, потому что Он меня создал, а я был ниже его, потому что я создан им. Кто знает Истину, тот знает этот свет, а кто знает этот свет, тот знает вечность. Любовь знает его. О, Вечная Истина, истинная Любовь и Возлюбленная Вечность! Ты мой Бог; по тебе тоскую я день и ночь. — И когда я впервые познал Тебя, Ты принял меня к себе, и я увидел, что существует то, что я видел, а я, который видел, еще не существую. Ты воскликнул издалека: «Я есмь сущий». И я услышал, как слышат в сердце, и не осталось во мне более никакого сомнения: мне легче было бы усомниться в своей собственной жизни, чем в том, что существует Истина, видимая чрез рассматривание тварей» [154].
Слава Тебе, показавшему нам свет!
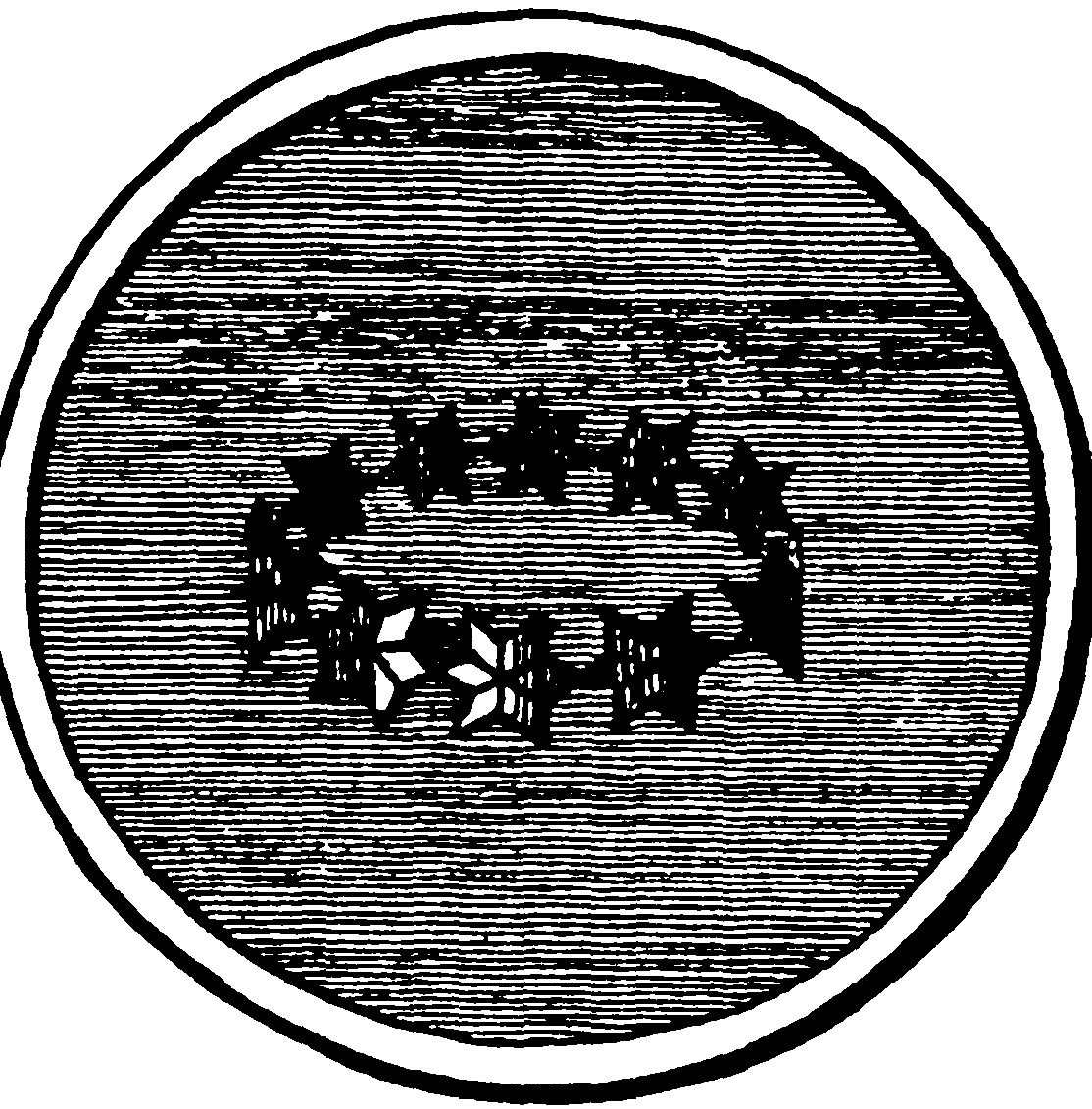
Pignus amoris. Залог есть любви.
{стр. 109}
Помнишь ли ты, тихий, наши долгие прогулки по́-лесу — по лесу умирающего августа. Как стройные пальмы стояли серебряные стволы берез, и золотисто–зеленые маковки, будто исходя кровью, прижимались к багровым и пурпурным осинам. А над поверхностью земли, как зеленый газ, ветвился сквозящий орешник. Священною торжественностью веяло под сводами этого храма.
Помнишь ли ты, далекий и вечно–близкий Друг, наши проникновенные беседы? Дух Святой и религиозные антиномии, — вот что, кажется, интересовало нас более всего. А находившись по заповедной роще мы шли на закате озимями, упивались пылающим западом и радовались, что вопрос выясняется, что мы врозь пришли к одному и тому же. Тогда мысли текли пылающими, как небосвод, струями, и мы ловили мысль с полу–слова. Во вдохновенном, холодном и пламенном вместе, восторге шевелились корни волос, и мурашки щекотали спину.
Помнишь ли ты, брат мой едино–душный, тростник над черными за́водями? Молча стояли мы у обрывистого берега и прислушивались к таинственным вечерним шелестам. Несказанно–ликующая тайна нарастала в душе, но мы безмолствовали о ней, говоря друг другу молчанием: тогда…
{стр. 110}
Теперь на дворе зима. Занимаюсь при лампе, и вечереющий свет в окне кажется синим, величавым, как Смерть. И я, как пред смертью, снова пробегаю все прошлое, снова волнуюсь вне–мирною радостью. Но ничего мне не собрать — теперь, когда я один. Жалкие отрывочные мысли пишу я тебе. И все–таки пишу: столько чаяний связано с вопросом о Духе Святом, что я постараюсь написать хоть что–нибудь — на память тебе. Пусть страницы письма будут засохшими цветами той осени.
Познание Истины, т. е. едино–сущие Св. Троицы, совершается благодатью Духа Святого. Вся жизнь подвижническая, т. е. жизнь во Истине, направляется Духом Святым. Третья Ипостась Св. Троицы является, как бы, наиболее близкою, наиболее искреннею для подвижника Истины. Это Он, «Дух Истины» (Ин. 12, 26), свидетельствует в самой душе его о Господе, т. е. об едино–сущии; это Он научает, «что должно говорить» всем вне его сущим, и потому гонящим Господа, т. е. Идею едино–сущия (Лк. 12, 11–12). Но, тем не менее, знание Духа, как Уте́шителя, радость Уте́шителя озолачивает лишь верховные точки скорби; так розы усталого за день солнца улыбаются на снего–вершинных пиках Кавказа. Только на конце тернистого пути видятся розовые облака очищенной твари и снежно–белый блеск святой, преображенной плоти.
Только на конце… Так — в личной жизни каждого; так и в целостной жизни человечества. Пока не стало человечество твердою ногою на стезю спасения, его поддерживал Господь. Тогда забывались все скорби; но скорби были уже в зачатке, готовились. «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Μф. 9, 15).
Правда, и в начале подвига, нежным поцелуем встретит Невеста. Правда, полнотою радости трепетало апостольское христианство. Но этот поцелуй, {стр. 111} эта радость — лишь обручение. На долгий путь, на многие муки дается она, — не достойно, а для бодрости.
Чудное мгновенье сверкнуло ослепительно и… как бы нет его. Господь отделился от земли и всего, что сиянием своим непосредственно, зримо преодолевал на ней. Он — с нами; но по–человечески, по–земному, Его нет с нами. Точно так же и в личной жизни, в начале пути подвижнического, когда незаслуженно и нечаянно великая, несказанная радость осеняет душу. Она, — как и даруемое для питания и укрепления Пречистое Тело и Честная Кровь Христовы, — «во обручение будущего Царствия», во обручение одухотворенности и просветленности всего существа [155].
Так, — повторяю, — в начале пути. И бесконечно–радостно это начало; так неизъяснимо–хорошо тогда, что, воспоминая сладкое прощание, даже в памяти мимолетного видения своего человечество находит силу преодолевать препятствия; мечтами о восторге первой влюбленности подвижник отгоняет от себя черные мысли будничного труда и скуку и тоскливость серой повседневной жизни.
Но, в общем, в среднем, в обычном и личная жизнь христианина, вне своих высших подъемов, и повседневная жизнь Церкви, — за вычетом избранников Неба, — мало, смутно и тускло знает Духа Святого, как Лицо. А с этим связано и недостаточное, не всегдашнее знание небесной природы Твари.
Иначе и быть не может. Ведение Духа Святого дало бы полную духо–носность, Уте́шител обо́жение всей Твари, завершенное просветление. Тогда кончилась бы история; тогда исполнилась бы полнота сроков; тогда во всем миpe Времени уже не было бы. Повторяю, это — завершение, как удостоился узреть Тайнозрительный Орел: «и Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, — повествует Он, — поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что́ на нем, землю и все, что на {стр. 112} ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет — ότι χρόνος ουκέτι έσται; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится — ετελεσθη — тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим, пророкам» (Откр. 10, 5–7). Вот что будет на грани истории, когда Уте́шитель от кроется.
Но, доколе идет история, дотоле возможны лишь моменты и миги озарения Духом; дотоле знают Уте́шителя лишь отдельные люди в отдельные моменты и миги, и тогда подымаются над временем, — в Вечность, — «времени для них нет», и кончается для них история. Полнота стяжания недоступна верующим, как целому, недоступна и отдельному верующему, в целостности его жизни. Христова победа над Смертью и Тлением не усвоена еще Тварью, не всецело усвоена; значит, нет и полноты ведения. Как святые нетленные мощи подвижников — залоги победы над Смертью, т. е. обнаружения Духа в телесной природе, так и святые духовные озарения — залоги победы над рассудком, т. е. обнаружения Духа в природе душевной. Но поскольку нет воскресения, постольку же нет и полного разумного просветления Духом Святым. Утверждать же, что достигнуто полное ведение или полное очищение плоти — это самозванство, — самозванство Симона Волхва, Манеса, Монтана, хлыстов и тысячи других им подобных лже–духоносцев, лгавших и лгущих на Духа. Это и есть извращение всего человеческого естества, именуемое «прельщением» или «прелестью» [156].
Да, Дух Святой действует в Церкви. Но знание Его всегда было либо залогом, либо наградою, — в особые моменты и в исключительных людях; и будет так, доколе не «свершится» все. Вот почему, при чтении церковной письменности не может не обратить внимание одно явление, сперва кажущееся странным, но потом, в свете предыдущих соображений, выявляющее свою внутреннюю необходимость. А именно: все святые отцы и {стр. 113} мистические философы говорят о важности идеи Духа в христианском миро–воззрении, но почти никто не выясняет чего–либо отчетливого и решительного. Ясно видно, что святые отцы про себя что–то знают; но еще яснее, что это знание так глубоко затаенно, так «неответчиво», так несказанно, что облечь его в отчетливые слова не хватает у них сил. Главным образом это относится к догматистам, потому что им надо говорить определенно и — по существу дела; они–то и оказываются почти немыми, или явно путаются. Вспомнить хотя бы из II–го века «бинитарную сисриему» Ерма. И Автора 2–го псевдо–Климентова Послания к коринфянам: и тут и там Дух Святой прямо смешивается с Церковью [157] . Или вспомним еще из III–го века систему Тертуллиана, где Дух столь неясно разграничен от Слова, что почти неразличим от Последнего и нередко называется вместо Него [158].
Меня впервой особенно поразило это внутреннее противоречие при чтении Оригеновых «Начал», относящихся к 228–229 годам. Излагая христианскую догматику, Ориген выражает твердую уверенность, что идея Духа Святого есть идея нарочито–христианская, так сказать шибболет христианства.
«Все — говорит он [159], — каким бы то ни было образом признающие Промысл, исповедуют, что существует нерожденный Бог, сотворивший и устроивший все; все они признают Его родителем — parentem — вселенной. Не одни мы проповедуем, потом, что у Него есть Сын. Так, хотя греческим и варварским философам это учение представляется довольно удивительным и невероятным; но все же некоторые из них выражают мнение о Сыне, когда исповедуют, что все сотворено словом или разумом Бога… Что же касается ипостаси (subsistentia, т. е. буквальный перевод ύπόστασις) Св. Духа, то относительно неё никто не мог иметь даже какого–либо предположения, за исключением тех, которые знакомы были с законом и пророками, или тех, которые исповедуют веру во Христа».
Можно, правда, сомневаться, так ли это на самом деле. Св. Иустин Философ, в своей Первой Апо{стр. 114}логии [160], относящейся, вероятно, к 150 году или даже к 138–139 гг., и написанной, следовательно, за 80 или 90 лет до «Начал» Оригена. — Иустин Философ, — говорю, — не менее определенно приписывает Платону знание всех трех Ипостасей. Но, — правильно ли по существу дела убеждение Оригена, или нет, — оно высоко характерно для понимания истории ведения духовного. В самом деле, можно подумать, что высказав приведенное выше, Ориген займется дедукцией идеи о Духе Св., как то было ранее сделано им для идеи Отца и Сына. Но «эта задача дать спекулятивное обоснование факту бытия Св. Духа, указать логическую необходимость именно троичного существования Божества, не выполнена Оригеном». Таков суд беспристрастнейшего историка и ученейшего догматиста [161].
Впрочем, Ориген заранее согласен с этим строгим приговором. Ведь то, что требует от него судья, то, что требует от него естественное движение мысли — это «невозможно», по Оригену [162]. Да, дедукция невозможна. Пусть так; но не правда ли: невозможность спекуляции не есть ведь еще оправдание для нерешительности и неопределенности даже в изложении догматического материала. А Ориген вопросительною формою своего изложения порою просто уклоняется от ответа, иногда же — явно забывает об идее Духа Святого. Забывчивость, впрочем, легко объяснимая! Дух Святой, на самоме–то деле, — при глубоком метафизическом анализе системы Оригена, — ни к чему в ней не нужен; это, — так сказать, «ложное окно» для симметрии здания, не более. — Ориген–великан. — бодро и твердо шагавший по полям догматики, не боявшийся создавать свои собственные концепции, иногда поражающие смелостью и стремительностью своего взлета, — этот самый Ориген неожиданно проходит мимо того, что сам же назвал существеннейшею стороною христианского жизнепонимания и, превратившись во что–то маленькое, в сгорбленного и сморщенного карлу, шамкает о существеннейшем смутно и невразумительно.
{стр. 115}
Это превращение из великого в жалкого так поразительно, что издавна бросалось в глаза всякому, — от Василия В., по мнению которого «Ориген — человек, имевший не совсем здравые понятия о Св. Духе» [163], и до современных защитников Оригена, пытающихся оправдать его то преимущественным интересом времени к выяснению идей о Сыне и об Отце, то ссылкою на недосказанность соборных определений о Духе Св., то намерением Оригена высказаться по инкриминируемому вопросу в каком–то другом сочинении [164]. Но, так ли это, или не так, остается несомненное непосредственное впечатление какой–то внутренней неотстоенности идей в сознании самого Оригена. И подобное же должно сказать о других, ибо говорят они о Духе Святом то неясно и отрывочно, то сдержанно и осторожно.
Эта неотстоенность идей, происходящая из незаурядности умственных встреч с Духом Святым, явствует и из того, что в творениях церковной письменности не редкость, как уже отчасти указано выше, встретить некоторую неразграниченность идей Духа Святого и Софии–Премудрости, — отчасти же и их обоих от Логоса. — явление тем более бросающееся в глаза, что идеи Отца и Сына разработаны со всяческою тонкостью и, можно сказать, вычеканены довольно. Общее непосредственное впечатление неизбежно остается при чтении церковной письменности такое же, как от картины, часть которой закончена, а часть — только в неясных очерках. Разумеется, можно приводить всякие отдельные места и выдержки из свято–отеческих творений. Но нельзя не согласиться, что в общем дело обстоит именно так, как указывается здесь мною, и это общее впечатление легко может быть доказано, если мы попробуем сопоставить между собою учение об Отце и Сыне и учение о Духе Святом [165].
Правда, относительно Духа Святого идут споры и делаются разные утверждения. Но все они носят харак{стр. 116}тер формальный и схематический; все они отличаются от соответственных утверждений о Сыне и об Отце так же, как карандашные обводы картины отличны от полотна, заполненного красками. В то время как ипостасное бытие Отца и Сына воспринимается каждым нервом духовного организма; в то время как еретичество в отношении к Отцу и Сыну органически, непосредственно, всем нутром неприемлемо; в то время как природа Отца и Сына раскрывается в кристалльно–прозрачных и геометрически–стройных формулах, имеющих характер религиозно–аксиоматический, — учение о Духе Святом, то вовсе, или почти вовсе, не замечается, то раскрывается выводным или обходным путем, как рассудочная теорема, по схеме: «Так как о Сыне сказано то–то и то–то, то тем самым мы уже вынуждены говорить о Духе то–то и то». Истинность положений о Сыне для верующего человека непосредственно очевидна; истинность же положений о Духе уясняется путем окольным, устанавливается чрез формальную правильность промежуточных рассуждений. Доказательства и обоснования логологии могли оказаться и оказывались наивными, недостаточными, предварительными стройками, тогда как самое здание догматики опиралось на великое, непосредственно–истинное для сознания, для жизни по вере во Христа Иисуса слово όμοούσιος, на котором само здание держалось и которым все леса поддерживало. Едино–сущие Слова для людей духовных было данною из опыта жизни, и они признавали едино–сущие и исповедывали его, несмотря на аргументацию слабую и, вопреки противным доказательствам. Аргументация в учении о Слове была не более; как привеском. Но в учении о Духе Святом аргументация была почти всем, и без неё догмат лишался своей убедительности. То, что говорит адамантовый в прочем Ориген o бытии и происхождении Духа Св., есть ad hoc придуманное учение, нарочитое мудрование, созданное для того, чтобы не столкнуться с церковным преданием; в сущности говоря, Оригену было бы гораздо естественнее {стр. 117} удобнее, — если бы можно было, — вовсе замолчать Духа Святого. Дух «исходит» от Отца, ибо иначе де Он должен был бы быть рожденным или от Отца, — и тогда у Сына был бы «брат» (так именно возражали православным духо–борцы), — или же — от Сына, и тогда был бы Он «внуком» Отцу (соображение Тертуллиана и др.). И Ориген настолько смутно мыслит о Духе, что в Толковании на Иоанна [166] колеблется между сотворенностью Духа Отцом и исхождением от Отца, высказываясь то так, то иначе.
Ты скажешь: «Что тебе так дался Ориген?» — Во первых, потому, что он — крупнейший Богослов и сильный, независимый ум; во вторых, потому, что он оказал неизмеримое влияние на все позднейшее Богословие. Что сказано об Оригене, то mutatis mutandis придется говорить и о других.
Сам Афанасий Александрийский, — не только «Великий», но и подлинно великий, — в своих трех, т. е. в первом, втором и четвертом, Посланиях к Серапиону Тмуитскому о Духе Святом давший «исчерпывающее наследование о Нем, ставшее образцом для последующих писателей» [167], — аргументирует исключительно ad personas; он опирается, именно, главным образом на то, что признающие тварность Духа «разделяют и разлагают Троицу», тем подвергая опасности самое учение о Сыне, и т. п. Итак, Духа Святого Афанасию приходится признать едино–сущным, ибо иначе пришлось бы отвергнуть все то, что сказано о Сыне. Но даже Афанасий не уясняет, что́ же такое «έκπόρευσις, исхождение» Духа, в отличие от «γέννησις, рождение» Сына. Из трех личных свойств ипостасeй Божественных, — а именно: άγεννησία, γέννησις и εκπόρευσις, — первые два духовно вполне понятны, тогда как последнее оказывается только знаком какого–то, еще предстоящего для постижения духовного опыта.
Столь же формально возражали против духоборцев и Григорий Нисский с Василием Великим [168]; {стр. 118} и они, несмотря на свою привычку к умственному парению, не смогли одолеть вопроса о Духе Святом. И у них Дух рассматривается при Отце и Сыне, а не самостоятельно.
Св. Василий Великий, вероятно, более чем кто–нибудь способствовал подготовке умов ко Второму Вселенскому Собору, т. е. к осознанию догмата о Духе Святом. И, тем не менее, различие пресловутой терпимости св. Василия Великого в полемике с македонианами и вообще в вопросах пневматологии, в сравнении с горячностью всей духовной атмосферы при обсуждении вопросов логологии, быть может, в сильнейшей степени обусловлено различием во внутренней убежденности при занятии той и другой позиции [169]. Невольно является подозрение, что это — не только терпимость к другим, но и собственная некоторая холодность к вопросу, собственное недостаточно острое проникновение его в сердце. И Василий Великий занимался едино–сущием Святого Духа, смотря на этот вопрос боковым зрением, тогда как точка наияснейшего зрения была направлена на едино–сущие Сына. Охотное и свободное исповедание и защита Сына вовлекали в как бы невольное и неизбежное исповедание и защиту Духа.
Повторяю, это — не случайность истории Богословия, а непреложная последовательность в исполнении часов и сроков, — необходимое и непременное обнаружение сравнительно неяркого откровения Духа, как Ипостаси, недостаток самой жизни. Наше утверждение легко доказуемо. Ведь где непосредственное выражение духовного опыта? Где духовный опыт наименее переработан? — В молитвах и песнопениях, — в Богослужении: Богослужение есть самое значительное и существенное отправление жизни церковного тела. Свидетельство Богослужения — свидетельство надежнейшее. Но, спрашивается, где же первее всего искать нам указаний на то, какое место занимал Дух Святой в умах и сердцах древних членов Церкви сравнительно с другими Ипостасями? Ну, конечно, там, где самое {стр. 119} празднество было направлено на прославление всех трех Ипостасей.
Богослужение Троицына Дня, т. е. дня, нарочито посвященного Пресвятой Троице, должно дать нам решительное указание, насколько ипостасность Духа Святого была достоянием живого церковного опыта, а не только теоремою догматического Богословия. И это указание для нас тем более драгоценно, что основная часть в «Последовании Пентикостии» [170], — разумею три торжественные молитвы колено–преклонения, — составлена, вероятнее всего, именно ко времени или во время Василия Великого.
Что же мы находим тут? — Первая молитва коленопреклонения начинается словами:
«Пречисте, нескверне, безначальне, непостижиме, невидиме, неизследиме, непременне, непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи: един имеяй безсмертие, во свете живый неприступном, сотворивый небо и землю, и море, и вся созданная на них: прежде еже просити всем, прошения подаваяй. Тебе молимся и Тебе просим, Владыко Человеколюбче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа …», — очевидным обращением к Богу Отцу.
Вторая молитва колено–преклонения — к Сыну: «Господи Иисусе Христе Боже наш, мир твой подавый человеком и пресвятаго Духа дар еще в житии и с нами сый, в наследие неотъемлемое верным присно подаваяй …», — начинает молиться священно–служащий.
Наконец, третья молитва колено–преклонения, в последовании занимающая место точно соответствующее местам двух первых молитв, т. е. литургический аналог двух первых молитв, открывается обращением: «Приснотекущий, животный и просветительный Источниче, соприсносущная Отцу, содетельная Сило, всесмотрение за спасение человеческое прекрасне исполнивый…»
Но к Кому же именно это моление? Что дальше, — По смыслу самого празднества (— «Троицын» день! —), по литургическому положению этой третьей молитвы, нако{стр. 120}нец, по употребленным в ней эпитетам Лица, к которому она обращена — естественно ждать продолжения:
«Душе Святе», или «Уте́шителю», или «Царю Истины», или еще какого–нибудь имени Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы — до такой степени естественно, что, слушая эту молитву, невольно слышишь что–нибудь из этого и остаешься при убеждении, что она обращена к Духу Святому. Но на деле — ничуть не бывало. Вот непосредственное продолжение оборванного нами моления:
«…Xристе Боже наш:смерти узы неразрешимыя, и заклепы адовы расторгнутый, лукавых же духов множество поправый: приведый Себе о нас непорочное заколение …» — и т. д., — все к Господу Иисусу Христу, а вовсе не к Духу Святому.
Век стереотипных, более или менее распространенных вероучений, когда догмат о Духе Святом закреплялся в слове лишь вскользь и лишь постольку, поскольку домостроительная деятельность Духа связывалась с таковою же Отца и Сына, сменился затем веком применения к Духу Святому понятий, найденных для Сына. Но замечательно, что личная особенность Третьей Ипостаси все же оставалась лишь формально обозначенною словом εκπόρευσις, «исхождение», однако — без конкретного содержания.
И так продолжалось далее, Богословский рецепт говорить о Духе по образцу того, что сказано о Слове, т. е., в сущности говоря, создавать теневой очерк Слова, так или иначе царил в православных кругах, хотя в это же время в пустынях Фиваиды и Палестины, отдельным святым, — этим вершинным и почти над–человеческим точкам Церкви, — Дух являл Себя и через них, чрез их душу и чрез их тело, являл Себя окружавшим их. А неправославные круги впадали в явное лжеучение, когда пытались силою познать Утешителя, принудительно запереть его, Духа Свободы, в клетку философских понятий. Вместо Духа ухваты{стр. 121}вали пре́лестные, лже–мистические переживания души, погрузившейся в примрачную под–основу мира и хватающейся за темные силы, как за ангелов света. Этим еще раз доказывалось, что вне подвига и упражнения Дух познавался и познается лишь отрицательно.
Мистики позднейших времен, которые всегда живо интересовались пневматологией, были в положении не лучшем. На словах различив Ипостаси Духа и Сына, они, в большинстве случаев, в итоге отождествляли их на деле, потому что приписывали Духу Святому все то, что было уже сказано о Сыне, и, кроме того, смешивали Духа с Софией [171].
В чём же личная особенность Духа Святого? — Об этом слишком много говорили, но слишком мало сказали. Василий Великий [172] сознается, что «образ исхождения остается неизъяснимым», и вследствие этого не делает ни одной попытки к его раскрытию. Примечательно, что знаменитый защитник православия от католических поползновений, — от попыток рационализировать догмат и насильственно объяснить, как философему, то, что философии не подлежит, Марк Ефесский, на могильном памятнике которому Георгий Схол арий [173] вырезал эпитафию:
Εφεσίων πρόεδρος άστήρ γης πάσης;
πυρ έμπνπρών τάς άντιδόξους φατρίας
καί φως όδηγούν ευσεβεστέρας φρένας …
т. е.: «Епископ ефеcян, светило всего края, огонь попаляющий ереси, путеводный свет душ благочестивых», — этот самый Марк Ефесский пишет «православным христианам»: «Мы же, вместе с Иустином Философом и Мучеником, говорим, что как, — ώς, — Сын от Отца, так, — ουτω, — и Св. Дух от Отца; они же, — греко–латины, — говорят с латинами, что Сын непосредственно, — αμέσως, — а Св. Дух посредственно, — εμμέσως, — от Отца; мы, с Дамаскиным и со всеми свв. отцами, не знаем различия между рождением {стр. 122} и исхождением; — они же различают с Фомой и латинами два рода происхождений, — посредственное и непосредственное» [174]. Впрочем, это свидетельство не единственное; подобных утверждений можно было бы привести множество, укажу хотя бы на св. Григория Нисского, говорящего о «непостижимости исхождения Духа Святого» [175].
Феософская спекуляция или не договаривала до конца, или запутывалась в различии рождения и исхождения, если только не прибегала к католическому Filioque, — этому наивному порождению излишнего благочестия и недоношенного Богословия. Стоит ли называть «имена»? Оставим их, пусть изобретатели разных теорий о Духе Святом мирно спят под землею до того времени, когда эти вопросы сами собою разрешатся без наших усилий. Было бы слишком наивно искать причину этой двухтысячелетней недоговоренности в недостаточной проницательности Богословов. Да и в проницательности ли дело, когда peчь идет о Bepe? «Ex nihilo nihil» более, нежели к чему–нибудь, относится к Богословию, — науке опытной [176]. Если сейчас нет полных восприятий Духа Святого, как Ипостаси, если нет личных пневматофаний, — кроме исключительных случаев, у исключительных людей, — то нельзя выработать и формул, потому что формулы вырастают на почве общей, повседневной церковной жизни, — на поле общих, так сказать, постоянных явлений, а не в применении к единичным, к особым точкам духовной жизни. Конечно, в св. Церкви все — чудо: и таинство — чудо, и водосвятный молебен — чудо, и каждая икона — чудо, и каждое песнопение — не иное что, как чудо. Да, все — чудо в Церкви, ибо все что ни есть в её жизни, — благодатно, а благодать Божия и есть то единственное, что достойно имени «чудо». Но все это — чудо постоянное; есть же в Церкви и более редкие веяния, «чудеса» в более привычном смысле слова, и они, чем реже, тем далее от выражения в слове: нельзя создать формул для таких чудес, ибо всякая {стр. 123} формула есть формула повторяемости. Кроме некоторых отдельных моментов, когда верующие совместно, — а в этом — все дело, — бывали в Духе Святом или начинали быть в Нем, это пребывание не стало обыкновенною струею жизни.
В тех же общинах или компаниях, где переживание Духа объявлялось нормою, неизбежно возникало хлыстовство, разумея это наименование в широком смысле всякого лже–духовного энфусиазма и лже–мистического, душевного (— не духовного —) волнения совокупности радеющих людей.
Станем вглядываться в свято–отеческие писания, особенно аскетические, где наиболее ярко изображена духовная жизнь. Тогда мы увидим типичное явление: об Отце говорится мало, о Сыне Божием — довольно много, но более всего — о Духе Святом. И, при всем том, нельзя отрешиться от впечатления, что Сына Божия, как самостоятельную Ипостась, святые подвижники знают очень отчетливо, и настолько близок Он для сознания их, что даже несколько заслоняет Отца; об Отце они тоже знают, но о Духе Святом, как Ипостаси, мало знают, почти не знают. Если отцы–догматисты своею нерешительностью или своим молчанием показывают внутреннюю неуверенность в вопросе о Духе Святом, свое недостаточное ведение Его как Ипостаси, то отцы–аскеты своими обильными словами обнаруживают то же состояние сознания еще яснее. Для них, — практически, житейски, — Дух Святой есть «Дух Христов», «Дух Божий», — некая освящающая и очищающая безличная сила Бога. Не даром, ведь, впоследствии вместо Духа Святого незаметно и постепенно стали говорить о «благодати», т. е. о чем–то уж окончательно безличном. Известен обычно не Дух Святой, а Его благодатные энергии, Его силы, Его действия и деятельности. «Дух», «духовный», «духо–носный», «духовность» и т. д., испещряют свято–отеческие творения. Но из этих–то творений и видно, что эти слова «Дух», «духовный» и т. д. {стр. 124} относятся к особым состояниям верующего, вызываемым Богом, но вовсе или почти вовсе не имеют в виду личного, самостоятельного бытия Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы. В сущности говоря, святые отцы говорят много не о Духе Святом, но о духе святом, и трудно провести границу и выделить, когда они говорят о Духе и когда — о духе. Общее впечатление — то, что от Духа у них, чрез посредство Духа, незаметный переход к духу В лучшем случае происходит умозаключение от духа Божьего к Духу. Правда, от Духа — наша духовность, точно так же как от Сына — наша сыновность Богу, и от Отца — наша творческая личность. Но неужели же кому–нибудь из читающих творения святых отцов придет на мысль, — хотя бы в самом себе, — усомниться и недоумевать: о Сыне, или о сыне идет речь в том или другом мест? О Творце или о творце? —
Далее, желая доказать едино–сущие Духа со Отцом и Сыном отцы указывали на одинаковость грехo–очистительной деятельности Духа Святого и деятельности Сына [177]. Значит, даже в восприятии благодатных действий Того и Другого для святых отцов не было отчетливой границы. Тут Макарий Великий мало чем отличается от Исаака Сирина, Иоанн Лествичник — от Ефрема Сирина. Конечно, я огрубляю и упрощаю положение дела; конечно, я обвожу контур и, при том, не карандашом, а малярною кистью; конечно, это, сказанное здесь — далеко не всё. Бесспорно, порою выступают черты иного ведения: личное восприятие Духа Святого; но черты эти — предварительные, недоговоренные. Впрочем, было бы смешно видеть в этой недоговоренности личный недостаток святых, следствие недостаточной их глубины или чистоты. Из мглистой бездны веков, из тумана истории сияют нам отцы святые, как живые, нетленные звезды, как Бого–зрительные очи церковные. Но не приспело еще время, и не могли даже эти светлые очи узреть Того, Которым {125} будет обрадована и утешена вся Тварь. Не исполнилась тогда полнота сроков, как не исполнилась она и доныне. Святые томились и ждали; так ветхо–заветные праведники ждали ведения Сына Божьего. Вся жизнь древности до–христианской, — религия, наука, искусство, общественность, даже личные настроения, — вся она всецело опиралась на откровение Отца, на переживание Отца, Творца всяческих, на сознательный или полу–забытый Завет с Ним. Все миро- и жизне–поннмание было развитием одной категории, — категории отцовства, рождения, родительства, — как бы ее не называть [178]. И выявить неясные черты их знания так же невозможно, как невозможно заставить проявиться недостаточно экспонированную фотографическую пластинку; если более известного времени мы стали бы держать ее в проявителе, то все изображение лишь «завуалировалось» бы, подернулось серою, как бы, пеленою. Подобно этому «вуалируется» и мысль, желающая без святости воспринять Духа. Так и случается, кстати сказать, с людьми «нового сознания».
По мере приближения Конца истории являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные, розовые лучи грядущего Дня Немеркнущего. Уже Симеон Новый Богослов говорит как–то иначе, в каких–то новых тонах, нежели древние подвижники. В нашей поместной Церкви эти тоны «играют», — подобно восходящему солнцу в Праздник Праздников [179] Св. Серафим Саровский и великие оптинцы — старцы Лев, Леонид и Макарий, особенно же Амвросий — собирают в себя, как в огненный фокус, святыню народную. Они — святые наполовину уже не монахи в узком смысле слова. Сквозь них, как сквозь дально–зрительные стекла виднеется Грядущий. Весь оттенок их тут новый, особый, апокалипсический. Только слепые могут не видеть этого. Легкомыслие или безумие идти дальше не за ними, а помимо их, потому что это значило бы самовольно стремиться сократить от века намеченный ход мировой истории. Это значило бы отвергнуть слова Господа {стр. 126} Иисуса: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть» (Мф. 6, 27=Лк. 12, 25).
Но обрати теперь внимание: все наше жизне–понимание, вся наша наука, — говорю не о Богословской науке, а о науке вообще, о духе научном, — вся целиком построена она на идее Логоса, на идее Бога–Слова, — да и не наука только, а вся жизнь, весь уклад нашей души. Мы все мыслим под категорией закона, мерою гармонии. Эта идея логичности, логизма [180], «словесности», часто искажаемая почти до неузнаваемости, есть основной нерв всего живого, всего подлинного в нашей умственной и нравственной жизни и эстетической. Единый, вселенский, все–охватывающий всеобщий «Закон» Мира, ипостасное имя Отчее, Провидение Божие, без воли Которого не падает и волос с головы, Которое растит лилии полевые и питает птиц небесных, Бог, истощающий Себя творением мира и домостроительством — вот религиозная предпосылка нашей науки, и вне её, вне этой предпосылки, более или менее отвлеченно формулируемой, нет науки. «Единообразие законов природы» — это постулат, без которого вся наука есть пустая софистика [181]; но этот постулат может быть сделан психологическою реальностью лишь при вере в То слово, о Котором Тайно–зрительный Орел в первых стихах своего пасхального благовестия вещает: «В начале было Слово, и Слово было к Богу, и Слово было Бог. Сей был искони к Богу; все чрез Него стало быть, и без Него ничто не стало быть, что произошло, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человекам; и свет во тьме светит, и тьма Его не объяла» (Ин. 1, 1–5) [182]. Вот — «Основы науки» [183]; и если их отвергнем, то неминуемо жестокое возмездие: падение науки, построенной на песках, зыбучих и засасывающих.
Достояние науки — мировая закономерность, стройность и ладность мира, κόσμος твари. Этот закон вселенной, это Мировое число, эта гармония сфер, дарованная бытию {стр. 127} тварному коренится всецело в Боге–Слове, в личной особенности Сына и в свойственных ему дарах.
Но все то, что опирается не на эту особенность, что связано с нарочитыми дарами Духа Святого, — оно не подлежит ведению нашей науки, — науки уединенно–взятого Логоса. Вдохновение, творчество, свобода, подвиг, красота, ценность плоти, религия, и многое другое только неясно чувствуется, изредка описывается, устанавливается в своей наличности, но стоит вне методов и средств научного исследования, ибо основная их предпосылка, конечно, есть предпосылка связности, предпосылка непрерывности, постепенности. Идея закономерности, в существующей форме, решительно неприменима ко всему таковому. Тут — прерывность, а прерывность выходит за пределы нашей науки, не вяжется с основными идеями современного миросозерцания и разрушает его. Может быть, и новейшие исследования и течения [184] в области идеи прерывности намекают именно на ту же близость Конца.
Одностороннее ведение Первой Ипостаси создало религию и жизнь древности, её «субстанциональное», органическое миро–созерцание, при котором мыслят о непосредственном порождении метафизической причиной его феноменального следствия.
Одностороннее ведение Второй Ипостаси породило религию и жизнь нового времени, её «закономерное», логическое миро–созерцание, имеющее в виду упорядочение явлений их идеальною формою.
И, наконец, свободное устремление к красоте, любовь к Цели — таковы отклонения от научности, типологически предрекающие жизнь бессмертную и святую, воскресшую плоть. Св. посты — начатки просветления тела; св. мощи, которые мы лобызаем, — проблески воскресения; св. таинства — источники обожения. Вот залоги и обручения будущего царствия. Но это царствие наступает, — лично, — и наступит — общественно, — тогда только, {стр. 128} когда познаётся и позна́ется Уте́шитель, как Ипостась, и этим ведением постигается и постигается «Троическое Единство», просветляющее душу:
«Святым Духом всяка душа живится
и чистотою возвышается, —
светлеется Тройческим Единством,
священнотайне».
Священная, седая таинственность древней науки; нравственная, важная строгость — новой; наконец, радостная, легкая окрыленность грядущей, «веселой науки» [185].
Мой окрыленный! Я набрасываю мысли, которые больше чувствую, нежели могу высказать. Словно какая–то ткань, словно какое–то тело из тончайших звездных лучей ткется в мировых основах: что–то ждется. В чем–то недостаток, по чему–то томится душа, желающая разрешиться и быть со Христом. И будет что–то: «не у́ явися, что будет». Но чем острее чувствуется готовящееся, тем ближе и кровнее делается связь с Матерью Церковью, тем легче и проще ради любви к Ней переносить ту грязь, которою забрасывают Ее. То, что будет, будет в Ней и чрез Нее, не иначе. С тихою радостью я жду того, что будет, и «Ныне отпущаши» целыми днями поется и звенит в умиренном сердце. Когда настанет то, когда откроется Великая Мировая Пасха, тогда кончатся все человеческие споры. Я не знаю, скоро ли будет то, или ждать еще миллионы лет, но сердце мое спокойно, потому что надежда вплотную подводит к нему то. Мне в высокой степени чуждо стремление людей «нового религиозного сознания» [186] как бы насильно стяжать Духа Святого. В непременном желании уничтожить времена и сроки, они перестают видеть то, что есть у них пред глазами, что дано им и чего они не знают и не понимают внутренне; гонясь за всем, они лишаются того, что есть и больше чего мы сейчас не в состоянии усвоить себе, потому что не чисто еще сердце наше, не чисто сердце твари, и, нечистое, — оно сгорело бы от близости {стр. 129} к Пречистому и Пречистейшему. Пусть, — хотя бы на короткое время, — вернется к ним спокойствие, и тогда» быть может, увидят они, эти люди лжеименного знания, что нет у них реальной почвы под ногами, что говорят они пустоцветные слова и сами же потом начинают верить им. Происходит вроде как со Львом Толстым: сам создал схему, —! —, безблагодатной, мнимой церковности, затем разбил ее, — что далось ему, конечно, без труда, — и, довольный победою над химерой, порожденной его, насквозь рационалистическим, само–утверждающимся рассудком, ушел с благодатной, хотя бы и загрязненной, почвы в пустыню «хороших» слов, с которыми и сам–то справиться не может, а других ими смущает. Ведь церковность так прекрасна, что причастный к ней даже эстетически, непосредственным вкусом не может вынести нестерпимого запаха затей вроде Толстовской. Сочинить свое «пятое евангелие» [187], — можно ли даже нарочно придумать что–нибудь более безвкусное!
И все–таки, как в основе толстовства, так и в основе «нового сознания» лежит истинная идея. Возьми хотя бы то, что древние молились Отцу, а в течение всей нашей эпохи молятся главнейшим образом Сыну; Духу же, если и молятся, то больше, ожидая Его, нежели имея лицом к Лицу, больше тоскуя об Уте́шителе, нежели радуясь им пред Отцом в Сыне. Я знаю, можно против меня набрать всевозможных выдержек, утверждающих и противное; даже сам могу привести их. Но я говорю о типичном, хотя и почти недоказуемом. Потому–то я и пишу тебе «письма» вместо того, чтобы составить «статью», что я боюсь утверждать, а предпочитаю спрашивать. Но типичное, — что мне представляется, — это именно — ожидание, надежда, но только кроткая и умиренная.
И в Ветхом Завете, несомненно, имеются Слово- и Духо–явления, — лого- и пневмато–фании; и там, — особенно в Пятокнижии, — можно находить неясные указания на Слово {стр. 130} и на Духа. И, тем не менее, они так неотчетливы и так не соответствуют общему фону Писания, что только в свете воплотившегося Слова можем мы отыскивать разум их; только имея в сознании догмат Троичности можем мы этим «оком» увидеть в Ветхом Завете первые проблески грядущего ведения. Попробуй китайца убедить в догмате Троичности на основании одного только Ветхого Завета! Не уверен я даже и в том, можно ли ему выяснить, когда речь идет об Ипостасном Слове и Духе и когда — просто о деятельностях Отца. Во всяком случае, для всякого не предубежденного читателя несомненно, что учение о Слове и, тем более, о Духе в ветхо–заветных книгах выступает с неизмеримо–меньшею выпуклостью, нежели учение о Боге Отце [188]. И это понятно, раз даже у пророков не было полноты конкретных переживаний Слова и Духа. Новое откровение, в лучшем случае, лишь чаялось. Посмотри же теперь на Новый Завет. С какою массивностью стои́т тут пред всяким учение об Отце и Сыне, и, сравнительно, ка́к мало развито учение о Духе. Идея о Духе порою почти растворяется в идее о дарах духовных. В людях пребывающие сила и дары Духа Святого, — не знаменательно ли?, — заслоняют Самого Духа, как Ипостась. Мы — духи, но — лишь в Духе; однако, это «но» часто забывается. А между тем, неужели же можно сказать, что Бого–сыновность людей в Сыне Божием может быть даже сравниваема с Собственным бытием Сына. В то время как путать «сын» и «Сын» могут только безумцы или находящиеся в прелести духовной, — хлысты всякого рода, — спутать «духа» и «Духа» порою очень легко; нередко одно и то же место толкуется то как относящееся к духу, то как относящееся к Духу.
Конечно, иные места Посланий апостола Павла в молниевом озарении разверзают пред сознанием Ипостасное бытие Духа Святого. «Все водимые Духом Божиим, — свидетельствуеть Апостол языков, — суть {стр. 131} сыны Божии — и в том Духе взываем: «Авва Отче!». Сей самый Дух свидетельствует с духом нашим, что мы чада Божии» (Рим. 8, 14–17). И еще: «А поелику вы сыны, послал Бог Духа своего в сердца ваши, вопиющего: «Авва Отче!» (Гал. 4)и: «… Дух подкрепляет нас в немощах наших. Сами не знаем мы, о чем молиться нам должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизглаголанными» (Рим. 8, 26–27). Несомненно, эти «ходатайства» Духа Святого за нас, эти «воздыхания неизглаголанные», эти возглашения Его, уте́шительного, эти «Авва Отче!» были ведомы Апостолам, ведомы бывали и святым мужам и женам. Но столь же несомненно, что эти прозрения, эти миги и точки духовной полноты, эти зарницы полного ведения остаются до сих пор чем–то особенным, чем–то доступным лишь для исключительных людей в исключительные времена, — чем–то вроде мессианских прозрений Ветхого Завета. Как до Христа существовали христо–носцы, так и до полного сошествия Духа существуют духо–носцы. Те, древние праведники, «умерли в вepe, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества» (Евр. 11, 13–14). Таковы и были те, древние христиане до Христа. «Верою они побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жёны получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И {стр. 132} все сии, свидетельствованные в Bepe, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр. 11 33–40).
Ведение Христа трепетало пред ними; они почти касались Христа. В надежде своей полагали они свое спасение (ср. Рим 8, 24а). Но должны были свершиться времена и сроки, прежде нежели надежда осуществилась, и невидимое стало видимым. Они умели ждать и терпеть: «Надежда, когда уже перед нею видимо, чего чает, не есть надежда, ибо, если кому что уже видимо, ка́к ему того чаять? Но когда чаем того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8, 24б). Они, великие и святые, не узрели Христа, дабы «не без нас достигли совершенства»; но они почти знали Его, — в особые времена и чистейшими умами. Трепет Вечной жизни в такие времена дрожит на их ликах: это Дух–Голубь зацепил сердце крылом белоснежным. Как восприятие Бога Слова пред праотцами и пророками, так и ведение Духа Святого трепещет пред святыми нашего времени, — почти касается их. Но и тут должна совершиться полнота времен; и тут верховные точки человечества должны ждать, дабы «не без нас достичь совершенства». Их сердца очищены, их храмина приметена и прибрана для принятия Уте́шителя. Но наши — исполнены скверны. И вот верхние ждут нижних, зрячие — слепых, святые — грешных, живые — мертвых, духовные — плотских, люди упреждающие и даже предваряющие — людей косных и отстающих. Только в отдельные моменты разверзается пред ними завеса будущего.
«Дабы не без нас достигли совершенства»… Этим–то и объясняется, почему появлявшиеся в истории Церкви учения о Духе Святом, несмотря на свою глубину, как–то не находили себе отклика и оставались одинокими. А, вместе с тем, и те стороны христианской жизни, которые по преимуществу относятся к Духу Святому, а именно, свобода христианская, сыно–положение, {стр. 133} творчество и духовность бывали подмененными, или же искажались, как только те или иные еретики хотели преждевременно и самочинно вызвать их к жизни. Самым делом глаголемые люди «нового религиозного сознания», начиная от I–го века и до ХХ–го включительно, всегда выдавали себя головою, потому что насаждаемые ими кусты роз всякий раз приносили терние и волчцы; «новое» сознание всегда оказывалось не выше–церковным, каким оно себя выдавало, а противо–церковным и противо–Христовым, т. е. церковно–борственным, антихристовым. Тот, кто имеет Духа настолько, насколько имели его святые, явно видит безумие притязать на большее. Но, при совершенной недухоносности, людям во все времена слишком легко было впадать в пре́лестное само–обольщение и подменять духо–носность своим субъективно–человеческим, душевным творчеством, а затем — и бесовским наваждением. Исступление и восторженность, мечтательный профитизм и примрачная экзальтированность принимались за радость о Духе Святом; а, вместе с тем, грех, предоставленный самому себе, овладевал «свободою». Начиналось искание «двух бесконечностей», а за исканием — погружение в «обе бездны»: — в верхнюю бездну гностической теории и в нижнюю бездну хлыстовской практики; это–то и выдавалось за полноту благодатной жизни. Повторяю, параллельно всей церковной истории тянется нить этого, всегда выдававшего себя за «новое», лже–религиозного сознания [189].
Беспристрастное обозрение показывает, что ни для умозрений о Духе, ни для утверждений о новом сознании у человечества, в общем, в массе, нет твердой почвы. Да, ведь, если бы была она, т. е. если бы был реальный опыт жизни с Духом Святым, разве могло бы происходить в твари то, что ныне происходит?… И в глубине Церковного сознания не прекращались чаяния Уте́шителя. Но, кроме церковного эксотеризма, есть своего рода церковный эсотеризм, — есть чаяния, о которых не должно говорить слишком прямо. Этого–то {стр. 134} не понимают и не чувствуют иные, потому что они — не в Церкви, потому что они не понимают духа церковности. Они обнажают непоказуемое, ибо они — бесстыдники. Непрерывная цепь еретичествовавших бесстыдников «нового сознания» тянется вдоль всей церковной истории; она–то и выявляет сокровенную артерию Церкви.
Но и в пределах Церкви были попытки высказаться о Духе Святом. Вот — то, что мне кажется наиболее поучительным:
Св. Григорий Богослов в своих а Догматических поэмах» говорит о постепенности откровения Триипостасного Божества и в этом усматривает залог новых откровений.
«Кто хочет Божество небесного Духа найти на страницах Бого–духновенного закона, тот увидит многие частые и вместе сходящиеся стези, если только пожелает видеть, если сколько–нибудь сердцем привлек чистого Духа, и ум у него остро–зрителен. А если кто потребует открытых слов вселюбезного Божества, то пусть знает, что неблагоразумно его требование. Ибо доколе бо́льшей части смертных не было явлено Божество Христово, не надлежало возлагать невероятного бремени на сердца до крайности немощные. Не для начинающих благовременно совершеннейшее слово. Кто́ станет слабым еще глазам показывать полный блеск огня, или насыщать их непомерным светом? Лучше постепенно приучать их к яркому блеску, чтобы не повредить и самых источников сладостного света. Так и слово, открыв всецелое Божество Царя–Отца, стало озарять светом великую славу Христову, являемую немногим разумным из людей, а потом, яснее открыв Божество Сына, осияло нам и Божество светозарного Духа. И для тех проливало оно малый свет, бо́льшую же часть предоставило нам, которым потом обильно и в огненных языках разделен Дух, показавший явные признаки Своего Божества, когда Спаситель вознесся от земли» [190]. — Еще сильнее выражена та же мысль в «Слове 31–м (о Богословии 5–е), о Духе Святом»: «В продолжение веков были два знаменитые Преобразования, — μεταθέσεις, — жизни человеческой, называемые двумя Заветами и, по известному изречению Писания. Потрясениями земли, — στισμοιής (Агг. 2, 7). Одно вело от идолов к Закону, а другое от Закона — к Евангелию. Благовествую и о третьем Потрясении — о преставлении от {стр. 135} здешнего к тамошнему, непоколебимому и незыблемому. Но с обоими Заветами произошло одно и то же. Что именно? — Они вводились не вдруг, не по первому приему за дело. Для чего же? — Нам нужно было знать, что нас не принуждают, а убеждают. Ибо что не произвольно, то и не прочно, как поток или растение не на долго удерживаются силою. Добровольное же — и прочнее и надежнее. И первое есть дело употребляющего насилие, а последнее — собственно наше. Первое свойственно насильственной власти, а последнее — Божию правосудию. Посему Бог определил, что не для нехотящих должно делать добро, но — благодетельствовать желающим». Этим объясняет св. Григорий Богослов постепенности в отменении идолов, жертв и обрезания «Сему, — продолжает святой отец, — хочу уподобить и Богословие, только в противоположном отношении. Ибо там преобразование достигалось чрез отменения, а здесь совершенства — чрез прибавления. Но дело в том, что Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такою ясностью — Сына; Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Не безопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына. И прежде, нежели признан Сын, — выражусь несколько смело, — обременять нас проповедию о Духе Святом и подвергать опасности утратить последние силы, как бывает с людьми, которые обременены пищею, принятою не в меру, или слабое еще зрение устремляют на солнечный свет. Надлежало же, чтоб Троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, — ταϊς κατά μέρος προοθήκαις, — как говорит Давид «восхождениями» (Пс. 12, 6), поступлениями от славы в славу и преуспеяниями. По сей–то, думаю, причине и на Учеников нисходит Дух постепенно, соразмеряясь с силою приемлющих, в начале Евангелия, по страдании, по вознесении, то совершает чрез них силы (Мф. 18, 1), то дается им чрез дуновение (Деян. 2, 3), то является в огненных языках (Деян. 2, 3). Да и Иисус возвещает о Нем постепенно, как сам ты увидишь при внимательнейшем чтении. «умолю, — говорит — Отца, и иного Уте́шителя послет вам» (Ин. 50, 16, 17), чтобы не почли его противником Богу, и говорящим по иной какой–либо власти. Потом, хотя и употребляет слово «послет», но присовокупляя: «Во имя мое» (Ин. 14, 29), и, оставив слово «умолю», удерживает слово «послет». Потом говорит «Послю» (Ин. 14, 26), показывая собственное достоинство. Потом сказал: «Приидет» (Ин. 16, 13), показывая власть Духа. Видишь постепенно возсиявающие нам озарения. И тот порядок {стр. 136} Богословия. — φωτισμούς κατά μέρος ήμίν έλλάμποντας, καϊ τάξιν θεολογίας, — который и нам лучше соблюдать, не все вдруг высказывая и не все до конца скрывая; ибо первое неосторожно, а последнее безбожно; и одним можно поразить чужих, а другим отчуждить своих. Присовокуплю к сказанному и то, что́, хотя может быть и приходило уже на мысль и другим, однако ж почитаю плодом собственного ума. У Спасителя и после того, как многое проповедовал Он ученикам, было еще нечто, чего, как сам Он говорил, ученики (может быть по причинам выше мною изложенным) не могли тогда «носити» (Ин. 16, 12), и что́ посему самому скрывал Он от них. И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снисшедшим Духом (Ин. 16, 13). Сюда то отношу я и самое Божество Духа, ясно открытое впоследствии, когда уже ведение cиe сделалось благовременным и удобовместимым, по прославлении — άποκατάστασιν — Спасителя, после того, как с неверием стали принимать чудо» [191].
Св. Григорий Богослов утверждает постепенность исторического явления Духа; но необходимо мыслить еще иную сторону — прерывность за–исторического откровения Его, подобно тому как Царство Божие имеет и постепенно–историческое, и прерывно–эсхатологическое явление [192], несводимые друг к другу. Иначе непонятно, чем же именно отличается состояние окончательное, просветление твари, извержение смерти, одним словом, «век грядущий» от предварительного и выжидательного состояния, от «века сего», в котором смерть все еще господствует.
Таким образом, идеи Царства Божия и Духа Святого имеют формальное сходство Но оно — не только формально, учение о Духе Святом, как о Царстве Отца, по общей идее, несомненно, уходит корнями в Евангелие, а у ап. Павла получает и словесное обоснование. «Царство Божие, — пишет он к римлянам, — праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17) 'Εν Πνευματι Άγίω — «во …» или «о Святом Духе», т. е. в праведности, мире и радости, производимых Духом Святым. Субъективное состояние праведности, мира и радости, производимых Духом Святым, — это и есть то самое Царство {стр. 137} Божие, которое «внутри» нас (Лк. 17, 21), — чуть приметное горчичное зерно веры, посеянное в душе. Но прорастая и показываясь над полем моего, и только моего, над областью субъективности, росток зерна веры делается объективным, космическим, вселенским. Богослужение и таинства — вот выявления наружу Царства Божия в церковной жизни; чудо–творения же и прозрения открывают то же Царство в личной жизни святых угодников. И мы все ежедневно призываем Полноту свершений этого Царства — Духа Святого. Ведь, по указанию св. Григория Нисского [193], Молитва Господня у Мф. 6, 10 и у Лк. 11, 12 имела важное разно–чтение, — в современном тексте не существующее, — а именно читалась и так:
«Отче наш,… да приидет Царствие Твое — ελθέτω ή βασιλεία σου» (Μф. 6, 10 и современ. Лк. 11, 2), и так:
«Отче наш,… да приидет Святый Дух Твой на нас и да очистит нас — έλθέτω τό άγιον Πνεύμα σου εφ' ήμάς, και καθαρισάτω ήμάς» (древний Лк. 11, 2).
Из снесения этих вариантов одного и того же места Григорий Нисский выводит равно–смысленность речений «Дух Святой» и «Царство Божие», т. е. что «Дух Святой есть Царство — Πνεύμα τό άγιον βασιλεία έστίν». А затем, основываясь на этом последнем выводе своем, св. Григорий развивает замечательное учение о Духе, как «о Царстве Отца и Помазании Сына» [194].
Царство существует с царем. Царем является Отец и, значит, в Духе Святом покоится царственное величие Самого Отца. И еще: от вечности рождаемый Отцом едино–сущный Ему Сын от вечности же получает в Духе Святом царственную славу, принадлежащую Отцу. Дух венчает Сына славою. Это — помазующая деятельность Духа, и если Он в отношении к Отцу есть Царство, то в отношении к Сыну — Помазание, Хрисма. Григорий Нисский еще раз поверяет этот свой вывод разбором известного мессианского псалма: «Помазал Тебя, Боже, Бог твой Елеем радости более соучастников Твоих» (Пс. 10, 7 = Евр. 1, 9). {стр. 138} Помазующий — Отец, Помазуемый — Сын, Помазание или Елей радости — Дух Святой [195].
Елей всегда был символом радости, а Дух Святой — Уте́шитель, Параклит, радователь. Он — Истинный Елей, — Елей по преимуществу, — Елей, смягчающий боль раненного, истерзанного и разбитого сердца.
Поэтому самое имя «Христос» [Χριστός = ﬣשּׁח, Мешиа́, Мессия = Помазанник] содержит в себе указание на троичность Ипостасей в Божестве. «Исповедание этого имени, — говорит Григорий, — содержит в себе учение о Святой Троице, потому что в этом названии соответственно выражается Каждое из Лиц, в Которые мы веруем» [196]. «В нем познаем мы и Помазавшего, и Помазанного, и Того, чрез Кого помазан» [197]. — Помазующее отношение Духа к Сыну указывается еще определеннее в речи ап. Петра Корнилию: «Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян. 10, 38) [198]. В силу этого помазания Он — от века Христос и Царь, «предвечно облечен царственною славою Духа, в чем и состоит Его помазание» [199].
Таким образом, если раньше взаимо–отношение Ипостасей определялось чрез любовь, чрез отдание себя, чрез внутри–Божественное само–истощание Ипостасей, чрез вечное смирение и кенозис, то теперь, напротив, оно определяется как вечное восстановление и утверждение Друг Другом, как прославление и царственность. «Вечно славен Отец, существующий прежде веков, слава же Отца — предвечный Сын [Отец, отдаваясь Сыну, в Нем находит свою славу], равно и слава Сына — Дух Христов» [200].
Рассмотренный раньше первый момент внутри–божественной жизни заключался во взаимной передаче трагической, жертвенной любви, во взаимном само–опустошении, обнищании и уничижении Ипостасей; рассматриваемый ныне второй момент есть, как бы, обратное течение, нам, — не стяжавшим Духа и знающим близко только Жертвенного Бога, — почти непостижимое {стр. 139} наглядно. Для твари еще не началось восстановление и слава, откровения которой ждет она, стеная и мучаясь (см. Рим. 8, 19–23). В сверх–временном же порядке Троичной жизни вечен этот момент ответной любви, любви торжествующей, прославляющей Любящего и восстановляющей Его. — эта передача славы от Ипостаси к Ипостаси. «Сын прославляется Духом, Сыном прославляется Отец; наоборот, Сын получает славу от Отца, и Единородный делается славою Духа, потому что — чем прославляется Отец, как ни истинною славою Единородного, и в чём прославляется Сын, как ни в величии Духа» [201]. Таким образом, Дух Святой есть Χρίσμα βασιλείας — Помазание Царства, есть Αξίωμα βασιλείας — Сан Царственный. Но эти наименования приложимы к Нему за Его внутри–Троичную деятельность; Он — не признак Божественного бытия, не достоинство и не атрибут Божества, а «живое, существенное и личное царство — βασιλεία δέ ζώσα και ουσιώδης κατ ένυπόστατος Πνεύμα το άγιον» [202], тоже Личность, имеющая безусловною деятельностью Своею, — как Третье Лицо Св. Троицы, — быть Царством Отца и Помазанием Сына.
Подобное же учение о помазующей деятельности Духа развивал св. Ириней Лионский [203]. Но, не останавливаясь на святителе Иринее, перейду к св. Максиму Исповеднику. Вот, как мыслит он:
По св. Максиму исповеднику [204], первые слова молитвы «Отче Наш» «заключают в себе указание на Отца, на имя Отца и на Царство Отчее, чтобы мы от самого начала (молитвы) научились чтить Троицу, призывать Ее и поклоняться Ей. Ибо имя Бога Отца, существенно и ипостасно пребывающее, есть Единородный Сын Отца. А Царство Бога Отца, пребывающее существенно и ипостасно, есть Дух Святой. Ибо то, что Матфей называет здесь Царством. другой евангелист называет Духом, говоря: «Да приидет Дух Твой Святой, и да очистит нас». Ибо Отец имеет это имя, не как вновь приобретенное, и Царство мы понимаем не как созерцаемое в Нем достоинство. Потому что Он не начинал быть — не начинает и Отцом и Царем быть. Но, всегда сущий, Он всегда есть и Отец и Царь, вовсе не имея начала ни для Своего бытия, ни Того, чтобы быть Отцом или Царем. Если же {стр. 140} Он — всегда Сущий и всегда есть и Отец и Царь, то, значит, и Сын и Дух Святой всегда со–пребывает со Отцом существенно и ипостаснo; Они существуют от Него и в Нем естественно, выше причины и слова; но не после Него Они стали быть, не по закону причинности, не позже. Ибо соотношение Лиц Божества имеет силу совместного бытия и не позволяет думать, что Одни из Находящихся в указанном соотношении были после Других».
Так учит святой Максим Исповедник.
Около Духа Святого сгущаются все недоумения, затруднения и муки нашей жизни; а в откровении Его — все надежды. Будем же молиться вместе о явлении Духа Святого, будем вместе заклинать Его таинственным призыванием Симеона Нового Богослова [205]:
«Приди свет истинный. Приди, жизнь вечная. Приди, сокрытая тайна. Приди, сокровище безымянное. Приди, вещь несказанная. Приди, лицо, бегущее от человеческого постижения. Приди непрестанная бодрость. Приди, всех спасаемых истинная надежда. Приди, мертвых воскресение. Приди, могучий: ты все всегда делаешь, преобразуешь и меняешь одним только мановением. Приди, вполне невидимый, неприкосновенный, неосязаемый. Приди, всегда пребывающий недвижимым, хотя ты ежечасно весь передвигаешься и приходишь к нам, лежащим в преисподней, хотя сам живешь выше всех небес. Приди, имя вожделеннейшее и чаще всего встречающееся; но сказать о тебе, что — ты, или знать — каков и какого рода, нам решительно отказано. Приди, радость вечная. Приди, венок неувядающий. Приди, великого Бога и Владыки нашего багряница. Приди, опоясание, как кристалл прозрачное, и расцвеченное драгоценным камением. Приди, прибежище неприступное. Приди, царская багряница и священного величества десница. Приди: нуждалась и нуждается в тебе жалкая душа моя. Приди, одинокий, к одинокому; ведь я одинок, как видишь. Приди: ты отделил меня и сделал меня на земле одиноким. Приди, ты сделался нуждою моею, и сделал, чтобы я нуждался в тебе, — в тебе, к которому ни для кого нет доступа. Приди, дыхание {стр. 141} и жизнь моя. Приди, презренной души моей утешение. Приди, радость, и слава, и беспрестанная утеха моя. Воздаю благодарность тебе, потому что здесь, среди смятения, перемены, круго–обращешя ты сделался единым со мною духом и, хотя ты — Бог превыше всего, однако сделался для меня всем во всем. Питие неизъяснимое! ты никак не можешь быть отнято, и непрестанно вливаешься в уста души моей, и обильно течешь в источнике сердца моего. Сияющая одежда, и демонов попаляющая! Очистительное жертво–приношение! ты омываешь меня непрестанными и святыми слезами, обильно источаемыми от твоего присутствия у тех, к кому приходишь ты. Возношу благодарность тебе, потому что днем невечереющим ты сделался для меня и солнцем по сю сторону заката: тебе негде скрыть себя, и славою своею ты наполняешь вселенные. Никогда ты не скрывал себя от кого–нибудь, но мы всегда сами скрываем себя от тебя, покуда не хотим придти к тебе. Ведь где бы ты сокрыл себя, когда нет для тебя нигде места отдохновения? Или зачем бы ты сокрыл себя, — ты, никого из всех не презирающий, никого не боящийся? Сотвори же ныне во мне скинию себе, кроткий Господи, и обитай во мне, и до смерти моей не отторгайся, не отделяйся от меня, раба твоего, чтобы и я при кончине моей, и после кончины в тебе находился, и царствовал с тобою, — Богом над всем царствующим. Останься, Господи, и одинокого не оставляй меня, чтобы, когда придут враги мои, которые постоянно ищут пожрать душу мою, и тебя обрели пребывающим во мне, и совершенно–совершенно убежали и не одержали верха надо мною, потому что заметят тебя, сильнейшего всего, внутри, в жилище уничиженной души моей поселившимся. Поистине, как помнил ты меня, Господи, когда я был в мире, и как без ведома моего сам ты избрал меня, и от мира удалил, и пред лицом славы твоей поставил: так тоже и сейчас охраняй меня чрез свое пребывание во мне совершенно поставленным, всегда недвижимым, чтобы каждодневно созерцая тебя я, смерт{стр. 142}ный, жил, чтобы обладая тобою я, нищий, всегда был богатым. Так я буду могущественнее любых царей: и вкушая и испивая тебя, и ежечасно одеваясь в тебя буду наслаждаться нерассказуемой утехою блаженною. Так как ты — всякое благо и всякое украшение, и всякая услада, и тебе подобает слава, святой и единосущной Троице, которая прославляется в Отце, и Сыне и Духе Святом, и познается, и чтится, и почитается всем собранием верных теперь и всегда и по бесконечности веков. Аминь».
Аминь. Аминь. Аминь.
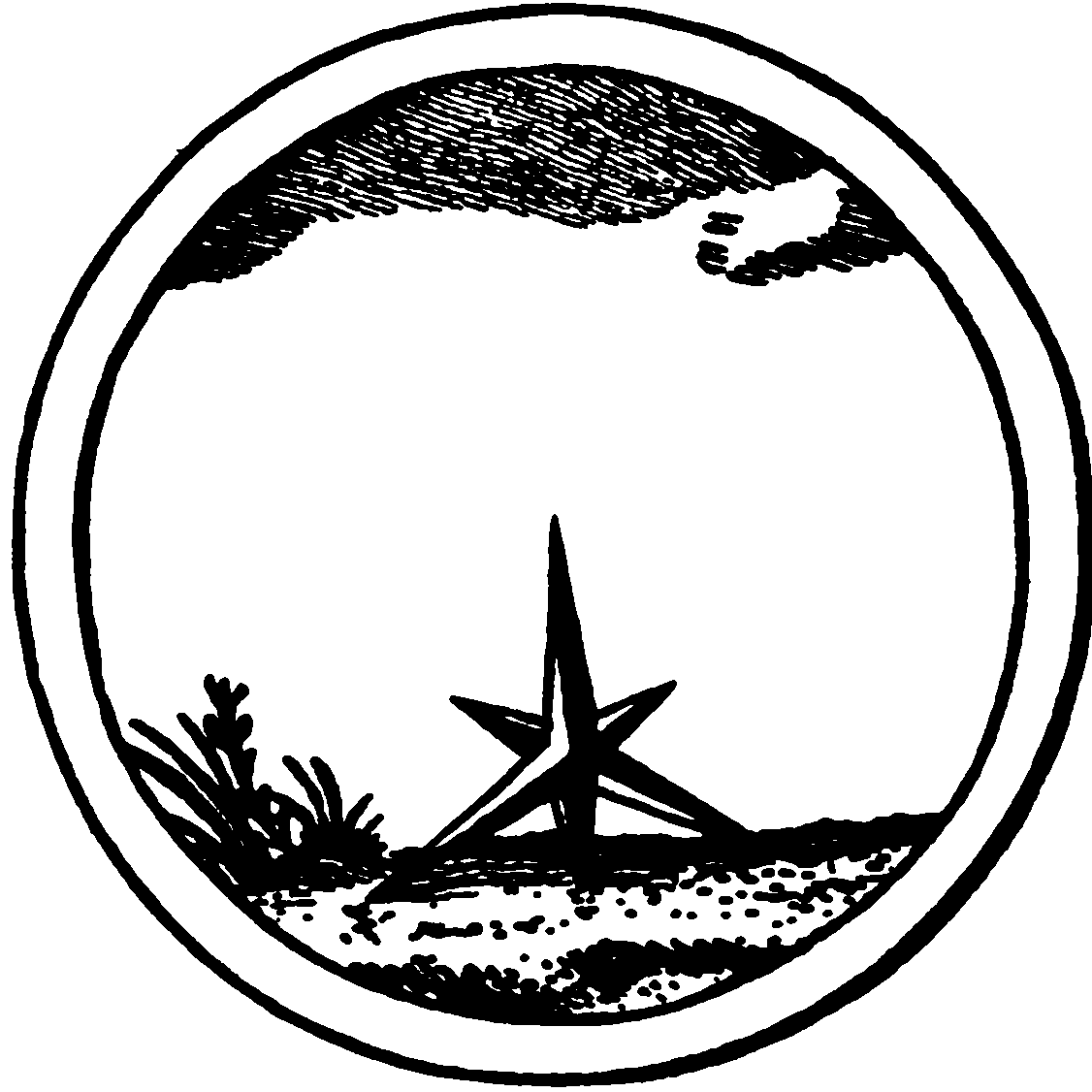
Quocumque ferar. Отвсюды прям.
{стр. 143}
Духом Святым, Духом Истины провозвещается твари Истина. Тут, — когда сознание подымается над «двойною гранью пространства и времен» и входит в вечность, тут, в этом миге провозвещения, Провозвещающий Истину и Провозвещаемая Истина всячески совпадают. В явлении Духа Истины, т. е. в свете фаворском, форма Истины и содержание Истины — одно. Но, воспринятое и усвоенное тварью, знание Истины ниспадает во время и в пространство, — во время много–образия личного и в пространство много–образия общественного. Этим дважды разрывается непосредственное единство формы и содержания, и знание Истины делается знанием об Истине. Знание же об Истине есть истина.
Несомненно, что на ряду с Истиною необходимо существует и истина, если только наряду с Богом существует тварь. Существование истины есть лишь иное выражение самого факта существования твари, как таковой, т. е. как лежащей личным много–образием во времени и общественным — в пространстве. Наличность истины равна наличности твари. Но существует ли самая тварь–то?
{стр. 144}
— В том–то и дело, что философски, загодя не может быть дано ответа на такой вопрос.
Тварь потому и есть тварь, что она — не безусловно Необходимое Существо и что, следовательно, существование твари никак не выводимо не только из идеи Истины, этого перво–двигателя всякого разумения, но даже из факта существования Истины, из Бога.
Вопреки акосмизму Спинозы и пантеизму большинства мыслителей, из природы Бога ничего нельзя заключить о существовании мира, ибо акт миро–творения, — будем ли мы его разуметь мгновенным и исторически–досягаемым, или постепенным и разлитым на все историческое время, или раскрывающимся в бесконечном временном процессе, или, наконец, предвечным, — при всем много–образии возможностей понимания непреложно должен мыслиться свободным, т. е. Из Бога происходящим не с необходимостью [206].
Существование твари, т. е. немощи нашей, повторяю, не выводимо никакими, хотя бы самыми утонченными рассуждениями, и, если мыслители все же пытаются делать это выведение, то загодя можно утверждать, что они либо проделывают логический фокус, либо уничтожают Бого–дарованную тварность твари, низводя ее, — личность, свободную, — хотя и немощную, со ступени бытия Богоподобно–творческого на плоскость бытия отвлеченного, — в качестве атрибута или модуса Божества. Итак, бытие истины не выводимо, а лишь показуемо в опыте: в опыте жизни познаем мы и свое Бого–подобие и свою немощь; лишь опыт жизни открывает нам нашу личность и нашу духовную свободу. Не под силу философии — вывести факт истины; но, если он уже дан философии, то её дело спросить о свойствах, о сложении, о природе человеческой, — т. е. данной, хотя и Богом но в человечестве и человечеству, — истины. Иными словами, законен вопрос о формальном сложении истины, об её рассудочном устроении, тогда как содержание её — сама Истина. Или, — еще уместно спросить себя — как {стр. 145} представляется Божественная Истина человеческому рассудку?
Чтобы ответить на вопрос о логическом строении истины должно держать в уме, что истина есть истина именно об Истине, а не о чем ином, т. е. находится в каком–то соответствии с Истиною. Форма истины только тогда и способна сдержать свое содержание, — Истину, — когда она как–то, хотя бы и символически, имеет в себе нечто от Истины. Иными словами, истина необходимо должна быть эмблемою какого–то основного свойства Истины. Или, наконец, будучи здесь и теперь, она должна быть символом Вечности.
Хотя и в твари данная, однако истина должна быть монограммою Божества. По–сю–сторонияя, она должна быть как бы не по–сю–сторонней. Красками условного она должна обрисовать безусловное. В хрупком сосуде человеческих слов должен содержаться присно–несокрушимый Адамант Божества. Тварь мятется и кружится в бурных порывах Времени; истина же должна пребывать. Тварь рождается и умирает, и поколения сменяются поколениями; истина же должна быть нетленной. Человеки спорят между собою и возражают друг другу; истина же должна быть непререкаема и выше прекословий. Людские мнения меняются от страны к стране и из году в год; истина же — везде и всегда одна, себе равная. Одним словом, истина — это «то, во что верили повсюду, всегда, все, потому что то только в действительности и в собственном смысле есть вселенское, что, как показывает самое значение и смысл слова, сколько возможно вообще все обнимает — quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae omnia fere universaliter comprehendit» [207]. А этому требованию можно удовлетворить лишь при том условии, «если будем следовать всеобщности, древности, согласию — si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem» [208]. Всякая истина должна быть формулою не–условною.
{стр. 146}
Но как это возможно? Как возможно из условного материала человеческого ума построить безусловную формулу Истины Божественной?
Знание дается в виде некоторого суждения, т. е. как синтез некоторого подлежащего S с некоторым сказуемым Р. Отсюда не исключается и суждение аналитическое, даже суждение тождественное, ибо и в них подлежащее и сказуемое в каком–то смысле разны, — должны быть сперва различены, чтобы затем быть соединенными [209]. Но если всякое суждение — синтез некоторой двойственности, то почему же не могло бы быть и иного синтеза, — синтеза данного подлежащего S с другим сказуемым, с Р'? Далее, почему не могло бы быть соединения данного S с отрицанием Р, с не–Р? Ясное дело, что всякое суждение условно, т. е. может встретить себе возражение в виде другого суждения, противоположного, и даже в виде суждения противоречивого. И если доселе и досюда такого возражения еще не представилось, то это еще ничуть не обеспечивает неотменяемости нашего суждения на дальнейшее время или в иных местах.
Жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, и потому ни одна формула не может вместить всей полноты жизни. Ни одна формула, значит, не может заменить самой жизни в её творчестве, в её еже–моментном и повсюдном созидании нового. Следовательно, рассудочные определения всегда и везде подвергаются и неизбежно будут подвергаться возражениям. Возражения на формулу и суть такие формулы, такие противо–суждения, которые исходят из сторон жизни дополнительных к данной, из сторон жизни противных и даже противоречивых в отношении этой, оспариваемой формуле.
Рассудочная формула тогда и только тогда может быть превыше нападений жизни, если она всю жизнь вберет в себя, со всем её много–образием и со всеми её наличными и имеющими быть противоречиями, рассудочная формула может быть истиною тогда и только тогда, если она, так сказать, предусматри–ает все возражения на себя и отвечает на них. Но, чтобы предусмотреть все возражения, — надо взять не их именно конкретно, а предел их. Отсюда следует, что истина есть такое суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суждение само–противоречивое.
Безусловность истины с формальной стороны в том и выражается, что она заранее подразумевает и принимает свое отрицание и отвечает на сомнение в своей истинности приятием в себя этого сомнения, и даже — в его пределе. Истина потому и есть истина, что не боится никаких оспариваний; а не боится их потому, что сама говорит против себя более, чем может сказать какое угодно отрицание; но это само–отрицание свое истина сочетает с утверждением. Для рассудка истина есть противоречие, и это противоречие делается явным, лишь только истина получает словесную формулировку. Каждое из противоречащих предложений содержится в суждении истины и потому наличность каждого из них доказуема с одинаковою степенью убедительности, — с необходимостью. Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины. Другими словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою [210].
Впрочем, она и не должна быть иною, ибо загодя можно утверждать, что познание истины требует духовной жизни и, следовательно, есть подвиг. А подвиг рассудка есть вера, т. е. само–отрешение. Акт само–отрешения рассудка и есть высказывание антиномии. Да и в самом деле, только антиномии и можно верить; всякое же суждение не–антиномичное просто признается или просто отвергается рассудком, ибо не превышает рубежа эгоистической обособленности его. Если бы истина была не–антиномична, то рассудок, всегда вращаясь в своей собственной области, не имел бы точки опоры, не видел бы объекта вне–рассудочного и, следовательно, не имел бы {стр. 148} побуждения начать подвиг веры. Эта точка опоры — догмат. С догмата–то и начинается наше спасение, ибо только догмат, будучи антиномичным, не стесняет нашей свободы и дает полное место доброхотной вере или лукавому неверию. Ведь никого нельзя заставить верить, как никого же нельзя и заставлять не верить: по слову бл. Августина [211], «nemo credit nisi volens — никто не верует иначе как доброхотно» [212].
Все сказанное доселе говорилось, — ради простоты, — в предположении, что мы исходим в логике из суждений; и тогда истина оказалась антиномией суждений. Но нетрудно увидеть, что при иной точке зрения, а именно, в логике понятий мы пришли бы к выводу подобному, а именно, что истина есть антиномия понятий. Конечно, тот и другой вывод — одно и то же, ибо антиномия понятий есть только психологически нечто иное в сравнении с антиномией суждений. Ведь каждое понятие превращаемо в соответствующее ему суждение, и каждое суждение — в понятие. Логически есть в рассудке вообще некоторые элементы двух сопряженных родов, и эти элементы взаимо–превращаемы и потому взаимо–заменимы в рассуждениях, так что формальная теория их — одна и та же. Но нам сейчас не то́ важно, а лишь антиномическая связь тех или иных элементов в истине.
Истина есть антиномия. Этот важный итог наших размышлений требует себе более строгого выражения. Иными словами, необходима формальная логическая теория антиномии. Вот один из удобных к сему путей. В основу его положен логистический алгоритм [213], столь удобный для сокращенной записи логических операций. Поэтому, прежде чем представить наше построение, полезно напомнить себе значение некоторых символов логистики. Как известно, первым и существеннейшим в современных символических методах логики является принцип
p Ɔ q (I),
т. е. принцип импликации, — если под р и q разумеются предложения, — и инклюзии, — если p и q истолковываются как классы. Для определенности дальнейшего изложения, мы будем под {стр. 149} р и q разуметь предложения, т. е. продукты акта суждения, хотя с таким же правом могли бы мыслить под этими символами и классы. Но, есть ли «Ɔ» знак импликации или инклюзии, или, другими словами разумеются ли под р и q предложения или классы, написанная выше формула включения (I) выражает, в сущности, один и тот же факт, а именно, связанность истинности q с истинностью р, и этот факт выражается словами «следовательно», «значит», «ergo».
p Ɔ q, т. е.: «р, — следовательно, q», «р, — значит, q», «р ergo q». Это «следовательно», это «значит», это «ergo» в развернутом виде выражает тот смысл, что Ʌ
«если р истинно, то и q истинно»;
Или еще:
«если q ложно, то и р ложно»,
Или, далее:
«не может быть р истинным, a q ложным», или, наконец, — выражение наиболее предпочтительное по своей недвусмысленности, — что
«или р ложно, или q истинно» [214].
Из этой последней формулировки делается понятною равносильность операции включения «Ɔ» и операции логического сложения «ᴗ». В самом деле, сочетание символов
р ᴗ q (II),
т. е. операция логического сложения, означает ничто иное, как альтернативность слагаемых р и q:
«или р ложно, или q истинно»,
Или, упрощенно:
«р или q» [215].
Очевидно отсюда, что можно написать логическое равенство двух операций, а именно:
p Ɔ q.= .⌐p ᴗ q (III),
где знак «⌐» пред р означает отрицание, «négation» или, точнее, негатив, «négative» р; вообще, ведь, в логистике любой символ, сочетаясь со знаком «⌐», дает свой негатив [216].
Напомним далее, что знак «ᴖ» есть оператор логического умножения, т. е. что, будучи поставлен между двумя символами или группами их, он указует на совместное существование этих символов или групп [217]. Напомним еще, наконец, что символом V обозначается «Истина», «Veritas», а перевернутым символом V, т. е. «Ʌ» — «отрицание Истины», «⌐V» или «ложь» [218], и мы тогда имеем все данные для того логического определения антиномии Р и выражения схем её, к которым стремимся.
{стр. 150}
Наши рассуждения об антиномии естественно возникают из того приема доказательства чрез приведение к нелепости, который в математике применен Евклидом для доказательства 12–го предложения IX–ой книги «Начал» [219], а в философии использован догматиками для коренного ниспровержения скептических доводов против доказуемости истины [220]. Этот прием нередко употреблялся и впоследствии как математиками, так и философами [221], и даже распространился в широких кругах общества, служа целям салонной и домашней диалектики, как это изображено, например Тургеневым в «Рудине» [222]. Но, несмотря на свою распространенность в практическом употреблении, он долго не был осознан в логической теории умозаключений, и только около десяти лет тому назад был указан приверженцем логистики Дж. Вайлати, из пеановской школы [223].
Однако, ни почти без–сознательно пользовавшиеся этим приёмом широкие слои публики, ни полу–сознательно употреблявшие его философы и математики, ни даже теоретически осознавший его Вайлати не видели недостаточности его для тех целей, ради которых он употреблялся и связи его с теорией антиномии.
Прием этот в знако–положении логистики выражается весьма простою формулою:
⌐р Ɔ p. Ɔ. p (IV),
т. е. «если негатив предложения (или, соответственно, класса) включает в себя это самое, отрицаемое им предложение (или, соответственно, класс), то оно — истинно; — si négation d’une proposition implique cette proposition même, celle–ci est vraie» [224].
Логистика объясняет и оправдывает этот парадоксальный способ рассуждения. В самом деле, по формуле (III)
⌐р Ɔ p. =. ⌐(⌐ρ)ᴗρ (III),
но, по принципу двойного отрицания[225]
(⌐р) = р (V)
И, следовательно,
⌐p Ɔ p. = .pᴗp (III''),
Но понятно, что альтернатива «рᴗр», т. е. «р или р» влечет за собою непреложное утверждение р, так что
рᴗр. Ɔ. p (VI)
И, значит,
⌐p Ɔ p.Ɔ.p,
что и требовалось доказать.
Вот путь, указываемый логистикой. Но достаточен ли он? Другими словами, действителено ли строго — доказа{стр. 151}тельно рассуждение Евклида и иже с ним, — Конечно нет. Чтобы убедиться в последнем, достаточно обозначить ⌐р чрез q
— р = q (VII).
Тогда ясно, что нет оснований загодя исключать возможность и для q всего того, что сказано выше о р, т. е. применимость к q формулы (IV). Итак, не исключена возможность, что
⌐q Ɔ q. Ɔ .q (VIII),
Или, делая подстановку из формулы (VII),
⌐(⌐р) Ɔ (⌐p)·Ɔ ⌐р (VIII'),
Или, наконец, в силу формулы (V)
р Ɔ ⌐р. Ɔ. ⌐р (IX),
так что доказано не только р (IV), но и не–р (IX). Итак, у нас получилось два равно–несомненных доказательства, слагающих собою антиномию Р. Вот какова, значит,
| ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА АНТИНОМИИ: | |
| ТЕЗИС p: | АНТИТЕЗИС ⌐p: |
| Можно предположить одно из двух: или тезис р, или отрицание его, антитезис ⌐р. В первом случае доказывать тезис нечего, а во втором — оказывается, что из антитезиса опять–таки выводится тезис, так что получается альтернатива: «или тезис, или тезис» | Можно предположить одно из двух: или антитезис ⌐р, или отрицание его, анти–анти–тезис ⌐(⌐р), т. е. тезис р. В первом случае доказывать антитезис нечего, а во втором — оказывается, что из тезиса опять–таки выводится антитезис, так что получается альтернатива: «или антитезис, или антитезис» |
| р ᴗ р, | ⌐p ᴗ ⌐p |
| т. е. утверждается тезис | т. е. утверждается антитезис |
| p· | ⌐p· |
| В знаках: | В знаках: |
| ⌐p Ɔ p. Ɔ.pᴗp.Ɔ.p | ⌐(⌐р) Ɔ ⌐р. Ɔ ⌐р. ᴗ ⌐р. Ɔ. ⌐р· |
| Таким образом, непосредственно ли утверждая тезис, или же отрицая его, мы все равно не можем обойти его. | Таким образом, непосредственно ли утверждая антитезис, или же отрицая его, мы все равно не можем обойти его. |
{стр. 152}
Методами и операциями чистой логики мы показали возможность антиномии в строжайшем смысле слова.
Отсюда, прежде всего, необходимо сделать вывод о недостаточности логической формулы (IV), применяемой для доказательства того или другого тезиса р, если при этом не исключена возможность формулы (IX); ведь наличность тезиса нисколько не обеспечивает несуществование антитезиса, а, — по крайней мере, в области духа всегда, а в иных областях часто, — предполагаете наличность антитезиса. Другими словами каждый раз необходимо убеждаться не только в истинности тезиса р, но и выяснять, не есть ли он половина некоторой антиномии P.
Затем, предлагаемый процесс позволяете дать следующее символическое определение антиномии:
Р=(рᴖ ⌐p)ᴖV (X),
для понимания которого необходимо помнить, что V — знак Истины, Veritatis, а «ᴖ» — оператор логического умножения, т. е. символ совместности терминов, между которыми он поставлен. Переводя формулу (X) на обычный язык, скажем: «Антиномия есть такое предложение, которое, будучи истинным, содержит в себе совместно тезис и антитезис, так что недоступно никакому возражению». Прибавка же символа V, подымая антиномию над плоскостью рассудка, и есть то, что отличает антиномию Р от лжи Ʌ (перевернутое V, или — V), лежащей в плоскости рассудочной и определяемой формулою [226]:
Ʌ=рᴖ⌐р (XI).
Но что ж такое этот сомножитель V в определении антиномии? Формально он появляется как результат некоторого процесса, устанавливающая) так или иначе относительно Р, что оно истинно, тогда как два другие процесса доказывают, что это Р, по своей структуре, есть р и, еще, ⌐р. Таким образом, для чистой логики, V, в определении Р, есть лишь указание на положение этого Р, на должное к нему отношение, — так сказать, указующий на небеса перст при Р, но не составная часть в сложении самого Р. По своему составу Р нисколько не разнится от простого противоречия Ʌ, и, следовательно, в сфере рассудочной лишь авторитет является тем перстом, который отмечает истинность Р в сравнении с Ʌ. Вот почему для католицизма, погрузившегося в область душевную и, следственно, рассудочную, но предметом своим имеющего все же духовное и, следственно, антиномическое, — вот почему для католицизма авторитет — всё и без железного авторитета, без указующего перста папы католик бессилен жить. В области же сверх–чув{стр. 153}ственной и, значит, сверх–рассудочной прибавка V в определении антиномии указывает составной признак её, её духовное единство, её сверх–чувственную реальность, и, в Духе Святом это единство, эта реальность непосредственно переживаются и постигаются.
Формулу (X) ради большей наглядности можно еще представить в раскрытом виде и написать так:
⌐р Ɔ р. ᴖ. p Ɔ ⌐р: Ɔ: р ᴖ ⌐р. ᴖ. ⌐Ʌ = Р (ХII),
т. е.: «если антитезис влечет за собою тезис, и, вместе с тем, тезис влечет антитезис, то совокупность тезиса и антитезиса, — если она не ложна, — есть антиномия». Такова формула антиномии. Не трудно видеть, что Кант свои антиномии старался подогнать именно под эту схему. С большей или меньшей отчетливостью под эту же схему подводятся и все вообще антиномии, выставлявшиеся в философии [227].
Итак, истина есть антиномия. Самое слово «антиномия», как философский термин, — происхождения весьма позднего, а именно, появляется не ранее Канта, да и то — только в «Критике чистого разума», т. е. в 1781 году. До того же времени это был юридический и, отчасти, Богословский термин. Но, насколько поздним оказывается термин «антиномия», настолько же раннею — самая идея необходимой само–противоречивости рассудка, связываемая теперь с этим термином. Можно даже предполагать, что она явилась первоначально простым отражением того сложного и сочетающего в себе противоположности уклада, которым обладал древний эллин и лично, и общественно.
«На чем основано преимущество греческого ума?» — спрашивает один историк эллинской мысли. — «Тайна удивительного преуспевания, — отвечает он [228], — заключается в сочетании противоположностей. Чрезвычайное Богатство творческой фантазии и рядом с ним всегда бодрствующее сомнение, пытливое, не отступающее ни перед каким дерзновением; могущественная способность к обобщениям в соединении с острой наблюдательностью, выслеживающей все особенности явления; религия вполне удовлетворяющая душевные потреб{стр. 154}ности и не накладывающая оков на рассудок, анализирующий её создания. К этому нужно прибавить многочисленность различных соревнующих между собою духовных центров, постоянное столкновение сил, исключающее возможность застоя, и в конце–концов государственное устройство и общественный уклад, достаточно суровые, чтобы сдержать «беспутные детские стремления» безрассудных, и достаточно свободные, чтобы не мешать смелому порыву выдающихся умов. В том соединении даров и обстоятельств можно усмотреть источник преимущественного успеха, которого достиг эллинский дух на поприще научного исследования».
Как же начинается живое восприятие антиномичности?
Жил в Малой Азии некто с умом трагическим и, кажется, едва ли не из самых чутких к правде меж всех философов древности. По крайней мepe, у него не было внутренней черствости, от которой слишком часто мертвеет душа профессиональных мыслителей. Вот за это–то современники прозвали его о Σκοτεινός, Темный. Имя же ему было Гераклит. И, как говорили, он всю жизнь свою проплакал над трагичностью себя и мира [229].
Этот Гераклит впервые ясно почуял, что существует Бог–Слово. — впервые открыл высшую гармонию и сверх–мирное единство бытия. «Внимая не мне, но Истине. — говорил он, — разумно признавать, что все едино»; «Мудрость — едина (понимай под ней тот Разум, что управляет всем чрез все)»; «Разум — для всех один и тот же…». И именно этот самый философ, тянувшийся к «бестрепетному сердцу непреложной Истины», — как выражался Парменид [230], — он–то именно и твердил всю жизнь свою о разрозненности, раздробленности и антиномичности нашей земной юдоли. Открыв совершенную гармонию Слова, он со всею возможною, — для жившего до Христа, — остротою увидал внутреннюю вражду мира. Впоследствии это бывало не раз, и даже спинозовских пауков и спинозовскую ра{стр. 155}дость при слухе о войне [231] можно отнести за счет созерцания единой Субстанции. Может быть даже, в очищенном и одухотворенном виде, у ап. Павла сказывается то же благоговейное и восторженное чувство, когда, в Послании к римлянам, он созерцает с высоты вечности ослепление еврейского народа.
Но там, у «христианина до христианства» [232] это новое восприятие дуализма между дольним и горним было еще острее, потому что было вовсе не примиренным. «Люди должны знать, — восклицает он, — что война — повсеместна и что правда — вражда, ибо все возникает и все уничтожается благодаря вражде». «Война — родоначальница и владычица всего…» «Люди (— неразумные люди! не о вас ли проплакал свою жизнь философ? —) — люди не понимают, каким образом противоположности согласуются друг с другом. Мировая гармония заключается в сочетании напряжения и ослабления подобно тому, как у лука и лиры (то натягивают, то отпускают струну). Противодействие сближает. Из противоположностей образуется совершенная гармония. Все возникает благодаря вражде». И потому «соединяй целое и нецелое, согласное и несогласное, созвучное и несозвучное. Все дает одно, и одно дает все». «Для Бога все — красота, благо и справедливость; для людей одно — справедливо, другое — нет».
Мир трагически прекрасен в своей раздробленности. Его гармония — в его дисгармонии, его единство — в его вражде. Таково парадоксальное учение Гераклита, впоследствии парадоксально развитое Фридрихом Ницше в теорию «трагического оптимизма». И основной тон его настроений, их сок и цвет совершеннейшим образом определяется фрагментом, состоящим всего на всего из одного только слова — «ΑΓΧΙΒΑΣΙΗ», «ПРОТИВОРEЧИЕ» [233].
Противоречие! Хочется повторить за Гераклитом его жалобу, остающуюся и теперь современной: «Люди не понимают этой вечно–существующей истины, {стр. 156} пока не услышат о ней; не понимают они и тогда, когда услышат о ней впервые. Ибо, хотя все происходить согласно этой истине, люди оказываются непонимающими, когда на опыте находят и речи и факты такими, какими излагаю их я [читай: άγχιβασίη], разумея каждое явление по природе и объясняя его по существу. От других же людей ускользает то, что они делают наяву подобно тому, как забывается ими то, что они делают во сне».
Славные имена элейцев должны быть поставлены вслед за Гераклитовым в истории интересующей нас идеи антиномии. По их убеждениям рассудок запутывается в непобедимых противоречиях, раз только хочет окончательно прилепиться к этому, эгоистически–раздробленному хору, — раздробленному во времени и в пространстве. Но то, что говорили мужи элейской школы, слишком известно, чтобы можно было напоминать это здесь.
Великим, хотя до сих пор с этой стороны непонятым, сторонником антиномичности рассудка был и сам Платон. Большинство его диалогов — не иное что, как исполинские, со всею тщательностью развитые и художественно драматизированные антиномии. Самое пристрастие Платона к диалогической форме изложения, т. е. к форме противо–поставления убеждений, намекает уже на антиномическую природу его мышления; но последняя делается еще более осязательной, если мы примем во внимание, что чуть ли ни каждый диалог лишь обостряет противоречие и углубляет бездну между «да» и «нет», между тезисом и антитезисом, но ничуть не решает вопроса в пользу того или другого. Что–нибудь одно из двух: или это очень хороший антиномизм, или же — весьма неудачная философия цельного рассудка.
Наконец, к числу глубоких и творчески–мощных представителей антиномизма нужно причислить кардинала Николая Кузанского с его учением ό coincidentia oppositorum, т. е. о совпадении в Боге противоположных {стр. 157} определений; это учение нашло своеобразное и много–значительное символическое выражение в его «Приложении математики к Богословию», к сожалению не изученном и почти неизвестном среди историков мысли [234].
Что же касается до прочих имен, как–то: Гегеля, Фихте, Шеллинга, Ренувье и др., то едва ли нужно напоминать о них: они достаточно известны. Наконец, имена современных «прагматистов» [235] тоже могут быть начертаны на золотую доску истории антиномизма.
Ведение противоречия и любовь к противоречию, наряду с античным скепсисом, кажется, — высшее, что дала древность. Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть. Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их. Если разум познающий раздроблен, если он — не монолитный кусок, если он самому себе противоречит, — мы опять таки не должны делать вида, что этого нет. Бессильное усилие человеческого рассудка примирить противоречия, вялую попытку напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречивости [236].
«Книга Иова» — вся состоит из этого уплотненного переживания противоречия, вся она построена на идее антиномичности. Тут Бог «напоминает нам, что человек не есть мера творения», что «вселенная построена по плану, который бесконечно превосходит человеческий разум» [237]. Желания Божии и дела Божии существенно непонятны человеку, и потому кажутся ему неразумными (Иов. 23): «Мы не постигаем Его — Он не взирает ни на кого из высокоумных» (Иов. 37, 23, 24). «Все есть тайна, — говорится у Ф. М. Достоевского, — во всем тайна Божия — А что тайна, то оно тем даже и лучше: страшно оно сердцу и дивно; и страх сей к веселью сердца… Тем еще прекраснее оно, что тайна …» [238]. Тайна нравственного беспорядка поражает Иова {стр. 158} своим величием, а друзья его даже не замечают её (Иов 21). «Положите перст на уста ваши» — жест молчания и тайны, — тот самый жест, с которым нередко пишется на иконах Тайновидец Иоанн.
Тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимые, несказанные, неописуемые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которые зараз — и «да» и «нет». Это — «вся паче смысла… таинства». Вот почему, делаясь церковным песнопением, восторг души неизбежно облекается в оболочку своеобразной игры понятий. Вся церковная служба, особенно же каноны и стихиры, переполнены этим непрестанно–кипящим остроумием антитетических сопоставлений и антиномических утверждений. Противоречие! Оно всегда тайна души, — тайна молитвы и любви. Чем ближе к Богу, тем отчетливее противоречия. Там, в Горнем Иерусалиме нет их. Тут же — противоречия во всем; и устранятся они не общественным строительством и не философическими доводами. Что–то великое, давно желанное и все таки вовсе неожиданное, — великая Радость Нечаянная, — явится вдруг, охватит весь круг земного бытия, встряхнет его, как свиток книжный скрутит небо, омоет землю, дает новые силы, все обновит, все пресуществит, самое простое и повседневное покажет во все–слепящем блеске лучезарной красоты. Тогда не будет противоречий, не будет и рассудка, ими мучающегося. А теперь, — чем ярче сияет Истина Трисиятельного Света, показанного Христом и отражающаяся в праведниках, — Света, в котором противоречие сего века препобеждено любовью и славою, — тем резче чернеют мировые трещины. Трещины во всем! Но я хочу говорит о трещинах в области умозрения.
Там, на небе — единая Истина; у нас — множество истин, осколков Истины, неконгруэнтньпх друг с другом. В истории плоского и скучного мышления «новой философии» Кант имел дерзновение выговорить вели{стр. 159}кое слово «антиномия», нарушившее приличие мнимого единства. За это одно заслуживал бы он вечной славы. Нет нужды, если собственные его антиномии неудачны: дело — в переживании антиномичности [239].
Под углом зрения догматики антиномии неизбежны. Если есть грех (а в признании его — первая половина веры [240]), то все наше существо, равно как и весь мир, раздроблены. Исходя из одного угла мира или своего рассудка, мы не имеем никаких оснований ждать, что получим тот же результат, как если бы вышли из другого угла. Встреча невероятна. Существование множества разно–гласящих схем и теорий, одинаково добросовестных, но исходящих из разных исходных точек, есть лучшее доказательство трещин мироздания. Самый разум раздроблен и расколот, и только очищенный бого–носный ум святых подвижников несколько цельнее: в нем началось срастание разломов и трещин, в нем болезнь бытия залечивается, раны мира затягиваются, ибо и сам–то он — оздоровляющий орган мира.
«Ты и твои! друзья, с которыми ты привык разговаривать, — жалуется платоновский Иппий Сократу, — вы вещей в целом не рассматриваете, но отхватываете и толчете и прекрасное, и все остальные вещи, раздробляя их в речах. Оттого–то от вас и ускользают такие прекрасные и по природе своей цельные тела сущности» [241]. Но то, в чем наивный Иппий видит личный недостаток Сократа, есть на деле необходимый признак науки, как деятельности рассудка.
За что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместные аспекты. Смотря на одно и то же с разных сторон, т. е. действуя разными сторонами духовной деятельности, мы можем придти к антиномиям, к положениям несовместным в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но — не рассудочно, а сверх–рассудочным спосо{стр. 160}бом. Антиномичность вовсе не говорит: «или то, или другое не истинно»; не говорит также: «Ни то, ни другое не истинно». Она говорит лишь: «и то, и другое истинно, но каждое — по своему; примирение же и единство — выше рассудка». Антиномичность — от дробности самого бытия, — включая сюда и рассудок, как часть бытия.
Как идеальную предельную границу, где снимается противоречие, мы ставим догмат. Но он для рассудка, — лишь формален, и только в благодатном состоянии души наполняется соком жизни, делается само–доказательною истиною, будучи регулятивною нормою для рассудка, догмат для очищенного благодатию разума, воспринимающего откровение, является истиною интуитивно–данною. Для рассудка догмат есть не более как категорический императив, гласящий требование: «Ты должен мыслить так, чтобы каждое нарушение догмата в одну сторону сейчас же приводилось к нулю соответственным нарушением в сторону прямо–противоположную; все твои рассудочные операции над догматом должны производиться так, чтобы в них всегда сохранялась основная антиномия догмата».
Напротив, для разума, очищенного молитвою и подвигом, — предельным случаем чего является разум святого, — догмат есть само–доказательная аксиома, свидетельствующая: «Ты видишь и истинность мою и внутреннюю необходимость быть мне антиномичною в рассудке; если же ныне ты видишь смутно, то увидишь ясно впоследствии, когда еще очистишь себя».
Догмат, как объект веры, непременно включает в себя рассудочную антиномию. Если нет антиномии, то рассудочно положение — цельно. А тогда это, во первых, — не догмат, а научное положение. Верить тут нечему, очищать себя и творить подвиг — не для чего. Но мне кажется великим кощунством думать, что религиозная истина, — «святыня», — постижима при всяком внутреннем состоянии, без подвига. Правда, она может благодатно {стр. 161} блеснуть разуму нечистому, чтобы привлечь его, но она не может быть доступной всякому. Итак, повторяю, такое положение — не догмат. А, во вторых, сознание тогда не полно, неглубоко, не вгляделось во внутреннюю суть объекта: ведь мы не можем цельно мыслить суть религиозного объекта, не в силах охватить его рассудком, не разлагая. Рассудок же не может не ограничиться одною из сторон объекта. Ограничение одною стороною — таков, именно, смысл ереси.
Ересь, даже мистическая, есть рассудочная одно–сторонность, утверждающая себя, как все. Αιρεσις — выбор; избрание, склонность или расположение к чему–нибудь, затем избранное, избранный образ мыслей и, отсюда, — партия, секта, философская школа [242]. Одним словом, в слов αιρεσις содержится идея одно–сторонности, какого–то прямолинейного сосредоточения на одном из многих возможных утверждений [243]. Православие вселенско, а ересь — по существу своему партийна. Дух секты есть вытекающий отсюда эгоизм, духовная отъединенность: одно–стороннее положение ставится на основание безусловной Истины и тем самым это положение исключает все то, в чем видится антиномическое дополнение к данной половине антиномии, рассудочно — непостижимой. Объект религии, падая с неба духовная переживания в плотяность рассудка, неминуемо раскалывается тут на аспекты, исключающие друг друга. Дело православного, соборного рассудка собрать все осколки, полноту их, а еретическая, сектантская — выбрать осколки, какие приглянутся: «нужно быть многострунным, чтобы заиграть на гуслях Вечности» [244].
Полнота в единстве, полнота целостная для рассудка, — как сказано, — лишь постулируется. Но условием интуитивной данности постулата является укрощение своей рассудочной деятельности и выход в благодатное мышление восстановленного, очищенная и воссозданного человеческого естестьва. Христос дал зародыши новой твари, «семя Божие — σπέρμα αυτου» (1 Ин. 3, 9), и твер{стр. 162}дую точку недвижимой скалы, на которую мы можем становиться, спасаясь от έποχή. Но связная полнота есть лишь чаяние. Ее даст только Тот, Кто омоет всю скверну с твари, — Дух Святой. Духом постигаются догматы, в Нем — полнота разумения. А покуда, тем острее и тем много–образнее рассудочные антиномии веры, чем проникновеннее и чем полно–звучнее самое переживание. И действительно, Священная Книга полна антиномиями. Антиномистично скрещиваются между собою суждения не только разных библейских авторов (у ап. Павла — оправдание верою, у ап. Иакова — делами и т. п.), но — одного и того же; и — не только в разных его писаниях, но — в одном и том же; и — не только в разных местах, но — в одном и том же месте. Антиномии стоят рядом, порою в одном стихе, и, при том, в местах наисильнейших, как ветр стремительный потрясающих душу верующего, как молния поражающих вершину ума. Только подлинный религиозный опыт усматриваете антиномии и видит, ка́к возможно фактическое их примирение; но для позитивистического рассудка он не видны, или же их заостренность представляется литературною манерою парадоксального, — а то и больного, — ума.
Возьми апостола Павла. Его блестящая религиозная диалектика состоит из ряда изломов. — с утверждения — на другое, ему антиномичное. Порою антиномия заключена даже в стилистический разрыв сплошности изложения — во внешний асиндетон: рассудочно противоречивые и взаимо–исключающие суждения остриями направлены друг против друга.
Но для непосредственного восприятия в этих, громоздящихся друг на друга, девственных глыбах «да» и «нет» открывается высшее религиозное единство, могущее получить свое завершение в Духе Святом. Какою внутреннею нечуткостью, каким религиозным безвкусием было бы стараться свести все эти «да» и «нет» к одной плоскости, — счесть тот или другой слой несу{стр. 163}щественным! Антиномии принадлежат к самой сущности переживания, он неразлучны с ними, как цвет лепестка — с заключенным в нем пигментом. Это — как бы туман, написанный на картине, — как бы узор, затканный в материи. Желая рассмотреть картину яснее, намереваясь сделать материю гладкой, тщетно мы стали бы стирать туман и узор: вместе с ними пришлось бы уничтожить самое вещество картины или материи, — их самих. Так — и в религии. Антиномии — это конститутивные элементы религии, если мыслить о ней рассудочно. Тезис и антитезис, как основа и уток, сплетают самую ткань религиозного переживания. Где нет антиномии, там нет и веры: а это будет тогда лишь, когда и вера и надежда упразднятся, и пребудет одна любовь (1 Кор 38, 13).
Каким холодным и далеким, каким безбожным и черствым кажется мне то время моей жизни, когда я считал антиномии религии — разрешимыми, но еще не разрешенными, когда я в своем гордом безумии утверждал логический монизм религии
Само–отвержение — это единственное, что приближает нас к бого–подобию. Но и само–отвержение вообще, и само–отвержение рассудка в частности есть нелепость, бессмыслица для рассудка. А не может быть не–А. «Невозможно», но и «несомненно»! из Я любовь делает не–Я, ибо истинная любовь — в отказе от рассудка.
Довольно говорить об антиномиях вообще. Приведу тебе несколько конкретных примеров из бесчисленного множества, бросаются в глаза прежде всего Павловы антиномии, причина чему — весьма простая. Глубина теософского умозрения сочетается у Павла с диалектической формой, тогда как у других священных писателей форма несколько афористическая, или же систематическая. Рассудок не предрасположен здесь ждать связности, и потому за афористической разрозненностью не сразу замечает противоречия. Но диалектическое изложение настраивает рассудок ждать связности, и когда связность нарушается «угловою точкою», где сходятся тезис {стр. 164} с антитезисом, то рассудок невольно вздрагивает: это явно требуется от него жертва собою.
Для нас наиболее подходящим является опять–таки самое диалектическое и самое пламенное из Посланий, — К римлянам, — эта разрывная бомба против рассудка, заряженная антиномиями. Вот же для примера [245] таблица некоторых антиномий, подобранных, впрочем, довольно случайно и не без сознательного уклонения от тех из них, которые преднамечены к рассмотрению в одной из ближайших книг.
Примеры догматических антиномий.
| тезис. | антитезис. |
| Божество: | |
| единосущное. | триипостастное. |
| Два естества во Христе соединены: | |
| неслитно (άσυγχύτως) и неизменно (άτρεπτως), | нераздельно (αδιαρετως) и неразлучно (άχωρίστως). |
| Отношение человека к Богу: | |
| предопределение. | свободная воля. |
| Рим. 9 (где объясняется отвержение Израиля с объективной и Богословской точки зрения, икономической), т. е. дается ответ на вопрос «для чего?». | Рим. 9, 30–10, 21 (где объясняется отвержение Израиля с нравственной и антропологической точки зрения (амартологической), т. е. дается ответ на вопрос «почему?». |
| Грех: | |
| Чрез падение Адама, т. е. как случайное явление в плоти (Рим. 5, 12–21). | Чрез конечность плоти, т. е. как необходимо присущий ей (1 Кор. 1599 сл.). |
| Суд: | |
| Христос, как Судия всех христиан при своем втором пришествии (Рим. 2, 10, 14, 10; 1 Кор. 3, 13; 2 Кор. 5, 10). | Бог, как окончательно судящий всех людей чрез Христа (1 Кор. 48, 15, 24, 25). |
{стр. 165}
| Воздаяние: | |
| Воздаяние всем по делам (Рим. 2, 6–10; 2 Кор. 5, 10). | Свободное прощение искупленных (Рим. 4, 4; 9, 11, 11, 6). |
| Конечная судьба: | |
| Всеобщее восстановление и блаженство (Рим. 8, 19–23, 11, 30–36) | Двоякий конец (Рим. 25–12) «Погибель» (2 Кор. 2, 15 и проч.) |
| Заслуга: | |
| Необходимость человеческого подвига (1 Кор. 9, 24: «так бегите, чтобы получить»). | Недействительность человеческого подвига (Рим. 9, 16: «помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего»). |
| «Со страхом и трепетом свершайте свое спасение | потому что Бог производит в вас и хотение я действие» (Фил. 2, 12, 13). |
| Ср.: «Душа Господа хотела свободно; но хотела свободно того, | что должна была хотеть по изволению воли Его Божества» (Иоанна Дамаскина Точное изложение православной веры, 3 18). |
| Благодать: | |
| Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5 20). | «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак» (Рим. 6, 10, 6, 15). |
| «Всякий, пребывающий в Нем (Христе) не согрешает» (1 Ин. 3, 6). Всякий рожденный от Бога, не делает греха — и он не может грешить» — (1 Ин. 3, 9). | «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1, 8). |
| Вера: | |
| Свободна и зависит от доброй воли человека (Ин. 3, 16–18). | Дар Божий и не находится в воле человеческой, но — в воле привлекающего ко Христу Отца (Ин. 6, 44). |
| Пришествие Христово: | |
| Для суда над миром: | Не для суда над миром: |
| «На суд пришел Я в мир» (Ин. 9, 39). | «Я пришел не судить мир» (Ин. 12, 47). |

Suummet rodit. — Свое же угрызает.
{стр. 166}
Кто, еще от годов юности, не помнит нравоучительного рассказа «Геракл на распутьи»? Эта, несколько приторная басня, составленная в V–м век до Р. X. знаменитым учителем Сократа софистоме Продиком Кеосским или, правильнее, Кейским и, по свидетельству Аристофановского Схолиаста [246], входившая в сочинение Продика «Ωραι», «Времена года», а, может быть, и «Возрасты жизни», дошла до нас в передаче или, точнее, в пересказе Ксенофонта [247]. И, конечно, всякий помнит, как олицетворенные Добродетель — ή 'Αρετή, — и Порочность — ή Κακία, — или Счастие — ή Ευδαιμονία — в риторическом споре состязаются пред юношей Гераклом о своих преимуществах, и как каждая тянет его вступить на один из двух возможных путей, — на свой. При этом автор пользуется случаем, чтобы дать каталог добродетелей и пороков. Вот педагогическое пособие для воспитания афинского юношества.
Но было бы ошибкою видеть в этом рассказе что–то исключительное. Сам будучи, вероятнее всего, литературною обработкою народной басни и имея, следовательно, много–вековую родословную [248], он, в свой че{стр. 167}ред, стал родоначальником целого ряда литературных поколений. Сюжет «двух путей» оказался, как выражаются историки литературы, «странствующим».
Само собою понятно, что состав главной его части, т. е. каталога добродетелей и пороков, соответствующих двум путям жизни, каждый раз менялся сообразно нравственным воззрениям места и времени. Но и в позднейших обработках темы «двух путей» легко увидать спор все тех же Добродетели и Порочности, в существе своем, в основном ядре своем приводящийся к борьбе за целомудрие.
Наконец, мы сталкиваемся с наиболее разработанным противопоставлением «двух путей» в так называемом «Учении двенадцати апостолов» [249], относящимся либо к концу I–го, либо к началу II–го столетия по Р. Х. Этот памятник имеет себе много подобных, почти вариантов, но установить с точностью взаимные генеалогические отношения всех их и затруднительно [250] и едва ли нужно, по крайней мере для нас. Даже на своей догадке о происхождении всех их от басни Продика мы не взялись бы настаивать особенно решительно.
Нам важна не генетическая зависимость различных обработок одной темы, а лишь самая тема, лишь та распространенная в человечестве и от его самосознания неотъемлемая общая мысль, что «есть два пути: один жизни и один — смерти» и что «различие между обоими путями большое» [251], — как выражает ее неизвестный составитель «учения» в приступе.
Consensus omnium свидетельствует, что есть два пути; но как понимать самую возможность этой двойственности? Есть два пути! Один из них — путь к Истине. А другой, — совсем на него не похожий?… Но как же может быть еще другой путь, когда Истина — источник всякого бытия, и вне Истины — ничего нет. Если Истина {стр. 168} есть все (— а, не будучи всем, как же она могла бы быть истиною? —), то как же допустить какую–то He–Истину, какую–то Ложь. Бог — Жизнь и Виновник жизни, т. е. творчества. Значит, Ложь есть Смерть и источник смерти, т. е. уничтожения. Бог есть Лад и Строй; а Ложь — беспорядок и Анархия. Бог есть Святость; а Ложь — Греховность. Но опять, ка́к может быть Греховность? Ведь Бог — Сущий, ό ’׳Ων, Ягве, [252] יהרה); и, значит, Сатана, Грех — совсем иное, — т. е….—
Невольно подсказывается ответ, что греховность хотя и есть, но есть не–сущая. «Неплодствовавший мой ум, плодоносен Боже покажи ми» [253], взывает душа, сознавшая свое бесплодие от греховной скверны. Бесплодие, бессилие, неспособность рождать жизнь — вот естьественный плод греха. Грех неспособен творить, но — только разрушать. Грех неспособен рождать, ибо всякое чадородие — не иначе как от Сущего Отца, но — только умерщвлять. Грех бесплоден, потому что он — не жизнь, а смерть. А Смерть влачит свое призрачное бытие лишь Жизнью и насчет Жизни, питается от Жизни и существует лишь постольку, поскольку Жизнь дает от себя ей питание. То, что есть у Смерти — это лишь испоганенная ею жизнь же. Даже на «черной мессе», в самом гнезд диавольщины, Диавол со всеми своими поклонниками не могли придумать ничего иного, как кощунственно пародировать тайнодействия литургии, делая все наоборот [254]. Какая пустота! Какое нищенство! Какие плоские «глубины»!
Это — еще доказательство, что нет ни на самом деле, ни даже в мысли ни Байроновского, ни Лермонтовского, ни Врубелевского Диавола — величественного и царственного, а есть лишь жалкая «обезьяна Бога», о которой давно сказано:
Simia qnam similis turpissima bestia nobis.
По чеканному определению св. Иоанна Богослова, «грех есть беззаконие — ή άμαρτία έσήν ή ανομία» 1 Ин. 3, 4).
{стр. 169}
В этом определении обращает на себя внимание член, поставленный как при подлежащем, αμαρτία, так и при сказуемом, ανομία. Член при существительном обычно является индивидуализатором, выделяющим объект из ряда ему подобных [255], тогда как без члена объект имеет смысл одного из многих, или же слово употреблено в отвлеченном значении, как абстракт. Следовательно, ή άμαρτia означает, что тут берется не одно из многих прегрешений, но именно грех, как таковой, как совокупность всего греха, сущего в мире, грех в его метафизическом корне, как Грех. — Но, далее, как понять член при слове ανομία? Ведь известно из элементарной грамматики, что при сказуемом–существительном и при сказуемом–прилагательном не бывает члена, так что предлагается даже, в сомнительных случаях, когда трудно понять, где подлежащее и где сказуемое, посмотреть, при каком слове стоит член; оно, де, и есть подлежащее. Это и понятно: ведь, чаще всего предложения выражают суждения предикации, подведения подлежащего под объем сказуемого, и потому сказуемое неминуемо должно иметь отвлеченный смысл общего понятия, класса. Но, тем не менее, при особых обстоятельствах бывает и сказуемое с членом. Так, например, в Четверо–евангелии находим:
ούκ ούτός έστιν ό τέκτων (т. е. который известен под этим именем; Мк. 6, 3).
ύμεΐς έστε το άλας τής γής (Мф. 5, 13);
—… — το φως τοϋ κόσμου (Μф. 5, 14);
ό λύχνος τοϋ σώματός έστιν ό όφθαλμός (Μф. 6, 22);
σύ έι ό χριστός ό υιος τοϋ θεοϋ (Μф. 16, 16);
σύ έι ό βασιλεύς των 'Ιουδαίων (Μк. 15, 2);
έγώ είμι ή άνάστασις καϊ ή ζωή (Ин. 11, 25);
далее Ин 14, 8 и проч. [256]; сюда же относятся чрезвычайно важные места Еф 123, 6, Мф. 26, 27, Мк. 14, 22, Лк. 22, 12, 1 Кор. 11, 24, говорящие о Церкви и о Теле Христовом. — Смысл приведенных мест прозрачен: тут говорится не о соли, свете и проч. вообще, не о некоторой соли (ein Salz) и т. д., наряду с другою солью и т. д., а о том, что одно только имеет или достойно иметь это название, о том, что несет в себе самую суть тех свойств, за которые обычная соль, обычный свет и проч. получают свое имя [257].
Итак, ή ανομία значит: не одно из беззаконий, не беззаконие вообще, а беззаконие κατ’ εξοχήν, — беззаконие, по преимуществу заслуживающее это название, — то, что не{стр. 170}сет в себе самое начало беззаконности, — беззаконие в чистейшем и полнейшем виде и смысле, — деяние в высшей степени совокупляющее в себе все то, за что отдельные беззакония называются беззакониями, — само беззаконие или, — одним словом, — беззаконие.
Апостол говорить хочет не об одном из признаков греха, хочет оставаться не на периферии его, но углубляется в самые недра его, в его метафизическое естество. Поэтому определение, даваемое им грехy, есть определение в глубине онтологической, а не метафорическое или акцидентальное. Было бы крайне ошибочно понимать его законнически. Грех есть Беззаконие, есть извращение Закона, т. е. того Порядка, который дан твари Господом, того внутреннего Строя всего творения, которым живо оно, того устроения недр твари, которое даровано ей Богом, той Премудрости, в которой — смысл мира. Вне Закона, Грех — ничто, имеет лишь мнимое существование, ибо, — позволяю себе применить слова Апостола, хотя, быть может, в несколько свободном толковании, — «законом познается грех».
Если нет рождения, нет и умерщвления; если нет бытия, то нет и небытия; если нет жизни, то нет и смерти. Если нет света, то нет и тьмы, ибо светом изобличается тьма. Грех — паразит святости и есть потому, что святость еще не отделена от него окончательно, — потому что пшеница и плевелы растут до поры до времени вместе.
Разрушая, как и всякое паразитическое существование, своего кормителя, грех подрывает вместе и себя самого. Он направляется на себя, себя есть, ибо все, что не хочет уничижения, подвергается уничтожению. Бог, никому не желающий зла, никогда никого не уничтожал; но всегда сами себя злые губили: Бог «рассеял гордых» ничем иным, как «мыслию сердца их — διανοία καρδίας αυτών» (Лк. 1, 51б), или, точнее, рассуждением, διανοία, — ибо рассудок — διάνοια, — в противоположность уму, и есть проявление самости.
{стр. 171}
«Сотвори державу мышцею своею,
расточи гордыя мыслию сердца их» —
так некогда воспела Пречистая Дева Мария при свидании с Елизаветою, и так доныне поется на утрени будет петься во веки веков.
Само–разрушительную природу зла понимали уже и лучшие из эллинов:
«…хорошие, — говорит Платон, — подобны друг другу и бывают друзьями, а дурные, как об них и говорится, даже сами–себе никогда не остаются подобными, но бывают непостоянны и неустойчивы; а то, что не остается подобным самому себе, но бывает различным, едва ли может быть подобным другому или подружиться с ним — τούς δέ κακούς, όπερ καί λέγεται περί αυτών, μηδέποθ' όμοιου μηόδ аύτούς αύτοίς είναι, άλλ' έμηλήκτους τε καί άσταθμήιους. ό δ' αύτο αύτω άνόμαιον ειη καί διάφορον, σχολή γ' (άν) πού τω άλλω όμοιον ή φίλον γένοιτο» [258].
Желая только себя, в своем «здесь* и «теперь», злое само–утверждение негостеприимно запирается ото всего что не есть оно; но, стремясь к само–бо́жеству, оно даже себе самому не остается подобным и рассыпается и разлагается и дробится во внутренней борьбе. Зло по самому существу своему — «царство разделившее на ся». Эта мысль о раздробительном действии зла глубокомысленно выражено уже Платоном под прозрачным покровом мифа об «андрогине» [259].
«Некогда наша природа, — так приблизительно повествует Платоновский Аристофан, — была далеко не такой, как теперь. Тогда существовал еще андрогин — существо, составленное из двух теперешних особей, и он был единою личностью. Эти андрогины были крепки и сильны и, в упоении своею мощью, надмились и осмелились поднять руку на Богов: они хотели проложить себе путь на небо, чтобы напасть на богов. Тогда Зевс и небожители решили ослабить их, рассекши каждого пополам, так, чтобы им пришлось ходить уже на двух ногах, а не на четырех. "А если я замечу, — сказал Зевс, — что они и тогда не усмирятся и не захотят успокоиться, то я еще раз рассеку их пополам, так {стр. 172} что им придется тогда уже прыгать на одной ножке" [260]». Вот суть Платоновского мифа. Добавлю только еще, что любовь, — по Платону, — это и есть инстинктивное стремление любящих — вновь соединить разделенное.
Было бы слишком легкомысленно видеть в только что изложенном мифе простую басню, придуманную Платоном. Несомненно, что это — художественная обработка древнего народного мифа. Подобный же миф находим мы и в памятниках иных народов. Так, в Зенд–Авесте, в книге Бундегеш, рассказывается, что от семени небесного первобыка [= «Жизнь»] Кайомора, пролитого на землю, выросло оруэрэ [= arbor или arvor, «дерево»; но также = «жизнь» и «душа»]. Это, выросшее, есть соединение земли с небесным началом. От дерева родилось Мешиа́, самец–самка, мужчина–женщина. Затем Мешиа́ разделился на мужское тело, удержавшее имя Мешиа́, и на женское, получившее имя Мешианэ. Такова первая человеческая пара [261].
Какие–то таинственные нити как будто связывают идейное зерно этих повествований и со священным повествованием книги Бытия. В словах: «и Бог сказал: "Сотворим человека…" и сотворил Бог человека, в образе своем, в образе Божием сотворил Он его; мужчиною и женщиною сотворил Он их» (Быт 1, 26, 27) [262]. Мистики разных толков нередко усматривали здесь указание на изначальную сложность человеческого существа, даже на первоначальный андрогинизм, считая половую дифференциацию следствием метафизического грехопадения. Так, уже гностическая секта офитов считала перво–человека άρσενόδηλυς, муже–женщиною [263]. Так же думали последователи Каббалы, чуть ли не поголовно все мистические писатели — Як. Бемэ, Сен–Мартен, Фр. Баадеp, современные оккультисты и т. д. и т. д. [264]. Но, ссылаясь на них, я имел в виду доказать, конечно, не необходимость именно андрогинического толкования указанных слов книги Бытия, а только широкую распространенность того убеждения, что чело{стр. 173}век первоначально был более цельным, чем ныне, и что лишь само–утверждение его стало причиною раздробленности.
Само–утверждение личности, противо–поставление её Богу — источник дробления, распадения личности, обеднения её внутренней жизни, и лишь любовь, до известной степени, снова приводит личность в единство. Но если личность, уже отчасти распавшаяся, опять не унимается и хочет быть сама Богом, — «как Боги», — то неминуемо постигает ее новое и новое дробление, новый и новый распад. Таков онтологический смысл мифа. И разве не видим мы, как на наших глазах, — то под громким предлогом «дифференциации» и «специализации», то по обнаженному вожделению бесчиния и безначалия, — разве не видим мы, как дробится и рассыпается и общество и личность, до самых тайников своих, желая жить без Бога и устраиваться помимо Бога, само–определяться против Бога. Самое безумие, — эта дезинтеграция личности [265], — разве оно в существе своем не есть следствие глубокого духовного извращения всей нашей жизни? Неврастения, все возрастающая, и другие «нервные» болезни разве не имеют истинной причиною своею стремление человечества и человеков жить по–своему, а не по Божьему, жить без закона Божия, в аномии [266]. Отрицание Бога всегда вело и ведет к без–умию, ибо Бог и есть–то Корень ума. Кто — «сказавший в сердце своем», т. е. не на словах, а в самой душе своей, всем существом своим: "Нет Бога"»? — «Безумец» (Пс. 13, 1; 52, 2), ибо существенное отрицание Бога и безумие — одно и то же, слиты и неразделимы, — явление художественно и в развитии своем изображенное Л. Толстым [267] и Ф. Достоевским [268].
Без любви, — а для любви нужна прежде всего любовь Божия, — без любви личность рассыпается в дробность психологических элементов и моментов. Любовь Божия — связь личности. Потому–то и молимся: «Любовию Твоею свяжи мя, Невесто неневестная», — да, «свяжи», а не то — рассыплюся и сделаюсь тою самою «совокупностью {стр. 174} психических состояний», которую одну только и знает «научная психология», эта «психология без души». «Ты моя Крепость, Господи, Ты моя и сила!», — восклицает душа, понявшая свое бессилие и неустойчивость.
Грех — момент разлада, распада и развала духовной жизни. Душа теряет свое субстанциональное единство, теряет сознание своей творческой природы, теряется в хаотическом вихре своих же состояний, переставая быть субстанцией их. Я захлебывается в «потопе мысленном» страстей. Недаром загадочная и соблазнительная улыбка всех лиц Леонардо да Винчи, выражающая скептицизм, отпадение от Бога и само–упор человеческого «знаю», есть на деле улыбка растерянности и потерянности: сами себя потеряли, и это особенно наглядно у «Джиоконды». В сущности, это — улыбка греха, соблазна и прелести, — улыбка блудная и растленная, ничего положительного не выражающая (— в том–то и загадочность её! —), кроме какого–то внутреннего смущения, какой–то внутренней смуты духа, но — и нераскаянности [269]. — Да, во грехе душа узкользает от себя самоё, теряет себя. Не даром последнюю степень нравственного падения женщины язык характеризуют как «потерянность». Но несомненно, что бывают не только «потерянные», т. е. потерявшие в себе самих себя, свое бого–подобное творчество жизни «женщины», но и «потерянные мужчины»; вообще, греховная душа — «потерянная душа», и потерянная не только для других, но и для себя самой, ибо не соблюла себя. И если современная психология все твердит, что она не знает души, как субстанции, то это только весьма скверно выставляет нравственное состояние самих психологов, — в массе своей, очевидно, являющихся «потерянными мужчинами». Тогда, действительно, не «я делаю», а «со мною делается»; не «я живу», а «со мною происходит».
По мере угашения в сознании творчества, само–деятельности и свободы, вся личность оттесняется механическими процессами в организме в, проектируя во вне {стр. 175} последствия собственной слабости, оживляет окружающий мир [270]. А так как трезвение и бодренность — условия жизни личности, то всяческая нетрезвость и всяческая сонливость способствуют такому ослаблению само–собранности духа. Когда хочется спать, когда бываешь спросонок, забывая «бодренным сердцем, бодренною мыслию и бодренным умом отгонять уныние греховного сна» [271], или еще, тем более, в состоянии опьянения, под ошеломляющим действием наркотиков, во всех этих и подобных состояниях сами собою подбираются слова все страдательного значения. Тогда, «земля швыряется», — как говорит один трех–летний мне знакомый мальчик про скользкий от утоптанного снега тротуар. «Слова говорятся» и «им хочет говориться»; «это не я их говорю, но им хочется говорить себя». «Стены шатаются», когда прислонишься к ним. Вещи «не хотят» удерживаться в руке и выскакивают из неё, сами убегают и бегают. Жидкости выплескиваются. Даже отдельные части тела, — и те заявляют свою «автономность» и независимость. Весь организм, — как телесный, так и душевный, — из целостного и стройного орудия, из органа личности превращается в случайную колонию, в сброд несоответствующих друг другу и само–действующих механизмов. Одним словом, все оказывается свободным во мне и вне меня, — все, кроме меня самого.
Неврастеническая полу–потеря реальности творческого Я [272] — тоже вид духовной нетрезвости, и трудно отделаться от убеждения, что причина её — в «не–устроенности» личности. Извращая свое отношение к Богу, человек тем самым извращает и свою нравственную, а затем, даже и телесную жизнь. Так, язычники знали Бога чрез рассматривание творений его. «Но как они, уразумев Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в своих умствованиях, и омрачилось неразумное их сердце, — называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога извратили в подобие образа тленного человека, и птиц, и {стр. 176} четвероногих, и гадов, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистот, так что осквернили они сами тела свои, Истину Божию заменили ложью и поклонялись и служили твари паче творца» (Рим. 1, 21–25). Следствием этого явилось, — говорит далее Апостол, — извращение естественного устроения телесной жизни и порча жизни общественной. Ядовитые начала безчиния, безначалия и безудержия пропитали собою общество во всех его жизненных деятельностях (Рим. 1, 26–32).
По мере оземлянения души теряется её свобода; медленно, но неукоснительно, рак греховной язвы разъедает сердце. Грехи обстоят сердце, густым строем стоят окрест него и не допускают меня до него, преграждают доступ освежающего ветерка благодати. Душа томится;
«— все удушливо–земное
она хотела б оттолкнуть» [273],
И взывает: «От всякого обстояния спаси!», но сердце словно окружило себя твердой корой.
Да, оно живо, но — за своими стенами, и до него не доберешься. Я сам только теоретически знаю, что есть оно, а уж не могу приступиться к нему. И святая служба церковная скользит по этому стальному панцирю едва царапая его, срываясь с него и проносясь мимо неспособного собраться в себе внимания.
Порою наступает какое–то забытие, — в местах самых значительных: враг скрадывает словеса драгоценнейшие. Спросишь себя: «Неужели это, — т. е. евангелие и т. д., — уже прошло?» и, только рассудком, соображая по ходу службы, говоришь: «Да». Наоборот, греховные желания, даже самые непостижимые нелепости, в разлагающуюся личность внезапно врываются, яркие, как какие световые пятна в мозгу, — и, до всякого решения, оказываются делами. Под дуновением помыслов у греховной личности лишь вздымается
«души её темное пламя» [274].
{стр. 177}
Как в уже упомянутом рассказе о «Геракле на распутьи», так и в прочих развитиях темы «двух путей» основною нужно признать идею именно об устроении человеком своей души и своего тела, о ковке себя самого подвигом, об очищении всего организма вниманием к себе.
И такая, «иссушенная» от влажной чувственности душа, т. е. душа «мудрейшая» (— «ξηρά ψυχή σωφοτάτη сухая душа — мудрейшая», сказал некий муж древности [275] —), такая оплотненная личность, такой устроенный человек противополагается душе влажной, личности рыхлой, неустроенной, «праздно–хаотической». — по слову Ф. М. Достоевского.
Но что же такое эта «устроенность»? — Это, — когда в личности все — на своем месте, когда в ней все бывает «по чину, κατά τάξιν» [276].
Вот, несмотря на свою прозаичность, ответ наиболее точный. «Все в личности на своем месте», «все в ней бывает по чину» — это значит: все её жизне–деятельности совершаются по Божескому закону [277], данному ей, — и не иначе; это значит, что и сама она, малый мир, занимает в мipe, — большом мире, — то самое место, которое от века назначено ей, — не соскакивает с предначертанного ей и ее скорейшим образом ведущего к Царствию Небесному пути. В «бывании всего по чину» и состоит красота твари, и добро её и Истина. Наоборот, отступление от чина — это и безобразие, и зло, и ложь. Все прекрасно, и благо, и истинно, но — когда «по чину»; все безобразно, зло и ложно, — когда само–чинно, само–вольно, само–управно, «по своему». Грех и есть «по–своему», а Сатана — «По–своему».
Грех — в нежелании выйти из состояния само–тождества, из тождества «Я=Я», или, точнее, «Я!».·Утверждение себя, как себя, без своего отношения к другому, — т. е. к Богу и ко всей твари, — само–упор вне выхождения из себя и есть коренной грех, или корень всех грехов. Все частные грехи — лишь видо–изменения, {стр. 178} лишь проявления само–упорства самости. Иными словами, грех есть та сила охранения себя, как себя, которая делает личность «само–истуканом» [278], идолом себя, «объясняет» Я чрез Я же, а не чрез Бога, обосновывает Я на Я же, а не на Боге. Грех есть то коренное стремление Я, которым Я утверждается в своей особности, в своем отъединении и делает из себя единственную точку реальности. Грех есть то, что закрывает от Я всю реальность, ибо видеть реальность — это именно и значит выйти из себя и перенести свое Я в не–Я, в другое, в зримое, — т. е. полюбить. Отсюда, грех есть то средостение, которое Я ставит между собою и реальностью, — обложение сердца корою. Грех есть непрозрачное, — мрак, — мгла, — тьма, почему и говорится: «тьма ослепила ему очи» (1 Ин. 2, 11) и еще великое множество речений Писания, где «тьма» синонимична «греху». Грех в своем беспримесном, предельном развитии, т. е. геенна, — это тьма, беспросветность, мрак, σκότος. Ведь свет есть являемость реальности; тьма же, наоборот, — отъединенность, разрозненность реальности, — невозможность явления друг другу, невидимость друг для друга. Самое название Ада или Аида указывает на таковой, геенский разрыв реальности, на обособление реальности, на солипсизм, ибо там каждый говорит: «Solus ipse sum!». В самом деле, Αδης, Αιδης, или Άϊδης, — первоначально Α Fίδης, — происходит от √Fίδ (= русскому √вид) образующего глагол ίδ–ειν, вид–еть, и отрицательной, точнее, лишительной частицы, — ά privativum [279]. Ад — это то место, то состояние, в котором нет видимости, которое лишено «видимости», которое невидно и в котором не видно. Аид — Без–вид; как говорит Платон [280] «έν Αιδου, τό αειδές δέ λέγω — в Аиде, я называю невидимое —», или, как определяет его Плутарх [281], «τό άδίδές και αόρατον — невидимое и незримое»; а Гомер говорит о «туманном мраке» Аида: υπό ζόφον ήερόεντα [282].
{стр. 179}
Одним словом, грех есть то, что лишает возможности обоснования и, следовательно, объяснения, т. е. Разумности. В погоне за греховным рационализмом сознание лишается присущей всему бытию рациональности. Из за умствования оно перестает созерцать умно. Сам грех — нечто вполне рассудочное, вполне по мepe рассудка, рассудок в рассудке, диавольщиииа, ибо Диавол+Мефистофель — голая рассудочность [283].
Но именно потому, что он — рассудок по преимуществу, он обессмысливает все творение Божие и самого Бога, лишая его перспективной глубины обоснования и вырывая из Почвы Абсолютного, все располагает в одной плоскости, все делает плоским и пошлым. Ведь что́ иное есть пошлость, как ни наклонность отрывать все, что ни зримо, от корней его и рассматривать как самодовлеющее и, следовательно, неразумное, т. е. — глупое [284].
Диавол–Мефистофель, этот Чистый Рассудок, и есть Чистая Пошлость [285]; потому–то он и видит одну только глупость. А грех — начало неразумия, начало непостижимости и тупой, безысходной остановки умо–зрения. Он, — «льстиво–мудрый», по песнопениям св. Церкви, — завлекает в мнимую мудрость и тем отвлекает от подлинной.
Самое слово «грех» приравнивают к слову «o–грех» [286] , так что «грешить» значит «ошибиться», «не попадать в цель», наконец, «дать мимо», «дать маху», «пропустить» [287]. Нам нет надобности решать вопрос о том, насколько правильна такая этимология, ибо, по существу дела, грех, все равно, есть огрех, есть «дать мимо». Но мимо чего́ же ведет нас грех? Во что́ не попадаем мы? — Мимо той нормы бытия, которая дана нам Истиною. Не попадаем в ту цель, которая преднамечена нам Правдою, — одним словом, не желая подвига, сходим с истинного своего пути, начертанного на земле Божественным Пер{стр. 180}стом, Подвиго–положника. И опять повторяю: грех есть извращение. Это — pac–путство, т. е., переход с пути на путь, шатание по разным путям, блуждание по разным дорогам, а не по единственной правильной; или еще, это — блуждание, блужение, блуд, потеря своей настоящей стези и «хождение путями своими» (Деян. 14, 16), как ходили язычники, и неспособность ожесточенным и заблуждшим сердцем познать пути Господни, как то случилось с иудеями (Пс. 94, 8–10; Евр. 3, 7–10).
Каков же истинный путь, называемый в Писании «узким путем в жизнь» (Мф. 7, 14, ср. Деян. 2, 8), «путем мира» (Лк. 1, 19), «путем спасения» (Деян. 16, 17) и «путем Господним» (Деян. 19, 9), «путем Истины» (2 Пет. 2, 2) и «путем прямым» (2 Пет 2, 15)? —
Это — целомудрие. И самое слово–то цело–мудрие, σο–φρωσύνη или σαο–φροσύνη по своему этимологическому составу указывает на цельность, здравость, неповрежденность, единство и вообще нормальное состояние внутренней жизни, нераздробленность и крепость личности, свежесть духовных сил, духовную устроенность внутреннего человека. Цело–мудрие, σο–φρωσύνη или σαο–φρωσυνη — почти тоже, что цело–мысленность (— разумея «мысль» в отеческом слово–употреблении, т. е. в смысле вообще духовной жизни —), цело–мыслие, цело–умие, цело–разумие, здраво–умие, здраво–мудрие, σαός φρόνησις. Таково значение слова у св. отцов, таково же оно и у древних философов [288]. — Целомудрие — это простота, т. е. органическое единство, или, опять таки, цельность личности: «доступен и гостеприимен должен быть дух человека, готов к благоговению и благодарности, весь — улегченный слух и «чистое», «простое» око (άπλους οφθαλμός)» [289]. Противоположностью цело–мудрию является состояние развращенности, раз–врата, т. е. раз–вороченности души: целина личности разворочена, внутренние слои жизни, кото — (рым надлежит быть сокровенными даже для самого Я — таков по преимуществу пол —), они вывернуты {стр. 181} наружу, а то, что должно быть открытым, — открытость души, т. е. искренность, непосредственность, мотивы поступков, — это–то и запрятывается внутрь, делая личность скрытною. Жизнь личности совершается ού κατά τάξιν, не «по чину», и в ней — все не на месте. Развращенный человек — как бы вывороченный наизнанку человек, — человек, кажущий изнанку души и прячущий лицо её. Глаза такового избегают встречного взгляда, но уста извергают гнилое слово. Он трусит, как бы не узнали его слабости, а сам бесстыдно выставляет постыднейшее.
Стыд — это указатель, что́, — хотя и законное и Богом данное, — но должно таиться внутри, и что́ — быть обнаженным [290]. Но когда стыдливости нет, тогда является без–стыдство и цинизм, — казание сокровенного и прятание показуемого. Подъем на вершину сознания всего того, чему прилично быть в полу–мраке под–сознательной области, или, — что то же, — нисхождение сознания в таинственный сумрак корней бытия, Хамовское и хамское высматривание наготы родительства, — это и есть тот вывих душевной жизни, который именуется развращенностью.
Тут получает себе лик и, как бы, личность сторона нашего существа естественно безликая и безличная, ибо она — родовая жизнь, хотя и в лице происходящая. Получив же призрачное подобие личности, эта родовая подоснова личности делается самостоятельною, а настоящая личность распадается. Родовая область выделяется из личности и потому, имея лишь вид личности, перестает подчиняться велениям духа, — становится неразумной и безумной; а самая личность, потеряв из своего состава свою родовую основу, т. е. свой корень, лишается сознания реальности и делается ликом не реальной основы жизни, а — пустоты и ничтожества, т. е. пустою и зияющею личиною, и, не прикрывая собою ничего действительного, самой собою осознается как ложь, как актерство. Слепая похоть и бесцельная лживость — вот что остается от личности {стр. 182} после её развращения. В этом смысле, развращенность есть двойничество, и глубокомысленный символ такого двойничества — нередко встречающееся и на Западе и на Востоке изображение Сатаны со вторым лицом, на месте срамных частей, или же, — что делается изографами, не совсем разумевшими смысл изображаемого, — на месте чрева [291]. Психологический же разбор относящихся сюда переживаний находим в некоторых литературных произведениях [292].
Если стыд — буссоль сознания и отвес личности, то бесстыдство — указатель порчи, «испорченности» её и признак растленности души. А что́ такое растленность? — Да — все то же. «Тло» значит «дно, испод, основание как плоскость» [293]; так, говорится о «тле улья», «тле коробьи»; так, на тамбовском наречии обыкновенно выражение «до тла сгореть», т. е. до чиста, до основания; указываются еще выраженья, както: «его обокрали до тла», «хлеб до тла сгнил», т. е. весь, сколько было [294]. Очевидно, глаголы «тлеть» и «тлить» относятся к процессам гниения, разрушения и сопревания, происходящим у основания строений, лежащего прямо на земле. В таком случа рас–тление обозначает: или совершенное тленье, т. е. уничтожение души до конца, до тла [295], или же, что правильнее, как и слово раз–вращенность, — нарушение законного порядка слоев душевной жизни, — когда тло души разворачивается и попадает куда ему не следует, — выворачивание дна души, развращение до дна, как последнюю степень испорченности, — раз–винченность, рас–шатанность, раз–вал, рас–пад, раз–брод духовной жизни, её раз–дробленность, не–единство, не–цельность. Это — раз–двоенность мысли, двое–душность, двое–мысленность, двойственность, нетвердость в одном; одним словом, это — начинающееся еще до геенны разложение личности, её διχοτομια (Мф. 24, 51 = Лк. 12, 46). «Человек с двоящимися мыслями» уже тут, в этой жизни восчувствовал огнь гееннский. Как состояние противоположное цело–мудрию, растление де{стр. 183}лает человека нецеломудренным, т. е. лишает ум его целостности, его единства и ввергает в состояние мучительной неустойчивости.
Грех — сам в себе неустойчив. Единство нечистоты — мнимо, и призрачность этого лже–единства обнаруживается, лишь только оно вынуждается стать лицом к лицу с Добром. Нечисть едина — пока нет Чистого, но от одного только приближения Чистого скидывается с неё личина единства. Это распадение нечисти и это само–разложение «тошной силы» [296] наглядно обрисовано в повествовании об исцелении гадаринского бесноватого, одержавшегося нечистью. Стоит обратить внимание, как внезапно меняется единственное число нечистой силы на число множественное, лишь только Господь Иисус вопросил у неё об имени её, т. е. о сокровенной её сущности. Хотя кто́ не знает этого повествования, но я все же приведу его, печатая вразрядку нужные места. Святой евангелист Марк рассказывает, именно, о том как Иисус Христос с учениками «пришли в страну гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, встретил Его — одержимый нечистым духом, — άνθρωπος εν πνευματι άκαθάρτω — и вскричав, — κράξ аς, — громким голосом (— т. е. конечно, вскричал дух нечистый, а не одержимый им, хотя, возможно, — и устами одержимого —) сказал, — είπε —: «Что Тебе до меня, — έμοι — Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю, ορκίζω, Тебя Богом, не мучь меня, — με». Ведь Иисус сказал: «Выйди дух нечистый, — εξελθε, τό πνεύμα τό άκάδαρτον, — из сего человека». И спросил его αύτω: «Как тебе, — σοι, — имя?». И он сказал в ответ, — έπηρώτα — : «Легион имя мне, — μοι, — потому что нас много, — πολλοί εσμεν». И много просили Его, чтобы не высылал их, αυτούς, вон из страны той… И просили Его все бесы, говоря, — παρεκάλεσαν… πάντες οί δαίμονες, λέγοντες — : Пошли нас, — ημάς, — в свиней, чтобы нам войти, — είσελθωμεν, — в них». — Иисус тотчас позволил им, — αυτοις. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, — έξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα είσήλθον…» (Мк. 5, 13).
{стр. 184}
Иисус Христос разговаривает не с самим бесноватым, а с тем, что — в нем, — с нечистою силою. Эта нечистая сила — один нечистый дух, который и является одним и говорит о себе, как об одном. Но, лишь только Господь вопросил об имени, лишь только захотел, чтобы эта нечисть открыла подлинную свою суть, как она рассыпалась на неопределенное множество нечистых духов же, ибо «легион» текста означает именно «бесконечно много», «неисчислимо много», «неопределенно много» [297]. — Это внезапное разложение нечисти отмечено внезапным изменением единственного числа её в стихе 9а на число множественное» тогда как до вопрошения имени последовательно употреблялось число единственное (5, 1–9а), а после вопрошения столь же последовательно проходит всюду число множественное.
По этому именно типу совершается и вообще изгнание нечисти. Заклинательная молитва именем Господа заставляет ее, призрачную личность распасться на дробность, на «легион» демонических состояний, из коих каждое, опять–таки выдает себя за личность [298]; заклинание обличает мнимость того единства, которое хочет основываться не на едино–сущии Пресвятой Троицы, а на подобно–сущии само–утвержения.
Таково неустойчивое, влажное и гниющее естество греха. Но если таково естество греха, — а противоположное ему — само–собранность и крепость души в целомудрии, — то невольно возникает вопрос о сущности этого целомудрия, представленного нами пока лишь описательно. Вопрос же о сущности целомудрия, в свою очередь, распадается на два, а именно:
во–первых, что́ такое это целомудрие духовное в сознании самого человека, т. е. как переживание, и, во–вторых, ка́к понимать целомудрие в плоскости онтологии, т. е. как объект мысли.
На первый из этих вопросов отвечает слово {стр. 185} «блаженство», а на второй — речение «вечная память».
Вникнем же в эти ответы более внимательно.
Итак, прежде всего, рассмотрим целомудрие как внутреннее переживание целомудренной души, т. е. как блаженство. В чем же «блаженство»? Что такое блаженный? — Мне думается, что наиболее точный ответ на наши вопросы, мы сможем получить чрез разбор соответствующих греческих слов, т. е. слов μακαρία, μακάριος, μάκαρ. Каков же первоначальный смысл этих слов? — Аристотель [299] изъяснял μάκαρ посредством происхождения от «сильно радоваться», «από μάλα καίρειν» — Но слово μάλα, как оказывается, интерполировано впоследствии, и все объяснение Аристотеля сводится к простому выяснению смысла слова; это подтверждает и Плутарх [300]. — Непригодно также и объяснение Евстафия [301], видящего в основе μάκαρ слово κήρ, — смерть, — и толкующего μάκαρ, как «бессмертный», не подверженный смерти — παρά τό μή υποκεΐσθαι κηρί»; против Евстафия говорит хотя бы то, что μάκαρ употребляется не только о бессмертных Богах, но — и о смертных людях [302].
Много думал над корне–словием μακάριος, μάκαρ Шеллинг [303], и его тонкие соображения я вкратце приведу сейчас. Правда, современная лингвистика не согласна с Шеллингом: и в науке ничто не долговечно; но, если бы даже его мысли и в самом деле были «не научны», — в жизни они много дают для понимания слова μάκαρ.
Главное, на что необходимо обратить внимание, по мысли Шеллинга, — это на непонятный слог «μα». Ключ к загадк μάκαρ — в первом слоге. По догадке Шеллинга, это — древняя частица, характеризующая собою отрицание, лишение, или как выражается один автор, «та — частица предостережения» [304]; т. е., другими словами, Шеллинг приравнивает μα к отрицательной частице μή [305]. Можно, по Шеллингу, пояснить такое значение «μα» на ряде слов, сложениых с μα, а именно:
{стр. 186}
10, μά–ται–ος — пустой, ничтожный, призрачный. Чего же тут не хватает, что́ отрицается, — То, что можно ухватить, осязать. Μά–ται–ος — неосязаемый, без–субстанциональный (substanzlose). Отрицание именно осязательности указывается частью ται–ος, со–коренною с эпическим повелительным наклонением τη — возьми, схвати, — с гомеровским причастием τεταγών, повидимому, происходящего от τά–ω, τά–γ-ω, что соответствует латинскому tango.
20, с μά–ται–ος связано наречие μά–την — без последствий, попусту, напр., говорить, и полное выразительности μα–τά–ω — медлить, мешкать, терять время — глагол, употребляемый в применении к человеку, который никогда не готов, всегда только вертится («шегути́тся» [306] у дела, берясь за него, но не ухватывая его надлежащим образом.
30, греческий язык имеет весьма различные выражения для обозначения непосредственных и мгновенных последствий, если за мыслью, словом или вообще данною возможностью следует дело, действительность («осязаемое»). Таковы άφαρ, αΐψα. Замечательно, что противоположностью им является гомеровское μάψ [307] — слово, очевидно, составленное из μά и αΐψα, — т. е. тщетно, попусту, необдуманно опрометчиво.
40, от μάψ происходить прилагательное μαψίδιος (у Гомера — только в форме наречия) и μαψιλογος, напр, μαψίλογοι οιωνοί — птицы, которых крик не имеет никаких последствий, ничего не обозначает.
50, μα–λακ–ός — мягкий, нежный, изнеженный, вялый, нерешительный, неэнергичный, равно как и происходящий от него глагол μα–λά(κ)σσω — делать мягким, смягчать, слабеть, быть изнеженным имеет отрицательное значение. По–видимому, это выражение образовано от лишения некоторого свойства, а именно способности давать звук при разрывании или разламывании; таково мягкое тело, тогда как непрерывность твердого не может быть нарушена без шума. Другими словами, в μα–λακ–ός входит глагол λάσκω (откуда — λακείν, έλακεν), что значит: звучать, трещать, трескаться, громко кричать, громко лаять и т. п., или λακάζω и λακέω — кричать, шуметь, ломаться с треском.
60, к примерам Шеллинга можно присоединить еще один, а именно μα–κλ–ος — похотливый, страстный, от которого происходить μα–κλ–οσύνη — похоть, страсть. Отрицаемым тут является κλσύνις — оскопление, так что μάκλος значит не–оскопленный.
70, приведенные примеры делаются еще более убедительными, если сделать небольшой экскурс в область осе{стр. 187}тинского языка [308]. Дело в том, что в этом языке частица употребляемая в сложении с повелительным и сослагательным наклонением глаголов, обозначает повелительное отрицание того и или другого действия. Так, например: «ма́ заг — не говори» (осетннск. загэн = немецк. sagen), «ма цу — не ходи», «ма ноаз — не пей», и т. п.
Итак, частица «μα» имеет привативное значение. — Обращаемся ко второй составной части μάκαρ. Она, по Шеллингу, происходит не от κήρ (род. п. κηρός) — смерть (т. е. μάκαρ не значит бессмертный), но от καρδία, κέαρ, κήρ (p. п. κήρος) — сердце. Постоянный эпитет к κήρ есть φίλον, так что κήρ обозначает искреннейшую часть человека, его собственную самость, место «страстей» вообще и, среди них, «любви» особенно (откуда — часто–употребительный оборот: περί κήρι φίλος — друг по́-сердцу; κηρόθι — сердечно, от сердца, напр., любить), преимущественно же — место поедающей печали и скорби, гнева, злорадства (ср. наше «всердца́х»). Но для сердца — не случайное только состояние быть поедаемым печалью или беспокойством; сердце — само постоянное желание и хотение, собою поедаемый, негаснущий огонь, который томится в груди каждого человека и есть собственно дух, двигающее, влекущее начало жизни, так что тот, кто лишен жизни, у Гомера [309] называется поэтому άκήριος, — бессердечным. На то же указывает происхождение слова κέαρ скорее от κέρδειν, κείρειν — пожирать, absumere, нежели от κέω, κείω, κεάζω — спать, — или от κέω, καίω — пылать, гореть, ardere, ибо сердце есть fons ardoris vitalis. Глагол κείρειν говорится также о нравственном поедании, когда, например, выражаются, что «члены изъедены тоскою», «тоска грызет грудь» и т. п. Естественно и то, что существенно равно–звучащие слова, как ή κήρ — Богиня смерти и τό κήρ — сердце, могут быть сведены к одному и тому же первоначальному понятию — есть, пожирать. Желание стать «для себя» раздваивает душу. Этим отбрасывается неожиданный свет на глоссу Изихия [310], объяснявшего τό κήρ как ψυχήν διηρημένην, как {стр. 188} «душу раздвоенную», «раcщепленную»: это раздвоение и является причиною несчастия. Мятение неусыпного желания и хотения, которым увлекается каждая тварь, само по себе есть нарушение блаженства, а приведенное к покою κέαρ также само по себе было бы блаженством.
В подтверждение Шеллинговских соображений можно опять сослаться на осетинский язык. Слово μάκαρ почти созвучно с осетинским "ма хар" (произносится слитно: маха́р), т. е. «не ешь». Повелительное наклонение «хар» происходит от глагола «ха́рэн» — есть, в смысле стравливать, уничтожать, что видно из выражения «ахца́ бахо́рта» — деньги он уничтожил, изжил попусту, стравил; в слове «бахо́рта» префикс «бa» (= немецкому bе) указывает на законченность действия и равносилен русским «раз, из, с», а остальная часть слова происходит от глагола «харэн». Замечательно, что с этим глаголом можно (?) также связать идею смерти «керыэн» (на дигорском наречии, — по Вс. Миллеру — древнейшем из осетинских диалектов) или «черыэн» (на осетинском наречии) означает «гроб». — Сюда же должно отнести и сокоренные, как мне кажется, слова «харч, харчόба (донское), харчи, т. е. съестной припас, пища, еда, продовольствие», а также «привар, пища кроме хлеба, особенно мясная, мясо» [311]. Харч — то, что поедается, — ядомое. Отсюда, далее, — харчевня, как место еды, и, вероятно, харя, т. е. то, «что ест», «пасть», «морда», «рот».
Итак, сущность объяснений Шеллинга состоит в том, что μακάριος выражает мысль об умиротворенности сердечного кружения, о полной успокоенности парящих помыслов сердца. Греческое «μάκαρ» = осетинскому «маха́р»: в состоянии μακαρία кончается само–поедание сердца. Сюда следует еще добавить, что μή, — к которому приравнивается μα, — не есть отрицание в собственном смысле; μή ον значит не «небытие», а «возможность бытия». Поэтому μακαρία — это не простое отрицание «пожирания» [312], не противоположное пожиранию, а вечное торжество над ним, вечное приведение его к одной только возможности, вечное наступание на главу самости, у блаженного, у μάκαρ самость — возможность, и он — potest non peccare, «может не грешить» [313].
{стр. 189}
Нетрудно видеть, что так понимаемая μακαρία довольно близко подходит к положительному пониманию нирваны позднейшего буддизма, т. е. к состоянию угасания страсти, успокоенности от всякого возмущающего душу движения, — к пребыванию в вечном покое, куда не достигает коловращение призраков самсары [314].
Нужно заметить, впрочем, что современная лингвистика [315] производить μάκαρ от √mac. — иметь силу, мочь, производить, породившего также слово μακρός — длинный. Но несомненно одно, — то именно, что Шеллинг правильно передает по меньшей мepe одну сторону в содержании μακαρία. Μακαρία есть вечный покой, как следствие озарения души немеркнущим светом самой Истины. Идеею этого «покоя», «жизни», или «жизни вечной» пронизано все Писание и все свято–отеческое и литургическое творчество. «Войти в покой Божий, είσελθειν είς τήν κατάπαυσιν …» — такова тема Евр. 4. В этом вхождении — долго–жданное обетование народа Божиего, его «субботство, σαββατισμός» (Евр. 4). «ибо кто вошел в покой Его [Бога], тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог — от Своих» (Евр. 4, 10). В Крепости пресв. Троицы, на утверждении Истины нет мятения и кружения лукавых помыслов; кто в Духе. — завершающем дело Божие, — тот успокоился от дел своих, — не от «дела» жизни, а от дел, от тех дел, про которые сказал Проповедник: «Суета сует, суета сует, все суета. Одно поколение отходит, другое поколение приходит, а земля во веки пребывает. Восходит солнце и заходит солнце и, на место свое поспешая, восходит оно таме. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится на ходу своем ветер, и на круги свои возвращается ветер. — Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 2–9). — Но кто не успокоился в Завершителе–Духе, тот должен будет дать отчет пред все–проникающим Словом Божиим (Евр. 4, 12, 13). Таинственным отсечением дел тленных {стр. 190} приобретет тогда покой подсудимый, — получит метафизическое субботствование. Скажет себе: «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя» (Пс. 114, 7, по евр. счету 116, 7). «И отрет Бог всякую слезу с очей его, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 4): наступила μακαρία.
Блаженство, как отдых от неустанно–жадного и никогда не удовлетворенная хотения, как само–заключенность и само–собранность души для вечной жизни в Боге — одним словом, как полно–властное и потому вечно осуществленное повеление себе самому: «ма́-хар — не ешь себя» — такова задача аскетики. Только построив себя в земной жизни, только пресуществив помыслы в высшее созерцание, только соделав дольнее символом горнего можно получить блаженство (см. Откp. 21, 27; 22, 14, 15 и др.).
В I–м веке, когда казалось так близко Далекое, когда Огненный Язык горел еще над головою верующего, благая Весть впервые дала людям вкусить сладость покоя и отдых от кружащихся тленных помыслов; этим она освободила сознание от одержимости демонами и от вытекающих отсюда постоянной демоно–боязни и рабства [316]. Христос извел нас из «мира немирного и тревожного» [317], — вот почему перво–христианские писатели особенно чутки к новому дару, — покоя.
В полной непосредственного вдохновения харизматической проповеди неизвестного составителя, слывущей под именем «2 го послания Климента к коринфянам», мучение геенны огненной противо–поставляется обетованию Христову:
«и знайте братья, что странствование плоти нашей в мире этом мало и кратко–временно, а обещание Христово велико и дивно, именно: покой будущего Царства и вечной жизни — και άνάπαυσις τής μέλλούσης βασιλείας και ζωής αιωνίου» [318]. — «ибо, — говорится в другом месте, — исполняя волю Христа, мы найдем покой — ευρήσομεν άνάηαυσιν; иначе, ничто не избавит нас от вечного наказания — αιωνίου κολάσεως, — если мы презрим заповеди Его» [319]. — «Как вам кажется, — спрашивает своих слушателей проповедник, — что́ дол{стр. 191}жен потерпеть тот, кто не выдержит нетленного подвига? О тех, которые не сохранили печати, сказано: «Червь их не умрет, а огонь их не угаснет, и будут они в позор всякой плоти» (Ис. 66, 24) [320]. — А произведение «бессмертного плода воскресения» [321] характеризуется как «блаженство» и как переход в «бесскорбный век» [322].
Точно также, в одной из древнейших литургийных молитв Церковь, устами иерея, молится, чтобы Бог вселил верных «в место злачно, на воды успокоения, в рай веселия, откуда удаляются всякая печаль и воздыхание, — в свет святых» [323].
Все «последование погребения» построено на этих неразрывных между собою идеях оправдания–покоя–блаженства–бессмертия и противоположных им греха–суеты–муки–смерти. Победа Христова над смертью, дарование жизни рассматривается как преодоление мирского пристрастия, как прохлаждение внутреннего горения грешной души, как осветление тьмы греховной, как «вселение во дворы праведных» — как мир в Боге, как отдых от греховного мыкания, от дел, которые «вся сени немощнейша, вся сонии прелестнейша».
«Господи, душу раба Твоего упокой», «Христе, душу раба Твоего упокой» — вот тема отпевания. Все остальное — только развитие этой темы, раскрывающее внутренние условия успокоения.
Возьми для примера тропари:
«Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни яже у Тебя Человеколюбче».
«В покоищи Твоем Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко един еси человеколюбец».
«Ты — еси Бог, сошедший в ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой …».
Овеяна тихим вечным успокоением молитва:
«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру твоему даровавый: Сам Господи, упокой душу усопшего раба твоего, имярек, в месте светле, в месте {стр. 192} злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение содеянное им, словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит: Ты бо един кроме греха, правда Твоя, правда во веки и слово Твое Истина. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопшего раба твоего, имярек, Христе Боже наш …».
Невольно тянет переписать всю эту тихую музыку мира, тишины и покоя. Как листья осенние скользят друг за другом одною неразрывною вереницею примиренные вздохи очищенной души:
«Упокой Боже, раба твоего, и учини его в раи, идеже лицы святых Господи, и праведницы сияют яко светила, усопшего раба твоего упокой, презирая его вся согрешения».
«… Просвети нас верою Тебе служащих, и вечного огня исхити».
«Покой Спасе наш с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы твоя, якоже есть писано, презирая яко благ прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче…»
«От текущих непостоятельные тли, к Теб пришедшего, в селениях вечных жити радостно сподоби блаже, оправдав верою же и благодатию», «… чадо света соделовая — греховную силу очищая».
«… отошедшего в сладости раистей всели».
«Со святыми упокой Христе душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
Или послушай «Самогласны Иоанна Монаха»:
«Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся сонии прелестнейша: единем мгновением, и вся сия смерть приемлет. Но во свете Христе лица Твоего, и в наслаждении Твоея красоты, его же избрал еси, упокой, яко человеколюбец».
«Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва; вся персть, вся пепел, вся сень, но приидите, возопим бессмертному Царю: Господи, вечных Твоих благ сподоби представльшагося от нас, упокояя его в нестареющемся блаженстве Твоем».
«… в селениях праведных упокой».
«Христос тя упокоит во стране живущих, и врата райская да отверзет ти, и царствие покажет жителя, и оставление тебе дает, о них же согрешил еси в житии, христолюбче».
Вот что такое цельность духа, как переживание. Посмотрим же теперь, что́ она в плоскости онтологии.
{стр. 193}
Целомудренное житие есть цельность и неиспорченность человеческого существа. Таково определение его, как сущего «о себе». «Для себя» оно есть блаженство умиренного и умерённого сердца, т. е. Из беспредельности желания в меру приведенного, мерою обузданного, посредством меры упрекрасненного. Но, — последний вопрос, — что́ же такое эта целомудренность «для другого» и именно «для Другого». Что — она, как момент жизни Божией, — Она — «память Божия», «вечная память» Его. «Оглядываясь назад в прошлое, — говорит один мыслитель, — мы встречаем в конце его мрак и напрасно усиливаемся различить в том мраке формы, подобные воспоминаниям. Тогда мы испытываем то бессилие истощенной мысли, которое называем забвением. Небытие непосредственно открывается в форме забвения, — его отрицающей» [324]. Все несет с собою река Времени, и потому несет, что в здешнем мире ни у чего нет крепкого корня, ни у чего нет внутренней крепости. «Вся соний прелестнейша», и текучи люди, —
«Немощью сковано племя их бедное,
«Недолговечное, грезам подобное» [325];
все удобо–превратно, все проходит мимо, все уходит. Один только есть Пребывающий — Αλήθεια. Истина–Αλήθεια — это Незабвенность, не слизываемая потоками Времени, это Твердыня, не разъедаемая едкою Смертью, это Существо существеннейшее, в котором нет Небытия нисколько. В Нем–то, нетленном, и находит себе охрану тленное бытие этого мира; от Него–то, Крепкого, и получает оно крепость–целомудрие. Бог дарует победу над Временем, и эта победа есть «памятование» Богом–Незабвенностью: Сам — над Временем и все может приобщить Вечности. Как? — Памятуя о нем.
Примечательно, что семитский трех–буквенный корень זכר — припоминать, помнить, по Швалли, имеет основным своим значением «призывать в культ», а производное זכר мужчина, означает собственно «куль{стр. 194}товое лицо — kultische Person», ибо только таковой, мужчина, мог участвовать в культе [326]. Таким образом, самое понятие о памятовании оказывается не более как рефлексом культового поминовения, и память вообще — применением к человеку того, что собственно относится к Богу, ибо Ему Одному свойственно помнить в истинном значении слова.
«Помяни — μνήσθητι — Господи, имярек», говорит иерей, вынимая на проскомидии частицу из просфоры и полагая ее на дискос. А в отношении умершего — речение равносильное: «упокой, Господи, имярек, ибо и «упокоение» Господом и «памятование» им означают одно и то же, — спасение того, чье имя произносится. Самые диптихи, или списки имен тех живых и усопших, за которых молится каждый из нас, носят выразительное название «помянников» или «поминальников».
«Помяни, — μνήσθητι — Господи, во множестве щедрот твоих, и вся люди твоя, сущыя и молящыяся с нами, и всю братию нашу, яже на земли, на мори, на всяком мест владычествия твоего, требующих твоего человеколюбия и помощи, и всем подай великую твою милость …» [327], —
молится иерей в начал утрени, или, еще определеннее:
«Приклони ухо твое и усльши ны, и помяни, Господи, сущыя и молящыяся с нами вся по имени, и спаси я силою твоею — και μνήσθητι Κυριε των συμπαρόντων και συνευχομένων ήμΐν πάντων κατ' όνομα και σώσον αυτους τη δυνάμει σου» [328].
О чем просил со креста благоразумный разбойник? — «Помяни меня — μνήσθητι μου, — Господи, когда приидешь во Царствии Твоем!», просит помянуть, и — только. А в ответ ему, во удовлетворение желания его, — желания быть помянутым, — Господь Иисус свидетельствует: «истинно говорю тебе, днесь со мною будешь в раю» (Лк. 23 42, 43). Иными словами, «быть помянутым» Господом это то же, что «быть в раю». «Быть в раю» это и значит быть бытием в вечной памяти и, как следствие этого, иметь вечное существование и, следо{стр. 195}вательно, вечную память о Боге: без памятования о Боге мы умираем; но самое–то наше памятование о Боге возможно чрез памятование Бога о нас.
Понятно, что если Церковь всегда молится о поминовении, то эти молитвы делаются особенно усердными, когда оканчиваются счеты с этою жизнью. Вот почему, по отпуст великой паннихиды или парастаса диакон возглашает:
«Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи успшему рабу твоему имярек и сотвори ему вечную память»,
а певцы трижды поют:
«Вечная память».
Точно так же, после отпуста в последовании погребения мирских человек, архиерей или «начальствуяй иерей сам глаголет трижды сие»:
«Вечная твоя память достоблаженне и приснопамятне брате наш — αΐωνία σου ή μνήμη, αξιομακάριστε καϊ άεί–μνηστε άδελφε ήμών»,
после чего певцы поют трижды:
«Вечная память».
Впрочем, у греков последнего не полагается [329].
Тут пожелание вечной памяти равносильно признанию «достоблаженства, άξιομακαρίας», т. е. способности быть блаженным в Лоне Божием.
Если, теперь, спросить себя, каков же смысл речения «вечная память», требует ли оно после себя genetivus objectivus или genetivus subjectivus, то, на основании всего сказанного, должно признать, что оба смысла содержатся тут, ибо «вечная память моя» значит «вечная память» Бога обо мне, и меня — о Боге. — короче, вечная память Церкви, в которой зараз сходятся Бог и человек. И эта вечная память — победа над смертью:
«Над смертью вечно торжествует,
в ком память вечная живет»…
{стр. 196}
Томительной жаждой вечной памяти и жгучим исканием найти ее охвачен был весь языческий мир; в самых существенных сторонах своего устроения он определялся именно этою потребностью, этою тоскою и этим порывом к вечности. Если и преувеличена теория, по которой вся языческая вера, со всеми своими жизненными осуществлениями (— а что в античном обществе не есть осуществление веры? —) — лишь безмерная вариация на тему: «кульm предков», то все таки несомненно существеннейшее значение этого культа для всей языческой жизни, особенно же — греко–римской. Тут голос предко–почитания почти заглушает все прочие голоса или, по меньшей мере, ко всем им присоединяется, образуя собою основной фон общественного бытия. Но что́ же такое это общение с усопшими, как ни попытка осуществить религиозное поминовение их, как ни ответ на беспокойство отошедших предков о вечной памяти в потомстве, — настоящем и — быть имеющем. Весь общественный строй обслуживает первее всего именно эту потребность, — потребность обеспечить усопшим непрерывныя поминки их, непрестанный помин душ их, непрекращающееся памятованье о них, беспредельнодолгую память их со стороны потомков? — Что это, как ни твердое решение потомков не выбросить их (— выбрасывается падаль —), а благоговейно схоронить, т. е. сохранить в лоне тех религиозных ячеек, которые, по человеческой стороне, можно назвать предварениями и прообразованиями церкви. Жизнь есть творчество. Но разве иное что есть творчество, как ни порождение чад духовных, как ни пересоздание людей no своему Божественному образу. С другой стороны, жизнь есть чадородие. А чадородие — это именно творчество, создание в мире людей по своему образу, данному Богом. И духовно и телесно жизнь хочет распространить себя. Как? — Оставляя во времени пребывающий образ свой, — как бы огненный след, тянущийся за падающею звездою. Творчество жизни осуществляет память о творив{стр. 197}шем, и потому, как объясняет у Платона жрица Диотима [330], стремление к творчеству, духовному ли, или телесному, стремление к чадородию — духовному или телесному, т. е. эpос, есть ничто иное, как внутреннее, неотъемлемое от души и неукротимое искание вечной памяти.
Таким образом, по признанию глубочайшего из язычников, и влюбленность, и супружеская верность, и родительская любовь к потомству, и все высшие деятельности, — одним словом, — вся жизнь имеет в основе не что иное, как желание, как жажду вечной памяти.
Но, насколько необходимо–присущи человеческому естеству это желание и эта жажда и потому — безусловно и законны, настолько же неудовлетворенными остаются он в язычестве. Тут человек ищет любви не вечного Бога, а тленного со–брата своей гибели; и за памятью обращается не к Присно–сущему, а к мимо–идущему, — к цепи поколений, из которых каждое — «соний прелестнейше» и которые, все вместе, следовательно, — существенно ничуть не более пара и мечты. И не только смена поколений, возникающих и исчезающих подобно листам древесным, но и самое человечество, самое Grande Etre, «Великое Существо», которым успокаивал себя О. Конт [331], призрачно. И оно идет «έκ μηδενός εις ούδέν [332] — из ничто в ничто». Не вечную память могут воздать своему предку те, кто сами уносятся Временем, а лишь временное памятование. — хотя бы и долгое, хотя бы и неопределенно–долгое. Да и что́ значит человеческое памятование, бессильное как и человеческая мысль. Ведь Бог обладает мыслию творческою, — «мыслит вещами» [333], почему и вечная память Его — могучее и реальное положение в Вечности того, что уже отошло во Времени. Человеческая же мысль, — особенно мысль человечества развращенного и истощенного, — это лишь бессильное и призрачное положение во Времени того, чего нет уже во Времени, — тщетное хватание узкользающей тени.
{стр. 198}
Понимали ли сами язычники недостаточность этого «временного» поминанья? Чувствовали они неудовлетворенность от этой, «временной» памяти? Желали ли они иного, вечного помина души? — Бесспорно да. Изобразительные памятники древности, — все, — показывают черную пелену смерти, застилавшую очи·[334]. Либо тупая придавленность Востока, либо пепельная меланхолия Египта — вот обычные настроения древних, когда нет безумного забвения в оргийном экстазе. Однако, ошибочно было бы отнести это насчет неумелости художников. Но оставим Восток и Египет, взглянем на благороднейшую из культур, когда–либо бывших на земле. По свидетельству одной современной путешественницы, описывающей памятники вновь извлеченные из недр земли, своим умением изображать разнообразный душевные движения «греческий скульптор пользуется сравнительно редко; его создания редко веселятся, плачут или негодуют, им свойственно по бо́льшей части выражение тихой спокойной сосредоточенности». Надгробные плиты, или «стелы», представляют нам во–очию жизнь задушевную и бытовую; однако, тут еще более «поражает это выражение». На этих плитах, всего чаще художники изображали, как члены одной семьи встречаются в загробном мире. Они протягивают друг другу руки с выражением какой–то тихой грусти на лице. Спокойная сосредоточенность, скорбное примирение с тем, что неизбежно, — таково преобладающее настроение этих памятников. — Здесь тихая лирическая грусть и сосредоточенность. И надписи на этих памятниках так же интимны и просты, как и самые изображения. «Прости Агафон», гласит, например, одна из них. Не плакать приходили греки на могилы своих умерших, а вспоминать их таковыми, какими они были при жизни» [335]. Да и что́ же остается, как ни примирение и покорность, если ясно сознано, что
«Смерть и Время царят на земле».
{стр. 199}
Потому–то с безнадежною грустью смотрят эллины на смерть; и неумолимо четка для них мысль о призрачности загробного существования. Глубокий символ этого сознания — свиданье в Аиде Одиссея с тенью своей матери. Сам он рассказывает царю Алкиною:
«… увлеченный сердцем — обнять захотел я отшедшую матери душу:
три раза руки свои к ней, любовью стремимый, простер я
три раза между руками моими она проскользнула
тенью иль сонной мечтой, из меня вырывая стенанье» [336].
Несмотря на постоянное поминовение, нет для усопших вечной памяти и нет, значит, загробной реальности.
«… такова уж судьбина всех мертвых, расставшихся с жизнью.
Крепкие жилы уже не связуют ни мышц, ни костей их;
вдруг истребляет пронзительной силой огонь погребальный
все, лишь горячая жизнь охладелые кости покинет:
вовсе тогда, улетевши, как сон, их душа исчезает» [337].
Жизнь загробная — не более как выцветшее и вытравленное Временем подобие жизни земной.
Для человечества, не знающего или не желающего Сущего, подобный взгляд на посмертную участь — единственный возможный, по крайней мepe, наименее скорбный из всех возможных. Доказательство тому имеем мы в художественных образах Мориса Метерлинка, — разумею его «Синюю Птицу» [338], — которыми он облекает это древнее учение.
Но ни великолепные образы поэта, ни равно–значительная им теория Огюста Конта, ни, наконец, все возрастающий и гипнотизирующий массы культ «великих», «героев», «деятелей» — никакие речи, сборники, популярные издания, чествования и крики не заглушат той очевидной даже для древних язычников, — не то что для отступников и предателей Истины, — что если нет Вечной Памяти, то всякая временная память — плохое уте{стр. 200}шение. В вакханалии слов и криков уверяют усопших, что как были они «первыми» и «великими», так и пребывают «первыми» и «великими». Так уж и встарь Одиссей убеждал умершего Ахилла:
«…— Я скитаюсь и бедствую. Ты же
между людьми и минувших времен и грядущих был счастием
первый: живого тебя мы как Бога бессмертного чтили,
здесь же, над мертвыми царствуя, столь велик ты, как в жизни
некогда был; не ропщи же на смерть, Ахиллес Богоравный» [339],
но, как и Ахилл, каждый из «великих» без–церковников ответствует на эти мнимые утешения «тяжко вздыхая»:
«О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я — живой, как поденщик, работая в поле,
службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
нежели здесь над бездушными царствовать, мертвый» [340],
Ибо ни умственное и художественное творчество, ни семейная жизнь не обеспечивают вечной памяти, а потому, не обеспечивая и вечной реальности, не укрепляют личности в Вечной Жизни.
Но что́ ж такое память? Уже психологическое её определение, а именно как «прирожденной способности к представлениям» [341], несмотря на свою отвлеченность, отмечает существенную связь её с процессами мышления вообще. С другой стороны и теория познания, чрез понятие трансцендентальной апперцепции, вкупе со всеми в эту последнюю входящими актами аппрегензии, репродукции и рекогниции, делает память основною познавательною функцией разума. Подобное же убеждение выражает и Платон, облекая его образами мифов. «Мать Муз» — т. е. видов духовного творчества — «Память, Μνήμη» [342], говорит он в диалоге своей юности; знание — «припоминание, άνάμνησις» мира трансцендентного [343], высказывается он в зрелом возрасте [344].
Таким образом, если трансцендентальная память — основа знания! по Канту, то память трансцендентная — {стр. 201} основа знания, по Платону. А если, далее, мы обратим внимание, что и «трансцендентальное» у Канта имеет явно трансцендентный смысл [345], и «трансцендентное» у Платона может получать истолкование как «трансцендентальное» [346], то сделается несомненным сродство мыслей двух величайших представителей философии. Сюда нужно еще присоединить взгляды значительнейшего и наиболее влиятельного из представителей философии наших дней, Анри Бергсона, для которого «память» опять таки есть та деятельность, с которой «мы вступаем в область духа» [347] и которая делает духовное существо само–сознательным, т. е. самим собою. И тогда мы согласимся, что вся теория познания, в конечном счете, есть теория памяти [348].
Однако, нас собственно интересует онтологический момент памяти. Что же она, как деятельность души? — Она — творчество мыслительное и, скажем более, единственное творчество, присущее мысли, ибо фантазия, — как известно, — есть только вид памяти [349], а предвидение будущего — тоже не более как память [350]. Память есть деятельность мыслительного усвоения, т. е. творческое воссоздание из представлений, — того, что открывается мистическим опытом в Вечности, или, иначе говоря, создание во Времени символов Вечности. Мы «помним» вовсе не психологические элементы, а мистические, ибо психологические потому–то и психологичны, что во Времени происходят и со Временем безвозвратно утекают. «Повторить» психологический элемент так же невозможно, как невозможно повторить то время, с которым он непрерывно связан: жизнь психологического элемента — по существу жизнь едино–моментная. Но можно снова коснуться над Временем стоящей и раз уже пережитой мистической реальности, лежавшей в основе одного представления, ныне утекшего, и имеющего лечь в основу другого, наступающего и родственного первому по единству мистического содержания. Память всегда {стр. 202} имеет значение трансцендентальное, и в ней мы не можем не видеть нашего над–временного естества. Ведь очевидно, что если о некотором представлении мы говорим как о воспоминании, т. е. как о чем–то прошедшем, то эта «прошедшесть» дана нам, и дана теперь, в том «настоящем», когда мы говорим. Другими словами, прошедший момент Времени должен быть дан не только как прошедший, но и сейчас, как настоящий, т. е. все Время дано мне, как некое «сейчас», почему сам я, смотрящий на все Время, зараз мне данное, — сам я стою над Временем [351].
Память есть символо–творчество. Помещаемые в прошедшее эти символы, в плоскости эмпирии, именуются воспоминаниями; относимые к настоящему они называются воображением; а располагаемые в будущем — считаются предвидением и предведением. Но и прошедшее, и настоящее, и будущее, — чтобы сейчас быть местом для символов мистического, должны сами переживаться, хотя и как разновременные, но зараз, т. е. под углом Вечности [352], во всех трех направлениях памяти деятельность мысли излагает Вечность на языке Времени; акт этого высказывания и есть память. Сверх–временный Субъект познания, общаясь со сверх–временным же объектом, это свое общение развертывает во Времени: это и есть память.
Таким образом, память — творческое начало мысли, т. е. мысль в мысли и собственнейше мысль. То же, что у Бога называется «памятью», — совершенно сливается с мыслию Божией, потому что в Божественном сознании Время тождественно с Вечностью, эмпирическое с мистическим, опыт — с творчеством. Божественная мысль есть совершенное творчество, и творчество Его — Его память. Бог, памятуя, мыслит и, мысля, — творит.
Язык тоже свидетельствует в пользу изложенного понимания памяти. По крайней мер корень слова {стр. 203} память, — √mn, — в индо–европейских языках означает мысль во всей широте понимания этого слова [353].
Па–мя–ть, старо–славянское па–мя–ть, со–коренно глаголам по–мя–ня–ти, по–ми–ня–ти, по–ми–на–ти и очевидно происходить от √мя. Отсюда понятна связь слова память с производными основы mn-, men-, mon-, относящимися то к памяти то к мысли. Таковы слова: мн–и-ть, мне–н-и–е, мн–и-м–ый, мн–ител–ьн–ый. Таковы: старо–славянские: мьн–ня, мьн–е-ти ся–мьн–е-ти (-ся) = dubitare, timere; сербские: мнити, су–мнь–а-ти; чешские: mneti, mni–m, mni–ti, mini–ti; польские: pomniec, niemac, mienic, sumnienie, sumienie — совесть; малорусские: мне–и-ты, по–мн–я-ты; белорусские: су–м — сомнение, су–мн–ый. Таковы–же, далее, санскритские: man (только в среднем залоге) — думать, верить, ценить и т. д. man–jate — мнить и т. д. manas — дух, воля, ma–t–is — внимание, мысль, намерение; man–ju–s — отвага и негодование и др·, литовские men–u, min–iu, min–ti — помнить, min–ta–s = мять, at — (is) — mint–is, min–e–ti, perman–i–ti; латышские: min–e–t — вспоминать man–i–ti — мнить; прусское: min–isn–an; латинские: me–mi (=e)n–i — помню, re–mi–n–i–sci — воспоминать, com–min–isc–i, com–men–tu–s (= немецкому ver–mein–t, вымышленный. men — (t)s — мысль, ум, воля и проч., Min–er–va, men–t–io — упо–мин–а-ние, mon–ere — напоминать, убеждать (= нeмецкому mahnen), mon–s–tru–m — чудовище (заставляющее о себе подумать, обращающее на себя внимание), нeмецкие: mein–en — мнить, Minne — любовь, Mensch — человек (т. е., собственно, «мыслитель»); готеские: ga–man, man — думаю, mun–an — мнить, mun–d, ga–mun–d–s, mun–s, мысль; исландское: muna, minna — воспоминание; древне–верхне–немецкие: minnon, man–e–n, man–o–n — увещевать, напоминать, meina — мнение; греческие: μεν–ος — вообще сильное душевное движение, стремление, желание, воля, гнев, ярость, затем также: жизненная сила, жизнь, сила и т. д., μά–ομαι, μέ–μον–α сильно стремиться, сильно желать, рваться душою к чему–нибудь и т. п., μιμνή–σκειν — напоминать, Μούσα из Μονσα, μήνις — гнев, μανία — исступление, μάν–τι–ς — видец, прозорливец и др., им подобные [354].
Таким образом, действительно, память — это и есть мысль по преимуществу, сама мысль в её чистейшем и коренном значении.
Мы спрашивали, что такое грех, и оказалось, что он — разрушение и извращение. Но ведь разрушение возможно как нечто временное; питаемое разрушаемым, раз{стр. 204}рушение, по–видимому, неизбежно должно иcсякнуть, пре–кратиться, остановиться, когда нечего ему будет далее разрушать. И то же — об извращении. Что же тогда? К чему ведет этот предел разрушения? Что́ такое это полное разрушение целомудрия? или, другими словами, что такое геенна — вот вопрос встающий теперь перед нами.
Но далее, за ним, обрисовывается еще вопрос, подобный сему. Если геенна — верхний предел греха, то где же нижний его предел, т. е. где опять таки угашение греха, но уже за полнотою целомудренной крепости. Другими словами, нам необходимо выяснить себе, что́ такое святость, и как возможна она. Геенна, как верхний предел греховности, и святость, как нижний его предел, или: геенна, как нижний предел духовности, и святость, как верхний её предел, — таковы наши ближайшие задачи.

Omnis igne salietur. Всякий огнем осолится.
{стр. 205}
Старец мой! Не могу тебе сказать, с каким боязливым чувством приступаю я к этому письму. Разве я не вижу, ка́к тут трудно выразиться. Остов наших топорных понятий слишком груб, и, надевая на него почти–неосязуемую ткань переживания, слишком легко нарушить её целость. Может быть, только твои руки примут ее не порванной. Только твои… Ведь вопрос о смерти второй — болезненный, искренний вопрос. Однажды во сне я пережил его со всею конкретностью. У меня не было о́бразов, а были одни чисто–внутренние переживания, беспросветная тьма, почти вещественно–густая, окружала меня. Какие–то силы увлекли меня на край, и я почувствовал, что это — край бытия Божия, что вне его — абсолютное Ничто. Я хотел вскрикнуть, и — не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вливаться во все существо мое. Само–сознание наполовину было утеряно, и я знал, что это — абсолютное, метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом: «из глубины воззвах к Тебе Господи. Господи, усльши глас мой!..» [355]. В э́тих словах тогда вылилась душа. Чьи–то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда–то, далеко от бездны. Тол{стр. 206}чок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется: из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут сразу почувствовал себя пред лицом Божиим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота. — Теперь, вот, прошло уже почти четыре года, но я содрогаюсь при слов о смерти второй, о тьме внешней и об извержении из Царства. И теперь всем существом трепещу, когда читаю: «Да убо не един пребуду кроме Тебе живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения моего» [356], т. е. не во тьме кромешной, вне Жизни, Дыхания и радости. И теперь с тоскою и волнением внимаю слову Псалмопевца: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего святаго не отыми от мене» [357]. Но, ведь, мое–то сонное мечтание, мои волнения: — чистая шутка пред тридцати–летним горением в геенне огненной, наяву, — пред тридцати–летним умиранием смертью второю. А такой случай был на самом деле.
В бумагах известного «служки Божией Матери и Серафимова» Николая Александровича Мотовилова найдено Сергеем Нилусом удивительное по яркости и по конкретности описание начинающейся одержимости бесом. Муки геенны, поскольку он постижимы нашим теперешним сознанием, — вот они в их жизненной правде:
«На одной из почтовых станций по дорог из Курска, — пересказывает слова Мотовилова С. Нилус, — Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи [материалы для Жития св. Митрофана Воронежского] и стал их разбирать при тусклом свет одинокой свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одною из первых ему попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки святителя Митрофана Воронежского.
"Я задумался", пишет Мотовилов: "как это может случиться, что православная христианка, приобщающаяся Пречистых и Животворящих Тайн Господних, и вдруг одержима бесом и притом такое продолжительное время, как тридцать с лишним лет. И подумал я: Вздор! этого быть не может! Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к Таинству Святого Причащения", и в то самое мгновение {стр. 207} страшное, холодное, зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста.
Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада вползающего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамени, застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно–ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к [Архиепископу] Антонию. Рукопись его дает такое описание мук:
"Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении три геенские муки: первая — огня несветимого и неугасимого тем более, как лишь одною благодатию Духа Святого. Продолжались эти муки в течение трех суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту геенскую сажу, что было видимо для всех. Престали эти муки лишь после исповеди и причащения Святых Таин Господних. молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквам Воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего болярина раба Божия Николая ектиниями".
"Вторая мука в течение двух суток — тартара лютого геенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства, я с полчаса держал руку над свечею, и она вся закоптела донельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на целом листе и к тому месту описания рукою моею и на ней свечною сажей мою руку приложил. Но обе эти муки Причащением давали мне возможность пить и есть, и спать немного мог при них, и видимы он были всем".
"Но третья мука геенская, хотя на полсуток еще уменьшилась, ибо продолжалась только I 1/2 суток и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неописуемого и непостижимого. Как я жив остался от неё! Исчезла она тоже от исповеди и Причащения Святых Таин Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта мука была червя неусыпного геенского, и червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден, но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо грыз всю мою {стр. 208} внутренность и, выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо не даром подалось мне это свыше от Господа видение, да и не возможет кто подумать, что я дерзаю всуе имя Господне призывать. Нет! в день Страшного Суда Господня Сам Он, Бог, Помощник и Покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него, Господа, и на Его Божественного Промысла деяние, во мне им совершенное".
Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания, Мотовилов имел видение Своего Покровителя, Преподобного Серафима, который утешал страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей Святителя Тихона Задонского и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить.
Только через тридцать слишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался, дождался и исцеления по великой своей вере» [358].
Конечные судьбы! Но кто не знает, что ныне чуть ли ни в каждую душу закрался более или менее вульгарный оригенизм, — тайная уверенность на окончательное «прощение» Богом? [359] Так часто в этом, признаются люди самых различных состояний и положений, что начинаешь думать: «Тут есть какая–то внутренняя неизбежность». Действительно, тут есть неизбежность. Сознание исходит из идеи о Боге, как Любви. Любовь не может творить, чтобы губить, — созидать, зная о гибели; Любовь не может не простить. В блеске безмерной Любви Божественной, как туман в лучах всепобедного солнца, рассеивается идея возмездия и твари и всему тварному. Под углом зрения вечности все прощается, все забывается: «Бог будет всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28). Одним словом, невозможна невозможность всеобщего спасения.
Так, с высоты идеи о Боге. Но, становясь на двойственно–сопряженную точку зрения, исходя не из Божией Любви к твари, а из любви твари к Богу, то же самое сознание неизбежно приходит к прямо–противоположному заключению. Теперь сознание не может допустить, {стр. 209} чтобы могло быть спасение без ответной любви к Богу. А так как невозможно допустить и того, чтобы любовь была несвободною, чтобы Бог принудил тварь к любви, то отсюда неизбежно следует вывод: возможно, что любовь Божия останется без ответной любви твари, т. е. возможна невозможность всеобщего спасения.
Тезис — «невозможна невозможность всеобщего спасения» — и антитезис — «возможна невозможность всеобщего спасения» — явно антиномичны. Но, доколе признается Любовь Божия, — дотоле неизбежен тезис, а доколе признается свобода твари, сама составляющая необходимое следствие любви Божией, — дотоле неизбежен антитезис. Идея Триединого Бога, как Существенной Любви, в отношении к идее твари раскрывается в обоюдо–исключающих терминах прощения и воздаяния, спасения и гибели, любви и праведности, Спасителя и Карателя, — аспектах рассудочно столь же не терпящих друг друга, как и троичность с единством — во внутри–Божественной жизни. Единству Божию соответствует воздаяние, а троичности — прощение. Так, и исторически мы имеем суровый монархианизм и послабляющий трифеизм [360].
Если свобода человека есть подлинная свобода само–определения, то невозможно прощение злой воли, потому что она есть творческий продукт этой свободы. Не считать злую волю за злую значило бы не признавать подлинности свободы. Но если свобода не подлинна, то не подлинна и любовь Божия к твари; если нет реальной свободы твари, то нет и реального само–ограничения Божества при творении, нет «истощания» и, следовательно, нет любви. А если нет любви, то нет и прощения.
И наоборот, если есть прощение Божие, то есть также любовь Божия, и, следовательно, есть подлинная свобода твари. Если же есть подлинная свобода, то неизбежно и следствие её, — возможность злой воли, — и, следственно, невозможность прощения.
{стр. 210}
Отрицание антитезиса отрицает и тезис; утверждение антитезиса утверждает и тезис, и наоборот. Тезис и антитезис неразлучны, — как предмет и тень его. Антиномичность догмата конечных судеб логически несомненна. Но — не только логически: и психологически она очевидна. Душа требует прощения для всех, душа жаждет вселенского спасения, душа томится по мире всея мира» [361]. Но, при наличности злой воли, воли извращенной и осатанелой, стремящейся ко злу ради зла, ищущей его, как такового, — воли отрицающей Бога ради отрицания и ненавидящей Его только за то, что Он — Любовь [362], — одним словом, при наличности цинизма [363], «любви ко злу» [364] и, — по выражению Эдгара По [365] — «демона извращенности», душа клянет самое прощение Божие, отрицает и не приемлет его. «Никогда люди, — говорит Паскаль [366], — не делают зла так много и так охотно, как тогда, когда делают его сознательно». И вот, «для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущаго их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут яреть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти, и небытия. Но не получат смерти…». Так говорит у Достоевского старец Зосима [367]. Тут уже не Бог не примиряется с тварью и не прощает злобной души, исполненной ненависти, но сама душа не примиряется с Богом. Чтобы сило́м заставить ее примириться, чтобы насильно сделать душу любящей, Бог должен был бы отнять у неё свободу, т. е. сам должен был бы перестать быть любящим и сделаться ненавидящим. Но, будучи Любовью, он не уничтожает ничьей свободы, и потому «тех, которые по своему произволенью отсту{стр. 211}пают от Него, он подвергает отлучению от Себя, которое сами они избрали» [368].
Божия любовь, из которой ранее выводилась неизбежность прощения, становится поперек дороги этому самому прощению. Если мы ранее требовали всеобщего спасения, то теперь сами же «бунтуем» [369] против него.
В пределах рассудка нет и не может быть разрешения этой антиномии. Оно — лишь в фактическом преобразовании самой действительности, при каковом синтез тезиса и антитезиса переживается как факт, как прямая опытная данность, опирающаяся в своей оправданности на Триипостасную Истину. Другими словами, синтез может быть дан окончательно лишь в переживании самих конечных судеб твари, где дается полное пресуществление мира; а предварительно он переживается в таинствах, где дается частное пресуществление (— ты понимаешь, о чем я говорю —).
Но, спрашивается, каковы логические постулаты этого грядущего и настоящего синтеза, т. е., иначе говоря, какие совместно–немыслимые в рассудке условия должны быть выполнены, дабы мыслилась синтезированною наша антиномия? или еще: в каких несовместных между собою логических терминах раскрывается единая сверх–логическая идея эсхатологии? Синтез вечно–кипящего клокочущего жупела и веющей райской прохлады! Опять coincidentia oppositorum! —
«Волна и камень
стихи и проза, лед и пламень
не столь различны меж собой».
Итак, каковы немыслимые условия мыслимости? Однако, и до ответа на поставленный вопрос, мы должны видеть, что решение его не может быть искомо в плоскости морализма и всяческого законничества, — там, где его нередко ищут, — и что ищущие взоры наши должны направиться на плоскость онтологии. Не «законно» и не «справедливо» будут нашими категориями, а {стр. 212} «необходимо» и «потому что». Μετάβασις εις αλλο γένος — вот необходимое предусловие ответа. Постараемся же теперь придать ему бо́льшую формальную определенность.
Личность, сотворенная Богом,, — значит, святая и безусловно–ценная своею внутренней сердцевиною, — личность имеет свободную творческую волю, раскрывающуюся как система действий, т. е. как эмпирический характер. Личность, в этом смысле слова, есть характер [370].
Но тварь Божия — личность, и она должна быть спасена; злой же характер есть именно то, что мешает личности быть спасенною. Поэтому, ясно отсюда, что спасением постулируется разделение личности и характера, обособление того и другого. Единое должно стать разным. Как же это? — Так же, как тройственное есть единое в Боге. По существу единое, Я расщепляется, т. е., оставаясь Я, вместе с тем перестает быть Я. Психологически это значит, что злая воля человека, выявляющая себя в похотях и в гордыне характера, отделяется от самого человека, получая самостоятельное без–субстанциональное в бытии положение и, вместе с тем, являясь «для другого» (по модусу «Ты», — каковой есть метафизический синтез «Я» и «Он» личности расщепленной) абсолютным ничто. Другими словами, существенно–святое «о себе» личности (по модусу «Он») отделяется от её «для себя» (по модусу «Я»), поскольку оно зло.
Моменты бытия получают самостоятельное значение, расходясь между собою, и мое «для себя», поскольку оно зло, уходит от моего «о себе» во «тьму внешнюю», — т. е. вне Бога, — во «тьму кромешную», т. е. «кроме», «опричь» Бога находящуюся [371], — в то метафизическое место, где нет Бога. Триединый есть Свет Любви, в каковой Он — бытие; вне Его — тьма ненависти, и потому — вечное уничтожение. «Троица — Непоколебимая держава» [372] и утверждение всякой непоколебимости. Отрицание Пре{стр. 213}святой Троицы, отвращение от Неё, удаление от Неё лишает самость, — это мое «для себя», — твердости и предает кружению в себе. Ведь геенна — это отрицание догмата троичности. Недаром именно отрицание за символом «три» его собственной, троичной природы лежит в основе темного злохудожества колдовства. Мне довелось слышать, что один духовник спрашивал на исповеди некоего колдуна, как он колдует; тот сознался, что всего–навсего говорит:
«Три — не три, девять — не девять».
Смысл этого Богохульного заклятия ясен: три — священное число Истины, а девять — та же троица, но взятая в усиленном смысле, «потенцированная» (— таково по крайней мере значение её в символической арифмологии —), т. е. опять–таки — число Истины. И вот, за троицею отвергается её троичность, за девятерицею её девятичность: за числами Истины отвергается то, что делает их числами Истины, — их истинствующая природа. Следовательно, заклятием «Три не три, девять не девять» делается бессильная попытка ниспровергнуть «столп Истины» и утвердить «столп злобы Богопротивныя» [373], т. е. утверждается Ложь, как ложь, Зло, как зло, безобразие, как безобразие, — сам Сатана. Ведь сущность зла — в отвержении όμοούσιος, — ii только в этом. Во «тьме внешней», куда низвергается мое «для себя», т. е. моя самость, чрез свое отвержение ομοούσιος, чрез свое упорное «Три — не три, девять — не девять», — там она, оторванная от Бытия, является разом бытием и небытием. Злая самость, лишенная всякой объективности, — ибо источник объективности — Свет Божий, — делается голою субъективностью, вечно бывающею и сохраняющею свою свободу, но лишь для себя, — и потому — не действительную. А мое «о себе» делается, после таинственного рассечения, чистою объективностью, вечно реальною, но — лишь «для другого», поскольку оно не выявило себя для себя в любящей самости, и потому, будучи реальной «для другого» оно — вечно–действительно.
{стр. 214}
В себе злобное и злобящееся «для себя» есть всегдашняя агония, непрекращающаяся бессильная попытка выйти из состояния голой самости (только «для себя») и потому — непрестанно горящее в неугасимом огне ненависти. Это — один из аспектов злобного само–восприятия твари, — живая картина, застывшая в своеq без–субъектной призрачности. Это — пустое само–тождество «Я», не могущего выйти за пределы единого, вечного момента греха, муки и бешенства на Бога, на свое бессилие, — единый миг безумного 'εποχή, растянувшийся на вечность. Это — вечное усилие, доказывающее бессилие, и бессилие сделать усилие. Земное 'εποχή имеет еще творческий характер, но 'εποχή загробное — абсолютно–пассивно. Напротив того, доброе «о себе» есть вечно–прекрасный объект созерцания для другого, часть другого, поскольку это другое до́бро и для себя, т. е., следовательно, способно созерцать чужое добро. Ведь любящий претворяет в себя все то, что он любит, а ненавидящий лишается и того, что имеет. Любимый принадлежит любящему; но ненавидящий и сам себе не принадлежит. «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10, 39; ср. Мф. 16, 25; Мр. 8, 35; Лк. 9, 24, 17, 33; Ин. 12, 25).
Все сказанное — не более как перевод на онтологический язык «притчи о талантах». «Талант» — это Бого–дарованное каждому из людей духовное творчество собственной личности, или «образ Божий». Как усилие, приложенное к капиталу, растит его, так же — и относительно образа Божия. Но как рост капитала зависит от размеров той деятельности, которую проявит владетель, и потому было бы бесцельно давать ему в руки капитал, которого он не использует, так же — и рост души; «тип возрастания» [374] у каждого — свой, и потому, сообразно этому «типу», каждому дается соответственный духовный капитал. Сообразно имеющему быть жизненному раскрытию образа Божия, сообразно {стр. 215} своему «типу» духовного возрастания и преуспеяния, каждый получает от Бога свои таланты: кому дается один талант, кому — два, кому — пять, — «каждому по его силе, по его способности, по его мочи — έκάστω κατά τήν δύναμιν»: и святым даром своим Бог не хочет насиловать человека, дабы не возложить на плечи его «бремен тяжких и неудобоносимых» (Μф. 23, 4, Лк. 11, 46).
Получивший пять талантов приобрел на них еще другие пять; получивший два — еще другие два. Но, что́ же значат эти слова притчи. Если таланты — образ Божий, то как же человек, своим усилием, своим творчеством, может придать себе еще Богообра́зного бытия, даже удвоить свой образ Божий? — разумеется, во власти человека — не сотворить его, но лишь усвоить, подобно тому как живая сила организма не творит своего питания, но лишь усваивает его. Человек не создает прирост своей личности, — у него нет на это δύναμις, — но усваивает его, чрез приятие в себя образов Божиих других людей. Любовь — вот та δυναμις, посредством которой каждый обогащает и растит себя, впитывая в себя другого. Каким же образом? — Чрез отдачу себя. Но получает человек по мере того, как отдает себя; и, когда в любви всецело отдает себя, тогда получает себя же, но обоснованным, утвержденным, углубленным в другом, т. е. удваивает свое бытие. Так, получивший пять талантов прибавил к ним еще столько же, а получивший два — прибавил к полученному не более и не менее, как два же таланта (Μф. 25, 16–17).
Это удвоение себя есть «верность в малом» («επί ολίγα ής πιστός — в малом был верен», Мф. 25, 21–23), — в том, что дано было каждому, в порученной охранению его клети Небесного Иерусалима. Но не одна только собственная радость ожидает «раба доброго и верного»: эта великая и безмерная радость была бы малой и незначительной каплею сравнительно с тем бесконечным океаном веселия духовного, которое уготовано рабу вер{стр. 216}ному «бездною Богатства и премудрости и ведения Бoжия» (Рим. 11, 33»). Его ждет «вхождение в радость Господина своего» («αείσελθε είς την χάραν τού κυρίου σου — войди в радость господина своего» Мф. 25, 22–23), т. е. приобщение Божественному всеблаженству, причащение Троичной Радости о совершенстве всей твари Божией, упокоение тем Покоем Господним, которым Он почил, завершив Свое всеблагостное миро–творческое дело.
Но радость доступна лишь тому, кто имеет в себе сознание личности, — подвизавшемуся, т. е. рабу, — хотя бы и в малом, — но верному. Тот же, кто не обосновал своей личности, кто не заработал того, что дано ему, — тот слепнет в лучезарном Свет Триипостасного Божества, тот задыхается в благоухании горнего фимиама, тот глохнет от слуха небесных славословий. Таковой не терпит лица Божия и уходит прочь от Всевидящего и отвергает бессмертные дары Его [375]. Так, приточный раб, получивший один та́лант и не наростивший его, т. е. своею деятельностью ничего к данному ему не прибавивший, этот раб говорит Господину: «Владыко! знал я тебя, что ты человек суровый, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и, убоявшись, пошел и скрыл та́лант твой в земле; вот тебе твое!» (Мф. 25 24, 25). Ненависть к благому Господину звучит в этих словах; со злобою и гордостью отметает раб драгоценное даянье. Он хочет быть «сам по себе». И тогда–то, исполняя, хотя и злую, но все же, по милосердию Божию, навеки свободную волю «лукавого и ленивого раба», Господин велит взять у него им уже отвергнутый та́лант и дать имущему десять та́лантов, «ибо нищему везде дано будет и преизбудет, у неимущего же отымется и то, что думает иметь» (Мф. 25, 13; ср. Мф. 12, 13; Мр. 11, 25; Лк. 8, 13, 19, 26). Если человек ленив на подвиг духовный и, по лукавству своему, хочет обеспечить себе, узаконить себе возможность нерадения тем, что прячет от себя свой образ божий, а на вопрошание о нем спешит гор{стр. 217}деливо отвергнуться его, то отверженное и отнимается от него. Но за грех отвергшего Господь не наказывает всей твари отнятием того дара, которым он удостоил ее. Отвергнутый образ Божий перестает существовать лишь для отвергшего, — не безусловно. Праведники, вошедшие в радость Господина своего», — в радость о всяком сотворенном им образе Божием, в этой радости Господина обретают и усвояют себе и этот, отверженный дар Господень; негодный же раб извергается от радости Господина своего, т. е. делается вне её, — во тьме, что вне Бога, — «во тьме внешней» (Μф. 25 30).
Свобода Я — в живом творчестве своего эмпирического содержания; свободное Я сознаёт себя творческою субстанциею своих состояний, а не только их гносеологическим субъектом, т. е. сознает себя действующим виновником, а не только отвлеченным подлежащим всех своих сказуемых. Как восприятие временного ряда доказывает сверх–временность воспринимающего, так и восприятие эмпирического, как такового, доказывает сверх–эмпиричность судящего об эмпиричности: Я может возвышаться над условиями эмпирического, и в этом — доказательство высшей, не–эмпирической его природы. Но, в переживании творчества своего, дается эта природа, как факт. Святость есть предварительное само–восприятие этой своей свободы, а грех — предварительное рабство себе. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Мф. 6, 21; Лк. 12, 34): где то, что вы считаете ценным, там будет и само–сознание ваше, — ваше «для себя». Если сокровище свое Я положило не в своем Божественном само–творчестве, прилепилось не к своему образу Божиему во Христе, а к своему эмпирическому содержанию, т. е. к условному, ограниченному, конечному и, потому, — слепому, то оно самым делом ослепило себя, лишило себя свободы своей, поработило себя себе и тем самым предварило Страшный Суд. «Для себя» личности обращено к несво{стр. 218}боде, к слепому само–утвержденню Я; «тупое, мрачное и непреоборимое стремление» всецело владеет личностью, и её творческая энергия, её образ Божий ей уже более не нужен, ибо «для себя» выпало из области «самого», из области сверх–эмпирической свободы и погрязло в рабстве эмпирическому. Отсюда — состояние 'εποχή, как невозможности выйти из эмпирии. И, чем более старается Я удовлетворить свое слепое хотение, свою бессмысленную, само–утверждающуюся как бесконечное, конечную похоть, тем более распаляется внутренняя жажда, теме яростнее вздымается высоковыйный гнев: Я дано себе только эмпирически, слепо, ограничено, и потому это стремление бесконечную свою потребность удовлетворить конечным — по существу нелепо. В Коране сохранилось изречение, приписываемое Иисусу Христу; хотя принадлежность изречения Господу весьма сомнительна, но, тем не менее, я приведу его, потому что оно хорошо выражает нашу мысль. «Кто стремится быть Богатым, — гласит оно, — тот подобен человеку, пьющему морскую воду: чем более он пьет, тем сильнее в нем становится жажда, и никогда он не перестанет пить, пока не погибнет» [376]. Так, вот, — и относительно каждого похотения, поставленною вместо утверждения Истины: идеал, т. е. потребность в бесконечном, будучи проектирован на конечное, создает идол, и идол этот губит душу, разделяя «самого» человека от его само–сознания и тем лишая человека свободы. Окончательным, последним и бесповоротным разделением явится Страшный Суд чрез пришествие Духа, — когда все то, что не положило сокровища своего в Нем, будет лишено сердца своего, ибо такому сердцу не будет места в бытии: все то, что не от Бога, что «не в Бога Богатеет» (Лк. 12, 21), предназначено в добычу «смерти второй» (Откр. 24, 6, 14).
При таком разделении, ни свобода, ни образ Божий. человека не уничтожены, но — только разъединены. Однако, злой характер, безусловно не имея момента «Ты», безу{стр. 218}словно не существует для Бога и для праведных: никому не бывает «Ты» тот, для кого никто — не «Ты». Таковой — чистая мнимость, сущая только для себя, и символом его может служить кусающая себя змея. Е. П. Блаватская называла [377] спиритических «духов» выразительным названием «скорлупы», соответствующим оккультическому термину imagines [378]. Не входя в обсуждение того, в какой связи находятся imago человека и его голое «для себя», скажу, что, во всяком случае, слово «скорлупа» весьма подходит для обозначения «для себя», Это, именно, — пустая «кожа» личности, но без тела, — личина, imagо, не имеющая субстанциональности. Однако, само собою, я беру предельный случай полной осатанелости. Вообще же говоря, этот процесс разделения частичен, так что отсекается лишь поврежденная и пораженная грехом часть самости.
Предлагаемое решение, в сущности своей опирающееся на различение в личности «образа Божия» и «подобия, Божия», — это решение, как оказывается, изложил общедоступно один сирийский раб. «Помню, что однажды, быв в Сирии, — так рассказывал известный протестантский миссионер лорд Редсток в одном из своих московских собеседований 1877–го года, — я видел трех старейшин одного селения, которые, сидя вечером под тенью пальм, рассуждали о беспредельности правосудия и милосердия Божия. «Как же это?, — говорили они. Если Бог милосерд, Ои простит грешнику все грехи его; если же Он правосуден, то без милости накажет грешника». Тогда подошел к ним один из рабов и просил позволения сообщить свое мнение. «Думаю, — сказал он, — Бог, по правoсудию своему, покарает и истребит грех, а по милосердию своему, помилует грешника» [379].
Таинственный процесс суда Божия есть разделение, рассечение, выделение. Таковым является, прежде всего, таинство. Никакое таинство не делает грехa негрехом: Бог не оправдывает неправды. Но таинство {стр. 220} отсекает греховную часть души и ставит ее, пред принимающим таинство, объективно, — как ничто («покрытое»), а субъективно — как само–замкнутое зло, направленное на себя, — как кусающий себя Змей: так изображается Диавол на старинных росписях Страшного Суда [380]. Грех делается отделенным от согрешившего, самостоятельным и на себя обращенным актом; действие его на все внешнее равно абсолютному нулю. В таинстве покаяния, именно, делаются для нас реальными слова Шестопсалмия: «Елицы отстоит Восток от Запад, тако уда́лил от нас беззакония наша» [381]. — Все силы отрезанного покаянием греха смыкаются на себя. Вот почему, святые отцы неоднократно указывали, что признаком действенности таинства покаяния служит уничтожение притягающей силы прощенного грехa: таинством «истребляется прошлое — τά πρώτα εξαλείφεται» [382], причем εξαλείφω означает, собственно, вытираю, вычеркиваю, выскабливаю.
«Всякое греховное падение кладет известную печать на душу человека, так или иначе влияет на её устроение, — пишет один знаток аскетики [383]. — Сумма греховных действий составляет, таким образом, некоторое прошлое человека, которое влияет на его поведение в настоящем, влечет его к тем или другим действиям. Таинственно–свободный переворот в том и состоит, что нить жизни человека как бы прерывается, и образовавшееся у него греховное прошлое теряет свою определяющую силу, как бы выбрасывается из души, становится чуждым для человека. Грех не забывается и не невменяется человеку в силу каких–нибудь посторонних для человека причин, — грех в полном смысле удаляется от человека, уничтожается в нем, перестает быть частью его внутреннего содержания и относится к тому прошлому, которое пережито и зачеркнуто благодатию в момент переворота, которое, таким образом, с настоящим человека не имеет ничего общего».
{стр. 221}
Расскажу один такой случай суда из собственной своей жизни. Был грех на душе. В невыразимой муке, я то вставал, то снова падал на колени, почти обезумев от внутреннего борения. Глубокою, глухою ночью та́к я молился в тоске и в ужасе — часа, кажется, два сряду. Это было предварение Страшного Суда. Я знал, что я должен исповедать пред тобою грех свой; но я знал также, что исповедать его — это значит не простое слово сказать, а вырвать из себя кусок существа. Не помню, сознательно или почти бессознательно я разогнул на удачу свое маленькое Евангелие. Ты знаешь, какой текст выпал мне. Если бы раздался голос с неба, то ему нельзя было бы ответить более точно на мои колебания. Как мечем каким он рассек меня, одним взмахом произвел страшную операцию, и тогда я сказал тебе все. Ты сам помнишь, какою радостью и миром наполнилась моя душа.
А вот что пишет мне один монах, 65–летний старец:
«Это было давно, когда мне шел еще 31–ый год. Я только что был пострижен в монашество и посвящен во иеродиакона; служить нужно было с приготовлением. Были случаи, совесть говорила: "Нужно исповедаться, так нельзя приступать к приобщению св. Тайн". Келья моя была рядом с келиею духовника. И вот, выйду из кельи, подойду к двери духовника, остановлюсь, мысль говорит: "Не надо, не ходи, что́ беспокоить, ведь не пост"; постою, постою у двери и отойду. "Нет, не надо", выйду в свою келью. Совесть говорит: "Что ты делаешь, как ты будешь служить обедню? иди, исповедуйся", опять подойду к двери духовника, мысль опять говорит: "Да не надо, не ходи, неловко", постою, опять отойду, а совесть опять свое: "Как ты приступишь к св. Тайнам?". И вот, после долгой борьбы, наконец, решился сотворить молитву и войти… Выйдя я чувствовал, что будто снял с себя тяжелую–тяжелую шубу, я чувствовал, что я мог, кажется, летать, настолько было легко, настолько сердце прыгало от полноты какой–то неизъяснимой легкости, — словами этого выразить нет возможности. — Такова сила таинства покаяния…» [384].
Св. Евхаристия льет целительный бальзам на рану покаяния, но она же судит причастника. Не так ли Дух {стр. 222} Помазующий и утешающий придет залечивать раны твари огненным крещением, после Страшного Дня мировой операции, после Суда Сына Божия и Слова Божия, Того Самого Ипостасного Слова, Которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдо–острого», Которое «проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 34, 12).
Было бы смешно рассматривать все эти вопросы «от своего разума». То, что я изложил тебе, есть пересказ в философских терминах того, что я вычитал в Св. Писании; экзегетическому анализу мест из Писания я предпослал написанное, чтобы легче было следить за толкованиями. Ключом к этим местам является текст из 1 Кор. 3; привожу его в контексте:
10. «По благодати Божией, данной мне, как предусмотрительный строитель я положил основание — θεμέλιον, — а другой строит на нем; но каждый пусть смотрит, как строит.
11. Ибо никто не может положить иного основания помимо положенного, которое есть Иисус Христос.
12. Но если кто строит на основании из золота, серебра,
13. драгоценных каменьев, дерева, соломы, камыша, то дело каждого — έκαστον τό έργον — обнаружится; день ведь — ή γάρ 'ημέρα — покажет, потому что в огне открывается — έν πυρι αποκαλύπτεται, — и огонь испытает дело каждого, каково оно есть — έκαστου το εργον όποιον έστιν το πϋρ αύτό δοκιμάσει —.
14. Если дело чье, которое он построил на основании, пребывает, то он получит плату — εί τίνος το εργον μένει ε έποικοδόμησεν, μισθόν λήμψεται —.
Даю такой перевод («subsiste») слова μενει в стихе 14–м согласно Годе́, который видит тут форму μένει вместо обычно разумеемой μενεΐ, — «пребудет», «demeurera» —. Последнюю вводят ради параллелизма с последу ющим κατακαήσεται, «сгорит». «Но, — замечает Годе́, — этот мотив не имеет никакой цены; акт сгорания мгновенен, между тем как то, что пребывает, пребывает навсегда: это–то и выражает настоящее время μένει» [385].
15. Если же дело чье сгорит, тот лишится её, — потерпит урон, — а сам спасется, но так, как от огня — εί τίνος το έργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αύτος δε σωθήσεται, όύτως δε ως διά κυρός …».
{стр. 223}
Апостол говорит о построении Церкви Христовой (см. 1 Кор. предд. глл.) По его словам, благодать, дарованная ему, дала ему силы мудро положить надежное основание — «Христа распятаго» (1 Кор. 1, 23): проповедь, возбудив веру в душах, таинственно вселила в них «Христа, Божию силу и Божию Премудрость» (Ср. 1 Кор. 2, 2; Ис. 28, 16; 1 Петр 25 и др.). Начало строительства у коринфян положено безупречно, — силою Божиею (3, 12). А т. к. не существует никакого иного основания, кроме положенного Апостолом, так как нет ничего твердого, помимо опирающегося на Христа, так как всякая попытка строиться без Христа не достигает цели (3, 11, ср. притчу о строившихся на камне и на песке Мф. 7, 24–27), то вопрос об основании покончен: насчет него не должно уже возникать сомнений и, значит, прямое дело Апостола сделано. Но, в дальнейшем, при надстраивании этого фундамента «другим» (3, 10), необходима внимательность и тщательность в выбор материала, ибо на положенном основании можно возводить либо капитальное здание из прочных и огнеупорных дорогих материалов вроде ценного камня, — например мрамора, ясписа, алебастра, — украшенного золотом и серебром, как это обычно делается при стройке Богатых домов на Востоке, — либо легкую постройку из материалов дешевых, но непрочных и легко–воспламеняемых: дерева, соломы, камыша. К последнему типу принадлежат все хижины Востока, состоящие из деревянной основы и обмазывающей её глины, которая замешана на самане, — так называется там измельченная солома, — и увенчивающиеся сверху камышовым покрытием. Дворец Богача, изобильно украшенный золотом и серебром, и жалкая лачуга — таковы типы построек.
Итак, Апостол говорит, что «каждый» должен во́время «смотреть» за тем, из какого материала (πώς; — «как?») надстраивает основание «другой» (3, 10). Кого разуметь под «другим»? — ближайше — Аполлоса, затем — всех учителей и водителей церкви, вообще же говоря, — {стр. 224} всех членов Церкви, ибо каждый строит какой–нибудь уголок её, — личность свою.
Деятельность по Христу, на Христе, силою Христовою и есть построение Церкви Христовой, — реальное раскрытие данных человечеству Божественных возможностей. А т. к. Церковь строится из самих людей, то под материалами для постройки прежде всего надо разуметь то́, что представляют собою люди в их актуально–раскрытом, эмпирическом характере. Благородство и неблагородство своего эмпирического характера — вот что прежде всего должно быть взвешено каждым. Свою внутреннюю и вытекающую из неё внешнюю деятельность верующий полагает в качестве материала для стройки, т. е. себя самого эмпирического, ибо эмпирический человек сам для себя является не тем, что он есть, как Божие создание, как образ Божий, а лишь таким, каким он свободно выражает себя в подвиге, преодолевающем злую самость.
Но эта эмпирическая природа человека раскрывается в системе мыслей, чувств, желаний и выявляется в действиях. А последние получают самостоятельность, наводя соответствующие мысли, чувства, желания и действия в других людях, уже независимо от возбудившего первичный толчок. Эмпирический характер в действии, — а действием по преимуществу бывает слово, — получает себе как бы вещественное тело и разносит в нем духовную силу. В этом смысле правильны толкования (Оригена, Златоуста, Августина, Осиандера, Годе), видящие в этих материалах для стройки «религиозные и моральные плоды, порожденные в Церкви чрез проповедь» [386]. Святая, духовная жизнь других людей, вызванная деятельностью верующего, есть в высшей мере его жизнь, объективация его внутреннего мира, подобно тому как художественное произведение есть объективация творческой идеи художника и подобно тому как в ребенке телесно живут его родители. Не спроста Апостол все время говорит об архитектуре; тут, действительно, {стр. 225} есть глубокое сходство: творчество религиозно–воспитательное и творчество художественное — аналогичны. Ведь духовное подвижничество — это художество по преимуществу, — искусство дающее высшую красоту твари; не над безличным веществом и безличным словом трудится здесь работающий, но над личным телом и над личною душою, которые делают человека тварью словесною. И если художник дает красоту миру, то от художника из художников возсиявает вселенной красота из красот. Да, нет ничего прекраснее личности, которая в таинственной мгле внутреннего делания отстояла муть греховных тревог и, осветленная, дает увидать в себе мерцающий, как драгоценный маргарит, образ Божий.
И не только энергия доброй воли, но и энергия злой воли находит себе самостоятельное, уже далее независимое от волящего выражение в религиозном обществе. Злая или добрая волна, раз возбужденная на поверхности людского моря, никогда не исчезает, но вечно расходится ширящимися кругами, и возбудивший ее так же подхватывается ею, как и все прочие. Пигмалион, полюбивший Галатею, и гоголевский художник, возненавидевший написанный им портрет, относятся к творениям своим, как к живым, как к людям. Мысль зачата и воплотилась, родилась и выросла; ничто уж не вернет ее в утробу матери: мысль — самостоятельный центр действий. В этом смысле правильно толкование (Пелагий, Бенгель, Гофманн), в «материалах» усматривающее различных членов Церкви: ведь эти последние — рас крытие во–вне и плод внутренней жизни религиозного деятеля. Слово, в широком смысле, есть то, чем возбуждаются движения во–вне, слово — орудие души. Это может быть не звуковой символ, но и всякий другой — всякое действие, поскольку оно является не только тем, что есть само по себе, но и чем–то бо́льшим. — поскольку оно есть видимое тело какой–то невидимой души, «искра души» [387] или, иначе говоря, символ [388]. А так {стр. 227} как изо всех слов наиболее–учитываемое значение имеет слово, связанное с логическим содержанием, то тем самым делается приемлемым мнение большинства экзегетов (Климент Александрийский, Эразм, Лютер, Беза, Кальвин, Гроций, Неандер, де–Ветте, Мейер и др.), под «материалами» разумеющее доктрины, которым учат проповедники [389].
Но, прежде всего, это — сами религиозные деятели в их эмпирической действительности, т. е. сами люди, «каждый» — в своем религиозном «деле» (3, 13).
Тут кончается первая половина мысли Апостола. Противопоставляя себе (адверсативное δέ в 3, 12: ει δέ τις) всякого другого (3, 10: εθηκα, άλλος δέ), он как бы говорит: «Что касается до меня, то мое дело сделано, и сделано хорошо, потому что иначе его никак нельзя сделать. Я положил необходимое и единственное основание. Но пусть надстраивающие это основание позаботятся о своем деле, остановятся над выбором материала». — Почему? — «Потому, что дело каждого (έκαστου τό εργον, 3, 13а) обнаружится, материал, пущенный в надстройку, выявит свою природу, и дело целой жизни (— а жизнь–то одна только! —) может оказаться ничем. Ведь (γάρ, 3, 13б) день покажет подлинную стоимость дела». — Что за «день»? — Конечно, день абсолютной оценки всякого человеческого дела, день судный, день пришествия Господа, день огненного испытания всего земного. О нем говорит и Автор «Учения двенадцати апостолов» [390]: «бодрствуйте», советует он, мотивируя свое предостережение тревогами последних дней; а затем добавляет: «Тогда явится, как Сын Божий, соблазнитель мира, и род человеческий войдет в огонь испытания — εις τήν πυρωσιν τής δοκιμασίας», — выражение, быть может, заимствованое из 1Кор. 3, 13. Это — «день злой» (Еф. 6, 13), «день искушения» (Евр. 3, 8), «день посещения» (1 Петр 2, 12), «день испытания» (Откр. 3, 10) и проч., о котором говорится также в 1 Кор. 18, 45. Несомненно, слово «день» имеет {стр. 227} эсхатологический смысл, и, если даже мыслить под ним «историю» или «время», или «момент опамятования», как толковали некоторые экзегеты, то все же, контекст отбрасывает на эти понятия эсхатологическое освещение, так что они являются предварениями Страшного Суда.
Испытание, — говорит Апостол, — будет произведено посредством огня. Слово огонь тут является такою же метафорой, как и вся речь о здании. Но образ огня слишком часто встречается в Писании для обозначения все–проникающего и все–очищающего суда Божия, чтобы видеть в нем только фигуральный оборот: огонь, по своей природе, стоит в какой–то более тесной связи с этим судом, с очистительным гневом Божиим. Потому–то говорится, что Господь Иисус явится с неба и будет «в пламенеющем огне совершать отмщение» (2 Фec. 1, 7, 8) и, подобно этому в Пс 49, 3: «Грядет Бог наш и — не в безмолвии; пред Ним — огонь поедающий», после чего описывается суд над Израилем. А Сын Громов Ангелу фиатирской церкви должен поставить на вид, что у Господа «очи, — как пламень огненный» (Откр. 2, 18) — ощущение, по личному опыту, мучительно–знакомое всякому и испытываемое всякий раз, когда смотрит в душу человек духовно–высший, своим взором проникающий в уродливо–сложенные черты характера. Апостол, даже объясняет свою мысль: «потому что — ότι — в огне открывается — εν πυρί αποκαλύπτεται». Но что́ служит подлежащим при αποκαλύπτεται? Что́ или кто́ открывается в огне? — Можно разуметь — «день» (и тогда перевод будет: «день Христов открывает себя огнем или с огнем»), или, — что дает почти тот же результат, — взять подлежащее из стиха 11–го — «Господь» (получается: «Господь открывается в огне, с огнем», ср. 2 Фec. 1, 7). Если — так, то слово огонь окончательно получает реальный характер, и, значит, сквозь аллегорию прорывается тавтегория, иносказание незаметно переходит в самую вещь; но однако и то и {стр. 228} другое подлежащее дает один смысл. Можно также разуметь αποκαλύπτεται безлично, так что предыдущее положение доказывается еще более; перевод будет тогда иметь смысл гномический, общие–принцитальный: «Ибо вообще именно чрез огонь происходит такое обнаружение подлинной природы вещей». При таком предположении хорошо объясняется неопределенное настоящее αποκαλύπτεται, резко обособляющееся от фактических будущих, стоящих перед ним — δηλώσει — и после него — δοκιμάσει. — В сущности говоря, смысл всего стиха при последнем толковании остается тем же, что и при предыдущих. Но, во всяком случае, нельзя разуметь подлежащим слово «дело», что дало бы, — по выражению Годе, — «невыносимую тавтологию» [391] предыдущего.
Конец стиха 11–го не представляет затруднений ни в чем, кроме. слова αύτό. Если относить его к το πυρ, то перевод будет такой: «сам огонь», т. е. огонь в силу своей природы. Если же при αυτό разуметь τό εργον, как прямое дополнение к δοκιμάσει, то получится: «огонь испытывает его [дело каждого], так что выяснится, каково оно».
В последующих стихах (14, 15) изображен возможный двоякий результат этого огненного испытания в день Господень. «Если дело, которое кто–нибудь надстроил, пребывает, то он получит за него вознаграждение» (3, 14). Какое же дело пребывает? — Покончив с целым рядом «текущих дел», Апостол отдается вдохновенному лирическому порыву и здесь, в своем гимне любви (1 Кор. 13), сам дает ответ на поставленный только что вопрос: «А теперь пребывает вера, надежда, любовь — троица сия; но любовь из них больше, — νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τά τρία ταυτα, μείζων δέ τούτων ή αγάπη», (1 Кор. 13, 13). Пребывает (— опять «μένει»! —) вера, надежда, любовь, — любовь по преимуществу. Дело человека выстаивает пред пламенными очами Всевидящего Судии (Откр. 2, 18), оказывается подлинно–ценным, {стр. 229} если оно построено из веры, надежды и любви, — главным образом, — из последней. Вся эмпирическая личность христианина должна быть соткана из веры, надежды, любви, и само христианское общество должно быть овеществленною триадою добродетелей.
Это пребывает. Но если дело не таково, то оно сгорит. Работавший лишится награды своей, потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как от огня (3, 15).
Апостол продолжает свою образную речь. Здание, построенное из недоброкачественного материала, вспыхнет, и строитель его не только лишится вознаграждения за работу, но и сам–то рискует погибнуть вместе с делом рук своих. Впрочем, последнего не случится. Апостол заверяет, что «сам он, αυτός», т. е. строитель, в противоположность «делу, τό έργον» спасется, — так сказать, успеет вырваться из здания, охваченного пожаром.
Слово «спасется — σωθήσεται» подвергалось разным перетолкованиям; но, вопреки Златоусту и древним греческим толковникам, надо заметить, что σώζειν имеет значение не «сохранять» вообще, например в геенне, для вечной муки, как объясняет Златоуст (— стояло бы тогда τηρήσεται [392]), а именно спасать, в благоприятном смысле. На это же указывает противоположность дела и самого и выражение διά πυρός, далеко не тождественное с έν πυρι — в огне, и переводимое: «через огонь» или «от огня». Так, уСтрабона [393] имеется выражение: αυτός έσώθη διά ναυαγίας — сам спасен от кораблекрушения; у Свиды [394] — аналогичный оборот: διά μαχαιρών και πυρός ρίπτειν χρή, δι' οξείας δραμειν (подразум. λόγχης). Так же Ис. 43, 2: και εάν διέλθης μετά σου ειμι… και εάν διέλθης διά πυρός, ου μή κατακαυθης. — Впрочем, более обычным оборотом, — употребляемым в вотивных надписях путешественниками, спасшимися от опасностей, — оборотом равносильным с только что рассмотренным, было σωθείς έκ (с родит. пад.). Такой оборот встречается нередко, например, в птолемаидских надписях, найденных Масперо [395].
{стр. 230}
В разбираемом месте, посредством адверсативного δέ (ст. 15), проводится решительное разделение между «самим» человеком и «делом» его. Дело каждого подвергнется огненному испытанию, в котором выгорит все нечистое и скверное, как очищается огнем золото и серебро (ср. Зах. 13, 9; Мал, 3, 2, 3), в котором произойдет таинственное отделение негодной эмпирической личности от Бого–зданного «образа Божия» и от «подобия Божия», т. е. раскрытия первого, поскольку «сам» человек осуществил таковое [396]. Этот огонь — не наказание и не возмездие, а необходимое испытание, т. е. проба, исследование того, как воспользовался человек данным ему «основанием» — Бого–снисхождением, «доказательство» личности. Если окажется, что сокровенный образ Божий не раскрылся в конкретном подобии Божием, если человек зарыл в землю данный ему образ Божий, не использовав его, не приумножив его, не обожив самости своей, не доказав себя, то от необо́женной самости его отнимется образ Божий; если же самость претворена в подобие Божие, то человек получит — «награду, μιοθόν» — внутреннее блаженство ви́дения в себе подобия Божия, — творческую радость художника, созерцающая творение свое.
Основание дано общее для всех, — безусловное обо́жение человеческого естества в лице Иисуса Христа, и никто не может положить иного основания. Но свобода каждого определяет характер его, — надстройку. Основание — это явленная Христом в каждом из нас спасенная точка — начало спасения, — образ Божий, очищенный от перво–родного греха. В Себе Господь показал каждому из нас именно его самого, в его нетленной перво–образной красоте; как в чистом зеркале Он дал увидеть каждому святость его собственного непоруганного образа Божия. В «Человеке» или «Сыне Человеческом» [397] явлена каждому вся полнота его собственной личности. Этим дана «апперципирующая масса» для внутренних {стр. 231} исканий; этою светлою точкою задано направление для блуждающей совести. Вне созерцания во Христе себя и брата — совесть идет ощупью, мучает, кидаясь из стороны в сторону, и, томясь без выхода, блуждает и заставляет блуждать, а не руководствует к определенной цели. Вне Христа невозможна любовь ни к себе, ни к другому, потому что, если она искренняя, а не является переодетым эгоизмом («красивым пороком» [398]), то она неизбежно приводит к 'εποχή, к бессильной агонии. Сама совесть может ошибаться, и величайшие злодеяния — именно от «прелести», от превратного движения по криво–направляющей совести [399]. У нас, в эмпирической человеческой данности, нет ничего безусловного, даже — совести. Саму совесть надо поверять и исправлять по безусловному образцу. Но подчинение её — формуле, хотя бы и свыше данной, было бы уничтожением единственности и незаменимости личности, её безусловной ценности: святыня личности — именно в живой свободе её, в пребывании выше всякой схемы. Личность может и должна исправлять себя, но не по внешней для неё, хотя бы и наисовершеннейшей норме, а только по самой себе, но в своем идеальном виде. Примером для личности может быть она сама и только она сама, потому что иначе давалась бы возможность механически, из чужого и чуждого личности заключать к жизни её и давать ей нормы. Единственность каждой личности, её абсолютная незаменимость ничем другим — она требует, чтобы сама личность была примером для себя; но чтобы быть себе примером, надо уже достигнуть идеального состояния. Чтобы стать святым, надо быть святым: надо поднять себя за волосы. Это возможно во Христе, во Плоти Своей показывающем каждому Божию идею о нем; т. е. это возможно лишь чрез опыт, чрез личное общение, чрез непрестанное вглядывание в Лик Христов, чрез отыскиванне в Сыне Человеческом подлинного себя, подлинной своей человечности [400]. — Сказанное можно пояснить еще таким соображением: {стр. 232} идеал философский, т. е. отвлеченный, высказываемый, сообщаемый, есть идеал обще–человеческий, для всех. Но это, — хотя и для всех предназначенная, но потому самому и для всех внешняя, — это извне–навязываемая и мертвящая схема. Философский идеал — это прокрустово ложе, для всех назначенное, но ни для кого не приноровленное. Напротив, высокая личность, — герой, мудрец, даже святой, — если возьмем его человеческое совершенство, — высокая личность — идеал только самого себя, да и то не полный, не вполне. Для других же он безразличен, ибо иначе пришлось бы слепо подражать чужой личности. Но ведь «какое дело мне до того, что хорошо Петру или Ивану. Я–то живу своею жизнью и иду по своему, начертанному по земле перстом Божиим, пути». Один идеал — необходим, или в пределе должен быть необходимым, но, как формальный, неприменим ни к одной конкретной личности; другой идеал — конкретен, но за то случаен и не связан с личностью каждого. Один только Господь Иисус Христос есть идеал каждого человека, т. е. не отвлеченное понятие, не пустая норма человечности вообще, не схема всякой личности, а образ, идея каждой личности со всем её живым содержанием. Он — не ходячее нравственное правило [401], но и не модель для копирования [402]; Он — начало новой жизни, которая, раз приятая в сердце от Него, сама уже развивается по собственным своим законам. Не только сохраняя свою личную свободу и своеобразность, но и обретая их заново, превосходнейшими, человек получает жизнь, которая сама собою преобразует или, по слову притчи (Μф. 13, 33, Лк. 13, 21), «заквашивает» его эмпирическую личность — «муку́», — сообразно образу Божию в нем.
Во Христе дано каждому «основание», — его, каждого основание, «сам» он подлинный. И, если он худо и не соответственно «себе» надстроил это «основание», то его надстройка сгорит пред взором Того, который воплощает в себе полноту его идеала. Но, — говорит {стр. 233} Апостол, — несмотря на гибель «дела», несмотря на охвативший всего человека огонь, — «сам» он спасется. Подчеркивая слово «несмотря» я хочу отметить решительное расхождение излагаемого здесь взгляда на суд с католическим учением о чистилище, где спасается человек, но не несмотря, а благодаря, вследствие муки очищения. Поэтому–то у ап. Павла спасается не человек в его целом составе, а лишь «сам», его Бого–зданное «о себе», тогда как, по католическому учению, спасается весь человек, но только под дисциплинарным возмездием чистилища одумавшийся и изменившийся к лучшему. Глубоко–таинственный и сверх–рассудочный метафизический акт разделения двух моментов бытия («о себе» и «для себя») превращен, в вульгарном представлении католического чистилища, во что–то психологическое, насквозь–понятное, — в оправдание чрез муку и в воспитание чрез наказание.
В последующем стихе (16) Апостол спешит объяснить, почему́ «сам спасется». Потому де, что вы, верующие, — пишет он коринфянам, — «храм Божий», а «храм этот свят», и в нем живет Дух Божий. Что свято, то не может погибнуть, исчезнуть, или пребывать в огне. То, что дано Христом человеку, как человеку, не может прейти. Иначе погибал бы образ Божий. Но он должен остаться; святое остается, святая сущность человека спасается. Что же касается до «дела» её, то оно может погибнуть для неё. Погибнет или, точнее сказать, будет непрестанно гибнуть в вечном моменте горения та работа, тот результат внутренней деятельности, который «самим» произведен за время жизни. Погибнет — все содержание сознания, поскольку оно — не из веры, надежды и любви. Спасется — αυτός, голое Бого–сознание без .само–сознания, ибо само–сознание без конкретного содержания, без сознания своей само–деятельности есть только чистая возможность. Само–сознание есть сознание своего творчества, Своей активности. А «дело» человека, {стр. 234} его само–сознание, отделившись от «самого», станет чистою мнимостью, вечно горящею, вечно уничтожающеюся, взором Божиим прожигаемою гнусною мечтою без мечтающего субъекта, кошмарным сном без видящего этот сон. Такое «дело» существуешь лишь субъективно, как голое «для себя»: момент «о себе» в нем решительно отсутствует. Для всякого «самого» — этого «дела», этой «самости» абсолютно нет, ибо она абсолютно лишена объективного бытия. «Самость» без «самого» — это мучительное марево, возникающее в пустоте небытия, «стон и скрежет зубов», который никому неслышим, — как бы непрестанная галлюцинация Ничто, ни для кого не сущая, — вечно сгорающая и вечно–гибнущая ирреальность, одним словом — полное метафизическое μή όν. Все же реальное — свято, ибо «святым, — по определению Автора «Наставлений для нравственности человеков», некогда приписываемых св. Антонию Великому, — святым называется тот, кто чист от зла и грехов» [403]; а такова именно — Бого–зданная реальность.
Это переживается до известной меры и сейчас. Погружаясь во грех, мы теряем чувство объективно–реального существования. Погружаясь во грех, дух забывает себя, теряет себя, исчезает для себя, «бездна последняя грехов обыде мя, и исчезает дух мой», слышим мы свидетельство св. Церкви [404]. Самость жалит саму себя своим грехом, но главная мука — в том, что сама себе она представляется чем–то без–субъектным. Самость лишается твердой опоры и начинает кружиться, смыкаясь в себе, как пыльный вихорь в жарком воздухе. «Связанная плени́цами. — т. е. веревками, — страстей», она — пленница закона греховного. Грех является уже не произвольным актом, а самым существом или веществом самости, и она всецело им определяется. Не видя ничего, кроме грехa, лежащего в её основе, она может только терзаться, но — не вырваться из огненного колеса нарастающей греховности. Только объективное созерцание своего «самого» в лице Иисуса Христа дает ей осознать {стр. 235} свое состояние и устремиться к сверкнувшему, как бесшумная летняя зарница, истинному пути, к нахождению себя.
В 2 Кор. 5 1–3 проводится связанная с этою мысль; тут говорится: «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими — ειγε και ένδυσάμενοι ου γυμνοί ευρεθησόμεθα».
В ранее разобранном тексте говорилось, что «сам» спасется, но, — потеряв свое «дело», свою жизнь, как художественное произведение, — ту, если угодно, храмину, которую построила себе личность, ту одежду, в которую она облеклась, соткавши ее для себя за время земной жизни. Но когда личность со своею земною храминою, в своей земной одежде предстанет пред пламе–пышащие очи Христовы, когда она услышит слово Божие, рассекающее, как меч обоюдо–острый, то тогда, в случае своей негодности, таинственным актом эта одежда вспыхнет и отделится от «самого», и храмина разрушится. Лишившись этого покрытия, этой храмины–одежды, при облечении в ту одежду, которая во Христе (ср. Откр. 3, 5; 4, 4; 6, 11; 7, 13, 14), в тот идеал свой, который предсуществовал во плоти Господней, «сам» может оказаться нагим, остро восчувствует наготу и нищету свою, свое нищенское положение, подобно как нищий «наг», хотя бы оделся и в горностаевую, но чужую, мантию; он — по сознанию своему наг, и эта нагота его только подчеркивается, только усиливается, только делается чувствительнее от великолепия одежды, данной ему, но не сотканной им, не заработанной им. Нагим начинает сознавать себя и в этой жизни каждый из нас, когда, на вечерней молитве, молится словами св. Макаpия Великого: «Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага» [405].
«Нагота» и «одетость», как мистико–метафизические {стр. 236} определения, встречаются на каждом шагу в духовной письменности, и не только в христианской, но и во вне» христианской. Интересную иллюстрацию к этому представлению об эмпирическом характере, как метафизической одежде «самого», и вытекающей отсюда метафизической наготе грешника после суда над ним может дать диалог Лукиана Самоссатского «Харон и Тени» (из серии «разговоров Мертвых» [406]). При переправе в потусторонний мир перевозчик Харон заставляете души раздеться и оставить на земном берегу все лишние вещи («дела» — у Апостола). Меркурий–психопомп «должен смотреть за тем, чтобы в лодку не садилась ни одна душа, которая не сбросила с себя всего: теням приходится расстаться со всем. Любимец женщин должен оставить красоту; царь — царский убор, богатство, гордость и презрение к людям, венец и порфиру, бесчеловечие, безумие, высокомерие, гнев и т. д.; Богач лишается победных трофеев и тучного тела; знатный остается без родословной, без почестей и изваяний в честь него; полководец снимает с себя победы и трофеи; философ — свой плащ, весь ученый вздор, которым засорена его душа, свое невежество, надменность; пустословие, ложь, хитрые вопросы вместе с путанными умствованиями, одним словом, — суету, безумие и мелочность, слагающиеся из золотых монет, бесстыдства, невоздержанной жизни и лености, равно как обмана, напускной важности, и мысль о своем превосходстве, наконец, бороду, нахмуренные брови и лесть и т. д. Пред лицом вечности все должны разоблачиться ото всего тленного и стать нагими. И понятна отсюда пустота души, лишившейся большей части своего содержания.
Идея сокровенного от рассудка разделения и рассечения встречается во многих местах Писания. Не стану приводить их все, — упомяну лишь некоторые.
Так, приточный Господин придет в дом свой нежданно и «рассечет» нерадивого раба, которому поручено было домо–строительство, «и подвергнешь его одной участи с лицемерами: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 24, 51). Это «рассечет его — διχοτομήσει αυτόν» весьма замечательно: не сказано «убьет» или «казнит» его, не сказано «зарубит» или «изрубит на части» и т. п., а именно «рассечет надвое — διχοτομήσει». — Совершенно так же — у Лк. 12, 46: «И рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными»; и тут: διχοτομήσει αυτόν. Ориген толкует это изречение Спасителя именно в таком, онтологическом смысле. «В Евангелии сказано о недобрых распорядителях, что они должны быть рассечены, и часть их — положена с неверными, — т. е. та часть, которая как бы уже не есть их собственная, должна быть послана на другое место. Это изречение, без сомнения, указывает особый род наказания тех, у которых, как мне кажется, согласно этому указанию, дух должен быть отделен от души» [407]. Это и есть мистическое разделение существа человеческого на–двое, на «самого» и на «дело» ,тем более, что тут идет речь не о неверных или о лицемерах, а о рабах Божиих, не справивших своего домостроительства. Кто «собирает сокровища для себя, а не в Бога Богатеет» (Лк. 12, 21), кто не богатеет добрыми делами (Тим. 6, 18), — тот лишится своих сокровищ и с ними — своего, приросшего к ним, сердца (Мф. 6, 21, Лк. 12, 34). Всякое нечистое помышление, всякое праздное слово, всякое худое дело, — все то, что источником своим имеет не Бога, корни чего не питаются влагою вечной жизни, что внутренне осуждено уже своим несоответствием с идеалом, который — во Христе, и своею неспособностью принять в себя Духа, — все это вырвано будет из сформировавшейся эмпирической личности, из самости человеческой: «Всякое насаждение, которое не Отец, Мой Небесный насадил, — говорит Господь, — искоренится» (Μф. 15, 13), вырвано будет с {стр. 238} корнем. А Предтеча Его проповедовал необходимость духовного плодоношения: «уже и секира при корне древа лежит, всякое древо, не творящее плода доброго, посекают и в огнь вметают» (Мф. 3, 8, 10). Но до этого суда плевелам вражьим предоставляется свободно расти вместе со пшеницей, а бесплодной смоковнице зеленеть, как и плодоносящей.
Подобное же, но добровольное, отсечение или вырывание греховной части из эмпирической личности необходимо и при жизни, пока эта часть не успела заразить собою и все прочие. Это — как бы операция гангренозного члена. Так, например, по поводу вожделения сказано: «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя — εξελε αυτό καί βάλε από σου, — ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя — εκκοψον αυτήν και βάλε από σου; — ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5, 29, 30; cp. Мф. 18, 8, 9). На Богослужении «Недели блудного сына», когда душа разом встрепенется от своей греховной спячки, когда вспомнит душа про свою небесную отчизну и, оглядев себя, вдруг, как бы в молнийном озарении, поймет, что растлила себя и что вся она — сплошная греховная язва, — в эту неделю предварения Страшного Суда Божия мы усвояем в церкви ту же идею разделения, облеченную в образ отвеивания зерна от плевы Все что делал я — оказывается призрачным, и нет ничего твердого. Изысканно закругляются образы стихиры:
«В безгрешную страну и животную вверихся,
посеяв грех, серпом пожав класы лености,
И рукоятием связав деяний моих снопы,
яже и постлах не на гумне покаяния:
но молю тя превечнаго делатаеля нашего Бога,
ветром твоего любоблагоутробия
{стр. 239}
развей плеву дел моих,
и пшеницу даждь души моей оставление,
во небесную твою затворяя мя житницу, и спаси мя» [408].
А на первой седмице Великого Поста, — когда монахами должны делаться все и каждый; когда для внутреннего делания, т. е. для перерождения себя, «приспе время благоприятное»; когда приходит «светотворное время, еже даровал Отец светов», т. е. время творения света во всей личности своей, — в это великое время всемирной схимы с громким воплем умоляет грешная душа Того, кто и церковную завесу разодрал ради неё:
Еще при жизни злая, похотная сторона самости должна быть «усекаема» и «отбрасываема на́прочь»; при жизни еще «плева дел» должна быть отвеваема; еще при жизни должна быть раздираема «плачевная риза страстей». Греховное «дело», отделенное от «самого», выбрасывается вон из области Божией, из бытия и отодвигается на край его, в агонию вечного уничтожения, в пределы ледяной и жгучей смерти второй, во «тьму внешнюю» или «тьму кромешную», т. е. «вне» или «кроме» Бога обpeтающуюся, о которой столько раз говорит Писание. «Негодного раба» (Μф. 25, 14–30), не пустившего в оборот врученный ему талант и вернувшего его Хозяину, т. е. человека честного, но не создавшего на Божественном основании высокой эмпирической личности, Господин лишает и того, что ему дано было, а затем велит выбросить («εκβάλετε») «во тьму внешнюю — εις τό σκότος τό εξώτερον, — где будет плач и скрежет зубов», т. е. мука и бессильная ярость, впрочем, никакому восприятию не доступная, ибо она — «вне досязания и ничья. Ведь то ценное, что было у раба, — та́лант–тала́нт его, — осталось в руках Господина, и лишь негодная, непригодная для {стр. 240} Царствия самость его, как и гость в не–брачной одежде (— в притче о брачном пире, Мф. 22 12, 13 —) извергается вон. Решительное приточное слово Иисуса Христа о вечности мук для людей не любивших (Мф. 25, 31–46), равно как и слово Жениха к девам неразумным, не запасшимся елеем обо́женной плоти (— ибо благодатная и духо–носная личность и есть обо́женная плоть —) и потому оставленным вне, за пределами пиршественной горницы, имеет целью математически–точно выразить восприятие суда самостью осужденного, его субъективное переживание этого суда, а не метафизическое положение вещей, — относится не к области бытия, но к области небытия, сущего лишь для себя. Для самости, извергаемой из Царства, иначе и быть не может, ибо все само–сознание злобной воли изгоняется вон, в огненную тьму черного и несветящего огня геенского. Так — субъективно. Но объективно, для Сущего, Бога, и для сущих, праведников, «сам» спасся, пройдя через момент огненной операции, но только спасся нагим, в состоянии чистой потенциальности само–сознания. Этот–то самый миг страшного лице–зрения Святого Лика Христова, как огнь плеву попаляющего самость, навязчивою идеею навеки запечатлевается в самости, уже более не творческой, ибо она не имеет субстанциональной основы «самого». И вся дальнейшая участь этой призрачной самости определяется неподвижною идеею собственного грехa и огненной муки Истины. И та и другая объективно не существуют; они — чистые субъективности. Но, не имея творчества — так как не имеет «самого», субстанции, — самость всецело ими наполнена и не может даже мысленно отвлечься от них, стать выше их, — ибо для этого необходим творческий акт, — почему не может и уничтожиться. Её бытие исчерпывается её «психическим содержанием»; она действительно соответствует «душе», — в представлении эмпирической школы психологии; самость есть только психический феномен без ноумена, застывшее явление без являющегося. Нечто подобное представляет {стр. 241} сознание человека, которому сделано после–гипнотическое внушение. Отныне навеки самость — мнимо–существующая, само–сознающая идея само–утверждающегося грехa и муки. Сеющий ветер грехов пожнет в том веке бурю страсти; и, захваченный греховным вихрем, не престанет вращаться им и не вырвется из него, да и мысли–то вырваться из него не будет у него, ибо не будет бесстрастной точки опоры. Самость теперь дана себе уже окончательно слепо, ибо ослепила себя, пренебрегши чистотою сердца. В том–то и ужас, что безумная самость не будет иметь ума, чтобы понять, что с нею: все — только «здесь» и «теперь». Образно эту мысль рисует Достоевский в разговоре между Раскольниковым и утонувшим в глубинах сатанинских, до самого сердца развращенным Свидригайловым.
«— "Я не верю в будущую жизнь", — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости.
— А что если там одни пауки или что–нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.
— "Это помешанный", — подумал Раскольников.
Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что–то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность Мне, знаете, в этом род иногда мерещится.
— "И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого", — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников (раньше он ничего не хотел говорить с Свидригайловым).
— Справедливее? А почем знать, может быть это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал, отвечал Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким–то холодом охватило Раскольникова при этом без–образном ответе» [410].
Такова геенна, — единственная реальность в собственном сознании, и ничто — в сознании Бога и праведников. Разве нам жалко обстриженных ногтей или {стр. 242} даже отрезанного члена? Также и праведникам нисколько не жалко вечно–горящие самости, столь же мало существующие для них, как для живых людей не существуют абсолютно–неизвестные им чужие мысли. Нет жалости к тому, что по самому существу дела решительно не доступно ничьему восприятию. — Самость получила, чего хотела и чего продолжает хотеть: быть своего рода абсолютом, быть независимой от Бога, само–утверждающейся против Бога. Ей дана эта независимость, эта абсолютная отрицательная свобода эгоизма. Она хотела быть одинокою, — и она стала одинокою; она хотела отъединения — и стала отъединенною. Отныне ни Бог, ни что иное, нежели сама она, не воздействуешь на нее. Она — «как Бог»; но так как у неё нет творчества (всякое творчество — в Боге и — только в Боге), то она рабствует себе в своем случайном содержании, одержима конечным.
Мысли уже раскрытые выше содержатся и у Мк. 9, 43–49, но с некоторым важным для нас дополнением; здесь говорится:
43. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый,
44. где червь их не умирает и огонь не угасает.
45. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый,
46. где червь их не умирает, и огонь не угасает.
47. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную,
48. где червь их не умирает, и огонь не угасает.
49. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится».
Тут «делом» «самого» является тело. Негодною частью его, соответствующею горючему материалу здания (1 Кор. 3, 13), будет здесь соблазняющий член тела. {стр. 243} Лучше во́-время вырвать, отсечь его напрочь, нежели подвергать опасности все тело, т. е. всю эмпирическую личность. Неумирающий червь «его», этого соблазняющего члена, т. е. червь само–сознания греховного, вечно будет подтачивать отсеченный и удаленный член; неугасающий огонь боли от разлучения с телом — неизменно пожирать его.
Исторически образ «червя неумирающего» объясняется из Талмуда, согласно учению которого души грешников наказываются тем, что черви пожирают их мертвые тела. В трактате (Берахот говорится: «Так же тягостен для мертвых червь, как булавка в теле живого. Печалью и скорбию весьма удручается душа, когда видит, что тело, — некогда сосуд её и пристанище, — пожирается изнутри и истребляется червем, так что даже совершенно справедливый опасается этого огорчения» [411].
«Делу» грозит вечное уничтожение, вечная агония второй смерти. Так будет, ибо «всякий» (т. е. «сам»; ср. «всякий» в 1 Кор. 3, 10) «осолится огнем», т. е. через огонь получит очищенное, не способное разлагаться или быть пожираемым червями бытие, тогда как для гниющего члена это осоление есть гибель. А то, что ранее обозначалась у Апостола лишением награды («потерпит урон») или лишением одежды («если только не окажемся нагими»), — оно характеризуется тут как состояние изувеченности, как лишение члена. Это — неполнота само–сознания, в высшей своей мере, при воле, — что называется, — «осатанелой», равняющаяся нулю «для себя бытия». Последнее возможно при полном отпадении от Духа Живо–творящего, при хуле на Духа, т. е. при сознательном противлении Истине, Носителем которой является Дух Святой: «всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 31, 32). Отрицание Истины, как Исти{стр. 244}ны, ведет за собою полное разделение «самого» и «самости», т. е. смерть души, смерть вторую, подобно тому как разделение души и тела есть смерть тела, смерть первая. «Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти» (Иак. 5, 20), и потому должно молиться о нем; но если человек явно и сознательно идет к смерти, если у него — «грех к смерти», то тщетна и молитва (1 Ин. 5, 16, 17).
Слово Божие — вот тот меч, которым рассекается человеческое существо (Евр. 4, 12; ср. Откр. 1, 16: «из уст Его выходил острый с обеих сторон меч»); взор Божий — вот тот огонь, который обращает в ничто всякий грех (Откр. 1, 14; 2, 18; 1, 5). Слово–меч и взор–пламя проникают в сокровеннейшие глубины твари, «и язык Его — как огонь поядающий» (Ис. 30, 27). Образ горения неустанно повторяется в языке Писания, и в этом образе нельзя видеть простое, с маху взятое сравнение. Но, за всем тем, в понятие горения привносится существенный признак, — признак вечности. «Сгорать», но не «сгореть», — таково «вечное горение». Если в глазах сущего, для «самого», вечность мучений — в их абсолютном по содержанию миге, когда соприкасаются грех и взор Божий, не могущие соприкоснуться более, как на миг, то для не–сущего эта вечность — в непрестанной продолжаемости в дурную бесконечность, в нелепом и не сущем о себе растяжении умирания злой самости на без–предельность чисто–внутренней, ничем более не сдерживаемой похоти, будучи дурною абсолютностью и полною независимостью ото всего, — как того хочет самость, — и в то же время не имея творческой активности, эта самость лишена и внешних и внутренних побуд остановиться, положить предел своей похоти. Предоставленная самой себе, — самость делается своею рабою и, в голом само–тождестве греховного Я, пыльным, вечно изнемогающим и никогда не останавливающимся вихрем бес{стр. 245}смысленно кружит во тьме небытия и муки: достигнуто, вот оно «Будете как боги»!
Кому, как ни язычникам было знать о призрачности загробного существования и о дурной бесконечности геенских мучений? Не ведая при жизни освобождения от силы этого вихря самости, от мучительной работы геенне, они с удивительною пластичностью выразили это переживание в целом ряде адских образов. «Самые наказания изображаются в таком виде, — делает наблюдение исследователь эллинских идей о загробной жизни [412], — что более всего остального они указывают здесь лишь на тщетность, бесплодность вечных усилий наказуемого достигнуть какой–либо важнейшей для него цели, — бесплодность, видимо намекающая на тщетность и суетность всех вообще усилий и стремлений человека в период земного его существования».
Данаиды, по смерти осужденные за свое муже–убийство вечно и бесплодно носить в преисподней воду в бездонную, никогда не наполнявшуюся бочку или, по вазовым изображениям, — в огромный пифос; Окн с ослом, непрестанно пожирающим веревку, — плод его непрерывающегося труда (— по объяснению Бахофена [413], эти символы имеют значение половое, первый — женственной восприимчивости, второй — мужской производительности, и тогда, если это действительно — так, то образы Данаид и Окна делаются особенно поучительны —); прикованный Титий, с непрестанно терзаемой коршуном печенью, которая все снова вырастает (то же — у Промефея); Иксион — вертящийся в огненном колесе неутолимой страсти [414]; Тантал, томимый жаждою и голодом, но только раздразниваемый видом бегущей от него холодной воды и подымающихся от него ветвей с золотыми плодами; Сизиф, напрасно влекущий в гору тяжкий камень, который у самой вершины срывается обратно на равнину; «воздушный призрак» Иракла с напряженным луком, вдруг озирающийся, в постоянном намерении выстрелить [415], и т. д.— {стр. 246} вот всегда важные для подвижника образы, в содержании которых с непререкаемостью выступает по противоположности, какой именно дар христианин получил от Господа.
Еще ярче выразили дурную бесконечность страсти в геенне и ненасытимость её индусы, — именно в образе адских чудовищ прэтов. Буддисты говорят, что это — «вечно голодные чудовища, с толстою головою, свирепым взглядом и огромным желудком, который никогда не наполняется, с сухими, как у скелета, членами, — нагие, обросшие волосами, с устами и ртом — тонким, как игольное ушко. Они вечно голодны и вечно жаждут. Едва один раз в сто тысяч лет они слышат слово «вода» и, когда находят ее, то она обращается пред ними в нечистоту. Некоторые из них пожирают искры огня, другие — трупы, или собственное тело, но не могут насытиться, вследствие узкого устройства своего рта. Кажется, — замечает преосвященнейший Xрисанф, — кажется, в лице этих жалких существ фантазия буддистов хотела воплотить понятие о той жажде бытия, которая ведет к страсти и служит причиною и самых перерождений, — этого зла жизни. Вечная .жажда бытия никогда не удовлетворяется» [416].
Идея дурной продолжаемости этого сгорания в геенском огне ясно выражена в Ин. 15, 6: «Я — Лоза, а вы — ветви. — говорит Господь — ; кто не пребудет, — μένη, — во Мне, — извержется вон, — έβλήθη έξω, — как ветвь [не приносящая плода, см. 15 4, 5] и засохнет,… ε η ηράνθη; — а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, — συνάγουσιν αυτά καί εις τό πυρ βάλλουσιν καί καίεται». Не пребывающий в Иисус Христе будет извержен вон и засохнет, т. е. подвергнется таинственному отсечению от Корня Жизни и, следовательно, лишившись соков бытия, — Духа Св., — потеряет и творческую функцию роста, само–созидание во Христе, омертвеет и засохнет в моно–идеизме, застывшем на вечном созерца{стр. 247}нии греха и муки. Доселе — речь еще в стране бытия. Но далее она подходит к необходимым следствиям процесса, происходящим уже на рубеже бытия: ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
В смысле текстуальном можно, впрочем, объяснять настоящее время этих форм как «настоящее сентенции», т. е. истолковать разбираемое место как общую мысль о постоянной связи явлений, о «вообще». Но если бы и так, то все таки это «вообще», как и всякое «вообще», есть лишь выражение дурной бесконечности, присущей явлению, т. е., опять–таки, некоторого долгого и беспредельно томительного «теперь».
Процесс извержения есть, — для извергнутой самости, — вечное, застывшее «теперь», никогда не делающееся прошедшим; для себя — она вечно извергаема из Царства, бросаема в огонь, где и сгорает, хотя и извержение и огонь — не существуют и только самости видятся в мечтании. Все — благо, все — совершенно, все — свято, и Бог — всячески во всех; но злая самость так и оцепенела на страшном и гнусном видении. Высоковыйный гнев разжигает и распаляет ее. В бессильной ярости и мук, с воплем и скрежетом, грозится она кулаком… И кому же? — Богу и праведникам… Но, не существует ни её, ни её мучений, и бывший субъект их, — «сам», — давно забыл о том, что у него когда–то был соблазнявший его глаз, который он вырвал и бросил прочь от себя. В геенне копошатся лишь призрачные «сны теней» и темный «тени снов», — если воспользоваться красивым словом Пиндара. Было бы легкомыслием думать, что до–христианские представления о загробном мир были сплошною выдумкою: и евреи со своим представлением о шеоле, и эллины со своим аидом, и прочие язы́ки говорили правду, — о том, что знали; а знали они, хотя и смутно, существование лишь вне Бога, отпадение от Бога. Вот почему, метафизически–характерным для всего без–благодатного человечества, было и есть и будет то, что думал о смерти Еврипид; а в его глазах {стр. 248} смерть — полное уничтожение того, кто назывался прежде человеком; и тот, кто до рождения был ничто, умирая, — по словам Поэта, — снова, в смысле личного существования, есть не более, как ничто:
τό μηδέν είς ουδέν ρείπει[417]
т. е. τό μηδέν, кажущееся, призрачное бытие или полу бытие, безблагодатное, а потому и полу–реальное существование переходит в чистое небытие, в чистое ничто, в ουδέν. Впрочем, это — само–чувствие личности; что ж до понятий, то, конечно, было распространено убеждение о бессмертии души. Но значительно именно то, что это понятие о загробном существовании наполняется переживанием его призрачности и пустоты. Это–то и есть геенское бытие. Таково же переживание и современных язычников. Мысли грешника, — говорят они, — «это эхо его сумрачной души; вибрация мыслей этих образует над ним в пространстве темные, гнетущие течения» [418]. «Ад — дом умалишенных вселенной, где люди будут преследуемы воспоминаниями» [419], место неутолимых мучительных желаний. — Подобно воспаленной и жаждущей гортани томится душа, но — нет утоления. Так, в притче с Богатом и Лазаре пронзительный вопль Богача раздирает уши: «Отче Аврааме! помилуй меня и пошли Лазаря, да омочит конец перста своего в вод и остудит язык мой; ибо стражду в пламени сем» (Лк. 16, 24).
Идея очистительного огня проходит красною нитью через весь Новый Завет. Но сейчас я обращу твое внимание на Мф. 3, 11. Связь мыслей перед ст. 11 такова:
К Иоанну Крестителю приходят фарисеи и саддукеи (ст. 7). Иоанн указывает им на необходимость покаяния — т. е. отвержения от себя всего соблазняющего, — чтобы избежать «будущего гнева», и грозит им каким–то огнем (обозначим его буквою А), в который бросают дерево, не приносящее плода; это — то же, что в иных {стр. 249} местах было обозначено как бесплодная ветвь, негодная одежда, строение из худого материала и т. д. Иоанн грозит также секирою, — то же, что в другом месте — «меч обоюдо–острый». — За покаянием имеет последовать новый очистительный процесс: «Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (обозначим этот огонь буквою Б); лопата, (— как орудие разделения и очищения она имеет приблизительно тот же смысл, что секира и меч —), лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу (= «сам») в житницу («Небесный Иерусалим», «обитель» и т. д.), а солому (= неплодные ветви, и т. п.) сожжет огнем неугасимым (обозначим его буквою В)» (Мф. 3, 11). Какой же это огонь? — Огонь А = огню В, как горение, постигающее то, что уже отброшено, уже извергнуто «вне» или «кроме́», наподобие мякины при отвеивании. Тот и другой огонь сожигает то, что несовместно с пребыванием в Боге, что не имеет плотности бытия, что выталкивается из недр Троичной Жизни, как пробка из воды. Но — совсем иное, по–видимому, свойства огня Б. Как видно, это — не неугасимый огонь муки, но огонь очистительный, огонь отделяющий Божие от безусловно вне–Божественного; другими словами, огонь Б есть тот самый, который довершает крещальный процесс, отделяя «самого» от ино–естественного, небожеского наслоения на нем, — огонь, «осоляющий всякую жертву» (Мр. 9, 49). Какой же это огонь? В крещении он не дается, о нем нигде не говорится применительно к фактически существующему крещению, и только Апостолы получили крещение огненными языками. Дух Христов, грядущий к грешной твари, будет тем огнем испытания, который все очистит, все спасет, все собою наполнит. Но то, что для «самого» является мигом очищения (огонь Б), для его греховной самости будет огнем мучения (огонь А и В). Тот и другой огонь — это разные {стр. 250} аспекты одного и того же Божественного откровения, — откровения для твари Уте́шителя. Вечное блаженство «самого», и вечная мука «самости» — таковы две антиномично–сопряженные стороны окончательного, Третьего Завета. Таким образом, Откровение Вечной Истины обнаруживается в двойственном явлении: спасения–гибели, света–тьмы, духовности–геенны.
Сохранился важный аграф, или незаписанное изречение Спасителя, в котором эта двойственность Богооткровения отмечена вполне явно. «Находящийся возле Меня, — говорит Господь в этом аграфе, — возле огня, далекий же от Меня — далек от Царства». Другими словами, Один и Тот же Господь дает Царство и попаляет все недостойное: Дух Христов для достойных бывает Царством, а для недостойных — огнем.
Аграф этот сообщают: Оpиген, в сохранившихся в латинском переводе бл. Иеронима «Толкованиях на Иеремию», и Дидим, в «Толковании на Псалом 88–ой». А т. к. оба они были александрийцы, то можно предполагать тут влияние местного источника, тем более, что ни у какого церковного писателя, помимо названных александрийцев, нет указаний на рассматриваемый аграф. Можно, далее, предполагать, что таковым источником было местно–чтимое «Евангелие от египтян».
Приблизительно так же, как сделано выше, толкуют изречения Спасителя Дидим и Ориген. Вот слова Opигенa († 254 г..):
«Говорит — Спаситель: "Кто — подле Меня, тот — подле огня; кто — далек от Меня, тот — далек от Царства; — qui juxta me est, juxta ignem est; qui longe est a me, longe est a regno". Ведь как тот, кто — подле Меня, — подле спасения, так — и подле огня. И кто слушает Меня, и слышанное извращает, тот сделался сосудом, уготованным в гибель, потому что кто подле Меня, тот — подле огня. А если кто–нибудь, опасаясь того, что кто — подле Меня, тот — подле огня, стал далек от Меня, чтобы не быть подле огня, то таковой, зато — quidem, — стал далек от Царства. И как атлет, который не записан в состязании, ни бича не боится, ни венка не ожидает; а кто объявит имя, если побежден, — сечется {стр. 251} и отставляется, если же победил, — венчается; таким же образом, кто вступил в Церковь, — о катехумен, послушай!, — кто подошел к слову Божию, — ничто иное, как записанный; если не надлежаще состязался, — побивается бичами, которыми не секутся те, кто не записан в начале; а если сражался ловко для избежания ударов и наказаний, то не только от обиды будет освобожден, но примет нетленный венок славы» [420].
Подобным же образом высказывается Дидим, слепец александрийский († 396 г.):
«И, налагая наказания на противников, Он, — Господь, — страшен. Ибо, если кто–нибудь приближается к Нему чрез то, что воспринял Божественное учение, то своею греховностью он оказывается возле этого огня — εγγύς γίνεται τού πυρός. Потому–то говорит Спаситель: «Находящийся возле Меня — возле огня; далекий же от Меня — далек от Царства; — о εγγύς μου εγγύς τού πυρός, ό δε μακράν απ’ εμού, μακράν από της βασιλείας». И теперь, значит, говорит преслушивающимся круга заповедей Его, что Он «страшен и велик» для отвращающихся от добродетели Его» [421].
Таково двойственное действие или, выражаясь по–ученому, «поляризация» благодати. Но лишь это слово может показаться не совсем привычным. Суть же дела — слишком хорошо известная Истина, что Бог — не только благостен, но и страшен, страшен именно непереносимою благостностью Своею, этим «бичом любви» [422], для всякого нарушителя Его Святой Правды. Как одно и то же пламя светит и греет одним, а других — жжет и изобличает своим светом, так и Трисиятельное Светило «для одних — свет, а для других — огонь, смотря по тому, какое вещество и какого качества встречает в каждом» [423]. Благодать Божия для одних «росодательною» делает и печь, а других и в прохладе «опаляет» [424]. Если «прильпе земли утроба наша» (Пс 43, 26), то всякий подъем вверх болезнен ибо отрывает «утробу» от «земли», вырывает «землю» из сердца нашего. Солнце, светящее ясно–зрительному, парящему {стр. 252} Орлу, ослепляет подземного крота с полу–атрофированными от неупражнения глазами. Потому–то и поется в церкви:
Но наиболее ярко и последовательно идея «поляризации» благодати выражена в «Последовании ко святому причащению». Тут, в сущности говоря, в основе лежит только одна идея: «Огнь — еси, недостойные попаляя». Одежда мирской суеты, непристойно одетая на брачный пир, может оказаться рубашкою Деяниры; так, читаем мы в притче о званных и избранных: «Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему; с Друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?». Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: "Связавши ему руки и ноги, возьмите и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов"» (Мф. 22, 11–13). Чертог брачного пира — это среда Духа; одежда — эмпирическая личность, вязание же рук и ног — лишение творческой деятельности. Так, благодать, светящая одним, делается поводом к ослеплению других. Эта же обоюдность благодатной силы выражается еще образом «камня». «Камень» который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Пс. 117, 22 = Μф. 21, 42 = Лк. 20, 17). Камень этот — основа равновесия всего здания Церкви [426], т. е. всей среды духовной жизни или спасения. Но «всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит» (Лк. 20, 18 = Мф. 21, 44).
Последний вопрос: Каќ относится изложенный здесь взгляд на посмертное существование грешников к ходячим взглядам, с одной стороны, и к оригенистическим — с другой? Другими словами, ка́к входит в него {стр. 253} этот тезис и этот антитезис, вместе — образующие антиномию геенны? — Думается, он представляет антиномический синтез того и другого. Это — не смягчение и не ослабление тезиса и антитезиса, а, наоборот, их укрепление и усиление: и тот и другой взгляд доведен до своего предельного развития, взят в своей идее.
Последовательность развития обоих взглядов можно представит наглядно в виде двух колонн, а излагаемый здесь взгляд будет тогда их архитравом.
Первая группа представлений начинается представлением об абсолютном характере зла: «Все осуждены, все погибнут». Приблизительно такое воззрение развивал у нас К. Леонтьев [427]. Следующею ступенью будет лубочная картина ада, где грешники лижут раскаленные сковороды и в во–веки веков будут вариться в котлах со смолой [428]. Далее, это воззрение утончается до представления о внутреннем источнике мук адских, о мучении чрез слишком позднее раскаяние и далекость от Бога. Такова мысль у некоторых аскетов. Наконец, все мучения сводятся к «бичу любви Божией» и к раскаянию [429], — к стыдливому чувству своего недостоинства, незаслуженности блаженства [430]. Но и эта легкая тень летних облак скользнет и исчезнет с духовного горизонта — таков взгляд некоторых афонитов. Вот одна группа взглядов.
Другая группа тоже начинает с утверждения о безразличии всего человеческого, но видит все не в черных тонах демонизма, а в розовых — панфеизма. В сущности, — говорят, — все человеческое так мелко, что все — правы, все — хорошо. Вульгарный оригенизм, — в котором, кстати сказать, «адамантовый» Александриец нимало не повинен, — вульгарный оригенизм исходит из этого состояния безразличия; но, по такому оригенизму, в учении об аде есть «секрет», и «умные люди» давно поняли эту божественную хитрость. Она — в том, что {стр. 254} никакого ада, «конечно», де, нет и не будет; Бог де всех простит и лишь сейчас «пугает» грешников, чтобы они исправились [431].
Последующую за этою форму представляет истиненый оригенизм, по которому загробные мучения служат к воспитанию личности и отчасти к возмездию ей за грехи её. Пройдя чрез последовательность многих существований во многих мирах, душа, наконец, исправляется и получает прощение [432]. — Учение об очистительном огне у обоих Григориев, — Богослова [433] и Нисского [434], — ведет на ступень еще более высокую. Загробные муки — это лишь необходимая хирургия, исправляющая душу. Как канат, протаскиваемый сквозь тонкое отверстие, очищается от грязи, так и душа, подвергнутая мучениям, избавляется от пороков [435]. И у того же Григория Нисского, муки представляются в виде еще более утонченном, а именно, как случайное следствие очищения, как побочное явление при очистительном процессе, — как боль при операции, как неприятный вкус лекарства [436].
Вот два ряда утончающихся взглядов. Легко приметить, что они имеют один и тот же недостаток: оба они рационализируют мистический процесс наказания и очищения, так что, по закону тождества, грех представляется либо самою субстанциею души (первый ряд взглядов, «протестантствующий» —), либо чисто внешним в отношении к душе (— второй ряд, «католичествующий» —). Но ни того, ни другого признать нельзя. Человека, имеющего злую волю, никак не заставишь изменить ее; а покуда он не изменит ее, дотоле он не исправится: нельзя снять грех с человека, не затрагивая его внутренней сути (против второго ряда). Но, с другой стороны, человека абсолютно- и насквозь–испорченного, мы не можем представишь себе, ибо это значило бы, что творение Божие не удалось: образ Божий не может погибнуть (против первого ряда). Отсюда, возможен {стр. 255} только тот вывод, который нами уже сделан ранее, т. е. — антиномия.
Если, поэтому, ты спросишь меня: «Что́ же, будут ли вечные муки?», то я скажу: «Да». Но если ты еще спросишь меня: «Будет ли всеобщее восстановление в блаженстве?», то опять таки скажу: «Да». То и другое; тезис и антитезис. И думаю, только изложенный здесь взгляд удовлетворяет духу и букве св. Писания и духу свято–отеческой письменности. Но, будучи внутренне–антиномичным, он требует веры и безусловно не укладывается в плоскости рассудка. Он — ни простое «да», ни простое «нет», он — и «да» и «нет». Он — антиномия. Это–то и является лучшим доказательством его религиозной значимости.
Антиномия геенны не чужда обще–человеческому, «народному» сознанию. Так, например, глубокомысленное выраженпе её находится уже в «Одиссеe» в стихах [437].
«Τον δε μετ' εΐσενόησα βίην Ήρακληείην,
εϊδωλον αυτός δε μετ' άθανάτοισι θεοίαιν
τερηεται έν θαλίης, και εχει καλλίσφυρον 'Ηβην.
παϊδα Διός μεγάλοιο και 'Ηρης χρυσοπεδίλου —
видел я там наконец и Ираклову силу, один лишь
призрак воздушный; а сам он с Богами на светлом Олимпе
сладость блаженства вкушал близ супруги Гебеи, цветущей
дочери Зевса от златообутой владычицы иры» [438], —
рассказывает Одиссей царю Алкиною. Этот призрак Геркулеса, как застывшее видение страшного сна, вечно целится, готовясь выстрелить из лука; но он — не «сам» Геркулес, а лишь «воздушный призрак его», поскольку герой провинился пред сверхчеловеческим миром.
«Мертвые шумно летали над ним, как летают в испуге
хищные птицы; и темной подобяся ночи, держал он
лук напряженный с стрелой на тутой тетиве, и ужасно
вдруг озирался, как будто готовяся выстрелить; страшный
перевязь блеск издавала, ему перерезав
грудь златолитым ремнем…
{стр. 256}
Взор на меня устремив, угадал он немедленно, кто я,
жалобно тяжко вздохнул и крылатое бросив мне слово:
«О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный,
«иль и тобой, злополучный, судьба непреклонно играет
«так же, как мной под лучами всезрящего солнца играла».
«»
Так мне сказав удалился в обитель Аидову призрак» [439].
Таким образом, уже у Гомера была смутная догадка или темное воспоминание о том, что «είδωλον, призрак» человека может быть в геенне, а «αύτός, сам» он — в горнем мире. Это гомеровское различение «самого» и «призрака» имеет себе любопытную параллель в виде различения «имени» человека и его «души».
«Помяни Господи, имярек, и его душу»
сказала мне раз сергиево–посадская старушка, получив милостыню. Другими словами, она высказала пожелание, чтобы были помянуты: «сам» человек, представляемый своим именем, и «его душа», т. е. старушка мыслила их как что–то, в загробном существовании, могущее быть каждое в особом состоянии. Аналогичные представления можно было бы указать в религиозных представлениях самых различных народов и времен [440].
Прежде, нежели кончать это письмо, с чувством глубокой благодарности напомню тебе случай из собственной своей жизни, когда я понял, что́ есть червь неумирающий и огнь неутасающий, — когда я душой воспринял, что́ есть отдых и прохлада покоя.
Злая, июльская страсть, как собака, неотвязно лаяла за мною; вихрем закружились помыслы, жар геенны зажегся в душе: «Страсти. — говорит преп. Макарий Великий [441], — суть горящий огненный пламень и разженные стрелы Лукавого». Невыносимое паление заставляло терять рассудок. И, теряя себя, я то валялся на полу пред Ликом Спасителя, то в отчаянии отдавал душу {стр. 257} губительному самуму. «Есть нечистый огонь, — говорит тот же Подвижник [442], — который воспламеняет сердце, пробегает по всем членам и пробуждает людей к непотребству и к тысячам злых дел». Тщетно старался я сказать сердцу: «Не ешь — ма́ хар». Все быстрее кружились раскаленные помыслы, все труднее становилось молить Господа о помиловании.
Я видел, что я раб, что нет у меня свободы. Но я не мог сбросить с себя своего рабства, и того́ боялся более всего, что и рабство–то свое я скоро перестану сознавать. С тупою безнадежностью я следил за нависшим, как грозовая туча, падением. Не было ни днем ни ночью передышки: ни покоя, ни отдыха, хотя бы на самую маленькую минутку. Тщетно старался я выполнить совет преп. Исаака Сирина [443]: «Если не имеешь силы совладеть с собою и пасть на лицо свое в молитве, то облеки голову свою мантией и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения, но не выходи из своей келлии». Я не мог ни спать, ни есть, и только пред другими, собирая все свое само–обладание, старался принимать спокойный вид; но я видел, как с каждым днем щеки худели. Одним словом, огненное «колесо бывания» [444] захватило душу мою и помчало ее навстречу гибели. Тогда я рад был бы и умереть, погибнуть скорее: какой угодно конец, лишь бы прекратилось это терзание! А ты?.. Ты, как кроткий Ангел, сносил от меня капризы, подбадривал. Я помню, ка́к ты крестил меня, ка́к тихим голосом напевал:
«Богородице Дево, ра–ду–уй–ся.
Благодатная Мария, Госпо–одь с Тобою…»
С неизменньм терпением старался ты прогнать злое навождение и снова пел мое любимое:
«Ангел вопияше благо–о-о да–ат–ней:
Чистая дево ра–а-а–а-ду–уй–ся…»
Настала суббота. Я почти не помнил себя, когда ты повел меня за всенощную. Тут, через какие–нибудь чет{стр. 258}верть часа я почувствовал, что твои молитвы услышаны. Точно облачком каким застилось разгневанное, губительное солнце. Подул откуда–то освежающий ветер, повеяло прохладою и тишиною. Серебряные купы плотных облаков, как снежные вершины, вонзились в лазурь. Кружащиеся столбы пыльных помыслов унеслись куда–то: «похоть совершенно прекратилась, угасла и увяла», — как говорит Макарий Великий [445]. Что–то твердое, как скала, незыблемое, как Сама Истина, открылось в душе. Я оправился, ободрился и от волнения проплакал всю службу. Еще бы! Думаю, спасенные от самума не так себя чувствуют, как я, исцеленный от страстного помысла. Душа стала как весенняя березка, как прозрачная еще роща после майской грозы. Как роса девственной жизни, как капля благовонного мира, тихо каплющая на землю, снизошла ко мне помощь Духа, и новым миром умирлись и расправились воспаленные члены. А тогда широкими струями потекла в нутро благодатная сила, — умиряющая прохлада для души. Вечность запела в прохладной тишине вешнего заката восторженный гимн Деве Пречистой — Виновнице и «источнику» [446] всякой чистоты. Я же чувствовал себя вырванным у огненного вихря, и далекими, ничтожными и жалкими показались все искушения, когда вернулась «полно–властная свобода»: почти смеха достойным казался я сам себе и мой страшный искуситель.
Я обрел вожделенный κατάπαυσις, я постиг тогда, что́ значит μακάριος.
Но это чрез тебя, Друга, я получил покой свой, чрез тебя, Друга, спасся от червя неумирающего, — твоими дружескими молитвами узрел «духовную зарю» торжествующего Неба. Душа, по выражению Исаака Сирина, стала «цвесть духом» [447]. И ясно встали в сознании слова того же учителя о необходимости искушений [448]:
Молись, чтобы не отступил от тебя Ангел целомудрия твоего. чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не {стр. 259} разлучил тебя с ним. — А искушения телесные приуготовляйся принимать от всей души, и преплывай их всеми членами; и очи свои наполняй слезами, чтобы не отступил от тебя Хранитель твой. Ибо вне искушений не усматривается промысл Божий, невозможно приобрести дерзновение пред Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы Божественная любовь утвердилась в душе твоей. Прежде искушений человек молится Богу, как чужой кто. Когда же входнт в искушения по любви к Богу и не допускает в себе изменений; тогда поставляется пред Богом, как бы имеющий Его должником своим, и как искренний друг; потому что, во исполнение воли Божией, вел брань с врагом Божиим и победил его».
В искушении обретаем мы самих себя; в победе над страстью впервые сознаём себя свободными; в осуществленном торжестве над грехом делаем свою эмпирическую природу сверх–эмпирической. Не признавая фактической данности помысла, который, хотя и в нас, но — не наш [449], мы преодолеваем закон тождества, делаем своим Я не фактическое Я, а духовное, — что в Боге, — саму Истину. Чрез искушение Я доказывает себя, доселе слепо себе данное, и Истина делается «Другом» его, в нем живущей, а не только ему данной. Таким–то образом, преодоление теоретического скепсиса возможно лишь чрез фактическую победу над огнем геенны, готовым возгореться во всем нашем существе. Чтобы увидать «Столп Истины», нужно укротить геенну, нужно разрушить «Столп Злобы Бoгопротивный» [450].
Письмо мое начинается признанием, что я видел смерть вторую, а кончается исповедью насчет геенского огня. Вот образцы тех опытных данных, на которых построено изложенное тут учение об Аде.

Clarescit aetere claro. Яснеет к свету.
{стр. 260}
Вот порвалась последняя нить с землею. На грудь навалилась могильная плита. Все — все–равно. Потянутся дни, — серые, безнадежные. Нет ни одного просвета, нет ни одного луча. Все тускло.
Раньше жил надеждою. Она одна, лишь она давала силы. Она одна была источником жизни. Теперь же — нет ничего. Ничего. Ничего…
В соседнем двор пилили бревна, и звук был густой, как когда взбивают масло в уже огустевших сливках, или когда мешают в кринке жирную сметану. Словно комья земли глухо ударялись о крышку гроба.. Невыносимо!..
Пошел по кладбищу. Прочиталось мимоходом на каком–то кресте:
«Покоится прах души священной
под сей обителью святой.
Ударит колокол вселенной,
и мы увидимся с тобой».
«Прах души священной»! Господи, и тут мертвые души! Дальше, дальше к краю кладбища, — к валу с насаженными березами и ко рву! Дальше, навстречу заходящего солнца, в золотые нивы!
{стр. 261}
Блестели усатые ячмени, отогнутые все к северу. Еще не налившееся яровое серебрилось, как бы накрытое сребро–тканным парчовым покровом. Побелело озимое. Рожь побледнела и усохла; тяжелые колосы клонились долу. Нивы волновались правильным, ритмическим прибоем. И, добежав до ног моих, волна разбивалась. Снова и снова ударял ветер о побелевшие, ждущие жнеца нивы. Снова бежали ритмические волны и снова разбивались у ног.
Мне вспомнился один жаркий, июльский же день. Я сижу в саду, под акациями; все встали уже из за чайного стола, а я остался один, с книгою и недопитым стаканом. Мухи сплоченным строем окаймляют каждую каплю сладкого чая или варенья. Трескаются созревшие стручки желтой акации, и с силою разбрасывают свои круглые зерна, стучащие по листьям. Порою зерно ударяется в стакан, стеклянное блюдце или вазу с вареньем, и мелодичный хрустальный звон вторит удару. Шурша падают высохшие стручки. Сижу часами, слушая шелест, эти звенящие звуки и сухой треск стручков: совершаются таинственные роды дерев, и новорожденные семена, отрываясь от материнского лона, впервые видят свет Божий и начинают жить самостоятельною жизнью. Что–то будет с ними? Теперь кончились родительские заботы о них… Созрела акация, — значит созрела и рожь: они всегда созревают дружно. Всюду начатки новой жизни…
Солнце закатывалось; закатилось. День кончился: на деревьях воро́ны стаями собирались уложиться на ночевку. Небо переливало перламутром, — расцвеченное красным, желтым, — словно затканное множеством слоистых облачков. А края их были нежно–фиолетовые, аметистовые. На огненном поле пылающего неба четко виднелись верхи колоколен соседних сел. Деревушки — будто наляпали что–то, — как птичьи гнезда. Какой–то {стр. 262} шест, казалось, воткнут в самое небо. Ветром приносило хлебный дух зрелой ржи. Вспоминалось что–то знакомое, — вечно знакомое, — знакомое от далекой вечности, — вечно родное, дорогое и задушевно–зовущее.
Но небо блекло и выцветало, как уста умирающей. Небо умирало, и с ним умирала вся надежда на лучшее будущее. Меркли и выцветали, как ланиты умирающей, все благие порывы и ожидания. С края небосвода, едва–едва, ветром доносилась тоскливая частушка:
«Последний раз, последний час,
последнее свиданьицо.
Мы скоро не увидим вас,
и близко расставаньицо».
Толстая, непроницаемая, черная туча прикрыла небо и тяжелою завесою нависла над горизонтом. Потемнело. Оставалась только неширокая полоска аквамариноваго, после–закатного неба, упиравшаяся в землю тоненьким золотым ободком. Полоска сужалась и бледнела. Наконец, тяжелый, точно срезанный край плотной тучи прихлопнул этот последний просвет,… как крышкою гроба.
И с гневом топнул я ногою: «Неужели же тебе не стыдно, несчастное животное, ныть о своей судьбе? Неужели ты не можешь отрешиться от субъективности? Неужели ты не можешь забыть о себе? Неужели, — о, позор!, — неужели не поймешь, что надо же отдаться объективному? Объективное, вне тебя стоящее, выше тебя стоящее — неужели же оно не увлечет тебя? Несчастный, жалкий, глупый! Ты хнычешь и жалуешься, словно кто–то обязан удовлетворять твоим потребностям. Да? Ты не можешь жить без того и без сего? Ну, и что ж? Не можешь жить, — умирай, истеки кровью, а все же живи объективным, не сходи на презренную субъективность, не ищи себе условий жизни. Для Бога живи, а не для себя. Тверд будь, закален будь, объективным живи, в чистом горном {стр. 263} воздухе, в прозрачности вершин, а не в духоте преющих долин, где в пыли роются куры и в грязи валяются свиньи. Стыдно!».
Есть объективность; это — Бого–зданная тварь. Жить и чувствовать вместе со всею тварью, но не тою тварью, которую испоганил человек, а тою, которая вышла из рук Творца Своего; прозревать в этой твари иную, высшую природу; сквозь кору греха осязать чистое ядро Божиего творения…. Но сказать так — это все равно, что поставить требование восстановленной, т. е. духовной личности. И опять возникает вопрос о подвижничестве.
Ведь не посты и другие труды телесные, не слезы и не добрые дела — благо подвижника, а восстановленная в целости, т. е. уцеломудренная личность. «Ничто, — говорит св. Мефодий [451], — ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым злое — τη φύσει κακόν ουδέν εστι, άλλα τη χρήσει γίνεται κακά τά κακά».
Нет в человеке никакой реальности, которая была бы злом; но ложное употребление сил и способностей, т. е. извращение порядка реальности, есть зло; напротив, цельность–целомудрие состоит, по слову св. Амвросия Медиоланского, «в ненарушенной», «в неповрежденной природе»: «pudor virginis est intemerata natura» [452].
Зло есть не что иное, как духовное искривление, а грех — все то, что ведет к таковому. Но наличность этого искривления личности требует своего рода ортопедии, духовной ортопедии. Эта–то ортопедия — узкий путь подвижничества в разум святых отцов. «Не потому, — рассуждает один современный Епископ [453], — не потому необходимым явилось подвижничество, как совокупность известного рода ограничений и стеснений для достижения нравственного совершенства, что этого требует христианство. Нет, христианство требует от человека только положительного, нравственного развития, но только сам–то. человек грешный оказывается совершенно неспособным прямо жить так, как требует {стр. 264} этого христианский идеал, и принужден прибегать к разного рода мерам для подавления в себе нажитого грехoвного содержания жизни, «с потом лица есть хлеб небесный», как выражаются аскеты».
Духовная жизнь — это и есть спасение, дарованное Господом Иисусом Христом; подвижничество же — путь к нему. Но тогда, чтобы понять не только задачу, ставимую подвигу, но и особенную его сущность, необходимо вникнуть несколько в тот распорядок органов жизни, который единственно справедливо может быть назван порядком!», т. е. целомудрием человека.
Можно с разных сторон подходить к уяснению этого порядка, но вот, кажется, путь простейший, — по крайней мере, путь нагляднейший.
Человек «дан» нам в разных смыслах. Но — прежде всего и первее всего он дан телесно, — как тело. Тело человека — вот что первее всего называем мы человеком.
Но что́ же такое тело? — Не вещество человеческого организма, разумеемое как материя физикой, а форму его, да и не форму внешних очертаний его, а всю устроенность его, как целого, — это–то и зовем мы телом [454].
Возможно, что самое слово «тело» родственно слову «цело» [455], т. е. означает нечто целое, неповрежденное, в себе законченное, integram: а, по мнению А. С. Хомякова, «тело» происходит от санскритского корня тал, тил — быть полным, жирным [456], т. е., по древнему пониманию, — здоровым, крепким.
Подобно этому греческое «σώμα» со–коренно словаме: σάος, σοος — здравый, целый; σώος, σώς — благополучный, здравый, спасенный; σώκος — сильный, здоровый; σαόω, σώζω, — вернее — σώζω, — лечу, излечиваю, спасаю; σω–τήρ — спаситель, целитель. Сопоставляя σώμα с σωτήρ и с σώζω, мы можем сказать, что эти слова относятся друг к другу, как результат или орудие действия (ενέργημα, effectus, vis) к действующему (ό ενεργών, auctor) и к процессу действования (ένεργέω). А т. к. окончание τηρ равносильно окончанию της, то можно, далее, написать сложное отношение:
σώμα: σωτήρ: σώζω = ποίημα: ποιητής: ποιέω·= κτίσμα: κτίστης: κτίζω κτίλ [457].
{стр. 265}
Таким образом, σώμα обозначает нечто пассивное, некоторое произведение, имеющее в себе цельность и неповрежденность.
Тело — нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особливое. Тут «не место доказывать, что индивидуальность проницает собою каждый орган тела и что поэтому есть какая–то, вполне несомненная, хотя, быть может, и неуловимая для формул характерологии, как науки, — есть какая–то связь, какое–то соответствие между тончайшими особенностями строения органов и малейшими извивами личной характеристики. Черты лица; строение черепа; линии ладоней и ступней; форма рук и пальцев; тембр голоса, выражающий мельчайшие особенности в строении голосовых органов; почерк, запечатлевающий тончайшие особенности мышечных сокращений; вкус и идиосинкразии, показывающие в каких именно веществах и возбуждениях нуждается данный организм, т. е. чего ему не хватает, и т. д., и т. д. — везде тут за безличным веществом глядит на нас единая личность. В теле повсюду обнаруживается его единство. И потому, чем более вдумываемся мы в понятие «человеческого тела», тем настойчивее заявляет себя необходимость от онтологической периферии тела идти к онтологическому его средоточию, т. е. к тому телу, которое делает единством это многообразие органов и деятельностей, к тому телу, без которого ко всем этим органам применимо лишь понятие όμοιουσια, но никак не όμοουσία. Этот–то корень единства тела, это тело в теле, это тело по преимуществу, это собственно тело и занимает нас. То, что обычно называется телом, — не более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону этой оболочки лежит мистическая глубина нашего существа. Ведь и вообще все то, что мы называем «внешней природой», вся «эмпирическая действительность», со включением сюда нашего «тела», это — только поверхность раздела двух глубин бытия: глубины «Я» и глубины «не–Я», и потому нельзя сказать, принадлежит ли наше «тело» к Я или к не–Я [458].
{стр. 266}
Что же можно сказать о строении истинного нашего тела? — Пусть намечающая очертания его оболочка, пусть «тело» эмпирии укажет его органы и особенности его строения.
Прежде всего замечается симметрия верхней и нижней части тела, — так называемая гомотипия «верхнего» и «нижнего» полюсов. Низ человека — как бы зеркальное отражение верха его. Органы, кости, мускульная, кровеносная и нервная система, даже болезни верхнего и нижнего полюса и действие медикаментов оказываются полярно сопряженными [459]. Но, раз так, то не означает ли это соответствие, что онтологическим средоточием тела служит не та или другая конечность, а — центр гомотипии, т. е. срединная часть человека. Какая? — Уже поверхностный взгляд указывает естественное расчленение человеческого тела на голову, грудь и живот, причем каждая из частей, взятая как целое, может быть принимаема за единый орган. В животе сосредоточиваются отправления питательные и воспроизводительные, в груди — чувствования и, наконец, в голове — жизнь сознания.
Нервная система, — это, в плоскости эмпирии, ближайшим образом наше тело, — нервная система имеет в этих трех органах свои центры и, насколько можно догадываться при современном состоянии знания, эти центры суть именно центры указанных выше деятельностей [460]. Но дело — не в них, а в том, что жизнь каждого из органов, — головы, груди и живота, — соответственной тренировкой может быть углублена, и тогда человек бывает мистиком соответственного органа. Правильное развитие всех органов, под главенством того, с которым по преимуществу связана человеческая личность, т. е. груди, — такова мистика нормальная, и она достигается не иначе, как в благодатной среде церковности. Всякая же иная мистика, хотя и дает углубление, однако нарушает равновесие личности, ибо, не способное питаться благодатью, зерно души, прорастая {стр. 267} не в недра Пресвятой Троицы, а куда–то вбок, засыхает и гибнет. Такова мистика живота, т. е. мистика оргиастических культов древности и современности и отчасти — католицизма; такова же и мистика головы, или йога, распространенная в странах Восточных, особенно в Индии, и внесенная в европейский мир оккультистами разных толков и, в особенности, теософами [461].
Только мистика средоточия человеческого существа, мистика первым делом открывающая доступ в человека благодати, питающей недра его, только эта мистика исправляет личность и дает ей возрастать от меры в меру. Всякая же иная мистика необходимо увеличивает и без того нарушенное равновесие жизни и в конец извращает естество греховного человека.
В том–то и опасность «пре́лести» или ложной мистики, что, чем более и чем добросовестнее старается работать над собою впавший в нее человек, тем хуже для него, и только сквернейшее падение может, заставить его опомниться и начать разрушать то, что он столь старательно строил. Подобно тому, как путник, направившийся по ошибочной дороге, чем более будет спешить, тем далее уйдет от своей цели, так же точно и подвижник, ушедший с пути церковности, погибнет от своего же подвижничества. Не даром же старцы духовные предупреждают новоначальных: «Не бойся никакого грехa, не бойся даже блуда, ничего не бойся; но бойся молитвы и подвигов».
Итак, мистика церковная есть мистика груди. Но центром груди издревле считалось сердце, по крайней мере орган, называвшийся этим именем. Если грудь — средоточие тела, то сердце — средоточие груди. И к сердцу издревле обращалось все внимание церковной мистики.
«Кто читает с надлежаицим вниманием слово Божие, — так начинает свою знаменитую статью о сердце П. Д. Юркевич [462], — тот легко может заметить, что во всех священных книгах и у всех богодухновенных {стр. 268} писателей сердце человеческое рассматривается, как средоточие всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их направлениями и оттенками». Нельзя, вместе с некоторыми, видеть в текстах, упоминающих слово сердце, «случайный образ слововыражения, которым будто не управляла определенная мысль». Сердце — не аллегория, а тавтегория [463]. «Простое чтение священных текстов, если только мы не будем их перетолковывать по предзанятым идеям, убеждает нас непосредственно, что священные писатели определенно и с полным сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений человеческой телесной и духовной жизни» [464]. «Священные писатели знали о высоком значении головы в духовной жизни человека; тем не менее, повторяем, средоточие этой жизни видели в сердце. Голова была для них как бы видимою вершиною той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце [465]». Священное Писание дает «совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа посредствующего между целостным существом души и теми влияниями, какие оно испытывает со–вне или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в целостной системе душевных действий» [466].
Отсюда понятно, что задача подвижнической жизни, — целомудрие, — определяется как чистота сердца. «Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50, 11) — воззвал Псалмопевец, и, вслед за ним, взывает всякий верующий. Но, по свойству еврейского параллелизма, вторая половина прошения есть синонимическое усиление первой: «обнови» — это то же, что «созижди», и «в утробе моей» — то же, что «во мне», «прав» — то же, что «чисто», и «дух» — то же, что «сердце». Полученные выводы подтверждаются и лингвистикою. Сердце — это очаг духовной жизни нашей, и одухо{стр. 269}твориться — это значит не иное что, как «устроить» как «ублагоустроить», как «уцеломудрить» свое сердце.
В индо–европейских языках [467] слова выражающие понятие «сердце», указуют самым корнем своим на понятие центральности, серединности. Как русское сердце, так и сокоренные ему: белорусское сердце, малорусское сердце, чешское srdce, польское serce, sierce и т. п., — форма уменьшительная, — от существительного сердо. Корень слова сердо образует слова: старославянское средо, древне–русское: серед и середь — середина, серед — посреди (предлог и наречие), русское: середа, среда, середина, середний, средство, по–средник, сердц–е-в–ин–а и др., и все они выражают идею нахождения или действования «внутри», «между», в противоположность нахождению «вне», «за пределами» известной области. Сердце, таким образом, обозначает собою нечто центральное, нечто внутреннее, нечто среднее, — орган, который является сердцевиною живого существа как по своему месту, так и по своей деятельности. Эта этимология объясняет слово–употребление [468] «сердце» в значениях, не имеющих ничего общего ни с анатомическим, ни с нравственным или психологическим его смыслом. «Народ нередко сердцем зовет ложечку, подложечку, подгрудную впадину, повыше желудка, где брюшной мозг, большое сплетение нервов» [469]. По–видимому и Библии и древней письменности разных народов тоже свойственно такое слово–употребление, и смысл его углубляется, если вспомнить, что находящееся под ложечкой солнечное сплетение симпатической нервной системы оккультистами признается за нервный центр мистической деятельности [470], а физиологами–позитивистами безусловно признано за центр разных органических функций, вроде секреторной и т. д. [471].
«Сердце» принимает иногда значение: «нутро, недро, утроба средоточие, нутровая средина», так что говорится «сердце земли», вместо нутро земли, «сердце дерева» (ср. французское coeur d'un arbre) и «сердце пера» — в смысле «средины толщи» их. Подобным же образом можно слышать выражения: «сердечко яблока», т. е. гнездо, семена вместе с кожухом; «сердцевина дерева», т. е. срединная мякоть в дереве, проходящая как бы жилою от корня, до самой вершины; «сердцевина камня», ядро где оно есть, особого вида или состава камень внутри другого; «соляная сердцевина» в горной соли (илецк), чистые гранки, прозрачные как стекло, лежат гнездами; кремневый голыш в меловой толще, или, на казан{стр. 270}ском наречии, сердце. Поэтому же сердечником называется всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру; болт, пропускаемый сквозь переднюю подушку и ось повозки, на котором ворочается передок; шворень, штыр, курок; железный стержень с шаром, для образования пустоты, при отливке пустотелых артиллерийских снарядов; или, еще, мягкое железо, образующее электро–магнит и помещаемое внутри намотки, например, в динамо–машинах, «сердечник электромагнитов» или «сердечник барабана».
Обратимся теперь к языкам семитским, преимущественно к еврейскому. В русском перевод Библии словом «сердце» передается понятие, выражаемое по–еврейски словом לב libb, соответствующим ассирийскому libbu, арамейскому; לבא эфиопскому лэбэ, арабскому лубб и т. д., или словом לבב libab, а в арамейском לבב [472].
Слова эти происходят от √לבב. Но глагол לבב, встречаясь лишь в формах нифаль и пиель, в форм каль не употребляется, так что об основном значении √לבב можно лишь строит догадки [473]. Правда, высказывавшиеся предположения не исключают друг друга и могут быть объединены. Это объединение происходит наиболее естественно, если в основу положить гипотезу Фюрста [474], к тому же более вероятную, ибо она находи т себе параллель в этимологии индо–европейских слов, означающих «сердце».
По мнению Фюрста, глагол לבב имеет первым своим значением, переходным: укутывать, завертывать, обвертывать,обвивать, покрывать, а вторым, переходным: пылать, гореть, тлеть, быть накаленным. Переходное значение доказывается параллелями: арабского языка: йапава покрывать, — отсюда йапав кожа, мех, щит; паффа convolvit, свернул, — глагол равносильный еврейскому לך завертывать; Сирскими: паф, прикрывать, откуда епибе’ веки (глаз), т. е. кожи, покровы и др. Отсюда понятно, что глагол לבב действительно мог бы означать pinguis fuit, был жирен, как указывает Гезений [475], ибо быть жирным и значит быть окруженным, быть, как бы, укутанным жиром. Точно также понятно и то, что рассматриваемый глагол мог бы иметь значения «держания на чем–нибудь, крепкого приставания к чему–нибудь, прицепления вьющегося растения к деревьям», — откуда затем «обворачиваться, обвиваться» [476].
{стр. 271}
Слово לב происходить именно от этого, переходного, значения глагола לבב, такчто означает собою нечто покрытое, окруженное органами и частями тела и, потому, сокрытое в глубине тела и, значит, центральное, центр тела, серединный орган тела. Сюда же примыкают и другие объяснения. Сердце — «жирное», в том смысле, что оно окружено толщами тела. Сердце — «обвитое», опять таки в том значении, что оно — «внутренность, грудью и т. д. сокрытая, как бы завернутая». Поэтому арабское слово лубб говорится об, укутанном скорлупою или мякотью, ореховом или миндальном ядре; арабское 'пубуб зерно плода (ср. наше «халва», сладость из толченых ореховых ядер [477], пабаб и паббаг — грудная клетка (Brustknöchen). Следовательно, еврейское לב, арабское лубб и т. д. означают внутреннейшую точку, как «твердую» точку, как «ядровую» точку.
Этою этимологиею слова לב хорошо объяснятся, почему св. Писание говорит иногда о «сердце», т. е. о средоточии, о центральных по значению или по положению пункте или области неодушевленных существ мира, — о «сердце неба»: עךלב ﬨשׁטים до глуби небес (Вт. 4, 11); о «сердц моря»: בלבב "ימים ты ввел меня в пучину, в сердце моря: (Исх. 15, 8, «песнь Моисея»); «огустели пучины в сердце моря — ﬤﬥﬤ–ים» (Ин. 2, 4) и, как отражение гебраистического образа выражения у Мф. 12, 40 о «сердце земли»; בלב האלה «в середину дуба» или, точнее, — в ветвях, в чаще ветвей теревинфа (2 Сам. 18, 14).
Очищение сердца дает общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проницая ее, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Чрез корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и все окружающее подвижника и вливается в недра всей твари. Тело, эта общая граница человека и прочей твари, соединяет их воедино. Поэтому, если отпавший от Бога человек увлек за собою всю тварь и, извратив свое естество, извратил и чин всей природы, то, восстановляемый Богом, он вносит первозданный лад и строй в тварь, которая совокупно «стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22) {стр. 272} и «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8, 19). Человек связан своим телом со всею плотию мира, и связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывны.
Самый завет Божий заключен был Богом ведь не с человеком только, а со всею тварью [478]. В завете Бога с Ноем (Быт. 9) со всею возможною определенностью многократно повторяется эта мысль.
8. «и сказал Бог Ною и сынам его с ним так:
9. «Вот, Я поставляю завет Мой, — את–בדיתי 'эт–берити, — с вами и с потомством вашим после вас.
10. «И со всякою душею живою, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, от всех вышедших из ковчега до всех животных земных;
11. «Я поставляю завет Мой, — 'эт–берити, — с вами что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».
12. И сказал Бог: «Вот знамение завета — אזה חכךיה
זאה som ’от габберит, — который я поставляю между Мною, и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
13. «Радугу Мою полагаю на облаке, чтобы она была знамением 3авета между Мною и между землею.
14. «И будет, когда Я наведу облако на землю: то явится радуга в облаке.
15. «И Я вспомню завет Мой, — эт–берити, — который между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
16. «и будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню, завет вечный, — ﬤךיה עולם берит'олам, — между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле».
17. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, — берит, — который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле».
Тут замечательно совершенное тождество формулы Божьего завета с человечеством и с прочею тварью [479]. Это — не два различных завета, это один завет со {стр. 273} всем миром, рассматриваемым как единое существо, возглавляемое человеком. Самое слово «завет» — ברית берит, — неоднократно повторяемое в этих десяти стихах, встречается в библии еще в тех местах, где говорится о завете Бога с человеком [480].
Если извращение человеческой природы влечет за собою извращение всей твари, а устроение человека — устроение и твари, то у нас рождается вопрос о конкретных чертах этой оцеломудренной твари, т. е. тех начатков райского состояния, которых достигает подвижник уже теперь, в этой жизни, до всеобщего изменения мира. Но, чтобы отчетливее уразуметь сущность этого земного рая подвижников, этой мистики сердца, должно припомнить, что извращение, даваемое ложною мистикою, смещение центра существования человеческого может быть двоякого типа. Либо это — мистика головы, мистическое переразвитие ума, питаемого не благодатью от сердца, а питающегося самостоятельно, гордостью бесовскою, и лжеименным знанием пытающегося охватить все тайны земли и неба; либо, наоборот, это — мистическое переразвитие органической жизни, мистика чрева, опять таки получающего источники жизни не от источающего духовность сердца, а от бесов, нечистотою. И там и тут личность не является цельною, но — раздробленною и извращенною, без центра. Воздержанием горделивого ума отличается подвижник от мистиков первого типа; обузданием похотливого чрева — от мистиков типа последнего. Все, чем живет подвижник, возникает у него не самопроизвольно в том или другом отдельном органе, а в живом средоточии его существа, в сердце, и возникает здесь под благодатным воздействием Духа Утешителя. Возникшее же в средоточии всего существа, очищенном благодатно, жизненное движение естественно, (— а не противоестественно, как у лже–мистиков —) распространяется по органам жизнедеятельности, и потому все они действуют согласно и сообразно друг другу [481].
{стр. 474}
Он существенно связан со всею тварью и не чуждается ничего, свойственного твари; но у него, в его ощущении твари, нет похоти. Он глубоко проникает в тайны неба и земли, и не лишен ведения их, но у него, в его познании тайн, нет горделивости. Дурная бесконечность необузданности, как в мир материальном, так и в мир интеллектуальном, безусловно изгнана из него, ибо она подсечена в самом корне своем, в сердце, у него нетленное тело и нетленный ум. И, мало того, даже недухоносные люди от подвижника получают силы для лучшего отношения к твари.
Одухотворенный подвижник как бы воспаряет над естеством. «Кто из людей сильных, — говорит Макарий Великий, [482], — или мудрых, или благоразумных, пребывая еще на земле, восходил на небо и там совершал дела духовные, созерцая красоты духа? А теперь кто–либо, по наружности нищий, нищий до крайности и униженный и даже вовсе незнаемый соседями, повергается ниц лицом своим пред Богом и, путеводимый Духом, восходит на небо и с несомненной уверенностью в душе наслаждается тамошними чудесами». А, по словам Никиты Стифата [483], «когда кто соделается причастным Духа Святого и силу Его познает из неизреченного некоего Его в себе действа и благоухания, которое ощутимо обнаружится даже и в теле, тогда в пределах естества пребывать таковый не может — не чувствует он ни голода, ни жажды, ни других нужд естества». Он преображается, и все свойства естества его меняются. «Имеющий благодать, — говорит преп. Макарий Великий [484], — имеет иной ум, иной смысл, и иную мудрость, нежели какова мудрость мира сего». Он — во всем иной, он — инок. Самое иночество есть ничто иное, как духовность, и духовность не может не быть иночеством. И тут, для иноческого сознания иным делается и весь мир. Уходя от мирской жизни инок предается жизни мировой. {стр. 275} «По внутреннему настроению души, — говорит Никита Стифат [485], — изменяется естество вещей»; «кто достиг истинной молитвы и любви, — свидетельствует он же [486], — тот не имеет различения вещей, не различает праведного от грешного, но всех равно любит и не осуждает, как и Бог сияет солнце и дождит на праведные инеправедньш». Благословляя вселенную, подвижник всюду и всегда видит в вещах знамения Божии и Божии писмена; всякое творение для него — лествица, по которой ангелы Божии нисходят в земную юдоль; все дол–ьнее — отображение горнего. Вся природа — «книга» для него, как сказал про себя преп. Антоний Великий [487].
Обратимся же к разъяснению, — на некоторых исторических примерах, — положений здесь высказанных.
Впрочем, я вовсе не льщу себя надеждою выяснить взаимно–отношение Вечной Истины и опытной данности, нас окружающей. Тут — такое обилие материала, что не знаю, как взяться за дело, какие типические образцы выбрать. Придется лишь набрасывать, слегка обрисовывать предмет отдельными черточками и точками. Но я и не гонюсь даже за приблизительною полнотою.
Начну прямо с некоторого положения, которое, вероятно, идет вразрез с современными взглядами, — особенно со взглядами мнящих себя защитниками религиозного значения твари [488]. А именно: только в христианстве тварь получила свое религиозное значение, только с христианством явилось место для «чувства природы» [489], для любви к человеку и для вытекающей отсюда науки о твари: «Новейшее естествознание, каким бы парадоксом это ни звучало, обязано своим происхождением христианству», — говорит Э. дю–Буа–Реймон [490].
«Все полно Богов — πάντα πλήρη θεών είναι» [491] — таково основное положение язычества. Может показаться странным, но все таит скажу, что это положение звучит безбожно и безмирно, афеистически и акосмически зараз: {стр. 276} как говорит св. Афанасий Великий [492], «многобожие есть безбожие, многоначалие — безначалие».
Все полно Богов. Но, во первых, что же такое это «все» само о себе? Если взять тот предел, к которому стремилось вне–христианское мировоззрение; если взять речение в его тенденции, в его устремлении, — а лишь предел, лишь тенденция и есть в нем определенное, обсуждаемое, закрепляемое в слове, — то «все» — только феномен. — феномен, лишенный подлинной реальности. Оно — видимость, «кожа», по выражению Фр. Ницше [493]. Оно — прекрасная форма и только. Но в самом нем нет ничего, — лучше сказать, — у него нет «самого». Все — мыльный пузырь, разрешающийся в каплю грязной воды. Вне благодатного сознания нет постижения личности, а потому все полу–реально и, при остром приглядывании, тает в ничто [494].
«Но, — говорят, — хотя оно не имеет ценности само о себе, хотя ценно в нем лишь наше эстетическое восприятие его, лишь голая субъективность, но зато в нем — бог». Да бог ли? А не притаившийся ли за прекрасною формою демон? разве только позднейшая полемика с христианством — она одна — придала слову δαίμων его современный, отрицательный смысл? — Конечно нет.
Эти многочисленные демонические существа были для античного человечества прежде всего страшны, как и сейчас страшны и демоничны они для всякого безблагодатного сознания, во всякой вне–христиаиской религии как страшны «духи» спиритов и тьмочисленные «Божества» северного буддизма. Страх и трепет окружали человека; сами Боги были демоничны, и связь с Богами, re–ligio, сводилась в существе своем к δεισιδαιμονία, к Бого- или, точнее, к демоно- боязненности и к вытекающим отсюда стремлениям магически заклясть недоброжелательного демона [495]: Timor fecit primos deos, и древний человек втайне чувствовал, что чтит не Богов, а демонов. Как сейчас, так и всегда безблагодатная религия роковым образом переро{стр. 277}ждалась в темную магию. Это — бесспорное ощущение во всякой безблагодатной религии, и говорить «вообще о религии», как о чем–то однородном, может только тот, кто ни одной религии не переживал конкретно. Благодатная вера и безблагодатная религия, сколько бы общих черт в своем идейном содержании и своем культ он ни имели, в ощущениях, в устроениях души он до такой степени разнородны и непроницаемы друг для друга, что кажется даже нескладным называть ту и другую одним термином «религия».
Но если даже кто и не пережил этой качественной инородности безблагодатной религии, тот, хотя бы отвлеченно, должен признать демоничность безблагодатного человечества. Иначе не объяснить его — или открытой подавленности, или «трагического оптимизма». Ведь, что такое этот «оптимизм», как ни натянутая (— «концами губ» —) улыбка раба, который боится показать своему властелину, что боится его, потому что это могло бы навлечь гнев, — боится самою своею боязнью вызвать гнев, — страшится страха своего. — Формы — прекрасны, но разве — тайна для древнего человека, что
«под ними Хаос шевелится»?
Лишь идея Судьбы, в сущности враждебной богам–демонам, мерцала, быть может, не то смутным воспоминанием утерянного, не то далеким предчувствием грядущего единобожия.
Скованный страхом, древний человек мог обратить все силы свои на «кожу» вещей и на её воспроизведение. Характер древнего искусства показывает, что древний человек нисколько не любил «души» вещей и опасался проникать за очертания «кожи»: ведь, там находил он хаос и ужас. Не имея защиты, он обращается за помощью к одному из демонов же, а затем, от страха, старается «закутаться с головою в одеяло и уснуть». «Лучше не глядеть» — таков лозунг древней культуры, забывающейся в «оптимизме», — таком же оптимизме, {стр. 278} как и оптимизм опиофага или гашишиста. Наука, при этом, возможна формальная: геометрия, отчасти астрономия и т. п. Но реальная наука невозможна, ибо как же изучать хаос, да и кто дерзнул бы проницать его пытливым взглядом? Смелость человека раздражает и беспокоит демонов, они не вверяются его любознательности и не любят, когда он старается открыть то, что они закрыли от его взоров злато–тканным покровом красоты. Даже независимый ум Аристотеля недалеко ушел от этой основной стихии древней религии: Любовь между Богами и человеком, как между существами разнородными, невозможна, — утверждает Стагирит [496]. Любовь невозможна! — таково осознание своего бого–понимания у всей древности; и если впоследствии римская философия (Цицерон, Сенека и др.) пыталась говорит иное, то она, несомненно, сходила тем с античной религиозной почвы, изменяла духу и исконным началам древнего бого–представления. Весьма возможно, что тут в ней начинает светиться свет с Востока.
Два чувства, две идеи, две предпосылки необходимы были для возможности возникновения науки: во первых, чувство и идея, имеющие своим содержанием закономерное единство твари (в противоположность с капризным произволом демонов, наполняющих собою «все»); во вторых, чувство и идея, утверждающий подлинную реальность твари, как таковой. Только он дали бы возможность безбоязненным, прямым взором проникать в глубь её, доверчиво подходить вплотную к ней и радостно любить ее.
Необходимо было ввести в сознание, — богословски выражаясь, — два догмата, а именно: догмат о провидении Единого Бога и догмат о творении мира Благим Богом, т. е. о даровании твари собственного и самостоятельного бытия. Провидение Божие и свобода твари составляют, в своей антиномии, один догмат, — догмат о любви Божией к твари, имеющий свою основу в идее о Боге–Любви, т. е. о Триединстве Божества. Эта антиномия, {стр. 279} во всей своей решительности, является основою современной науки; вне её — нет науки. Таким образом, если ранее было показано, что догмат Троичности — исходное начало философии то теперь открывается, что он служит правилом и для построения науки.
Обе идеи лежащие в условиях существования науки по преимуществу же первая, были в ветхо–заветных книгах Библии
«Монотеизм иудейской и христианской религии — говорит Христофор Зигварт [497], — создали благоприятную почву для идеи всеобъемлющей, исследующей общие законы мира науки. На самом деле, какую иную форму могла вначале принять идея, что небо и земля объемлются одною мыслью, что человек призван понять эту мысль, — как ни форму веры в Одного Творца, Который создал небо и землю, Который сотворил человека по Своему образу и подобию? В какой иной форме можно было высказать с бо́льшею рельефностью ту мысль, что ничто не случайно, и что вещи в мир не перекрещиваются по запутанным путям по воле слепого случая, — как ни в форме мысли о Провидении, помимо Которого даже волос не упадет с головы человеческой?»
Единство твари, — не стихийное единство безразличия, но органическое единство стройности, — таково предусловие науки. Это понято еврейскими истолкователями Слова Божия. «Знай, — говорит Маймонид в конце ХII–го века, — что вся вселенная, т. е. самая верхняя сфера со всем в ней заключающимся, есть ничто иное, как индивидуальное целое, подобное индивидам Симеону и Рувиму, и различие находящихся в ней существ подобно различию органов какого–либо индивида человеческого рода. И как Рувим, например, составляет отдельную личность, сложенную из различных частей, как–то: из мышц, костей, кровеносных сосудов, различных органов, жидкостей и газов — так и вселенная состоит из сфер, четырех элементов и происходящих от них соединений». Далее Маймонид проводит в подробностях выставленную им аналогию микро- и макро–косма. «Таким образом, — подводит он итог своим рассуждениям, — должно представлять себе вселенную одним живым инди{стр. 280}видом, движущимся посредством души, которая в нем заключается. Такое представление весьма важно; ибо, во–первых, оно ведет, как увидим ниже, к доказательству единства Бога; во вторых, оно показывает нам, что Единый действительно создает единое» [498].
Понятно, что такие взгляды на естество мира должны были благоприятствовать изучению природы; еврейские мыслители даже требуют его. На вопрос: «Обязаны ли мы познать единство Бога путем наследования» — рабби Бехай, живший в конце XI–го и в начале ХII–го веков, отвечает: «Всякий кто способен к исследованию этого предмета, как и подобных ему умственных предметов, должен исследовать их, насколько позволяют ему это его познавательные силы. — Кто же уклоняется от этого, достоин порицания и считается в числе тех, которые нерадивы, как в учении, так и в деле… Сущность этого исследования состоит во вникновении в признаки премудрости Творца, обнаруживающейся в Его творениях, — и взвешивание их в душе, сообразно познавательным силам исследывающего. Ибо если бы признаки премудрости выражались одинаково во всех творениях, то они были бы ясны для всех и каждого, и мыслящий и невежественный были бы равны в познании их; но премудрость, будучи в основе и принципе одна и та же, различно выражается в различных творениях, подобно тому, как лучи солнца, которые по существу своему суть одно и то же, получают различные цвета в различных стеклах, и как вода получает различные цвета от различного цвета содержащихся в ней растений. Вот почему мы должны исследовать создания Творца с малого до великого для того, — чтобы открывать в них т признаки премудрости, которые скрываются в них. Вот почему мы должны вникать в них и размышлять над ними для получения более или менее ясного понятия о них» [499].
Если бы вселенная была однообразна, то это указыва{стр. 281}ло бы, по мнению р. Бехая, на механический и несвободный характер произведшей его причины. Напротив, многообразие вселенной, заключенное в единство, указывает на единую, свободную, творческую Волю. Но если в свойствах вселенной отражаются свойства Божии, то «исследование творения, как единственный путь к познанию премудрости Творца, предписывается нам разумом, писанием и преданием. Разумом, — потому что он убеждает нас, что превосходство человека над другими животными состоит в дарованной ему Богом способности познать, уразуметь и восприять те признаки Божественной мудрости, которые таятся в целом вселенной. На это указывает сказанное: «Научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных» (Иов. 33, 11). Поэтому, если человек вникает в принципы Божественной премудрости и исследует признаки последней, то его превосходство над животным будет в той мере, в какой он осуществляет данную ему возможность познавания. Если же он уклоняется от наследования их, то он не только не выше скота, но и гораздо ниже его, как сказано: «Вол знает своего хозяина, осел — корыто своего господина; но Израиль не знает, народ мой не вникает» (Ис. 1, 3).
«Что это предписывается нам Св. Писанием, — по мнению р. Бехая, — это ясно видно из сказанного: "Подымайте к небу глаза ваши и смотрите, кто сотворил все это" (Ис. 40, 26); "Когда взираю на небеса Твои, дело перстов твоих, на луну и звезды, которые ты поставил" (Пс. 8, 4). "Вы должны знать, вы должны уразуметь то, что с начала вам возвещено было" (Ис. 40, 21). "Глухие вслушивайтесь и слепые всматривайтесь" (Ис. 42, 18). "У мудреца глаза его в главе его, а глупые ходят в темноте …" (Ек. 2, 14)» [500].
Затем р. Бехай ссылается еще на талмудический трактат Саббат [501], в котором сказано: «Кто способен делать вычисления над движением звезд и не {стр. 282} делает их, об этом Писание говорит: "У них только что псалтири, гусли, тимпаны, флейта и вино для пира; но творений Божиих они не наблюдают и дел рук его не рассматривают" (Ис. 5, 12).» Человек даже обязан «вычислять движете небесных светил», говорит р. Бехай ссылаясь на Втр. 4, 6. «Таким образом. — заключает он, — достаточно доказана обязанность наша исследовать творения для того, чтобы из признаков проявляющейся в них премудрости вывести доказательства бытия Бога и других принципов религии» [502].
Итак, выдающиеся представители монофеистического Богопонимания видят в монофеизме условие возможности науки, а в занятиях наукою — необходимое выражение и проявление своих убеждений. «Напротив, при господстве политеизма невозможно возникновение науки» [503], ибо «политеизм предрасполагает человека к разъединению и изолированию явлений, обращает в другую сторону движение его мысли и задерживает развитие знания» [504]. «В странах, где господствуете политеизм, могут по временам являться великие люди, которые помощью мощного взлета их ума, освободившись от политеистических понятий своей страны, открывают в большей или меньшей мере правильность и единство явлений природы; но их понятия и взгляды не могут утвердиться; они остаются без всякого действия на умы, а вследствие того они не оказывают никакого влияния на развитие знания. Это потому, что в политеистических странах направление умов совершенно противоположно направлению науки. Политеизм стремится к разъединению и разобщению мировых явлений, наука же, напротив, стремится к объединению и обобщению их. Политеизм направляет умы к тому, чтобы приписывать каждое явление особенной причине; наука же научает их сводить множество явлений к одной и той же причине. Но монотеизм, научая людей, что все происходящее в мире имеет своим началом единое верховное существо, должен, как выше показано, неминуемо вести к науке» [505].
{стр. 283}
В подтверждение того, что без монофеизма нет и науки, указывается пять разрядов фактов, а именно:
1°, «что ни у одного народа не встречается развития знания при исповедании им многобожия»;
2°, «что в древней языческой Греции не было ничего подобного тому, что мы называем развитием знания»; философские же идеи не производили воздействия на народ;
3°, «что лишь только арабы приняли ислам, лишь только утвердился монотеизм, как овладело ими стремление к знанию и вскоре сделались просвещеннейшим народом тогдашнего мира»;
4°, «что рассеянные по всему лицу земли и претерпевая всевозможные бедствия и гонения, евреи однако ж везде и всегда обнаруживали стремление к знанию …»;
5°, «что в Европе, где с введением христианства утвердился монотеизм,… началось умственное движение …» [506].
Античная мысль в той лишь мере подходила к основанию науки, поскольку делалась «афеистичной». — как говорили тогда, — т. е. поскольку свергала с себя иго демоно–боязненности и предчувствовала монофеизм [507]; цепь преемственно наследовавших философский престол умов Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля близилась к науке по мepe постижения, единобожия. Но нить научности после Аристотеля утончилась, потому что начались движения в сторону пан- и поли–феизма. Примечательно также, что вольнодумная школа Эпикура, как и вообще вольнодумцы всех эпох и наций, не выдвинула в области науки никаких творческих начал, и, если Лукреций Кар с пафосом утверждает про Эпикура, будто он «potuit rerum cognoscere causas [508]», то это, — конечно, лишь высокопарная риторика афеизма: у Эпикура менее, нежели у кого–нибудь, можно усмотреть естественно–научное познание. — Цвет греческой {стр. 284} науки — Аристотель. Он скончался в 322 г. до Р. Х., но за 300 лет от его смерти естествознание сделало слишком немного, если не брать в расчет чисто формальных или описательных исследований, вроде геометрии и астрономии [509]. Почему? — Потому что в духовном климате античности были препятствующий силы.
«С полным основанием можно сказать, что у греков и римлян не было естествознания, — говорит автор, на которого я уже ссылался [510]. — Несмотря на свое с виду много–обещавшее начало, оно оказалось неспособным к дальнейшему развитию. Правда, в течение тысячелетия, отделяющего Салеса и Пифагора от гибели западной римской империи, отдельные мыслители обнаруживают необычайную глубину. Аристотель и Архимед бесспорно принадлежат к величайшим учителям человечества. Также александрийская школа одно время, казалось, обеспечила непрестанный прогресс в области естественно–исторической науки. Но ничто лучше не указывает на остановку у древних изучения природы, как тот простой факт, что через четыреста лет после Аристотеля — промежуток, равный периоду времени между Рожером Бэконом и Ньютоном — мог появиться Плиний, этот собиратель критически не проверенных сведений. Это — тоже самое, как если бы поменялись своими местами Геродот и Тацит».
Я знаю, ты спросишь меня: «Но почему перво–христиане сами не создали науки?» — Потому, что им было не до того — как и вообще, вероятно, не до науки христианину, всецело отдавшемуся подвигу, хотя только он обладает нужными для истинной науки задатками. А в дальнейшем этому развитию христианской науки мешали чисто–исторические причины, — те самые, которые вообще, при всяких верованиях, не давали развиться науке. Но, кроме того, первоначальное христианство, высокое и чистое, было все же слишком бедно словами в сравнении с тем, чем владели подвижники. В раннейшей Церкви люди еще не имели времени одуматься и расчленить свои переживания; да и слишком быстрым бегом бежала жизнь, чтобы заниматься наукой, слишком эсхатологическим было жизне–чувствие, чтобы заниматься, преходящим и готовым вот–вот подтаять и рухнуть образом мира сего. Но идея Промысла, как непосредственного {стр. 285} управления Божия мировою жизнью, уже тут была жива и ярка; подобно Творцу 103–го псалма, древние христиане с благоговейною радостью созерцали единство и гармоническую закономерность мира: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» — эта музыкальная тема проникает все настроение перво–христиан. Послушай, разве не пышным развитием этой темы являются слова св. Климента Римского [511]:
«… посмотрим пристально на Отца и Создателя всего мира и вникнем в Его величественные и превосходные дары мира и в благодеяния. Воззрим на Него умом и вглядимся очами души в долготерпеливую Его волю: помыслим, ка́к Он кроток ко всему творению Своему. Небеса, по распоряжению Его колеблемые, в мир повинуются ему. И день и ночь совершают назначенный им бег, ни в чем не мешая друг другу. Солнце и луна, как и хороводы звезд, по постановлению Его, в единомыслии, без какого–нибудь нарушения обращаются в назначенных им пределах. Земля беременеющая, — κυοφοροϋσα, — по воле Его, в особые сроки производит все–изобильную пищу людям и зверям, и всему живущему на ней, не замедляя и не изменяя ничего из решенного им. Бездн неисследимые и преисподних неисповедимые решения сдерживаются теми же самыми велениями. Выпуклость — κύτος — беспредельного моря, по устроению Его соединенная в собрания, не преступает положенных на нее кругом преград, но, как определено ей, так и поступает. Сказал ведь Он: «Доселе дойдешь, и волны твои в тебе сокрушатся» (Иов. 37, 2). Океан, непроходимый для людей, и миры, за ним находящиеся [512], теми же самыми постановлениями Господа уравновешиваются. Времена весенние, летние, осенние и зимние в мире сменяются одни другими. Чреды ветров, каждая в свое время, ненарушимо совершают свое служение. Неиссякающие источники, для пользования и здоровья устроенные, без недостатка дают груди для жизни людям. Наконец, малейшие из живых существ сожительства свои образуют в едино–мыслии и мир. Всему этому повелел быть в мир и едино–мыслии Великий Создатель и Владыка всего, благотворящий всем, преимущественно же нам, прибегшим к милосердию Его чрез Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и величие во веки веков. Аминь».
Да, это — развитие древней библейской темы; но сколько тут новых углублений. Там внимание обращается к эффектному природы, к тому, что кажется нарушаю{стр. 286}щим нормальный её ход и что в популярных книжках называется «чудесами природы»; тут, напротив, — к законо–мерности в повседневном, к универсальности Логоса. Там поражало бурное; тут влечет к себе тихое. Там в шумном вдохновении восхвалялась мощь и сила Божия; тут в тихих гимнах прославляется Его кротость и терпение. Там природа возникала и таяла по мановению Творца Своего; тут она подлежит своим, от Создателя и Отца данным законам, общим для всей вселенной и даже для неведомых за–океанских миров [513]. Одним словом, внимание перешло от стихийной силы к разумной законо–мерности природы. Восприятие природы стало более внутренним, искренним и проникновенным.
И чем далее, тем глубже постигается внутренняя сторона природы. Знаменитый «Гимн Христу Спасителю» Климента Александрийского, посвященный, впрочем, человечеству, а не природе, дышит новым представлением о твари, — спокойною и непоколебимою уверенностью в том, что без воли Божией и волос с головы не падает. Вот этот гимн [514]:
«Неукротимых онагров Смиритель,
Крыло птенцов летающих верно,
Непоколебимое Кормило юношей,
Пастырь агнцев царственных!
Твоих невинных
детей собери
свято славить,
искренно петь
устами чистыми
Тебя, Вождь детей, — Христа!
Царь Святых,
Державный Слове,
Отца превышнего Податель мудрости.
Крепость страждущих,
Владыка вечности,
Рода смертного Спаситель Иисусе!
{стр. 287}
Пастырь и Делатель,
Кормило, Узда,
Небесное Крило,
Стада Святого!
Ловец человеков,
Тобою спасаемых,
в волнах неприязненных
моря нечестия
рыб чистых
сладкой пищей уловляющий!
Веди нас, Пастырь, разумных овец!
Веди нас, Святый,
Царь детей непорочных!
Веди по стезе Христовой.
Ты Путь небесный,
Слово превечное,
Век беспредельный,
Свет превечный,
Источник милости,
Правитель добродетели,
Жизнь непорочная
певцов Божиих — Христе Иисусе!
Небесное млеко
из сладких сосцов,
Девы благодатной—
Мудрости Твоей источенное!
Мы, Твои дети,
вежными устами вскормленные,
нежным дыханием
Материнской груди,
исполненные,
песни простые,
гимны невинные
Христу–Царю
в награду святую
за учение жизни
поем все купно.
Поем просто,
Отрока державного.
Вы, лик мира, дети Христовы, люди святые,
пойте все купно Бога мира!»
{стр. 288}
Этот круг монофеистических мыслей о Провидении и о закономерности твари повторяется во всей дальнейшей свято–отеческой письменности, но, главным образом, с оттенком апологетическим, т. е. для «внешних», для «чужих». Когда же она обращается к «своим», к тесному, задушевному кружку, пред которым можно открывать всю душу, тогда она делается любовною не только в отношении к Творцу и Создателю, но и к самой твари, бесконечная острая жалость и трепет благоговейной любви ко всему «первородному Адаму» жалит сердце подвижника, лишь только он очистил его от коры грехa. Когда грязь омыта с души продолжительным подвигом, долгим отрешением, длительным «вниманием себе», тогда, пред обновленным и духо–носным сознанием, является тварь Божия как самобытное и страждущее, прекрасное и загрязненное существо, как блудное детище Божие. Только христианство породило невиданную ранее влюбленность в тварь и нанесло сердцу рану влюбленной жалости о всем сущем. «Чувство природы», — если разуметь под ним отношение к самой твари, а не к её формам, если видеть в нем нечто большее, нежели внешнее, субъективно–эстетическое любование «красотами природы», — это чувство всецело христианское и вне христианства решительно немыслимое [515], ибо оно предполагает чувство реальности твари. Но это чувство природы рождалось и рождается не в душе «умеренных», протестантствующих и всячески–рационализирующих омиусиан, потворствующих рассудку, а у аскетов и обуздателей рассудка и строгих подвижников, у совершителей подвига, — у приверженцев омоусии.
Это отношение к твари стало мыслимо лишь тогда, когда люди увидели в твари не простую скорлупу демонов, не какую–нибудь эманацию Божества и не призрачное явление Его, подобное явлению радуги в брызгах воды, а само–стоятельное, само–законное и само–ответственное творение Божие, возлюбленное Богом и способное отвечать на любовь Его. Напротив, все другие представления, {стр. 289} как будто возвышающие тварь, на деле обращают ее в ничто: её само–стоятельность, её собственное бытие и, следовательно, её свободная само–определяемость есть пустая мнимость. Тварь, как таковая, — решительное ничто, и реальны лишь демоны, или «субстанция», лежащая в основе этого ничто, — субстанция неведомая и неумолимая; но и демоны и субстанция, не имея в себе само–обоснования троичной любви, не безусловны и потому, опять таки, мнимы. Всякое мировоззрение вне христианства, в своей глубочайшей сущности, и акосмично и афеистично: для него нет ни Бога ни мира.
«Бог не может перестать быть Богом, как треугольник не может сделать, чтобы сумма его углов не равнялась двум прямым» [516]; Божественный эгоизм — вот что превращало Бога в демона. Напротив, христианская идея о Боге, как о Существенной Любви, как о Любви внутри Себя, а потому — также в и Себя; идея о смирении Божием, о самоуничижении Божием, проявляющемся сперва в творении мира, т. е. в поставлении рядом с Собою само–стоятельного бытия, в даровании ему свободы развиваться по собственным своим законам и, следовательно, в добровольном ограничении Самого Себя; идея о смирении Божием, о само–умалении Божием, — эта идея, говорю я, впервые дала почву для признания твари самостоятельною и потому нравственно ответственною за себя пред Богом. В древнем мире не могло быть идеи о нравственной ответственности твари пред Богом, потому что не было идеи о свободе твари. Христос довел идею о смирении Божием до последнего предела: Бог, вступая в мир, отлагает образ славы Своей и принимает образ Своей твари (Фил. 2, 6–8), подчиняется законам тварной жизни [517], — не нарушает мирового хода, не поражает мира молнией и не оглушает его громом, — как это мыслили язычники (— вспомнить хотя бы мне о Зевсе и Семеле —), а только теплится пред ним кротким светом, привлекая к себе грешную и намаявшуюся тварь Свою. — образумляя, но не карая её. Бог {стр. 290} любит тварь Свою и мучается за нее, мучается грехом её. Бог простирает руки к твари Своей, просит ее, призывает ее, ожидает к Себе блудного сына Своего. А возглавляющее тварь человечество ответственно пред Богом за нее, равно как и человек ответственен за человека.
Конечно, тут неточно выражена догматическая идея; но это сделано преднамеренно, потому что в более грубой, а потому — наглядной, обрисовке представляет переживания.
Чаяние спасения и обновления для твари, мучительное чувство свободной ответственности за тварь, острая жалость к ней, глубокое сознание бессилия своего, — бессилия от грехa и нечистоты, — пронзительно, до сокровенного источника слез, вторгаются в душу подвижника. Мы — искупленные, мы — все получившие от Бога и мы — зарытые во грехe часто даже не видим мира сквозь этот грех, хотя «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную; ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 16, 17); — хотя Христос, в самый торжественный момент Своей земной жизни велел ученикам Своим «итти по всему миру и проповедывать Евангелие всей твари — πάση τη κτίσει» (Мp. 16, 15); — хотя есть у нас «надежда благовествования, которое возвещено во всей твари поднебесной — εν πάση κτίσει τη υπό τον ουρανόν» (Кол. 1, 23); — хотя «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но мы сами, имея печать Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 19–23).
«Любовь к природе… А аскетизм, а бегство от {стр. 291} природы?» слышишь возражения людей светских. В ответ заранее утверждаю, что в светской литературе дух христианского подвижничества доселе решительно не понят, и то, что говорится о нем, говорится внешне и голословно. Слова светских писателей о духовном упражнении, в громадном большинстве случаев, — «жалкие» слова, отчасти, впрочем, вызванные неумелостью их церковных противников, а отчасти — невозможностью говорит об аскетическом опыте вне самого опыта. Отсюда происходит, что обычно не видят существенного отличия христианского подвижничества от подвижничества прочих религий, особенно индусской. Конечно, нетрудно «доказать» тождество той и другой, сопоставив несколько отдельных слов и несколько вырванных изречений. Но кто проник во внутреннюю суть того и другого подвижничества, тот скажет, что нет ничего более противоположного, нежели они. То подвижничество — бегство, это — уловка; то — уныло, это — радостно. То основывается на худой вести о зле, царящем над миром; это — на благой вести о победе, победившей зло мира. То дает превосходство, это — святость. То исходит от человека, это — от Бога. То гнушается тварью, хотя невольно тянется ко злу её, добиваясь магических сил над нею; это — влюблено в тварь, хотя ненавидит грех, съедающий ее, и подвижнику не надо магических сил, потому что облагодатствованная тварь снимет ярмо гетерономии грехa и сможет жить сама собою, по извечно–данному ей образу бытия. Для того подвижничества — все призрачно и только снаружи кажется прекрасным, внутри же мерзко и полно гнили; для этого — все полно реальности, и видимая красота есть «уметы» и тлен пред тем, что скрывается в тайниках Богозданной твари. Для того подвижничества тварь рабски привязана к своей причине; для этого — она свободно самоопределяется в отношении к Творцу и Отцу. Для того подвижничества смерть есть конститутивный элемент тварной жизни; для этого — она без–умное, случай{стр. 292}ное явление, в корне уже подсеченное Христом. Тот подвижник уходит, чтобы уходить, прячется; этот — уходит, чтобы стать чистым, побеждает. Тот закрывает глаза на тварь; этот старается осветлить их, чтобы смотреть яснее. Нет ничего противоположнее, как тот и другой вид подвижничества. Отчаяние и торжество, уныние и радость — таково уже начальное различие [518].
Но тем ярче проступают эти своеобразные элементы христианского отношения к твари вообще и в частности к человеку, чем глубже подвиг. Христианин не признающий подвига до конца, не воспитавший себя трудами; христианин, продолжающий оставаться «от мира» [519]; христианин неспособный и не ищущий быть «превыше мирского слития» [520], — таковой может хулить тварь Божию, брезгливо морщиться на то или другое естественное явление тварной жизни и гнушаться им. Посмотри, кто как ни интеллигенция гнушается браком? Разве «Крейцерова Соната» Л. Толстого, — это типично интеллигентское произведение, — не есть одновременно и грязь и кощунство? Разве снисходительно–брезгливое и, в сущности, грязно–гадливое покивание в сторону тела со стороны–людей «научного» миро–воззрения не отрицает этого самого тела в его таинственной глубине, в его мистическом корне. Аскетизм не признается потому, что не признается идейная суть его, — идея обожения [521]. Идея, — осмелюсь употребить поврежденное еретиками речение, — идея святого тела.
Интеллигенты упрекают церковное жизне–понимание в метафизическом дуализме, а сами не замечают, что ложь дуализма сваливают с себя на Церковь [522]. Между тем, свято–отеческое Богословие в высшей степени определенно раскрывает ту истину, что вечная жизнь — жизнь не души только, но вместе и тела; так, по св. Григорию Нисскому, ή ζωή αυτη ου της ψυχής έστι μόνον, αλλά και του σώματος [523]. Не только «душа христианина» становится «причастною Божеского естества — κοινωνός θείας {стр. 293} φόσεως γένηται» [524], но — и тело; человек соединяется с Богом духовно и телесно. Как говорит Симеон Новый Богослов, «homo Deo spiritualiter corporaliterque unitur» [525]. И т. д. Очищение сердца открывает взор на горний мир и, тем, устраивает всего человека. Освящается душа, освящается и тело; святой душе сопряжено и святое тело.
Столпы церковного жизне–понимания — святой Ириней Лионский, святой Мефодий Патарский, святой Афанасий Великий, святой Иоанн Златоуст и сонмы других выражают эту идею до такой степени ясно и стоят на ней до такой степени твердо, что читатель, смотрящий на подвижничество глазами светских писателей, говорящих о подвижничестве или по невежеству, или по злому умыслу против св. Церкви — всякий такой не может не быть ошеломлен.
Идея святого тела…
Ей служат посты; и по той самой внутренней причине, по которой отвергаются посты, интеллигенция стыдится еды. Это искренне, — в том–то и ужас, что искренне. Ни есть, ни, тем более, вкушать интеллигент не умеет. — не знает даже, что́ значит вкушать, что значит священная еда: не «вкушают» дар Божий, ни даже «едят» пищу, а «лопают» химические вещества. Совершается лишь животная, голая «физиологическая функция», — мучительно–стыдная; и «функциею» этою брезгают, её стыдятся. Стыдятся и делают; вот почему, интеллигент цинично ест, брачится цинично, с вызовом, с оскорблением стыдливости своей и чужой. Нет на душ спокойствия и мира, а есть смятение и тяжесть: — первый признак безблагодатной души, неблагодарной к жизни отвергающей бесценный дар Божий, горделиво желающей все бытие перестраивать по своему»
Чтобы отметить, насколько отлично от этого брезгливого интеллигентского миро–чувствия, или, скорее, интеллигентского миро–бесчувствия настроение церковное, {стр. 294} напомню некоторые каноны, относящиеся к жизни тела, т. е. правила церковные, устанавливаются отношение верующего к телу, причем напомню, что это выражение церковного сознания дано не какими–нибудь эвдемонистами, а подвижниками и борцами за идею подвижничества.
Вот правила свв. Апостол [526]:
«Правило 5. — Епископ или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своея под видом благоговения. Аще же изгонит, да будет отлучен от общения церковнаго: а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священнаго чина».
«Правило 51. — Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на создание; или да исправится, или да будет извержен из священнаго чина, и отвержен от Церкве. Такожде и мирянин».
Еще сильнее изречены правила Гангрского поместного собора. «Собор, бывший в Гангре пафлагонской митрополии, — повествуют Зонара и Вальсамон [527], — был после Никейского первого собора против некоего Евстафия и едино–мысленных с ним, которые, взводя клевету на законный брак, говорили, что никому из состоящих в браке нет надежды на спасение у Бога. Поверив им, как мужья, так и жены, одни изгоняли своих жен, а другие, оставляя своих мужей, хотели жить целомудренно; потом, не вынося безбрачной жизни, впадали в прелюбодеяние. Последователи Евстафия учили и другому вопреки церковному преданию и обычаю, и присвоили себе церковные плодоприношения, и жены у них одевались в мужские одежды и стригли волосы. Они заповедовали также поститься и в воскресные дни, а посты, установленные в церкви, отвергали и ели, гнушаясь мясом, и в домах женатых людей не хотели ни молиться, ни причащаться, отвращались женатых священников и презирали, как нечистые, те места, в которых находились мученические останки, и осуждали тех, которые имели деньги и не отдавали их, как будто бы спасение {стр. 295} было для них безнадежно, и иное многое заповедывали и учили. Итак, против них–то свяшенные отцы, собравшись, изложили ниже–помещенные правила …».
Вот некоторья из этих правил [528]:
«Правило 1. — Аще кто порицает брак, и женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не могущую внити в царствие, да будет под клятвою».
«Правило 4. — Аще кто о пресвитере, вступившем в брак, рассуждает, яко не достоит причащатися приношения, когда таковый совершил литургию: да падет под клятвою».
«Правило 9. — Аще кто девствует, или воздерживается, удаляяся от брака, яко гнушающийся им, а не ради самыя доброты и святыни девства: да будет под клятвою».
«Правило 10. — Аще кто из девствующих, ради Господа, будет превозноситься над бракосочетавшимся: да будет под клятвою».
«Правило 14. —Аще которая жена оставит мужа и отити восхощет, гнушаяся браком: да будет под клятвою».
И т. п. Подобные же клятвы наложены на порицающих шелковые и «красные» одежды, на гнушающихся мясом, на самовольно выдумывающих себе пост в воскресенье и т. д. [529].
Вот примеры, как Церковь смотрит на жизнь, Богом данную, и на её проявления. Рассудочник–интеллигент, живущий омиусией, на словах «любит» весь мир и все считает «естественным», но на деле он ненавидит весь мир в его конкретной жизни и хотел бы уничтожить его, — с тем, чтобы вместо мира поставить понятия своего рассудка, т. е., в сущности, свое само–утверждающееся Я; и гнушается он всем «естественным», ибо естественное — живое и потому конкретно и невместимо в понятия, а интеллигент хочет всюду видеть лишь искусственное, лишь формулы и понятия, а не жизнь, и притом — свои. XVIII–ый век, бывший веком интеллигентщины по преимуществу и не без основания называемый «Веком Просвещения», конечно, «просвещения» интеллигентского, сознательно ставил себе целью: «Все искусственное, ничего естественного!». Искусственная {стр. 296} природа в виде подстриженных садов, искусственный язык, искусственные нравы, искусственная, — революционная, — государственность, искусственная религия. Точку на этом устремлении к искусственности и механичности поставил величайший представитель интеллигентщины — Кант, в котором, начиная от привычек жизни и кончая высшими принципами философии, не было, — да и не должно было быть по его же замыслу, — ничего естественного. Если угодно, в этой механизации всей жизни есть своя, — страшная, — грандиозность, — веяние Падшего Денницы; но все эти затеи конечно, все же держатся лишь тем творчеством, которое они воруют у данной Богом жизни. И то же должно сказать о современных совершенствователях Канта.
Совсем иначе смотрит на жизнь «умный» подвижник. Хоть и не считает он существующий порядок «естественным», но — извращением естества, однако любит мир истинною любовью, и грязь, насевшую на нем, милосердно терпит и покрывает своею кротостию. «Любя всех людей, он, — по слову аввы Фалассия [530], — не любит ничего человеческого», т. е. присущего греховному человечеству; развивая же мысль святого Аввы, по разуму святых отец, можно сказать, что, «любя всю тварь, он не любит ничего тварного», т. е. свойственного твари падшей. Гнушаться и раздражаться ничем не должно, — даже самим собою и своими слабостями [531]. Благодушие, не исключающее, впрочем, иногда и святого гнева, но без раздражения, без нервности без истерических выходок, — таково ровное и себе равное настроение подвижника. Мерно и мирно живет он, как солнце проходя подвиг свой [532].
И чем выше поднимается христианский подвижник на пути своем, к горней стране, чем яснее светит его внутреннее око, чем глубже Дух Святой нисходит в его сердце, тем чище видит подвижник внутреннее, безусловно–ценное ядро твари тем жарче разгорается в душе подвижника жалость к заблудшему детищу Божию. А когда {стр. 297} на святых, в их величайших молитвенных устремлениях, сходил Дух, тогда они сияли ослепительною и лучезарною любовью к твари. Сама Пресвятая Владычица поведала одному из своих избранников, что «схимничество есть — посвятить себя на молитву за весь мир» [533].
Аскетизм, как историческое явление, есть непосредственное продолжение харизматизма; в сущности, аскеты — это позднейшие харизматики, а харизматики — раннейшие аскеты. Связь духо–носности и подвижничества несомненна [534]. И именно среди харизматиков и аскетов — наиболее разительные примеры того чувства, которого я не умею иначе назвать, иначе как влюбленностью в тварь.
Вот почему, в «Великом каноне преподобного отца нашего Андрея Критского и Иерусалимского», т. е. при решительном покаянии и само–бичевании, когда аскетическая сторона православия достигает своей верховной точки, — совесть бичует нас напоминанием о преступлении пред телом:
«О како поревновах Ламеху,
первому убийце,
душу яко мужа,
ум яко юношу,
яко брата же моего тело убив,
яко Каин убийца, любосластными стремлениями» [535].
Таков один из многочисленных воплей, испускаемых кающеюся душою, растление тварного организма вменяется в великий грех, и тело именуется братом, подобно тому как, много веков спустя, Франциск Ассизский обращался к своему телу, назызая его «бpатом ослом» и подобно тому, как преп. Серафим Саровский именовал плоть нашу «другом нашим»: «Не должно, — говорил он, — принимать подвигов сверх меры; должно стараться, чтобы друг, — плоть наша, — был верен и способен к творению добродетели».
Это — та же идея, которая в другом тоне звучит в чино–последовании погребения:
{стр. 298}
Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть
и вижу по образу Божию созданную нашу красоту,
без’образну и безсловесну, не имущу вида» [536].
Или, еще:
«Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть,
и вижду во гробех лежащую
по образу Божию созданную нашу красоту,
без’образну, безславну, не имущую вида
ϊδω… την κατ είκόνα Θεοϋ πλασθεΐσαν ήμνν ωραιότητα άμορφον άδοξον μή εχουσαν είδος [537].
О чудесе! что́ сие еже о нас бысть таинство,
како предахомся тлению;
како сопрягохомся смерти; …»
Или еще:
«Образ есмь неизреченныя Твоея славы,
аще и язвы ношу прегрешений
— εΐκών είμί τοϋ άρφήτου δόξης σου εί καί στίγματα φέρω πλασμάτων»[538]
Что же это за красота, созданная по образу Божию — ή κατ’ είκόνα Θεου πλασθεισα ώραιότης? Из приведенного песнопения несомненно, что это — та самая, которая лежит «во гробех» безобра́зной, не имеющей вида, растленной. Тело наше и есть эта красота, этот образ неизреченной славы Божией — είκών άρρήτου δόξης. Такое, — литургическое, — понимание образа Божия, — свойственное, кстати сказать, и русскому народу, что выразилось наиболее ярко в единодушной борьбе против брадо–брития — [539], это понимание образа Божия имеет себе подтверждения еще и в отеческой письменности. Так, Тертуллиан [540] и бл. Августин [541] видели образ Божий человека, сходство человека с Богом именно в теле человеческом.
Впрочем, эти выдержки приведены случайно. Можно было бы написать целую книгу об идее тела, как безусловно–ценного начала, в Богослужебной письменности. У нас доселе не существуеn литургического Богословия, т. е. систематизации Богословских идей нашего Богослужения. А ведь именно тут — живое само–сознание Цер{стр. 299}кви, потому что Богослужение есть цвет церковной жизни и, вместе с тем, корень и семя её. Какое Богатство идей и новых понятий в области догматики, какое обилие глубочайших психологических наблюдений и нравственных указаний мог бы собрать тут даже не особенно усидчивый исследователь! Да, литургическое Богословие ждет себе возделывателя.
Бог и мир, дух и плоть, девство и брак — в антиномии между собою, относясь друг к другу, как тезис к антитезису. Для поверхностного религиозного созерцания антиномичность эта может быть почти незаметна; в сущности, при этом приводятся к нулю и тезис и антитезис. Человек не переживший борений и не имеющий позади себя пройденного подвига не понимает внутренней красоты ни тезиса, ни антитезиса. Так, для неглубокой веры разврат есть нечто вроде брака, а брак — мало чем отличается от разврата: и то и другое сходится на каком–то полу–браке и полу–блуде: не спроста же этот неглубокий религиозно мир в одной своей части называется, а в другой — должен по справедливости называться не «светом» и не «тьмою», а «полусветом»; вся интеллигенция, в мистической сущности своей, есть именно «demi–monde» или, по крайней мере, имеет истинным свои властителем, задающим тон, — «demi–monde». Таково неизбежное жизнечувствие оземляневших душ.
Но, по мepe одухотворения личности, выступает в сознании красота той и другой стороны антиномии; последняя обостряется, тезис с антитезисом делаются все менее совместными в рассудке, все непримиримее рассудочно исключают друг друга, и, вместе с тем, для высшего религиозного сознания антиномия оказывается внутренне–единою, внутренне–цельною духовною ценностью. Какую половину антиномии ни принять одухотворенному подвижнику, её полярно–восполняющая двойня установится в сознании с силою прямо–пропорциональною религиозной {стр. 300} высоте принимающая. В частности: истинное девство, одно только и способно понимать всю значительность брака. Только с высоты оценивается высота; горы растут в глазах по мepe подъема на противоположную вершину. Точно так же только с высоты уцеломудренного сознания можно понимать святость брака и его качественное отличие от разврата; только истинное, благодатное девство понимает, что брак — неглаголемый «институт» гражданского общежития, а установление, от Самого Бога имеющее начало. И, наоборот, только чистый брак, только благодатное брачное сознание позволяет понять значительность девства: только брачный человек понимает, что монашество — не «институт» церковно–юридического строя, а установление Самого Бога и что оно качественно отличается от холостого ражжения. То же относится и к другим сторонам телесной жизни [542].
Перейдем теперь к общему вопросу о твари. Тут — та же антиномия. Приведу несколько конкретных примеров её:
Вот Ориген, — аскет, прозванный «Адамантовым» за свои подвиги и проживавший в день всего 1/2 овола (около 15 к.) и, при том, в дорогой Александрии; — подвижник часто бдевший и сурово постившийся; — спиритуалист из спиритуалистов, ради Царства Небесного, как говорят, даже оскопивший себя. Рассудочным дополнением к сказанному была бы ненависть к твари Но — не так в жизненной и живой антиномичности Послушай–ка его! (Напомню только, что, по воззрению Оригена, светила небесные суть тела ангелов, добровольно согласившихся подчиниться суете ради служения космическому процессу и всеобщему восстановлению):
«Смотри же теперь, — в молитвенном восторге почти выкрикивает аскет–философ [543], — смотри же теперь, к этим существам [светилам небесным], покоренным суете не добровольно, но по воле Покорившего, и находящимся в надежде обето{стр. 301}вания, — нельзя ли применить следующее восклицание Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Фил. 1, 23). По крайней мере я думаю, что подобным же образом могло бы сказать и Солнце: «имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Но Павел прибавляешь еще: «А оставаться во плоти нужнее для вас» (Фил. 1, 24). И Солнце, действительно, может сказать: «Оставаться же в этом небесном и светлом теле нужнее ради откровения сынов Божиих». То же самое нужно думать и говорить также и о луне и о звездах. — Теперь посмотрим, что́ же такое свобода твари и разрешение от рабства. Когда Христос предаст царство Богу и Отцу, тогда и эти одушевленные существа, вместе со всем царством, будут переданы управлению Отца. Тогда «Бог будет все во всем»; но эти существа принадлежат ко всему; поэтому Бог будет и в них, как во всем».
Припоминается тут еще один пример: «Солнце да не зайдет в гневе вашем» (Еф. 4, 26), писал ап. Павел ефессянам. Посмотри же, какое проникновенное объяснение дает словам Апостола св. Антоний Великий. «И не только в гневе, — подхватьшает Подвижник, — но и во всяком грехе вашем, потому что солнце может осудить вас за ваш дневной поступок, за худое помышление» [544].
Вот абиссинский святой Яфкерана–Эгзиэ Гугубенский [545], «звезда пречистая и светлая», как называет его Житие.
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа, — говорит его Житие, — начинаем с помощью Господа нашего Иисуса Христа писать житие и подвиги, и труд, и воздержание не только от хлеба и воды, но и от слов праздных, умерщвляющих душу. И воспомянем преизобилие терпения, явленного людям, а что он творил тайно, кто ведает, кроме Творца его? Мы поведаем благость отца нашего изрядного деянием аввы Яфкерана–Эгзиэ. Мы не дойдем до половины этого, но (опишем лишь то), что́ пришло на язык или попало на глаз, как говорит Книга Притчей: «Есть море, длина, ширина и глубина которого неизвестны, и пришла птица, называемая 'Ewit, самая меньшая из всего рода птиц. Она прилетела и {стр. 302} пила из этого моря». О возлюбленные, разве истощится море от пития птицы? Так же не истощится и не исчерпается житие сего аввы–инока, звезды евангельской, главы звезд светлых, кроткого сердцем, слеза которого была близка к очам его для любви Божией, и печальника за всех, за людей и скотов и даже до червей». Воистину, — говорится в ином месте Жития, — мы имеем отца нашего Яфкерана–Эгзиэ, который молится за нас, и не за одних нас, но за всю вселенную; за царя и за митрополита, да дает им веру православную, христианам — соблюдение её, язычникам обращение, всей твари милость и милосердие да дарует». «И чтили его цари макванены, сеюмы за нищету его и отшельничество. Он был страшен для них, как страшный лев. Всех приходивших к нему, он утешал ко благу. Всем был открыт дом его». Подвиги его были самые суровые. «Он постился дни и ночи». «Отверг мир здешний, да приобрящет тамошний, закрыл уши свои чтобы не слыхать праздного слова, закрыл очи свои, чтобы не видеть суеты, желая видеть лицо Иисуса, Жениха Небесного, и ясно слышать глас Его сладкий. Он перестал говорит с людьми, ибо пленила его любовь к Богу», и с приходящими объяснялся только знаками, или при помощи азбуки. «Потом, — рассказывает Житие, — он начал подвизаться трудным подвигом, трудом, бдением, молитвою, поклонами, частым постом с молитвою, причем слезы его лились, как потоки воды; воздержанием и удержанием языка. Сжались кости его на бедрах, затвердела кожа головы и помутились глаза его от многих слез, отяжелели ноги его от многого стояния, и весь он высох от забвения пищи и пития. Братия, это явно, а что он творил тайно, никто не знает, кроме Творца его. В таких подвигах он провел 6 лет. Потом он пошел в землю Хамла и взошел на гору, именуемую Айфарба. Здесь он прожил год, питаясь растениями пустыни и плодами деревьев и кореньями». В {стр. 303} дальнейшей жизни «пищею его было в год три эфы не хлеба, а плодов травы, и кто знает, кроме Бога, Творца его, ел он или не ел?». Три года он не пил воды (— заметь, при жаре жажда особенно мучительна —) довольствуясь тем, что опускал в воду 3 стебля одного растения и потом, во время обеда, выжимал их себе в рот. «В день, когда шел дождь, он очищал камень и пил с него то немногое, что стекало». — «Еще подвиг духовный: Он постился 40 дней, исключая суббот, не вкушая ничего: ни листьев, ни воды. Так он провел три четыредесятницы разумей, человече, если у тебя есть ум: три раза по 40 не будет ли 120 дней? и это, как я сказал тебе, (в продолжение) — не одного года, а трех лет». — «Еще подвиг духовный: Яфкерана–Эгзиэ делал ежечасно по 7–ми тысяч поклонов, как колесо, и число поклонов его 42000. Он не знал трех–дневного поста, а только четверо–дневный, пяти–дневный и постился по седмицам». Однажды он поселился «на остров Галила, где не было людей, но было пустынное место. Здесь он жил в посте и молитве и в слезах три года, прославляя Бога, воздерживался три года, не имея помощника ни в рубке дров, ни в черпании воды, ни в утешении, но устроил пребывание свое, как бесплотный».
Таковы подвиги этого печальника за червей и молитвенника за тварь. Приведу один много–значительный рассказ, из которого явствует отношение Святого к твари.
«Паки послушайте, — приглашает Житие, — нечто из величия сего изрядного, звезды пречестной, аввы Яфкерана–Эгзиэ. Был в те дни один монах, святой Божий, по имени Захария. Он жил на острове Галела, где некогда обитал святой авва Яфкерана–Эгзиэ. Они созерцали друг друга духовными очами и любили друг друга весьма. Однажды сговорились они: «Встретимся там–то на озер Азаф — я из Гуэгуэбена, ты — из Галела, чтобы(утешить друг друга, ради величия Божия». И они на{стр. 304}значили день. И вот, встал изрядный Яфкерана–Эгзиэ в Дабра Гуагуэбен и обулся. Встал и святой Божий авва Захария на острове Галела и обулся. И пошли оба, как по–суху, по озеру силою Господа Бога своего, и встретились среди озера и облобызались духовно. Снял авва Захария свои сандалии и отряс прах с них; снял и авва Яфкерана–Эгзиэ и нашел немного влаги на сандалиях своих. Показал авва Яфкерана авве Захарии: «Брат мой возлюбленный, почему мокры мои сандалии, а что касается твоих, то я вижу, что ты стрясаешь прах от них? Скажи мне, прошу тебя, о возлюбленный мой». Отвечал Авва Захария и сказал ему: «Отче, встань, помолимся Господу Богу нашему, да откроет нам, почему нашлась влага в сандалиях твоих». Услыхав это, авва Яфкерана–Эгзиэ сказал: «Да будет, как ты говоришь». Они встали вместе и помолились. После молитвы сказал авва Захария авве Яфкерана–Эгзиэ: «Отче, не за изрядство мое явлено сие мне, а ради величия молитвы твоей. Сандалии твои омочены водою потому, что ты скрыл плоды ячменя, чтобы не съели их птицы, тогда как Бог милосерд и промышляет о всей твари и дает ей пищу. Потому–то и оказалась влага на сандалиях твоих». услыхав это авва Яфкерана–Эгзиэ сказал авве Захарии: «Ты, отче, помолись о мне». И они провели в беседе время до полудня, а потом вернулись в свои монастыри. Изрядный отец Яфкерана–Эгзиэ перестал прятать от птиц плоды ячменя и продолжал молиться об этом деле. Спустя немного дней встал святой авва Яфкерана–Эгзиэ, надел сандалии на ноги свои, как раньше, и они условились между собою духовно относительно дня, когда встретятся. И авва Захария поднялся с острова Галела и приладил сандалии, как прежде. И пошли они оба по озеру, как по–суху, и встретились на прежнем месте. И сняли они сандалии, сбросили прах, и не оказалось мокроты на сандалиях святого аввы Яфкерана–Эгзиэ…».
{стр. 305}
Этот рассказ — один из великого множества житийных повествований. Чуть ли ни в каждом из них изображается жизнь святого на лоне природы, «со зверями», послушание ему диких зверей и заботы о них со стороны святого; нередки чудеса повиновения животных и служения их подвижникам [546]. «Жил со зверями», — в этих немногих словах, так часто встречающихся в житиях святых авв–подвижников, — в этих трех словах выражается вся суть нового, примиренного, восстановленного жития купно со всею тварью. Вот истинный «хилиазм», о котором даже мечтать не смеют современные защитники ложной хилиастической идеи. Но, за недостатком места, не стану приводить примеров, которые в изобилии можно найти в житиях и патериках.
Вот Ерм — римский харизматик и аскет I–го и начала II–го века. «Пастырь» его написан весь в аскетически–эсхатологических тонах. Но и тут, строгость воздержания сочетается с удивительною, проникновенною смелостью в переживании красоты.
«Воспитавший меня, — так начинаешь своего "Пастыря" Ерм [547] — продал меня некоей Роде в Рим. Спустя много лет я возобновил знакомство с нею и начал любить ее, как сестру. Спустя некоторое время я увидал ее моющеюся в рек Тибре и дал ей руку, и вывел ее из реки. И вот, увидев красоту её, я помышлял в сердце своем, говоря: «блажен был бы я, если бы имел жену такую же по красоте и по нраву». Спустя некоторое время, когда я шел в Кумы и прославлял творения Божия, ка́к величественны и превосходны и могучи они, на прогулке я заснул. И Дух восхитил меня и понес по какой–то тропке, — δι άνοδίας τινός, — по которой человек не мог совершать пути: было же место это скалисто и непроходимо вследствие вод. И вот, переправившись чрез ту реку, пришел я на равнину, преклоняю колена и начал молиться Господу и исповедывать грехи своя. Когда же я молился, открылось небо, и вижу я женщину ту, — которой я возжелал, — ласково приветствующею меня с неба, говорящею: "Ерм радуйся!". Я же, посмотрев на нее, говорю ей: "Госпожа, что ты здесь делаешь?". Она же ответила мне: "Я вознесена сюда, чтобы грехи твои разобрать пред Господом". Говорю ей: "Теперь ты являешься мо{стр. 306}им разбором?" — "Нет, — говорит, — но выслушай слова, которые я собираюсь сказать тебе. Бог, живущий на небесах и сотворивший из не сущего сущее, и умноживший и увеличивший ради святой Церкви Своей, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня". Ответив же ей я говорю: "Против тебя согрешил? Каким образом? Сказал ли я тебе когда–нибудь недостойное слово? Не всегда ли тебя, как Богиню, почитал? Не всегда ли о тебе, как о сестре, заботился? Чего же ты наговариваешь на меня, о женщина, это — худое и нечистое!". Улыбнувшись она говорит мне: "На сердце твое взошло пожелание худого. Или тебе не кажется, что для праведного мужа — худое дело, если взойдет на сердце его худое пожелание? Грех ведь это, и великий, — говорит она. — Ибо праведный муж праведное мыслит. И вот, тем что он мыслит праведное, слава его сохраняет, — κατορθοϋται, — его на небесах, и Покровителем имеет он Господа во всяком деле своем. Худое же помышляющие в сердцах своих навлекают гибель свою и пленение на самих себя…". После того, как она сказала эти слова, небеса затворились; а я был весь в ужасе и в скорби. Говорил же я в себе самом: "Если этот грех вменяется мне, то как смогу я спастись? или как умилостивлю я Бога относительно моих полных грехов? Или какими словами буду просить Бога, чтобы был милостив ко мне?"». Во время этих размышлений Ерму явилась в видении Церковь под образом Старицы. Продолжаю далее словами Автора: «и приветствует меня: "Ерм, радуйся". А я, скорбный и плачущий, сказал: "Госпожа, радуйся". И сказала мне: "Что печален, Ерм, — долготерпеливый и не ненавидящий, всегда смеющийся — что́ так уныл лицом и невесел?". А я сказал ей: "из–за одной добрейшей женщины, обвиняющей меня, что я согрешил против неё". Она же ответила: "Никак да не будет такая тягость на рабе Божием. Но во всяком случае на сердце твое взошел помысл о ней. А для рабов Божиих подобный помысл — βούλη, — приносит грех: ибо — худой помысл и ошеломляющий, — έκπληκτος, — на все–чтимого Духа и уже испытанного, если возжелать худого, и особенно Ерму воздержаннику, — Ερμάς ό έγκρατής, — удаляющемуся всякого худого желания и исполненному всякой простоты и всякого незлобия"».
Таково прегрешение великого воздержанника и духо–носца Ерма, проводящего дни, как видно, в постах и молитвах. Это — до стяжания полноты Духа: башня–Церковь еще не достроена. Но вот, в новом видении Ерму является, как пророческое предвосхищение будущего, башня–Церковь в законченном виде. Аскетическое очищение мира свершилось, полнота времен исполнилась. {стр. 307} Пастырь показывает Ерму Божественное Строение. При этом Ерм пророчески прозревает в будущее и изображает достигнутую чистоту твари. Вот полная непринужденного изящества картина будущего [548]:
Пастырь, водивший Ерма, «хотел удалиться. А я, — пишет Ерм, — схватил его за суму и начал заклинать его Господом, чтобы мне он объяснил, что́ показал мне. "Мне нужно отдохнуть немного, и я все объясню тебе: подожди меня здесь, пока приду". Говорю ему: "Господин, оставаясь здесь один, что́ буду делать?" — "Ты не один, — отвечал он: — ибо девы эти — с тобою». — "В таком случае передай, — сказал я, — им меня". Пастырь призывает их и говорит им: "Поручаю вам вот этого, пока приду"; и ушел. Я же остался один с девами; а они были весьма веселы и ко мне относились ласково, особенно же четверо из них, наиболее уважаемые. — Говорят мне девы: "Сегодня Пастырь сюда не придет" — "Что же, в таком случае, — говорю, — буду делать я?" — "До вечера, — отвечают, — ожидай его и, если придет, то поговорит с тобою, если же не придет, останешься с нами здесь, доколе придет". Говорю им: "Подожду его до вечера; если же не придет, уйду домой, и возвращусь поутру". Они же в ответ говорят мне: "Нам ты препоручен; не можешь от нас удаляться". — "А где, — говорю, — останусь?" — С нами, — говорят, — ты уснешь, как брат, а не как муж; ибо ты брат наш, и впредь мы намерены жить с тобою: очень, ведь, тебя любим". Мне же стыдно было оставаться с ними. И та, которая из них казалась первою, начала меня нежно целовать и обнимать. Прочие же, видя, что она обнимает меня, и сами начали целовать меня и обводить вокруг башни, и играть со мною. А я как–то стал моложе и начал и сам играть с ними. Ведь одни плясали, другие же водили хоровод, а третьи пели. А, с наступившим вечером, я хотел уйти домой; они же не отпустили, но удержали меня. И оставался с ними эту ночь и отдыхал возле башни. Ведь девы пост{стр. 308}лали свои полотняные хитоны на землю и меня поместили на середине, а сами совсем ничего не делали, кроме как молились. И я с ними непрерывно молился, и не менее их. И радовались девы тому, что я так молился. И оставался я там до следующего дня с девами. Потом, пришел Пастырь, и говорит им: "Не нанесли ли вы ему какой–нибудь обиды?" — "Спроси. — говорят, — его самого". Говорю ему: "Господин, я получил большую радость, оставшись с ними". — "Чем, — говорит, — ты ужинал?" — "Я ужинал, — говорю, — Господин, словами Господа целую ночь". — "Хорошо ли, — говорит он, — они тебя приняли?" — "Да, — говорю, — Господин"».
Такова победа над грехом, живущим в плоти такова невинность, венчающая аскетический подвиг. Но эта невинность есть окрыление и одухотворение пола, осияние его, а никак не бесполое и бескрылое вытравление его, — цвет пола, а не скопчество. Эта победа, эта невинность, эта святая окрыленность достигается чрез стяжание Духа, — в общении с таинственными девами, изображающими дары Духа. Полнота девственности — лишь в полноте Духа, т. е. на конце аскетического подвига всего церковного человечества, в обо́женом теле твари; предварительная полнота невинности — лишь в предварительной полноте Духа, т. е. на конце аскетического подвига отдельного христианина, в обо́женой плоти святого. Св. мощи — разумея это слово и буквально и символически, — вот сухое и безлистное и, как бы, мертвое зерно святого тела: «Не оживет, если не умрет». Само–утверждение — в само–отрицании, согласно высшему и духовному закону тождества, равно как и само–отрицание — в само–утверждении, по закону тождества низшему и плотяному. Как феникс, свивающий себе смертный костер, оживает в огне возрожденным, так и плоть воскресает в огненном отречении от себя, потому что это огненное крещение есть лишь сторона духовного обновления, обращенная ко греху. Нет иного пути. И, как бы, ставя на вид Ерму, что явленный ему об{стр. 309}раз высшей чистоты есть идеал, достижимый не постепенным приближением, не непрерывным развитием, но прерывным отказом от самости, Церковь заранее настаивает на воздержании и даже дает Ерму предписание отныне жить с женою своею, как с сестрою [549], — подвиг весьма обычный в среде перво–христиан и, из за закравшихся сюда злоупотреблений, уничтоженный в своем перво–начальном виде и принявший впоследствии форму монашества.
Изображаемая Ермом девственная чистота есть идеал, равно как чаянием является и полнота Духа Святого. Но верховные точки святого человечества уже освещены лучами Грядущего Светила, Христа Апокалипсического. Подвигом стяжали они Духа и в благодатных дарах Уте́шителя находят силу для высшей любви к твари. Это — «избранные сосуды Духа» [550], «сосуды до краев полные благодати» [551]. Сам Ерм являет в себе чистоту недостижимую для человека безблагодатного. Может быть, подобные же отношения к родственным женским душам были у св. Иоанна Златоуста [552], у св. Афанасия Великого. Напомню еще о св. Серафиме Саровском, о Феофане Затворнике [553].
Вот досточудный авва Иоанн, игумен горы Синайской, живший в VI–м веке. «Лествица» его, особенно первою своею половиною, способна окаменить ледяным ужасом застигнутое врасплох и неустроенное сердце; напомню хотя бы о «Слове 5–м», где описывается «Темница» с её суровейшими само–истязаниями. В этой «Лествице» есть «Слово 15–ое», носящее заголовок «О нерастлении и непорочности и о целомудрии, каковых тленные достигают подвигами и усиленными трудами». Тут, в целом ряде мер к отъединению, предвзятый или невнимательный читатель может найти себе Богатейший материал для доказательства, что аскетизм есть медленное само–оскопление [554]. Может быть, даже не найдется во всей аскетической письменности другого подобного под{стр. 310}бора столь правдо–подобных доказательств тому. Но этот, суровый из суровых, Иоанн сам спешит высказать свои заветные чаяния, с восхищением передавая О почти–осуществившемся конце подвижнического пути.
«Некто поведал мне, — говорит Иоанн [555], — о необычайном и высшем пределе непорочности, — παράδοξόν μοί τις καί άκρότατον αγνείας όρον ύφηγήσατο, — «Ведь, некто, — говорит, — воззрев на краесоту — κάλλος, — весьма прославил за нее Творца; и от единого взора погрузился в любовь Божию и в источник слез; и изумительно было видеть, что ров гибели для другого для иного сверх естества стал венцом». Если всегда таковой, — добавляет Лествичник от себя, — в таких чувствованиях усвоил себе такой образ действия, то он воскрес нетленным до общего воскресения, — εί πάντοτε ό τοιούτος έν τοίς τοιούτοις αϊσθησιν καί έργασίαν κέκτηκαι, άνεστη άφθαρτος πρό τής κοινής άναστάσεως».
Цель подвига, как известно, — достигнуть нетления и обо́жения плоти чрез стяжание Духа. Это нетление, таким образом, в глазах суровейшего из аскетических писателей является не внутренним обеспложением подвижника, не атараксией и не равнодушием, а, напротив, высшею отзывчивостью на красоту плоти, — способностью умиляться до слез, плакать от восторга при виде прекрасного женского тела. Мучительный подвиг и окрыленный восторг оказываются антиномично–связанными в вопросе о поле, как и в других вопросах.
«Тем же правилом, — говорит еще Лествичник [556], будем руководствоваться и в отношении напевов и песней. Боголюбцам, ведь, к радости и Божественной любви и слезам свойственно возбуждаться и от мирских, — έκ των έξωθεν, — и от духовных песней; сластолюбивым же — наоборот».
Итак, цель устремлений подвижника — воспринимать всю тварь в её перво–зданной победной красоте. Дух Святой открывает себя в способности видеть красоту твари. Всегда видеть во всем красоту — это значило бы «воскреснуть до всеобщего воскресения», — значило бы предвосхитить последнее Откровение, — Уте́шителя.
{стр. 311}
Под «некто», о котором повествует Иоанн Лествичник, надо разуметь св. Нона [557], с 448 г. Бывшего епископом в Эдессе, затеме — в Илиополе, затем, с 457 г.. — опять в Эдессе и умершего в 471 г., — того самого еп. Нона, который основал в Эдессе первый лазарет древнего мира. Женщина, о которой упоминает рассказ, была тогда вовсе не какою–нибудь святою; напротив, это была известная на всю Антиохию, — где случайно находился и Нон, — блудница Пелагия, за роскошь свою прозванная Маргаритою, — Жемчужиною. О встрече её с Ноном подробно рассказывается в «Житии преподобной матери нашей Пелагии, бывшей прежде блудницею», написанном очевидцем, диаконом илиопольской церкви Иаковом [558]. История эта, к сожалению, слишком длинна для передачи здесь, и потому ограничусь лишь началом повествования диакона Иакова: «Святый архиепископ Антиохийского града некие ради церковные потребы созва к себе от окрестных градов осмь епископов, между ими же бе святый Божий человек Нон епископ мой, пришедый от Илиополя, вземши мя с собою, муж предивен и совершен инок, иже от монастыря, нарицаемого Тавенисиот, добродетельного ради жития своего, взят бысть на епископство. Егда же епископи в церковь святого мученика Иулиана снидошася, восхотеша слышати от Нона учительное слово, и седоша вси при дверех церковных. Нон же нача учити из уст, глаголющи то, еже бе на пользу и спасение послушающим. Всем же удивляющымся о святом учении его, се мимо дверей церковных идяше некая от неверных жена, яже во всей Антиохии славная блудница бе, с великою гордостию, многоценными одеждами одеянна, златом, камением драгим и маргаритами украшена: окрест же её грядяша множество девиц и юнош, лепо одеянных, и гривны златыя носящих, лице же её тако красно бе, яко мирстии человцы видением красоты её насытиться не можаху. Идущи же мимо нас, весь воздух благовонием ароматным исполни, юже узревше {стр. 312} епископи грядущую бесстудно, имущую главу непокровенну, и рамена обнаженны, смежиша очеса своя, и тихо воздыхающе, яко от грехa велика лица своя отвратиша. Нон же блаженный прилежно и долго смотрел на ню, дондеже от очес заиде. И посем обращся к епископом, рече: не возлюбися ли вам толикая красота жены тоя? Оным же не отвещавающым, преклони Нон главу свою, и плачущи собираше во убрусец слезы своя, и поливание перси своя слезами, от глубины сердечные воздыхающи, паки вопроси епископов: не усладистеся ли красотою её? Они же молчаху. Нон же рече: воистину аз много научихся от неё: ибо жену ту поставит Господь на страшном своем суде, и ею осудит нас; что — мните? колико часов жена та в ложнице своей умедли, мыющися, одевающися и всю мысль свою и попечение имущи о сем, да паче всех краснейша явится очесем временных своих рачителей; мы же имуще Жениха бессмертного на небесех, на Негоже Ангели зрети желают, не печемся украсити окаянные души нашея, яже вся есть скверна, нага и студа исполненна; тщимся омыти ю покаяния слезами, одеяти лепотою добродетелей, дабы очесем Божиим явилася благоугодна, и не была посрамлена и отвержена во время Агнчего брака».
Еще ярче, — ярче всего, — выражена любовь к твари в величайших представителях православного подвижничества, — у преп. Макария Великого и Исаака Сир и и а, поистине столпов Церкви. И тот и другой описывают состояния высшего подъема и величайшей духовности. Если рассуждать, то можно было бы заключить отсюда, что это — парение в пустом пространстве, безбрежное и великое Ничто [559] мистиков вне–христианских. Но нет. Тут–то и является величайшая конкретность и полнота; тут–то и предстает сознанию тварь в своей все–целостности и в своем вечном содержании, осиянная трепетом все–победной нетленной красоты.
Преп. Макарий Великий творил подвиги, которые кажутся превышающими человеческие сисилы, и лишь поддер{стр. 313}живал жизнь в теле. Ученик его Евагрий, томимый жаждою, однажды просил позволения испить воды. «будь доволен и тем, что находишься под тенью, — отвечал ему любве–обильный старец; — многие лишены и этой отрады. Уже — двадцать лет, как я ем, пью и сплю не более, как сколько нужно для поддержания жизни». Действительно, сам он вкушал пишу только раз в неделю. Когда ему приходилось трапезовать с пустынниками, и те предлагали ему вина, то святой не отказывался, но после, за одну выпитую чашу вина, целый день не пил воды. Нищета и нестяжательность его доходили до того, что он не советовал иметь даже те книги, от которых другие могли бы получать назидание; а сам он помогал ворам выносить вещи из своей келлии. Безмерная любовь его и кротость ко всему слишком известна, чтобы нужно было напоминать о ней [560]. Но вот что говорит сам святой о моментах Духо–явлений [561]: «Сподобившиеся стать чадами Божиими и родиться свыше от Духа Святого, и имеющие Христа в себе, просвещающего и упокоевающего — έλλάμποντα καί άναπαύοντα — их, много–образными и различными способами бывают путеводимы Духом, и благодать невидимо действует в их сердце духовным упокоением — έν τη καρδία, έν αναπαύσει πνευματική. Но от видимых в миpe наслаждений да заимствуем образы, чтобы отчасти показать и пребывания благодати в душе. Бывает, когда они (духо–носцы) становятся как бы на царском пиру развеселенными, ликуя ликованием и веселием несказанным. В иную пору бывают словно невеста, со–упокоеваемая — σοναναπαυομένη — в общении с женихом своим Божественным покоем — αναπαύσει θεϊκή. Иногда становятся, словно ангелы бесплотные, в такой легкости находятся с телом; иногда бывают словно во хмелю от пития, возвеселяемые и упоеваемые Духом — во хмелю Божественных тайн духовных. — иногда они — как бы в плаче и скорби за род людей и, молясь за целого Адама, поднимают плач и {стр. 314} рыдание, возжигаемые любовию Духа к человечеству. Иногда таким ликованием и любовию воспламеняются они от Духа, что, если можно, всякого человека в собственной своей плоти они вместили бы, не различая злого от доброго; иногда столь уничижаются пред всяким человеком в смиреномудрии Духа, что почитают себя самих всех хуже и ничтожнее. Иногда в радости несказанной постоянно соблюдаются Духом… Иногда душа упокоевается в великом некотором безмолвии и тишине, пребывая в одном только наслаждении духовном и упокоении неизреченном и благоденствии. Иногда в знании некотором и мудрости неизреченной и ведении Духа Неисследимого умудряется благодатию, но этого невозможно высказать языком и устами. Иногда человек делается словно один из людей [т. е. «как все»]. — Ведь, когда душа подойдет к совершенству духа, совершенно ото всех страстей очищенная и с Утешителем Духом посредством неизреченного общения соединенная и слитая, и когда, срастворившись с Духом, удостоена сделаться духом, тогда становится она вся светом, вся — оком, вся — духом, вся — радостию, вся — упокоением, вся — ликованием, вся — любовию, вся — милосердием, вся — добротою и кротостию».
Еще сильнее выражает те же переживания подвижник еще более строгий [562], — св. Исаак Сирин [563].
«Совершенство всего подвига, — говорит он, — заключается в трех следующих вещах: в покаянии, в чистоте и в усовершении себя. — Что такое покаяние? — Оставление прежнего и печаль о нем. — Что такое чистота — ή καθαρότης? — Кратко: сердце милующее всякое тварное естество — καρδία έλεήμων υπέρ πάσης της κτίστης φόσεως. — Что такое усовершение — ή τελειότης? — Глубина смирения — βάθος ταπεινόσεως, — т. е. оставление — κατάλειψις — всего видимого и невидимого (— видимого — всего чувственного; невидимого же — мыслимого) и освобождение от попечения о нем.
{стр. 315}
«В другой раз был опять спрошен: «Что́ такое покаяние?» и сказал: «Сердце сокрушенное и усмирённое». — <«Что такое смирение?»> — «Сугубое, добровольно принятое на себя омертвение для всего». — «И что такое сердце милующее — και τί έστι καρδία έλεήμων?» — и сказал: «Горение сердца о всем творении — καυσις καρδίας υπέρ πάσης της κτίσεως — о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всей твари. И от воспоминания о них и созерцания их очи его источают слезы, от великой и сильной жалости, охватывающей сердце. И от великой выдержки умиляется сердце его, и не может он вынести, или услышать, или увидеть вреда какого–нибудь, или печали малой, происходящей в твари и вследствие этого и о бессловесных, и о врагах Истины, и о вредящих ему — ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы они очистились и сохранились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая возбуждается в сердце его без меры, по уподоблении в сем Богу. — Достигших же совершенства признак — таков: если в день десятикратно преданы будут на сожжение за любовь к людям, то не насыщаются от этого, подобно как Моисей сказал Богу: «Если простишь им грех, то прости: если же нет, то изгладь и меня из книги, в которую вписал» (Исх. 32, 32) и как говорит блаженный Павел: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих и т. д.» (Рим. 9, 3); и еще «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас», язычников (Кол. 1, 34). И прочие апостолы за любовь о жизни людей получили смерть — во всех видах. — Высшая же степень всего этого вместе — Бог и Господь. По любви к твари, Сына Своего предал крестом на смерть …». В другом месте, авва Исаак передает следующее [564]: «рассказывают также об авве Агафоне, будто бы сказал он: «Желал бы я {стр. 316} найти прокаженного и взять тело его, и дать ему свое». Видишь ли совершенную любовь? …».
Итак, «чистота есть сердце, милующее всякое тварное естество», а «сердце милующее есть горение сердца о всем творении», когда открывается для него достойная полной любви, а потому, следовательно, вечная и святая сторона всякой твари, включая сюда даже и демонов и «врагов Истины», т. е. бесов. Покаяние ведет за собою смирение сердца, т. е. омертвение его для всего, уничтожение в нем злой самости и низшего закона тождества. Сердце очищается от той скверны, которая отъединяла его от Бога и от твари. И, подвигом отъединенное от отъединения, сердце делается целомудренным, т. е. безсамостно воспринимающим красоту твари, и воспламеняется любовью ко всему творению, более или менее ясно, подробнее или кратче останавливаясь на том или другом переходе этого пути, это же самое говорят все подвижники. Но, конечно, полнота чистоты есть величина заданная, и не данная. Однако, всякий раз, как подвижник взошел сколько–нибудь по «Лествице рая», выступает ярко «чувство природы». Помнишь ли что говорил об очистительном значении твари еп. Феофан Затворник? [565] Не стану, впрочем, приводить его слов; сделаю лучше, выдержку из записок одного странника [566].
«Вот теперь так и хожу, — пишет Странник, — да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Нет у меня ни о чем заботы, ничего меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы все один в уединении; только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что со мною делается. — В сие время читал я мою Библию и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встре{стр. 317}чал недоумение. — Когда при сем я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего, что́ называется в Добротолюбии «ведением словес твари», и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими — Я также опытно узнал, что́ значит рай, и каким образом разверзается Царство Божие внутри сердец наших». — «С месяц шел я потихоньку, — продолжает свою повесть странник, — и глубоко чувствовал, как назидательны бывают добрые живые примеры; часто читывал я Добротолюбие и поверял все то, что я говорил слепому молитвеннику. Его поучительный пример воспламенял во мне ревность, признательность и любовь к Господу; молитва сердца столько меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в Царствии Небесном. Не токмо чувствовал сие внутри души моей, но все наружное представлялось мне в восхитительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога. — Все было мне как родное, во всем я находил изображение имени Иисуса Христа».
Одним словом, вся тварь открылась нашему страннику, как вечное чудо Божие, как живое существо, молящееся Творцу и Отцу своему [567]. Это восприятие в высокой степени свойственно нашим странникам, и отдельные черточки его запечатлены во множестве художественных произведений [568].
Из обширного материала, который можно было бы привлечь для выяснения связи между аскетическим подвигом, девственностью души, духо–носностью и любовью–жало{стр. 318}стью к твари и влюбленностью в тварь, я привел ишь самое немногое. Но я надеюсь, что в приведенных примерах выяснилась эта связь, — этот мост, ведущий подвижника к безусловному корню твари, раз только, омытый Духом Святым, отделенный от самости своей чрез устроение себя, нащупал подвижник в себе свой безусловный корень, — тот корень вечности, который дан ему чрез соучастие в недрах Троичной Любви. Отсюда необходимо возникает новый вопрос, а именно, ка́к же мыслится тварь сама в себе или сама по себе или сама о себе, т. е. вопрос о Софии.

Omnia conjungo. Вся соединяю.
{стр. 319}
…Тогда я только что зажил самостоятельно и поселился в маленьком одиноком домике. Один, не только без мебели, но и без скамьи, чтобы присесть: часы были единственным предметом «обстановки». Сидел на каком–то ящике, на нем и занимался. Холод, пустота и жизнь впроголодь… Особенно жутко было вечерами. Темнело. Начинал накрапывать дождик, постукивая по железной крыше. Потом, вдруг, стучал сильно, — заглушая сухой стук маятника. И — дождь, — шел взрыдами. Крыша взрыдывала в последней тоске и холодном отчаянии. Стучал, как комья замерзшей земли о крышку тесового гроба. Казалось, грудь открыта, и холодный дождь течет прямо в меня, в усталое и тоскующее сердце. Этот холодный осенний дождь навивал мрачную тоску и жуткость. Во всем дом было лишь два живых существа: я да часы; а еще, изредка, бессильно жужжала муха в чернеющем, — словно пасть!, — окн. Ах, и мухе я был рад…
Порою, успокаивая себя, я начинал напевать робеющим голосом унылый «стих», слышанный мною от слепого:
{стр. 320}
«Зайду ли на гору высо–ку–у-ю,
у–узрю ли бездну глубо–ку–у-ю.
Где я на свет ни тоску–у-у–ю,
я Тебя лишь, Вечность, взыску–у-ю…
Гро–о-бик, ты мой гро–о-о–о-би–и-к,
ты мой вековешн–о-ой до–о-ми–и-к.
Желты пески постеля–а-а моя,
ка–а-мни соседи–и мои.
Че–ерви друзья–а-а мои,
Сырая Земля–а мате–ерь моя.
Ма–атерь, ты моя–а Мате–ерь,
Приими ты меня–а на вечной поко–ой.
Господи поми–и-и–и-и–и-луй…
Что́ это? Кто́ стучался в ворота?.. Я снимал с гвоздя тусклую стенную лампу, одевал калоши и шел отпирать в сенях засов. На дворе — темнота, слякоть. Прислушиваюсь… опять стук. «Сейчас! сейчас отворю». Спускаюсь к калитке по осклизшей лесенке. «Кто там?». Молчание. Потом — снова стук. «Кто там?» и опять молчание. Отодвигаю засов у калитки, открываю ее — никого. И еще мрачнее возвращаться в комнату… Сколько раз выхаживал я на стуки, сколько раз отворял калитку, и… только ветер входил гостем со мною.
От тоски не мог ни заниматься, ни молиться. Ничего не шло в голову. С последнею надеждою взирал на Лик Спасителя и на горящую перед ним глиняную лампаду. Тоскливо громыхал железом крыши внезапный порыв ветра! Жутко шумел за окном тремя березами.
Вот тут–то, в этой пустынной избушке, в эти одинокие вечера, ярко вспоминался мне покойный Старец Исидор. Весь благодатный и благодатью — прекрасный, он дал мне в жизни самое твердое, самое несомненное, самое чистое восприятие духовной личности. То, что ранее лишь трепетало порою в мечтаниях, теперь стояло осязаемое и зримое. Мир духовный воочию являлся более реальным, нежели мир плотской. Отныне каждое переживание, каждое новое впечатление проверялось этим, достовернейшим. И мне захотелось разобраться в сво{стр. 321}их мыслях и чувствах, окружающих образ Старца Исидора״ захотелось осознать красоту духовной жизни.
Духоносная личность прекрасна, — и прекрасна дважды. Она прекрасна объективно, как предмет созерцания для окружающих; она прекрасна и субъективно, как средоточие нового, очищенного созерцания окружающего. Во святом открыта нам для созерцания прекрасная первозданная тварь; для созерцания святого обнажается от своего растления перво–зданная тварь: церковность есть красота новой жизни в безусловной Красоте, — в Духе Святом. Это — факт [569]. Но этот двоякий факт не может не наводить на размышления, не может не вызвать вопроса: Как же понимать этот святой, этот прекрасный момент твари? Какова объективная его природа? Что он такое метафизически?
Однако, прежде нежели давать ответ на поставленный вопрос, полезно сделать одну оговорку.
Единый и целостный объект религиозного восприятия — в области рассудка распадается на множество аспектов, на отдельные грани, на осколки святыни, и нет в них благодати: драгоценный алавастр разбит, а миро священное жадно всасывают сухие пески раскаленной пустыни. Раньше это было уже показано на рассудочных антиномиях догмата; сейчас речь будет o таких осколках, которые не находятся в явной антиномии друг с другом, потому что представляют не противоположное друг другу, а просто разное. Каждая из этих логических граней непосредственного переживания, — рассудочно, — весьма отлична от прочих и, — логически, — никак с прочими не связана, ибо только целостный опыт указывает каждой грани её место: связь отдельных аспектов есть синтетическая, но не аналитическая, и она дается только а posteriori, в виде откровения, т. е. как факт духовного опыта. Однако, последний является в переживании не только фактом, {стр. 322} не одной только интуицией, но и дискурсией, потому что бытие его воспринимается как творческий акт Самой Триединой Истины. Фактически–данный синтез отдельных сторон объекта веры находит свое оправдание, — оправдание своей необходимости, — в присно–сущем Свете Пресвятой Троицы. Но не только такое оправдание синтеза, а и самый синтез не подлежит рассудочному выведению. Это можно пояснить примером. Вовсе не знающему геометрических тел разве можно составить конкретное представление о теле, имея в руках лишь плоскостные образования — точки, линии и части плоскости, ограниченные теми или другими контурами («плоские лоскутья» [570]? разве мы с тобою можем представить себе образование пространства четырех–мерного по трем его проекциям на пространство трех–мерное [571]? Зная только два цвета порознь, разве можно представить себе, что́ получится от их смешения? Так — и тут, в области веры. Это, вот, приводит меня в большое смущение. В самом деле, если не строить полной системы понятий, если не излагать законченной, схемы для переживаний, — а я — именно в таком положении, — то почти невозможно решить, что́ говорить и что́ опустить, — о чём говорит сперва и о чём — после. Ведь тот или другой порядок понятий не есть порядок подлинно логический, но всегда — лишь условный, более или менее удобный. Отдельные понятия механически приставляются одно к другому: когда религиозный объект входит в сферу рассудка, то наиболее идущим к делу является союз «и». Ведь нельзя сказать, что дается сперва, что́ — после в вечном бытии переживаемого: таме — все едино; психологически же одно выступает ранее, другое — позже, в зависимости от многих личных условий. Мне трудно решить за другого, какую последовательность ему будет легче обозревать. Пишу и все–таки сознаю, что разбрасываюсь, потому что не могу сказать сразу всего того, что теснится в сознании.
{стр. 323}
До сих пор я старался установить на некоторых конкретных примерах главную тему моего предыдущего письма, а именно восприятие подвижниками вечных корней всей твари, — которыми она держится в Боге. Но восприятие вечного, как такового, есть, со стороны познавательной, видение вещи в её внутренней необходимости, — видение вещи в её смысле, в разуме её существования. Созерцая безусловную ценность тварей, святой подвижник видит разум их объективного бытия, их Λόγος. А так как вторичный разум лишь постольку мыслится актуально–сущим, поскольку он коренится в разум Абсолютном, поскольку он питается Светом Истины, то разум вещи есть, с точки зрения твари, тот акт, посредством которого тварь отрешается от самости своей, выходит из себя и посредством которого в Бог находит свое утверждение, как само–истощающаяся; другими словами, разум вещи есть, с точки зрения твари, любовь к Богу и происходящее отсюда видение Бога, частная идея о Нем. — условное представление о безусловном. С точки же зрения бытия Божественного, разум твари есть безусловное представление об условном, идея Бога о частной вещи, — тот акт, которым Бог, в неизреченном само–уничижении своей бесконечности и абсолютности, наряду с Божественным содержанием своей Божественной мысли, благоволит мыслить о конечном и ограниченном, вносит в полноту бытия Троичных недр тощее полубытие твари и дарует ей само–бытие и само–определяемость, т. е. ставит тварь как бы вровень с Собою; с точки зрения Бога, разум твари есть само–уничижительная любовь Божия к твари. Неописуемым актом (— в котором соприкасается друг с другом и содействуют друг другу неизреченное смирение Божественной любви и непонятное дерзновение любви тварной —) входя в жизнь Божественной Троицы, стоящей выше порядка(— ибо число «3» не имеет порядка —), эта любовь–идея–монада, этот четвертый ипостасный элемент {стр. 324} в отношении к себе вызывает различие по порядку — κατά τάξιν — Ипостасей Пресвятой Троицы, благоволящей на это со–отношение Себя со Своею же тварью и на вытекающее отсюда определение Себя тварью и тем Себя «истощающей» или «опустошающей» от аттрибутов абсолютных. Оставаясь всемогущим, Бог относится к Своему же созданию как бы не всемогущий: не принуждает тварь, а убеждает, не заставлять, а просить. Оставаясь «едино» в Себе, Ипостаси делают Себя «ино» в отношении к твари. Последнее открывается в характере промыслительной деятельности, как в каждой особной жизни, так и, — по преимуществу, — в трех последовательных Заветах с цело–купным миром. Иначе говоря, эти три Завета, открываясь прообразовательно и предварительно в личной жизни монады, — онтогенетически, — повторяются с полностью в истории всей твари, — филогенетически —.
Но, милый, прости мне эти грубые и ненавистные мне пинцеты и скальпели, которыми приходится препарировать тончайшие волокна души. Не думай только, что холодные слова мои — метафизическая спекуляция, «гностика». Они — лишь жалкие схемы для переживаемого в душе. Та монада, о которой я говорю, есть не метафизическая сущность, данная логическим определением, но переживается в живом опыте; она — религиозная данная, определяемая не a priori, но a posteriori. — не гордостью конструкции, но смирением приятия. Правда, я вынужден пользоваться метафизической терминологией, но эти термины имеют в моей речи смысл не строго технический, а условный или, скорее, символический, — значение как бы красок, которыми описывается внутренне–переживаемое. Итак, я сказал «монада», т. е. некоторая реальная единица. Логически и метафизически она, как таковая, противополагалась бы прочим монадам, исключала бы их из сферы своего Я, или же, потеряв свою особность, была бы захвачена прочими монадами и слилась бы с ними в неразличимое, стихийное единство. {стр. 325} Но в тех духовных состояниях, о которых идет речь, ничто не теряет своей индивидуальности; все воспринимается как внутренне, органически связанное друг с другом, как спаянное свободным подвигом самоотвержения, как внутренне–единое, внутренне–цельное. — одним словом, как много–единое существо. Все — едино–сущно и все — разно–ипостасно. Не просто–данное, стихийное, фактическое единство сплачивает его, но единство осуществляемое вечным актом, подвижное равновесие ипостасей, подобное тому, как при постоянном обмене энергиею луче–испускающими телами между ними устанавливается подвижное равновесие энергии — это неподвижное движение и движущийся покой. Любовь вечно «истощает» каждую монаду и вечно «прославляет» ее же, — выводит монаду из себя и устанавливает ее же в себе и для себя. Любовь вечно отнимает, чтобы вечно давать; вечно умерщвляет, чтобы вечно оживлять. Единство в любви есть то, что выводит каждую монаду из состояния чистой потенциальности, т. е. духовного сна, духовной пустоты и безвидной хаотичности, и что, таким образом, дает монаде действительность, актуальность, жизнь и бодрствование. Чисто–субъективное, отъединенное и слепое Я монады для Ты другой монады истощает себя и, чрез это Ты, Я делается чисто–объективным, т. е. доказанным. Воспринимаемое же третьей монадой, как доказывающее себя чрез вторую, Я первой монады в Он третьей обретает себя, как доказанное, т. е. завершает процесс само–доказательства и делается «для себя», получая вместе с тем свое «о себе», ибо доказанное Я есть предметно–воспринятое «для другого» этого «о себе». Из голого и пустого само–тождества — «Я!» — монада становится полным содержания актом, синтетически связывающим Я с Я (Я=Я), т. е. органом единого Существа [572].
Любовь Божия, струящаяся в этом Существе — вот творческий акт, которым оно получает: во первых, {стр. 326} жизнь, во–вторых, единство, и, в–третьих, бытие; единство, будучи не фактом, но актом, есть мистическое производное жизни, а бытие — производное единства: истинное бытие есть субстанциональное отношение к другому и движение из себя, — как дающее единство, так и вытекающее из единства бытия. Но каждая монада лишь постольку существует, поскольку допускает до себя любовь Божественную, «ибо мы им [Богом] живем и движемся и существуем — έν αύτώ γάρ ζώμεν καί κινουμεθα και έσμέν» (Деян. 17, 28). Это «Великое Существо», — но не то, которому молился О. Конт, а воистину великое, — Оно есть осуществленная Мудрость Божия, חכמה Хохма́, Σοφία София или Премудрость [573].
София есть Великий Корень цело–купной твари [ср. πασα ή κτίσις (Рим. 8, 22), т. е. все–целостная тварь, а не просто вся], которым тварь уходит во внутри–Троичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого источника Жизни; София есть перво–зданное естество твари [574], творческая Любовь Божия, «которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5); поэтому–то истинным Я обо́женного, «сердцем» его является именно Любовь Божия, подобно как и Сущность Божества — внутри–Троичная Любовь. Ведь все — лишь постольку истинно существует, поскольку приобщается Божества–Любви, источника бытия и Истины. Если тварь отрывается от корня своего, то ее ждет неминуемая смерть: «Нашедший Меня, — говорит сама Премудрость, — нашел жизнь и получит благоволение от Господа; но согрешающий против меня наносит вред душе своей: все, ненавидящие меня, любят смерть» (Притч. Сол. 8, 35, 36).
В отношении к твари София есть Ангел–Хранитель твари, идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари, она — образуемое содержание Бога–разума, «психическое содержание» Его, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе Святоме: Бог мыслит вещами [575].
{стр. 327}
Поэтому, существовать — это и значит быть мыслимым, быть памятуемым или, наконец, быть познаваемым Богом [576]. Кого «знает» Бог, те обладают реальностью, кого же Он «не знает», те и не существуют в духовном мире, в мире истинной реальности, и бытие их — призрачное. Они пусты, и в освещении Трисиятельным Светочем делается ясно, что их вовсе нет, и что они лишь казались существующими: чтобы быть — надо γινώσκεσθαι υπό θεού (cp. Ин. 10, 14, Μф. 7, 23, 25, 31, сл.) [577]. Сущий в Вечности и «познает» в Вечности же; но то, что́ он «познает» в Вечности [578] появляется во Времени в единый, определенный момент. Бог, Сверх–временный, для Которого Время дано всеми своими моментами, как единое «теперь», не творит мира во Времени; но для мира, для твари, живущей во времени, миро–творение необходимо приурочивается к определенным временам и срокам.
Спрашивается: «Почему именно к этим временам и срокам, а не к каким–либо иным?». — Этот вопрос, полагаю, основан на недоразумении, и именно на смешении Времени космического со временем в отвлечении. Время космическое есть последование, и, будучи последованием, оно дает последовательность всему тому, что имеет последование [579]. Иными словами оно есть внутренняя организованность, каждый член которой с непреложностью находится там, где находится. Последование всего другого, происходящее чрез, — выражаясь математически, — чрез свое «соответствие» с этим, основным, последование–ро́дным, «таксогенным» рядом, тоже должно быть организованным. Соответствие моментов Времени и явлений происходит в силу внутреннего сродства каждого данного момента Времени и каждого данного явления; в сущности данного момента заключено и то, что он связывается соответствием с теми–то и теми–то явлениями. А раз такое соответствие установилось, тогда уже спрашивать: «Почему явление возникло тогда–то, а не тогда–то?» — спрашивать это также бессмысленно, {стр. 328} как спрашивать, «Почему 1912–ый год идет после 1911–го а не после 1915–го?».
Но совсем иначе приходится говорит о времени, в отвлечении рассудка. Ведь рассудок отрывает внешний вид Времени от анатомического его сложения внутри; рассудок берет форму последования, но удаляет оттуда содержание последования; получается пустая и безразличная схема последования, в которой, действительно, каждая пара моментов может быть переставлена, и все же, в силу безличия этих моментов, полученное абсолютно ничем не разнится от того, из чего получилось [580]. Когда это, — по существу дела бессмысленное, — понятие выдают за Время, то тогда, конечно, должен возникать нелепый вопрос: «А почему Бог сотворилемир столько–то тысяч лет тому назад, а не когда–либо в иное время?», — ошибка, в которую впал, в числе многих других, знаменитый Ориген [581]. Бог сотворил, — для нас— мир тогда, когда миру приличествовало быть сотворенным, — вот ответ на подобные вопрошания. Не приводя святоотеческих свидетельств в пользу изложенного здесь понимания Времени [582] (— это завело бы нас слишком далеко в сторону —), упомяну лишь свидетельство св. Григория Богослова.
Прежде творения мира, кроме существа Пресвятой Троицы, «Μирο–родный ум рассматривал также в великих Своих умопредставлениях им же составленные образы мира, который произведен впоследствии, но для Бога и тогда был настоящим. У Бога все перед очами, и что будет, и что́ было, и что́ есть теперь. Для меня такой раздел положен Временем, что одно впереди другое назади; а для Бога все сливается в одно, и все держится в мышцах Великого Божества?» [583].
«Из миров. — говорит тот же св. Отец, в ином месте [584], — из миров один сотворен прежде. Это — иное небо, обитель Богоносцев, созерцаемая единым умом, пресветлая: в нее вступит впоследствии человек Божий, когда, очистив ум и плоть, совершится богом. А другой — тленный мир — создан для смертных, когда надлежало устроиться и лепоте светил, проповедающих «Бога красотою и вели{стр. 329}чием, и царственному чертогу для Образа Божия. Но первый и последний мир создан Словом великого Бога».
«Мы, — говорит также Климент Александрийский [585], — мы существовали уже прежде создания сего мира, потому что сотворение нас решено было Богом гораздо ранее самого сотворения нас, и следовательно уже ранее своего сотворения мы существовали в мысли Божией, — мы, впоследствии оказавшиеся разумными созданиями Божественного Слова; из за Него–то мы по своему происхождению весьма древни, потому что "вначале было Слово"».
Но вернемся к вопросу о Софии
Вечная Невеста Слова Божия, вне Его и независимо от Него она не имеет бытия и рассыпается в дробность идей о твари; в Нем же — получает творческую силу. Единая в Боге, она множественна в твари и тут воспринимается в своих конкретных явлениях как идеальная личность человека, как Ангел–Хранитель его, т. е. как проблеск вечного достоинства личности и как образ Божий в человеке. Говорить об этой «искорке» Божественной здесь невозможно, потому что для этого потребовалось бы сделать обзор чуть ли ни всех мистических учений. Ограничусь лишь упоминанием того, как иногда называется этот Божественный отблеск в Апостольских Посланиях. Это, именно, для отдельного человека, — его «жилище на небесах», вдом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5, 1), «небесное жилище» (2 Кор. 5, 2), в которое облечется человек, когда разрушится его «земная храмина». Последняя необходимо разрушится, — не потому, что она — на земле, но потому, что она зе́мна, επίγειος, т. е. тленна в существе своем. И, хотя сейчас та храмина — «на небесах — έν τοις ούρανοις» (2 Коp. 5, 1), однако не это существенно для неё, а — то, что она есть «жилище с неба — τό οΐκτήριον ήμων τό έξ ουρανου» (2 Кор. 5 2), т. е. важна её природа, а не данное её место–пребывание. Земная храмина и храмина небесная противоположны по естеству своему, а не по положению. В аду — чистая плотяность, хотя он может и не быть на земле (— да и не потерпит Земля Господня {стр. 330} ада на себе [586] —); в раю — чистая духовность, хотя и при жизни к нему может приближаться святой. Идеальный облик откроется в просветленной твари, в преображенном человеке. Земная «лачуга, σχηνομα», т. е. тленный эмпирический характер, упоминается и у ап. Петра (1 Пет. 1, 13, 14), тогда как противоположный этой «лачуге» характер идеальный именуется «наследством нетленным, чистым, неувядаемым, хранящимся на небесах» (1 Петр. 1, 4). Это — «вечные обители, αιωνιαι σκηναί» (Лк. 16·)или типы духовного возрастания, о которых говорит Господь Иисус в притче о домоправителе неправды.
Совокупность этих «многих обителей», — этих идеальных образов сущего, — слагает истинный «Дом Божий» (Евр. 3, 4), в котором человек является «домостроителем» (1 Кор. 4, 1, 2; Тит. 1, 7) и, притом, часто нечестным, обращающим Дом Отца в «дом торговли» (Ин. 2, 15). «В Доме Отца Моего обителей много, έν τή оίκία του Πατρός μου μοναί πολλαί έίσιν» (Ин. 14, 2), — говорит Иисус Христос; отдельные обители, словно сотовые ячейки, образуют Дом Божий, Святой Храм Господень или, в расширенном изображении того же образа, — Великий Город, Иерусалим Небесный, Иерусалим Горний и Святой (Откр. 21, 2, 10; Евр. 12, 22 и др.). Дух Святой живет в этом Городе, светит ему (Откр. 22, 5) и потому ключами от Города владеют духо–носцы [587], — ведающие тайны Божии (Мф. 16, 17–19; Откр. 3, 7–9; Мф. 18, 18 и проч.). Падение твари составляло, — в онтологическом плане, — в выхождении из небесного жилища, в несоответствии эмпирического раскрытия подобия Божия небесному образу Божию: «падшее вышло из своего жилища» (Иуд 1, 6). Но оставленное соответствие паки достигается лишь в Духе Святом, почему этот Город Божий или Царство Божие имеет себя лишь в Источном Царстве Божием, — в Духе Святом, равно как эта Премудрость имеет себя лишь в Источной премудрости Божией, — в Сыне, и это Материнство — лишь в Источном Ро{стр. 331}дительстве, — во Отце. Пронизанная Троичною Любовью, София религиозно, — не рассудочно, — почти сливается со Словом и Духом и Отцом, как с Премудростью и Царством и родительством Божиим; но рассудочно она есть совсем иное, нежели каждая из этих Ипостасей.
О Софии писали многие мистики. Но, хотя и весьма самоуверенно, однако отчасти и справедливо высказался о них довольно сурово Вл. Соловьев в письме к гр. С. А. Толстой — «У мистиков. — писал он 27–го апреля 1877 года из СПб., — много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtei, Gotfried Arnold и John Pardage. — Все трое имели личный опыт, почти такой же как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бэму но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что–нибудь другое». В результате настоящими людьми все–таки оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое. Познакомился немного с польскими философами, — общий тон и стремления очень симпатичны, но положительного содержания никакого, — пара нашим славянофилам» [588].
Ввиду этого и, кроме того, желая оставаться в пределах идей церковных, я позволю себе отложить анализ мистических произведений до работы более специальной и ограничусь пока лишь приведением одного отрывка, разъясняющего идею Софии. Этот содержательный отрывок извлечен из рукописи нашего замечательного мистика графа М. И. Сперанского, носящей заглавие «Ομοούσιος. Первый мир» и относящейся, вероятно, к 1812–1814 годам [589]. Занимающая нас рукопись в числе многих других, хранится в императорской Публичной библиотеке; мною же заимствован приводимый отрывок — из еще не напечатанных «Материалов к изучению мистицизма М. М. Сперанского», А. В. Ельчанинова. Вот этот содержательный отрывок, поучительный для нас тем более, что гр. М. М. Сперанский получил образование Богословское и православное и имеет авторитетное, — хотя, быть может, и поспешное, — засвидетельствование своего православия от преосв. Епископа Феофана Затворника [590].
{стр. 332}
«Подобно жене <т. е. Еве> сия первая жена была не создана и не рождена; но устроена (aedificata) отделением части собственного бытия Сына и сие есть первое и исконное отделение, первая жертва покорности, принесенная Отцу, первая степень того умаления (eximinationis), которое впоследствии доведено до самой смерти и смерти крестные. Имя жене София. Она есть то знание, которое имеет Отец и Сын; но она есть созерцание их желания, зерцало, во коем Слава их отражается. В отношенш ко Отцу она есть дщерь его: ибо составляет часть его Сына. В отношении к Сыну по закону Отчей любви она есть сестра его. В отношении же закону в воспроизведении она есть его невеста. В отношении к будущим рождениям она есть мать всего вне Бога сущего; ибо сама она есть первое внешнее существо. Сын передал устроение закона бытия жене. Себе же оставил только закон любви подобно тому как Евва уделением славы, бывшей первоначально в Адаме, получила право быть мати всем живущим на земли: так предвечная Евва подобным сему уделением небесного семени соделалась мати всех сущих на небеси. Но сии рожденные что суть? — боги; ибо, во–первых, семя их в начале есть божественное, а, во–вторых, самое семя сие было бы бесплодно, если бы сила Сына, яко мужа, не осенила их мати, яко жену. Таким образом возник мир духов первозданных — типы и образы всех грядущих созданий. И лик бесплотных Ангелов возопил: "Слава в вышних Богу", земли когда еще не было».
Приведенный отрывок окрашен довольно резко пантеистическою окраскою; выражения: «отделение части Собственного бытия Сына» и т. п. конечно не православны. Но, за вычетом их, основная идея отрывка не находится в противоречии ни с библейским учением, ни со свято–отеческим истолкованием последнего.
Идея о пред–существующей миру Софии–Премудрости, о Горнем Иерусалиме, о Церкви в её небесном аспекте или о Царстве Божием, как об Идеальной Личности Твари или об Ангеле–Хранителе её, — или еще, как об Ипостасной Системе миро–творческих мыслей Божиих и истинном Полюсе и Нетленном Моменте тварного бытия. — идея эта в изобилии рассеяна по всему Писанию и в творениях отеческих. Но я не буду приводить всех этих свидетельств, и это — по двум причинам. Во первых, часть их разобрана уже в особой работе о Церкви; {стр. 333} во–вторых, остающийся материал предназначен для нарочитой работы о Софии. Итак, в этой работе общего содержания я ограничусь лишь несколькими примерами.
Так в притче о Страшном Суде Господь Иисус говорит: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: "Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира — την ήτοιμασμένην υμιν βασιλείαν από καταβολής κόσμου"» [591] — (Μф. 25, 34). Это — один пример; но можно было бы привести и другие места из Евангелия, в которых Царство Божие явно имеет значение пред–существующей миру, за–предельной реальности. Ярким примером их может быть то откровение Иоанна Богослова, в котором он «видел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21, 2) и последующее за этим описание «жены, невесты Агнца», — «великого Города, святого Иерусалима, который сходил с неба от Бога» (Откp. 21, 3, 10 и далее см. 21, 11), — место напоминающее, но не тождественное с словами: «тогда, — т. е. в последние времена — явится Невеста и, являясь, — покажется, скрываемая ныне землею» (3 Ездр 7, 26). Мы не будем умножать примеров [592]. Достаточно напомнить, что существуете даже особое направление библейского Богословия, согласно которому Царство Божие имеет исключительное значение трансцендентной премирной величины, имеющей низойти на землю катастрофически в последний день. А что в иудейской апокалиптике господствующей была именно такая идея — об этом говорить едва ли нужно [593].
Как отзвук тех же понятий, в евхаристических молитвах «Учения 12–ти апостолов» слышатся слова: «Помяни, Господи, Церковь Твою, избавь ее от всякого зла и усоверши ее в любви Твоей, и собери ее, освященную, от четырех ветров в Царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя есть {стр. 334} сила и слава во веки. Да придет благодать и прейдет сей мир — μνησθηι, κύριε, τής εκκλησίας σου — καί συναξον αυτήν από των τεσσάρων ανέμων, τήν άγιασθεισαν εις σήν βασιλείαν, ήν ήτοίμασας αυτή …» [594].
В так называемом «Втором послании св. Климента римского к коринфянам», представляющем собою на деле поучение неизвестного проповедника (— по всей вроятности, какого–нибудь харизматика —), — проповедь составленную в Коринфе ранее половины II–го века [595], мысль о пред–существовании Церкви звучит властно и расчлененно.
«Так, братия, — поучает неизвестный Автор, — творя волю Отца нашего Бога мы будем от Церкви первой, духовной, прежде солнца и луны созданной — έσόμεθα ix τής έκκλησίας τής πρώτης, τής πνευματικής, τής πρό ήλιον καϊ σελήνης έκτισαμενης — ; если же не сотворим воли Господа, то будем от Писания, говорящего: «Сделался дом мой вертепом разбойников» (Иер. 7, 11 =Мф. 21, 13). Так что, значит, да изберем быть от — από — Церкви живой — τής έκκλησίας τής ζωής, — чтобы быть спасенными. А я не думаю, чтобы вы не знали, что «Церковь» живущая — έκκλησία ζώσα — «тело есть Христово» (Еф. 1, 22, 23): ибо говорит Писание: «Сотворил Бог человека мужчиною и женщиною» (Быт. 1, 26). Мужчина есть Христос, Женщина — Церковь (το άρσεν έστιν ό Χριστός, το θήλυ ή έκκλησία, 14, 2. — Слова άρσεν и θήλυ указывают именно на половую разницу). И также — ετι — Книги пророков и Апостолы, — что Церковь не ныне есть, но свыше — τήν έκκλησίαν ου νϋν είναι, άλλα άνωθεν (141). Ибо была она духовною — πνευματική, — как и Иисус наш, открылась же — έφανερώθη δε — на последок дней, чтобы нас спасти. Церковь же, будучи духовною, открылась во плоти Христовой, делаясь явною для нас, так что, если кто из нас соблюдет ее во плоти и не разорит, то получит ее обратно в Духе Святом, ибо плоть сама есть символ Духа — ή γάρ σάρξ άυτη άντίτυπον έστιν τοϋ πνεύματος, (14, 3). Значит, никто разоривший символ (άντίτνπον; по–славянски — вместо–образное) не участвует в подлинном — αυθεντικόν. — Значит, не говорит ли он, братия, следующего: Соблюдите плоть, чтобы участвовать в Духе (ΐνα του πνεύματος μεταλάβητε, — чтобы получить Духа). Если же мы говорим, что плоть есть Церковь и Дух — Христос, — είναι τήν σάρκα τήν έκκλησίαν και το πνεϋμα Χριστόν, — то, конечно, обесчестивший {стр. 335} плоть обесчестит Церковь. Таковой не получит Духа, Который есть Христос. Вот какую (τοσαντην, толикую) может сама плоть получить жизнь и бессмертие, когда с нею соединен [буквально: «к ней приклеен»] Дух Святой, — ни сказать кто может, ни лепетать "что уготовал Господь" (1 Кор. 2, 9) избранным Его» [596].
В приведенной выдержке, Иисус Христос, со стороны Своего Божества, отождествляется с Духом Святым, так что, как будто, получается Божество о двух Ипостасях, причем Третья заменена Церковью. Но этот «би–унитаризм», — следствие недостаточной словесной и логической раздельности понятий при наличности несоответственно глубокого религиозного проникновения, — этот «би–унитаризм» доказывает лишь ту связь, которою скреплены для непосредственного религиозного сознания идеи Духа, Христа, Церкви, Твари и еще некоторый другие (о них — после). Замечательно, что в «Посланию» родственном по общему строю мысли «Пастыре» Ерма, относящемся, по Цану [597], к 100–му году, Ипостаси Духа, Сына Божия и Церкви то явно различаются, то столь же явно отождествляются. Так, в подобии IX Ангел Покаяния, руководящий Ермом, заявляет последнему: «Я хочу показать тебе все, что показал тебе Дух Святой, Который беседовал с тобою во образе Церкви: Дух Тот есть Сын Божий — θέλω σοι δειξαι, όσα εδειξε τό πνεύμα τό άγιον τό λαλήσαν μετά σου έν μορφή της Εκκλησίας εκείνο γαρ τό πνεδμα ό υιός του θεου έστιν» [598].
Но было бы крайним непониманием религиозной психологии видеть в этом отождествлении простое недоразумение, спутанность. Далеко нет. Чем непосредственнее и чем вдохновеннее протекает жизнь верующего, тем цельнее и сплоченнее является для него вера его: отдельные стороны веры только для школьного Богословия атомистически распыляются; но в живой жизни они, сохраняя каждая свою самостоятельность, так тесно сплетаются друг с другом, что одна идея незаметно вызывает другую. Для школьного Богослова просто ска{стр. 336}зать, что понятия Церкви, Духа Святого и Сына Божия — различны; — потому просто, что в сознании его это — только понятия. Но для верующего, для которого все это — реальности, не могущие быть переживаемыми независимо одна от другой, — реальности взаимо–проникающие и взаимосвязанные; для верующего, который воспринимает их в живой их данности, — для которого с полною осязательностью Церковь есть тело Христово, — полнота Духа, посылаемого Христом; для такого верующего, — говорю я, — производить резкие разделения и разграничения бόльно, потому что они режут по живому телу. Речь веры — совсем не та, что peчь Богословия, и свое знание догматической Истины вера облекает в символическую одежду, в образный язык, последовательными противоречиями прикрывающий высшую истинность и глубину созерцания.
В уже упомянутом «Пастыре» Ерма Церковь представлена в двух своих аспектах, а именно, как до–мирное существо и как величина в мире строимая.
В первом, премирном аспекте Ерм видел ее под образом женщины, одетой в блестящую одежду; сперва эта Женщина явилась старою, затем моложе, а напоследок — совсем юною:
«Явилась она мне, братия, — говорит Ерм [599], в первом видении очень старою и сидящею на престоле. Во втором видении она имела лицо юное, но тело и волосы старческие, и беседовала со мною стоя; впрочем была веселее, нежели прежде. В третьем же видении она вся была гораздо моложе и с прекрасным лицом, только волосы имела старческие; она была вполне весела и сидела на скамейке».
Вот достойное внимания место, которым словесно и буквально устанавливается то, что чувствуется во всем Памятнике, а именно, идея пред–существования Церкви:
«Во время сна, братия, — говорит Ерм [600], — один красивый юноша явился мне, говоря: «Кто, ты думаешь, та Старица, от которой получил ты книгу [во втором видении]?». Я {стр. 337} сказал: «Сивилла». — «Ошибаешься, — говорит он, — она не Сивилла». «Кто же она, господин?» и сказал мне: «Она есть Церковь Божия». Я спросил его: «Почему же она старая?» — «Так как, — сказал он, — сотворена она прежде всего, то и стара; и для неё сотворен мир» — Τις ούν έστιν; φημί. Ή Εκκλησία, φησίν Είπον αυτω Διατί ουν πρεσβυτέρα; Ότί, φησίν, πάντων πρώτη εκτίσθη, διά τοϋτο πρεσβυτέρα; καί δε διά ταυτην ό κόσμος κατηρτίσθη …».
А в видении первом говорится про Бога[601]
«Живущий на небесах, сотворивший из не сущего все сущее и умноживший и возрастивший ради Святой Церкви Своей — ό θεός о έν τοΐς ούρανοΐς κατοίκων και κτίσας έκ τού μή όντος (!) τά όντα και πληθυνας και αύξήσας ενεκεν τής αγίας εκκλησίας αύτοϋ».
Таков первый аспект Церкви, небесно–эонический. Во втором, историческом, аспекте Ерм видел Церковь под образом башни, строимой на водах крещения юношами, изображающими перво–зданных ангелов, и окруженной поддерживающими ее [башню] женщинами; последние представляли в символическом видении основные добродетели христианства. Камнями же для стройки Церкви являлись христиане. Входя в состав постройки, эти камни спаивались так крепко, что вся башня представлялась, как бы, высеченною из одного цельного камня. — Но так как заниматься раскрытием учения o Церкви сейчас не составляет моей задачи, то, не излагая дальнейших подробностей, укажу только, что два аспекта Церкви, несмотря на их видимую раздельность, имеют в сознании Ерма существенную связь между собою. Два аспекта — это вовсе не то, что теперь, у современных церковно–борцев принято называть «Церковью Мистическою» и «церковью историческою», причем превозносится первая ради, — и едва ли не исключительно ради, — ради последующего затем похуления второй. Нет, это — одно и то же существо, но только видимое под двумя различными углами зрения, — а именно, со стороны небесной и пред–существующей, единящей ми{стр. 338}стической формы и со стороны объединяемого эмпирического, земного и временно́го содержания, получающего в первой обо́жение и вечность. Но последнее — не случайно связуется с новым, а врастает в него и в нем пресуществляется; поэтому, раздельность символических образов указует лишь на различие двух точек зрения, один раз, так сказать, сверху вниз, с неба на землю, κάτω, до́лу, а другой раз — снизу вверх, с земли на небо, άνω, горе́. Впрочем, вот свидетельство самого памятника:
«Выслушай теперь объяснение башни: я открою тебе все, — говорит Ерму Церковь во образе Старицы [602]. — Итак, башня, которую ты видишь строимою, это — я, Церковь, явленная тебе теперь и прежде — ό μέν πύργος, όν βλέπεις οίκοδομούμενον, έγώ είμι ή 'Εκκλησία, ή όφθείσά σοι νϋν καί τό πρότερον».
Итак, в памятниках бесспорно–православных и, в свое время, входивших даже в состав ново–заветного канона, самым определенным образом говорится о Церкви, как о предсуществующем миру эоне. Точно также, из творений св. Афанасия Великого, — об этом речь будет ниже, — мы видим, что должно, в согласии с православием, говорить о «предызображении» нас в Бог, т. е. опять таки о каком–то предсуществовании. Это несомненно. Но, с другой стороны, столь же бесспорно, что гностическая эонология была осуждена православием, равно как осуждена и идея предсуществования души, развиваемая оригенистами [603]. Отсюда понятно, что и самое понятие «предсуществования», как исторически явившееся в окружении соблазнительными мудрствованиями, стало предосудительно. Однако, для нас остается в полной силе та мысль, что если оно спервоначала было православным, то, в существе дела, не могло перестать быть таковым, хотя, по домостроительству церковному, во избежание соблазнов, в разгар борьбы благоразумнее было избегать его. Но и теперь Церковь нам напоминает во время Богослужения об этой идее. В самом деле, молитва (ср. Ин. 19):
{стр. 339}
«Христе, свете истинный, просвещаяй и освящаzq всякаго человека грядущего в мир …»
— эта трогательная молитва не содержит разве указания на тех, кто имеет родиться в сем мире, кто «идет» в этот мир, но, еще и не придя сюда, уже просвещен и освящен благодатным светом? Итак, и сейчас Церкви не чужда идея предсуществования.
Чем же, — спросим себя мы, — чём же православная идея предсуществования отличается от гностической? — Для философских воззрений всей древности «давность» и «совершенство» столь же тесно связаны между собою, как для воззрений нового времени — «совершенство» и «будущность». Если сейчас у большинства вызывает приятное волнение слово «вперед!», то таким же знаменательным словом было тогда слово «назад!». Поэтому, на язык века, когда господствовала теория регресса, слово «древность» имело двоякое значение: во–первых, хронологической давности и, во–вторых, — качественного превосходства [604], точно так же, как на язык нашего времени «будущее» (ср. выражения: «общественный строй будущего», «наука будущего», «техника будущего» и т. д). означает, во–первых, движение жизни во времени, выступление новых событий и, во–вторых, — усовершенствование. Следовательно, когда говорилось в древности о «предсуществовании» Церкви души и т. д., то логическое ударение могло стоять либо на хронологическом первенстве Церкви пред миром, или души — пред настоящею жизнью человеческою, либо — на их высшей ценности в сравнении с миром, с этою, тленною жизнью. Другими словами, «предсуществование» либо было знаменем известной рассудочной теории, для которой Церковь, душа и т. д. были не более как предшествующими миру плотскими же данностями, либо — символом духовного переживания, открывающего в Церкви в личности и т. д. высшую сравнительно с тленным обликом мира сего реальность. В самом деле, что́ значит «предшествовать миру хронологически»? — {стр. 940} Это значит — быть в известном временно́м с ним соотношении, т. е. быть однородным миру. Те, кто говорил о хронологическом «предсуществовании» Церкви, личности и т. д., — те неизбежно отнимали у них их духовность, их надмирность, их особую, высшую природу, низводили их из Вечности во Время, хотя бы и очень давнее, хотя бы и бесконечно давнее, подчиняли законам тленного бытия и обесценивали то, «ради чего сотворен мир». Среди многих, разновременных явлений мира они помещали еще несколько, более древних: но года ли делают святым святое? Таково именно было осужденное Церковью мудрствование лже–именного разума гностиков, оригенистов, и всех тех, кто хотел по–плотски мыслить о духовном.
Напротив, православные, говоря о «предсуществовании» Церкви, личности и т. д., имели в виду именно полноту реальности, в них содержащейся. Церковь, личность и т. д. для них были res realiores, и в этом было все дело. Если, теперь, сообразно философским воззрениям среды, с непреложностью утверждалось, что более ценное — более древнее, то православные, соглашаясь лишь условно, как бы говорили: «Если в философии признается, что res realior тем самым — и res anterior, то мы не спорим и согласны, на вашем языке, говорить и о хронологическом первенстве; однако, помните: если философия будущего времени признает, что res realior есть необходимо res posterior, то тогда мы, — и не обвиняйте нас в непоследовательности, — будем говорить, что Церковь, личность и т. д. «после–существует». В сущности же, мы хотим говорить лишь то, что имеется в нашем переживании и что единственно важно для нас, а именно: Церковь, Образ Божий и т. д. полно–бытийнее, нежели мир, эмпирический характер и т. д. Но как в определенный хронологический момент личность зачинается в мире, точно также в определенный момент и Церковь эмпирически явилась в мир, — воплотилась, родилась от Господа Иисуса Хри{стр. 341}ста [605]. До того момента и личность и Церковь были только в Вечности, во Времени же не были, и потому спрашивать, «была ли», — в смысле хронологическом, — Церковь до рождества Христова, была ли она, например, за 10000 лет до рождества Христова, равно как и то, «был» ли Иван или Петр за 100 лет до своего рождения, — просто нелепо. «Быть», в том смысле, в каком интересовались этим глаголом еретики, значит быть во Времени, т. е. в среде мира, а в мире–то, до известного момента Времени, Церкви и не было, как не было известной личности, как не было воплощенного Бога. Вот — факты. Но если философия все–таки признает, что всякая ценность, будучи ens realius, неизбежно должна быть и ens anterius, — тогда мы опять, в тон философии, будем говорит о предсуществовании Церкви, личности и т. д.».
Такова мысль, содержащаяся в осуждении Церковью плотского, рассудочного понятия еретиков о «предсуществовании». Отсюда понятно, что если за православным допускается известная доля свободы в следовании философским течениям, то из православных мыслей о предсуществовании, для современного читателя, должно выделить философскую терминологию и, преобразовав ее в современный философский эквиваленте, дать новую одежду содержащемуся там духовному переживанию полноты. Если же таковой свободы не признается, то тогда должно брать эти учения с оговорками и пояснениями приблизительно такими, какие сделаны нами выше [606].
Обращу внимание твое на еще одну черту, существенно отличающую рассматриваемый памятник от писаний гностических. Вся книга Ерма пронизана духом подвига и очищения. Все видения, заповеди и откровения, из которых сплетается ткань книги, в конечном счете являются обоснованием подвижничества. Но, внимательно вглядываясь, можно заметить, что все требуемые добродетели — оттенки одной, главной, которую, в противопо{стр. 342}ложность раздробленности и пестроте, можно было бы назвать цельностью души, целомудрием души, простотою — άπλότης [607], — позволяющею быть кротким, незлобивым и чистым, — дающею силы совершать подвиги без колебаний и сомнений, но и без внутреннего само–утверждения, само–превознесения и самолюбия. Эта величайшая и коренная добродетель достигается чрез само–углубление — μετανοία, — или покаяние, почему руководителем Ерма представлен «Ангел Покаяния — ό άγγελος της μετάνοιας [608]». — Аскетическое обоснование духовной жизни ярко выражено и образом семи женщин, поддерживающих башню, причем каждая последующая является дочерью предыдущей; это: — Bepa, Воздержание, Простота, Невинность, Скромность, Знание, Любовь [609]. — В частности, «Пастырь» особенно настаивает на целомудрии. Тут — глубочайшее отличие православной мистики от мистики еретической, всегда одержимой духом блуда и растления.
Напомню еще раз, что книга «Пастырь» начинается осуждением Ерма за то, что он про одну девушку подумал: «Счастлив был бы я, если бы имел жену такую же лицом и нравом. Только это одно, — добавляет укоренный Ерме, — и ничего более я не подумал. Спустя несколько времени я шел с такими мыслями и прославлял творение Божие [— т. е. эту девушку? или вообще весь мир, но в связи с мыслию об этой девушке? —], помышляя, как оно величественно и прекрасно». Но она явилась ему в видении и стала обличать его пред Господом; а он в своем сознании был настолько невинен, что даже не понимал, что́ худого он сделал, и потому от обличений опечалился и заплакал [610].
Кончается же книга Ерма повторным указанием, что седмица дев–добродетелей будет жить в доме, — т. е. во плоти, — Ерма лишь под непременнымь условиеме чистоты [611]. В списке же с таинственной книги, полученной от Старицы–Церкви, Ерм читает вот что:
«…спасает тебя то, что ты не отступил от Бога {стр. 343} живого, и простота твоя и великое воздержание — καί ή απλότης σου καί ή πολλή έγκρατεία: это спасло тебя, если пребудешь в нем, и всех спасает творящих таковое и ходящих в незлобии и простоте — εν άκακία καί απλότητι. Эти удерживаются от всякого лукавства и останутся для жизни вечной. Блаженны — μακάριοι — все творящие правду. Они не погибнут до века» [612].
В чем же спасение? — В том, чтобы войти камнем в строящуюся башню, — в реальном единстве с Церковью; это указывается не только во множестве отдельных мест нашего памятника, но является также основною темою всего содержания его. Спасение — в единосущии с Церковью. Но высшее, над–мирное единство твари, объединенной посредством благодатной силы Духа, доступно лишь очищенному в подвиге и смиренному. Таким образом, устанавливается онтологическая существенность и объективная значимость смирения, целомудрия и простоты, как сверх–физических и сверх–нравственных сил, делающих, в Духе Святом, всю тварь едино–сущною Церкви Силы эти суть откровения мира иного в мире здешнем, духовного во временно–пространственном, горнего в дольнем. Он суть ангелы–хранители твари, нисходящие с неба и восходящие от твари к небу, как было явлено праотцу Иакову. И, если продолжить сравнение, то в «лествице» нужно видеть Пресвятую Богородицу; впрочем, об этом — далее.
Учение о Софии находим также у того подвижника IV–го века, который мощнее всех защищал и аскетически обосновывал идею духо–носности и тваре–обожения; мне достаточно будет сказать еще, что своею «Жизнью Антония» он вызвал подъем монашеского духа и ею, быть может, решительно толкнул на аскетическое русло весь поток церковной истории чтобы ты догадался о ком идет речь: — об Афанасии Святом и Великом.
{стр. 344}
Многократно возвращаясь к толкованию знаменитых в истории арианских споров слов из Притчей, где Премудрость говорит о Себе: «Господь создал Меня — έκτισε με — началом путей Своих в дела Свои» (Прит. 8, 22), и многообразно стараясь объяснить это, соблазнительное для арианствующих, «создал, έκτισε», Aфaнасий разумеет в различных местах своих творений под Премудростью весьма разное; а именно: то — Человеческое Естество Христа, то Тело Его, то Церковь, то — Сторону тварного мира» обращенную к вечности. Но это различие — только кажущееся различие, ибо все перечисленные способы понимания слова «Премудрость» на деле суть все одна и та же София, как Бого–зданное единство идеальных определений твари, — одна и та же София, но под разными аспектами воспринимаемая, — цельное естество твари.
Раскрою тебе подробнее, ка́к понимает Афанасий этот идеальный момент тварного бытия.
«Хотя единородная и неточная Божия Премудрость, — говорит св. Отец, — все творит и зиждет, однако же, чтобы созданное не только существовало, но и достойно сушествовало, Бог благоволил, чтобы Премудрость Его снизошла к тварям; — так, что во всех вообще тварях и в каждой порознь были положены некоторый отпечаток и подобие Ее Образа — τύπον τινά καί φαντασίαν είκόνος αύτής — и что приведенное в бытие оказалось и премудрым и достойным Бога делом. — А так как и в нас и во всех делах [даже диавол, — говорит св. Афанасий в другом месте, — был «отпечатлением подобия — άπоσφράγισμα όμοιώσεως [613]»], — так как в нас и во всех делах есть таковой отпечаток созданной Премудрости — τύπον τής σοφίας κτισθέντος έν ήμΐν τε καί έν πασι τοΐς έργοις οντος, — то истинная и зиждительная Премудрость, восприемля на Себя принадлежащее Отпечатку Её — τα τού τύπον έαυτής, — говорит о Себе: «Господь создал Меня в дела Свои». Что сказала бы сущая в нас Премудрость — ή έν ήμΐν σοφία, — то Сам Господь именует, как бы, Своим. И, хотя Он, как Творец, не создан, однако«же, по причине созданного Образа Своего в делах — την έν τοΐς έργοις είκόνα κτισθείσαν αύτον, — говорит сие как бы о Се{стр. 345}бе. И как Сам Господь изрек: «Принимающий вас — Меня принимает» (Мф. 10, 40), потому что в нас есть Его отпечаток — τύπον αύτον εν ήμίν είναι, — так, хотя и не будучи в числе созидаемых, поелику созидается Образ и Отпечаток Его в делах — τήν εικόνα αντοϋ και τύπον έν τοΐς εργοις κτίσθεσθαι, — как бы Сам Он был сим Образом, говорит: «Господь создал Меня началом путей Своих в дела Свои — Κύριος εκτισε με αρχήν οδών αυτοϋ εις εργα αυτοϋ …». Отпечаток же Премудрости положен в делах, как сказал я, чтобы мир познал в Премудрости Зиждителя своего — Слово, а чрез Слово — Отца — οϋτω δε γέγονεν о εν τοί εργοις τής σοφίας τύπος ΐνα — ό κόσμος έν αυτή γινώσχη τον εαυτοϋ δημιουργόν Λόγον και δι' αντοϋ τον Πατέρα —. И это — то cамое, что говорил Павел: «ибо, что́ можно знать о Боге, — явно для них (т. е. язычников), потому что Бог явил им: ибо невидимое Его, — вечная сила и Божество, — от создания мира, чрез рассматривание творений, видимо» (Рим. 1, 19, 20). Поэтому–то Слово в сущности не есть тварь; сказанное же в Притчах относится к премудрости в нас сущей и именуемой — περι τής έν ήμίν οϋσης καϊ λεγομένης σοφίας έστϊ τό έν τάΐς παρεμίαις ρητόν. Если же (ариане) и этому не верят, то пусть сами скажут: есть ли в тварях какая премудрость, или нет — εί εστι τις σοφία έν τοΐς κτίσμασι, ή οϋκ εστιν? Если нет, то почему же обвиняет Апостол, говоря: «ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в Премудрости Божией» (1 Кор. 1, 21)? Или, если нет премудрости, то почему в Писании встречается «множество премудрых» (Притч. 6, 26)? Ведь «премудрый, убоявшись, начал уклоняться от зла» (Притч. 14, 16 и с «премудростью зиждется дом» (Притч. 24, 36). А Екклезиаст говорит: «Премудрость человека просветит лицо Его» (Еккл. 8, 1), и укоряет безрассудных: «Не говори: Что́ произошло?, потому что прежние дни были лучше, нежели эти» (Еккл. 7, 11). А если, как говорит о Премудрости Сын Сираха, излил ее (Бог) на все дела Свои со всякою плотию, по Своему деянию и даровал ее любящим Его» (Сир. 1, 10), — таковое же излияние — ή τοιαύτη εκχυσις — есть признак сущности не Премудрости Неточной и Единородной, но Премудрости, изобразившейся в мир — τής έν τω κόσμω έξεικονισθείσης [подразумевается: σοφίας], — то, что́ невероятного, если эта зиждительная и истинная Премудрость, отпечаток Которой есть излиянная в мир Премудрость и Знание — ής τύπος έστιν ή έν κόσμω έκχυθεΐσα καϊ επιστήμη, — по сказанному выше, как бы о Себе Самой говорит: «Господь создал Меня в дела Свои»: ибо в мир не зиждущая Прему{стр. 346}дрость, но созидаемая в делах — ή εγκτιζομενη τοΐς εργοις [подразумевается σοφία], — по которой «небеса проповедуют Славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2). Но, если люди вместят в себе и эту Премудрость, то познают истинную Божию Премудрость, — познают, что подлинно сотворены они по образу Божию» [614].
Не может быть никакого сомнения, что та тварная Премудрость, о которой говорит приведенная выдержка, по взгляду Афанасия В., ни в коем случае не ограничивается только психологическим или гносеологическим процессом внутренней жизни твари, но является, по преимуществу, метафизическою природою тварного естества: Премудрость в твари есть не только деятельность, но и субстанция; она имеет существенный, массивный, вещный характер. Это делается еще яснее в выразительном сравнении, предлагаемом св. Отцом [615]. Он представляет тварь под образом города, построение которого поручено неким царем сыну своему. Чтобы авторитетом отца обезопасить строения от посягательств на них и, вместе с тем, чтобы оставить память о себе и об отце своем, царевич начертывает имя свое на каждом здании. Если теперь, по окончании строек, спросят царевича, каково построен город, и царевич ответит: ««Надежно, потому что–де, по изволению отца, изображен я на каждом здании, имя мое создано в сих зданиях»», то, говоря так, «он не свою сущность объявляет созданною, но образ свой — τον εαυτού τόπον — из за своего имени». Точно так же и истинная Премудрость, — т. е. Логос, — отвечает дивящимся тварной Премудрости, — т. е. Софии: — «Господь создал Меня в дела, потому что Мой в них Образ; и вот до какой степени Я снизошел в зиждительстве». — Сравнение, предлагаемое Афанасием, не есть чистая выдумка. Напомню о всемирно–историческом обычае писать имя строителя на здании, или о еще более разительном обычае вавилонских царей припечатывать каждый кирпич строимых ими зданий печатью с именем царя–строителя. Но, чтобы понять истинный смысл {стр. 347} этого обычая, равно, как и смысл опирающегося на обычай Афанасиева сравнения, необходимо держать в уме древнее представление об имени, как о реальной силе–идее, формующей вещи и таинственно управляющей недрами их глубочайшей сущности [616].
Итак, полагая на зданиях имя свое, царевич Афанасиева сравнения тем самым вносит, — согласно пониманию древних, — в бытие этих зданий новую таинственную сущность, дарует зданиям мистическую силу.
Своим сравнением Афанасий пользуется и далее, непосредственно упоминая Церковь.
«Не должно опять таки дивиться, — говорит он, — если Сын говорит о сущем в нас Образе, как о Себе Самом ; и когда Савл гнал тогда Церковь, в которой был Образ Его (Господа) и Подобие, то говорил как бы Сам преследуемый: «Савл, что Меня гонишь?» (Деян. 8, 4)». Истинная Премудрость, — Логос, — говорит «создал», так сказать, с точки зрения «Премудрости внедренной в мир и в делах — την έν κόσμω καί τοΐς έργοις έγκτισθεΐσαν [подразумевается: σοφίαν] …», с точки зрения «Подобия Своего — τής είκόνος έαντοϋ …», как если бы сказал это о себе «сам Отпечаток Премудрости, сущий в делах — αύτός ό τύπος τής Σοφίας ό ών έν τοΐς έργοις …». — «Неточная Премудрость есть творящая и зиждительная, а Отпечаток её внедряется в дела, как образ образа — ό δέ ταύτης τύπος έγκτίζεται τοΐς έργοις, ώσπερ καϊ τής είκόνος κατ' εικόνα —. Слово называетеч ее началом путей, потому что таковая Премудрость делается некоторым началом и, как бы, начатками Бого–ведения. Усматривая эту тварную Премудрость в мир и в себе, человек постигает истинную Премудрость, а от неё восходит к Отцу (Ин. 14, 9; 1 Ин. 2, 23)» [617]. Слова: «Когда Он готовил небо, то Я с Ним была» (Притч 8, 27) Афанасий парафразирует так: «Все получило бытие Мною и чрез Меня; а так как потребно внедрить Премудрость в делах — έγκτίζεθαι σοφίαν τοΐς έργοις…, то, хотя по сущности пребывала Я со Отцем, однако же, по снисхождению к тварям, отпечатлевала свой образ в делах применительно к ним, чтобы целый мир был, как бы единое тело, не в разлад, но в согласии с самим собою. — Посему, — продолжает св. Отец, — все те, которые, по данной им Премудрости, правым умом взирают на тварей, — в состоянии и сами сказать: «По определениям Твоим все стоит» (Пс. 118, 91). А которые вознерадели о сем, те {стр. 348} услышат: (далее приводится Рим 1, 19–25 о познании Бога чрез проникновенное созерцание твари)…. — И они постыдятся, слыша: «ибо когда мир своею Мудростью не познавал Бога в Премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 21)» [618].
Тварная София, Божественное отпечатление твари есть «образ и сень Премудрости — δι' είκόνος καί σκιάς της Σοφίας, τής εν τοις κτισμασιν ουσης …» [619]. Но, осуществляемая, отпечатлеваемая в мире опытном во времени, она, хотя и тварная, предшествуешь миру, являясь пре–мирным ипостасным собранием Божественных перво–образов сущего. Св. Афанасий ссылается при этом утверждении на слова ап. Павла:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа» (Еф. 1, 3–4). «Итак, — говорит св. Афанасий, — ка́к же избрал прежде, нежели получили мы бытие, если не были мы, как Сам сказал, предызображены в Нем — πως ουν έξελέξατο, πριν γενεσθαι ημας, εί μη, ώς αυτός είρηκεν, έν αύτω ήμεν προατετυπωμένοι; — ?» [620].
А далее св. Отец выясняет, что именно на этом пред–ызображении нас в Господе, на этом вечном корне нашем и основывается возможность «жизни вечной» для нас [621]. Таково воззрение на Божественную сторону твари у Афанасия, — далее нежели кто бы то ни было отстоявшего от панфеистического смешения твари с Творцом. Всю жизнь свою положил он на окончательное изобличение еретиков, пытавшихся стереть грань между Творцом и тварью. Вот почему свидетельство Афанасия имеет для нас несравнимую значимость.
Догмат едино–сущия Троицы, идея обо́жения плоти, требования аскетизма, чаяние Духа Уте́шителя и признание за тварью, пре–мирного нетленного значения — таковы лейт–мотивы догматической системы Афанасия, столь тесно вросшие друг в друга, что нельзя услышать один, {стр. 349} чтобы в нем не открыть всех прочих. На этих же основных мотивах построена и вся настоящая книга, так что воистину можно сказать, что она исходит из идей св. Афанасия Великого [622].
София участвует в жизни Трипостасного Божества, входит в Троичные недра и приобщается Божественной Любви. Но, будучи четвертым, тварным и, значит, не едино–сущным Лицом, она не «образует» Божественное Единство, она не «есть» Любовь, но лишь входит в общение Любви, допускается войти в это общение по неизреченному, непостижимому, недомыслимому смирению Божественному.
Как четвертое Лицо, она, по снисхождению Божию (— но ни в коем случае не по своему естеству! —), вносит различие в отношении к себе промыслительной деятельности Троичных Ипостасей и, будучи для Триединого Божества одною и тою же, является сама в себе различною в своем отношении к Ипостасям; идея о ней получает ту или иную окраску, в зависимости от того, на Которую Ипостась мы преимущественно обращаемся созерцанием.
Под углом зрения Ипостаси Отчей София есть идеальная субстанция, основа твари, мощь или сила бытия её; если мы обратимся к Ипостаси Слова, то София — разум твари, смысл, истина или правда её; и, наконец, с точки зрения Ипостаси Духа мы имеем в Софии духовность твари, святость, чистоту и непорочность её, т. е. красоту. Эта триединая идея основы–разума–святости, раскалываясь в нашем рассудке, предстает греховному уму в трех взаимо–исключающих аспектах: основы, разума и святости. В самом деле, что общего у основы твари c разумом её или с её святостью? Для ума растленного, т. е. для рассудка, идеи эти никак несоединимы в целостный образ: по закону тождества он непроницаемы тут друг для друга.
{стр. 350}
Но — мало того; в отношении к домо–строительству София имеет еще целый ряд новых аспектов, дробящих единую идею о ней на множество догматических понятий. Прежде всего, София есть начаток и центр искупленной твари, — Тело Господа Иисуса Христа, т. е. тварное естество, воспринятое Божественным Словом. Только со–участвуя в Нем, т. е. Имея свое естество включенным, — как бы, вкрапленным, — в Тело Господа, мы получаем от Духа Святого свободу и таинственное очищение. В этом смысл София есть пресуществующее, очищенное во Христе Естество твари [623], или Церковь в её небесном аспекте. Но, поскольку происходит от Духа–Святого освящение и земной стороны твари, эмпирического её содержания, — её «одежды», — София есть постольку Церковь в её земном аспекте, т. е. совокупность всех личностей, уже начавших подвиг восстановления, уже вошедших своею эмпирическою стороною в Тело Христово. А так как очищение происходит Духом Святым, являющим Себя твари, то София есть Дух, поскольку Он обожил тварь. Но Духе Святой являет Себя в твари, как девство, как внутреннее целомудрие и смиренная непорочность, — в этих главных дарах, получаемых от Него христианином. В этом смысл София есть Девство, как горняя сила, дающая девственность. Носительница же Девства, — Дева в собственном и исключительном смысла слова, — есть Мариам, Дева Благодатная, Облагодатствованная (κεχαριτωμένη, Лк. l, 23) Духом Святым, исполненная Его дарами, и, как такая, Истинная Церковь Божия, истинное Тело Христово: из Нея ведь произошло Тело Христово.
Если София есть вся Тварь, то душа и совесть Твари, — Человечество, — есть София по преимуществу. Если София есть все Человечество, то душа и совесть Человечества, — Церковь, — есть София по преимуществу. Если София есть Церковь, то душа и совесть Церкви, — Церковь Святых, — есть София по преимуществу. Если Со{стр. 651}фия есть Церковь Святых, то душа и совесть Церкви Святых. — Ходатаица и Заступница за тварь пред Словом Божиим, судящим тварь и рассекающим ее на–двое, Матерь Божия, — «миру Очистилище», — опять таки есть София по преимуществу. Но истинным знамением Марии благодатной является Девство Её, Красота души Её. Это и есть София. София есть «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа — ό κρυπτός της καρδιας άνθρωπος έν τω αφθάρω του πραέως καί ήσοχίου πνεύματος» (1 Пет. 3, 4), — истинное украшение человеческого существа, проникающего сквозь все его поры, сияющее в его взгляде, разливающееся с его улыбкою, ликующее в его сердце радостно неизреченною, отражающееся на каждом его жесте, окружающее человека, в момент духовного подеема, благоуханным облаком и лучезарным нимбом, сотворяющее его «превыше мирского слития», так что, оставаясь в миру, он делается «не от мира», делается выше–мирным. «Свет во тьме светит и тьма не объяла его» (Ин. 15) — такова не–отмирность духо–носной прекрасной личности. София есть Красота. «Да будет украшением — κοσμος — вашим, — обращается ап. Петр к женам, — не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом» (1 Пет. 3 3–4). Только София, одна лишь София есть существенная Красота во всей твари; а все прочее — лишь мишура и нарядность одежды, и совлечется личность этого призрачного блеска при испытании огнем.
Таковы некоторые из аспектов Софии в их взаимо–отношениях. Рассмотрим же их несколько подробнее.
Чистота сердца, девственность и целомудренная непорочность есть необходимое условие, чтобы узреть Софию–Премудрость, чтобы быть всыновленным в Выш{стр. 352}ний Иерусалим, — «Матерь нам» (Гал. 4, 26). Понятно, почему это — так. Сердце является органом для восприятия горнего мира. Посредством сердца созерцается первозданный корень личности, Ангел её, и чрез этот корень устанавливается живая связь с Матерью духовной личности, — с Софиею, разумеемою, как Ангел–Хранитель всей твари, — всей твари, едино–сущной в любви, получаемой чрез Софию от Духа. В ней дается личности созерцание Бога–Любви (ср. Мф. 18, 10), дающее блаженство: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 3), — узрят Бога очищенным сердцем своим и в сердце своем. Чистота, даваемая Духом Святым, отсекает напрочь наросты сердца, обнажает вечные корни его, прочищает те пути, по которым неизреченный Свет Триипостасного Светила проникает в человеческое сознание. И тогда все внутреннее существо, омытое чистотою, наполняется Светом абсолютного ведения и блаженством въявь переживаемой Истины [624].
«Чистый сердцем, — по словам св. Григория Нисского, — не увидит в себе ничего, кроме Бога» [625].
Благодать широкими потоками вливается во все очищеннные поры сердца. А «что — от благодати, в том есть радость, есть мир, есть любовь, есть истина — τά της χάριτος χάραν εχει, ειρήνην εχει, αγάπην εχει, αλήθειαν εχει», — говорит св. Макарий Великий [626]. Другими словами, с субъективной стороны София воспринимается как посредница радости и тем отождествляется с Радостью. Чистота сердца есть блаженство; девственность души есть радость и даже некоторая веселость.
«Έστιν σαοφροσυνης καί τι γαληνόν εχειν
— к признакам целомудрия принадлежит и некоторая веселость», — замечает св. Григорий Богослов в своих «Гномических двустишиях» [627].
Но, если девственность души — необходимое условие для созерцания Горнего Иерусалима, то и наоборот: «касание мирам иным» [628], проникание до духовных корней сущего и бла{стр. 353}годатное созерцание себя в Боге — одно только и может дать силу девства. Чтобы быть девственным, необходимо «различать свою природу в Иерусалиме Вышнем», надо видеть себя сыном Общей Матери, которая есть предсуществующее Девство.
«Хочешь ли, брат, быть девственником?» — вопрошает Автор Первого послания о девстве, — Послания, ранее приписывавшегося св. Клименту Римскому и относящегося к III–му веку. — «Знаешь ли, — продолжает он, — сколько труда и тяжести в истинном девстве?… Умея ли правильно вести борьбу, сражаешься ты, вооруженный силою Духа Святого, избрав для себя этот подвиг, чтобы получить светлый венец? Видишь ли — discernis — природу твою в Иерусалиме Вышнем (Гал. 4, 26)?» [629].
Не должно удивляться этому противоречию между тезисом и антитезисом, т. е. между положениями: «Девство — источник созерцания Софии» и «Созерцание Софии — источник девства». Это — лишь частый случай великой антиномии между Божиею благодатию и человеческим подвигом, сказывающейся решительно в каждом вопросе домо–строительства Божия, начиная от судеб целых народов и кончая обыкновеннейшими действиями, не говоря уж o таинствах. Но для меня, в настоящую минуту, важно лишь установить неразрывность и неразложимость идеи «девствo–созерцание». Эта–то неразрывность и объясняет, почему тем настойчивее говорится o чистоте в памятниках церковной письменности, чем большее отводится место идее харизматизма, духо–носности, обожения, — как бы она ни была называема в разные времена, — и чем ярче выступает представление о безусловной ценности твари.
Еще и еще я повторяю и не устану повторять, что христианский аскетизм и безусловная оценка твари, девство и духо–носность, ведение Премудрости Божией и любовь к телу, подвиг и познание абсолютной Истины, удаление от тли и любовь — антиномические стороны одной и той же духовной жизни, так же неразрывно связанные между собой, как парно–противоположные {стр. 354} грани правильного десяти–гранника. Когда говорилось о созерцании твари в её единстве и об идее Софии по разуму свято–отеческой письменности, уже тогда настойчиво указывалась мною эта связь, и не думаю, чтобы теперь нужно было приводить примеры еще раз. Напомню только тон этих настроений (Словами св. Исаака Сирина.
«Молись, чтобы не отступил от тебя Ангел целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя с ним… А искушения телесные приуготовляйся принимать от всей души, и преплывай их всеми своими членами; и очи наполняй слезами, чтобы не отступил от тебя Хранитель твой» [630].
Божественный про–образ человека, Ангел–Хранитель его, есть по преимуществу хранитель его чистоты, его целомудрия. Он — Ангел целомудрия, и потому
«зловония… блудных помыслов и нелепых грез… не терпят святые Ангелы Божии» [631].
Почти в каждом аскетическом творении проводится мысль о связи девственности со смирением и о блудных помыслах, как последствиях гордыни и эгоистического само–утверждения Я. Наблюдение свв. отцов вполне объясняется из установленного ранее, а именно, что целомудрие, — как высшая свобода над своими помыслами, — есть сила благодатная, действующая лишь при само–предании христианина Богу. Напротив, эгоистическое само–обособление от Бога ведет к рабству своим помыслам, т. е. к нечистоте, и делает человека «само–истуканом», как говорится в Великом Каноне Андрея Критского. Тут снова и снова мы возвращаемся к основной идее о различии законов тождества, — духовного и плотского. Первый делает меня, созерцаемого мною в Боге, идеалом самого себя, а второй — идолом себя самого, истуканом.
Тип действительной чистоты — Пречистая и Преблагословенная Матерь Господа, Смиренная в Своей вечной чистоте, Чистая в Своем неизменном смирении. В Ней, Невесте Духа Святого, вечно им очищаемой, бьёт {стр. 355} живой источник мировой чистоты, «источник присно текущий разума». В Ней бьет ключ воды живой, утоляющей всякую жажду и заливающей в душе огнь геенский; и потому к Ней Церковь взывает вопия: «Очистилище миру, Богородице» и «Всего мира Очищение». Ведь это Она — «темное полчище страстей и похотей наших прогоняющая»; это Она — «столп огненный, от искушений и соблазнов мира нас покрывающий», «столп огненный, среди мглы грехa всем нам путь спасения показующий»; это Она — от страстного «запаления огненного росою молитв своих избавляющая». Если Господь — Глава Церкви, то Кроткая Мария. — «Подательница Божественной благости», — воистину Сердце Её, чрез которое Церковь разносит членам своим Жизнь, Вечность и дары Духа, истинная «Живото–дательница» [632], истинный «Живо–носный Источник». Ведь Мария — «Госпожа все–непорочная», «едина чистая и благословенная», «благодатная», «единая нетленная и добрая голубица». Она — Живой Символ и Начаток очищающегося мира, «Чистительная»; Она — «Неопалимая Купина», объятая пламенем Духа Святого, живое предварительное явление Духа на землю, тип пневматофании. Как Дух есть Красота Абсолютного, так Богородительница есть Красота Тварного, «миру слава», и Ею украшена вся тварь: «радуются земнороднии, о божественной Твоей Славе красящеся», т. е. «украшаяся Твоею Божественною славою, земнородные радуются», потому что красота, воспринятая в сердце, есть радость. И красота Мира, в благоговейном трепете им созерцаемая, есть Радость Мира, «Нечаянная Радость» его, «Умиление» его, «Отрада и Утешение» его, «Сладкое Лобзание», которым Мир Дольний лобзает Мир Горний. Это — «Радость всех радостей», как заповедал называть нам икону «умиления» Серафим Преподобный, — ту самую икону, которую одну только он имел в своей келлии и пред которой он спасался [633]. Богородица — Радость и «радости мира Ходатаица». В созерцании небесной Красоты — «Утоление Печали»; «Всех Скорбящих {стр. 356} Радость», «В скорбех и печалях Утешение». Богородица — «Заступница усердная», Она — «ВзысканиеПогибших», «Споручница грешных», «Умягчение злых сердец». Она «Призирает на печали», Она — «Скоро–послушница», «Услышательница», «Избавление от бед страждущих», «Милостивая Целительница». Она — Ангел–Хранитель мира. Она — «Покров» миру «ширший облака», «Одигитрия» [или «Путеводительница»] его, то огненным, то облачным столпом ведущая мир к Стране Обетованной, в «жизнь вышнюю»; Она — «Нерушимая Стена», защищающая мир, «Избавительница» его. Она — «всей вселенной крепкое Заступление». Ею и чрез Нее радуется вся тварь и человеческий род. Поем ведь:
«О Тебе радуется [634], благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный храме и раю словесный, девственная похвало…. О Тебе радуется, благодатная, всякая тварь, слава Тебе».
Богородица — прекраснейший цветок земли, «Неувядаемый» и «Благоуханный Цвет. Она — Носительница Софии, — «Небо одушевленное» и «Небо умное», «Благодатное Небо», т. е. Горний Мир, Иерусалим Небесный, отпечатлевшийся в Пречистой душе Девы. Не говорит ли Церковь:
«Воистину явилася еси небо на земли, большее вышняго небесе, безневестная Дево: из Тебе — возсия Солнце в мир, владычествуяй Правдою»?
Эта теснейшая связь между идеею о Богородице и об Иepyсалиме Горнем сквозит и в сопоставлении пасхального ирмоса:
«Светися, светися Новый Иерусалиме:
Слава — Господня
на тебе возсия.
«Ликуй ныне, и веселися Сионе.
Ты же Чистая
красуйся Богородице
о возстании Рождества Твоего».
Про некоторых подвижников Пречистая Дева, явившись им, говорила: «Этот — нашего рода» [635]. «Этот — {чтр. 357} нашего рода». Слова глубоко–знаменательные! Значит, есть какой–то особый «род», род Божией Матери, и к роду этому, к этой своеобразной природе бывают причастны святые подвижники. Что же это за род? — Род предрасположенный к девственности души. Человеки или, точнее, земные ангелы, — члены этого таинственная рода, — еще от самой юности сияют кротким светом не–от–мирности и непорочности. Еще во чреве матери они ознаменованы и преднамечены к особому устроению души. Они, как бы, изъяты из закона греховности, как бы идут к нам прямо из Эдема, как чада первозданной и непорочной четы. Без усилий совершают они то, что в поте лица добывается другими; без надломов совершенствуются и восходят от силы в силу, — так, как распускается благоуханный цветок. Без блужданий, от самого зачатия, твердой стопой идут «к почести вышнего звания». Они — евангельские «скопцы от чрева матери». Таковым был например Иоанн Богослов. Таковы афонские святые Иоанн Кукузель и Афанасий [636] , Таковыми были преподобные Сергий Родонежский и Серафим Саровский. Удивительный пример такой непорочности явила миру Божия Матерь в лице старца Киево–Печерской Лавры иеросхимонаха Парфения, который от самого детства вовсе не знал нечистых страстей и плотских борений, — не знал даже искушений от них [637]. Таковым был Старец Гефсиманского скита Исидор [638]. Итак, есть особый род Божией Матери, — хотя и не всякий праведник — сего рода, — есть высший тип духовной организации, святая (— это не значит еще безгрешная —) личность. Одним словом, это — софийность души, текущая из источника Чистоты. Кто же источник Чистоты? Кто «Столп Девства»? — Пресвятая Богородица [639].
Вот почему эти ангелы во плоти, эти иноки по естеству, эти цветы мира сознают себя особыми избранниками Пречистой Девы, сами чтут Её по преимуществу и от Неё получают благодатную помощь и знамения. {стр. 358} И если вдуматься в их отношение к Пречистой, то сделается явно, что в Ней для них, для сознания их, для любви их на первом месте стоит не Её Богородительство, т. е. не Христос, а Её Приснодевство, Сама Она. Потомуто такой избранник Божией Матери как преп. Серафим имел у Себя в келлии одну только единственную икону. Кого? Естественно было бы подумать, что, раз единственную, то — Спасителя. Но нет, — не Спасителя, а Божией Матери, да и притом же без Спасителя, — икону «умиления». Подобное же можно сказать и о других девственниках [640]. Они чтут в Божией Матери Носительницу Софии, Явление Софии и чувствуют, что их духовное устроение — именно от Софии. Преподобный Серафим даже требовал, наряду с исповеданием Богочеловечества Иисуса Христа, особого исповедания Приснодевства Божией Матери [641]. — Подобно тому, как есть роды и даже народы растленные, точно так же бывают роды чистые. В первых истреблены черты эдемской непорочности, во вторых остается нечто от перво–зданной красоты. Вся тварь растлена, но в одних растление глубже, в других — не так глубоко. А есть чистые по преимуществу, — так сказать, осколки раздробившегося перво–зданного мира, менее других тварей исказившие свой образ. Это — чтители Приснодевства, и первая среди них, Носительница и Средоточие райской чистоты — Приснодева Богородица [642].
В Богородице сочетается сила Софийная, т. е. ангельская, и человеческое смирение, — «Божие к смертным благоволение» и «смертных к Богу дерзновение», Божия Матерь стоит на черте, отделяющей тварь от Творца, и, т. к. среднее между тем и другим совершенно непостижимо, то совершенно непостижима и Божия Матерь. Она — «высота неудобовосходимая человеческими помыслы». Она — «глубина неудобозримая и ангельскими очима». Она — «высшая небес» и «ширшая небес» [643]. Она — «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения всех Серафим». Она — «Владычица Ангелов» [644]. О Ней говорит{стр. 359}ся: «Паче Огнезрачных Серафимов явилася еси Чистая Честнейшая». Носительница чистоты, Явление Духа Святого, Начало духовной твари, исток Церкви, выше–ангельская «Богоневестная Отроковица» перестает быть Одною из многих в Церкви; даже в Церкви святых она не есть prima inter pares. Она — особая, Она — исключительное средоточие Церковной жизни. Она — сердце Иисусово. Она — Церковь. Николай Кавасила, архиепископ Фессалоникийский, — один из наиболее чтимых толкователей Божественной литургии (жил в XIV–м веке), — опытно познавший таинственную глубину Богослужения, говорит [645], что «если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем другим, как только телом Господним». Но если бы при этом он посмотрел на Пречистую и Преблагословенную Деву Марию, то увидел бы Ее не чем другим, как сердцем Христовым. Она — центр тварной жизни, точка соприкосновения земли с небом. Она избранная, Царица Небесная и, тем более, Земная:
«Избранной Предвечным Царем превыше всякого создания, небеси и земли Царице… —
«Достойное поклонение с благодарением приносяще с верою и умилением прибегаем».
Она имеет космическую власть [646]. Она — «всех стихий земных и небесных освящение», «всех времен года благословение». Она — ή πάντων βασίλισσα, — «над всем Царица». Она — Владычица мира, почему и взывает всякий верный:
«Утешения не имам разве Тебе, Владычице мира,
Упование и Предстательство верных».
Тут приведены совершенно случайно–припомнившиеся выражения церковной письменности. Дать систематический свод того необозримого содержания, которым Богата Богослужебная письменность, составило бы задачу целой науки; но её, — увы!, — у нас нет вовсе. Я старался передать тебе, как я понимаю эту письменность. Может быть, я ошибаюсь? — Было бы хорошо, если бы ты указал {стр} мне, — в чем. Но, во всяком случае, общий ход мысли от этого не изменится, потому что сказанное o Божией Матери сказано больше по причинам личным, нежели строго необходимо в главном построении мысли.
Но все–таки мне не хотелось бы оканчивать этого письма, не приведя некоторых из тех данных, на которых выросло мое убеждение. Ведь предел моих стремлений — в том, чтобы уяснить себе церковное сознание, и нет ничего более чуждого целям моей работы, как желание изложить «свою» систему. Скажу более решительно: Если тут, в работе моей, есть какие–нибудь «мои» взгляды, то — лишь от недомыслия моего, незнания или непонимания. Те данные, которые имеются мною в виду, заключаются, помимо Богослужебного творчества Церкви, в отеческой письменности и в иконографии. Начну с первых.
До нас дошел в латинском переводе замечательный текст, имеющий надписание: «Иоанну, святому старцу, Игнатий и братия, которые — с ним» и, по преданию, представляющий собою частное письмо Игнатия Богоносца к Апостолу и Евангелисту Иоанну Богослову, — как известно, — бывшему приемным сыном Пресвятой Девы Марии. В начальных строках автор документа выражает скорбь свою и окружающих на промедление Иоанна. Из контекста явствует, что Иоанн обещал прийти в общину Игнатия, и, по–видимому, — с Божией Матерью, но почему–то замешкал. Кажется, для Автора Письма отсюда возникли в общине какие–то затруднения (— быть может, некоторые члены общины задумали самовольно уйти во Иерусалим для скорейшего свидания с Апостолом —), и Он убеждает Апостола поторопиться с исполнением обещанного. Далее говорится:
«Есть и здесь много женщин наших, жаждущих видеть Марию Иисусову, и каждодневно намеревающихся — volentes — разбежаться к вам, чтобы коснуться и дотронуться до её персей, {стр. 361} которые вскормили Господа Иисуса, и расспросить Саму Ее кое о чем более тайном Ея. Но и Соломея, к которой ты расположен, дочь Анны, гостящая — commorans — у Неё в Иepycалиме пять месяцев, и некие другие, лично знакомые, передают, что Она исполнена всякой благодати и всех добродетелей — eam omnium gratiarum abundam, et omnium virtutum, — как дева — more virginis — плодоносна добродетелью и благодатно. И, как говорят, в преследованиях и скорбях Она весела, в нуждах и недостатках не жалуется; оскорбителям признательна, на докуки радуется; несчастным и притесняемым соболезнует, сострадая, и не медлит прийти на помощь. Но отличается, — enitescit, сияет, — против зловредных выступлений погрешностей, выступая Посредницею в сражении веры. Нашей новой веры и покаяния является учительницею; а у всех верных Помощницею во всех делах благочестия. Смиренным же предана, и для преданных еще преданнее смиряется; и давно всеми возвеличивается, хотя книжники и фарисеи поносят Ее. Кроме того, многие много иного говорят о Ней; однако, всем во всем мы не смеем ни давать веры, ни сообщать тебе. Но, как нам рассказывается достойными веры, в Марии Матери Иисуса с человеческим естеством сочетается естество ангельской святости — in Maria, matre Iesu, humanae naturae sanctitatis angelicae sociatur. — И таковой слух — haec talia — взбудоражил наше нутро (собственно — «внутренности», viscera) и побуждает весьма желать увидеть — desiderare aspectum — это, — если можно сказать, — Небесное диво и священнейшее чудо — hujus — coelestis prodigii et sacratissimi monstri. — Ты же постарайся удовлетворить наше желание и будь здоров. Аминь» [647].
Другое письмо носит надписание: «Иоанну, святому старцу, его Игнатий» и тоже признается преданием за письмо Игнатия Богоносца к Апостолу Иоанну. Письмо это начинается следующими словами:
«Если можно мне, то хочу подняться к тебе, к пределам Иерусалима, и повидать верных святых, которые находятся там, в особенности же Матерь Иисуса, Которую называют дивною для вселенной и желанною для всех — universis admirandam et cunctis desirabilem. — Кому ведь не доставить удовольствия повидаться и поговорит с Нею, Которая родила от Себя истинного Бога, если только он друг нашей веры и религии? —» [648].
{стр. 362}
А далее говорится об Апостоле Иакове, который, «как говорят», «весьма похож на Христа Иисуса лицом, жизнию и обращением». Заканчивая письмо Автор просит Иоанна поторопиться посещением.
Хотя памятник, который намереваюсь я привести сейчас, почти не относится к прямой моей задаче, но я не могу удержаться от того, чтобы не передать этих бесконечно–милых строк переписки Игнатия Богоносца с Пресвятой Девою. Представь себе конкретно, что́ это значит: записка, написанная «легкими как сон» перстами Кроткой и благословенной! Самая краткость записки как много говорит о тихой молчаливости Той, Которая в домашней жизни, в каждо–дневном общении являла ап. Петру образец и высшее воплощение нетленной красоты «кроткого и молчаливого духа», — Которая и теперь есть «молчание просящих вера», как взывает к ней верующий. Говорят, что, «быть может», эта переписка — апокрифична. Я не спорю, ничего не знаю… Но ведь только — «может быть». А, может быть, — и обратное. Ведь остается «а если», и ценность этого «а если» бесконечно умножает вес «может быть». Прошу, вникни, сколько–нибудь в то чувство, которое делает для меня это Письмо, если даже оно и впрямь мало–достоверно, бесконечно–дорогим, милым до сокровенности сердца. Ведь даже ничтожная надежда (— а никто не доказал неподлинности Письма! —) на то, что Она села за стол, оправила одежды и Своими руками написала это благоуханное письмо, заставляет почти плакать от умиления, надолго умиротворяет волнение души. Как мы счастливы, что есть у нас эти любезные сердицу строчки! — Но приведу самые письма.
Вот что пишет Деве Богоносец:
«Христоносице Марии Ея Игнатий.
«Тебе надо было бы укрепить и утешить меня, новообращенного, ученика Твоего Иоанна. О Твоем ведь Иисуе я узнал то, что дивно сказать, и поражен слышанным. А от Тебя, — {стр. 363} всегда бывшей близкою и связанною с Ним и сведущею в Его тайнах, — от души желаю получить извещение о слышанном. Я писал Тебе еще в другое время, и спрашивал о том же самом. Будь здорова; и ново–обращенные, которые со мною, от Тебя и чрез Тебя и в Тебе укрепляются. Аминь» [649].
Латинский перевод ответного письма Божией Матери гласит:
«Ignatio dilecto condiscipulo, humilis ancilla Christi Iesu.
De Iesu quae a Ioanne audisti et didicisti, vera sunt. Illa credas, illis inhaereas; et Christianitatis susceptae votum firmiter teneas, et mores et vitam voto conformes. Veniam autem una cum Ioanne, te et qui tecum sunt visere. Sta in fide, et viriliter age: nec te commoveat persecutionis austeritas; sed valeat et exsultet Spiritus tuus in Deo salutari tuo. Amen» [650].
Или по–русски:
«Игнатию, возлюбленному со–ученику, смиренная прислужница Христа Иисуса.
Об Иисусе что слышал и узнал от Иоанна — истинно. Верь тому, держись того; и принятый на себя обет христианства храни непоколебимо, а привычки и жизнь сообразуй обету. Что — до Меня, то я приду вместе с Иоанном посетить тебя и тех, кто с тобою. Стой в вepe и поступай мужественно: и да не беспокоит тебя суровость преследования; но да будет сильным и да радуется дух твой в Бог Спасительном Твоем. Аминь».
Мне кажется неуместным входить здесь в обсуждение подлинности этого письма. Замечу только относительно двух изречений, в которых усматривали заимствования из Евангелия от Луки и Первого Послания к Коринфянам, при чем последнее написано уже заведомо после успения Св. Девы. Этим, будто бы, подрывается достоверность Письма. Но тут — великое недоразумение. Первое из заподозриваемых речений таково:
«Sta in fide, et viriliter age — стой в вере и поступай мужественно».
В нем видели заимствование из 1 Кор. 16, 13: «Бодрствуйте, стойте в вере, будете мужественны, тверды». Но, во–первых, сопоставляемые речения так просты и естествен{стр. 364}ны, что вовсе не было надобности Деве Марии прочитать Послание ап. Павла, чтобы написать Свое Письмо. Во–вторых, и сходства–то между ними не много. В–третьих, если утверждать заимствование, то еще неизвестно, не опирался ли Апостол на авторитетные слова Божией Матери. В–четвертых, наконец, аналогичное увещевание имеется в Пс. 30, — в особенности см. у LXX–ти (Пс. 31, 25). Естественнее всего предположить (— если только вообще нужно предполагать заимствование! —), что и Св. Дева и Ап. Павел «заимствовали» свои увещания из Псалмов, которые каждый еврей знал наизусть, а они — в особенности.
Второе заподазриваемое место таково:
«Exsultet spiritus tuus in Deo salutario tuo — да радуется дух твой в Боге Спасительном твоем».
Тут усматривают параллелизм с Лк. 1, 47: «И возрадовался дух Мой о Боге Спасителе Моем». Опять таки повторяю: Нужно ли для такого простого оборота предполагать заимствование? Но если его предполагать, то, во–первых, нужно помнить, что Евангелист Лука приводить гимн, вылившийся давным–давно из уст Той же Девы, так что, следовательно, Божия Матерь лишь повторяла в Письме то, что давно уже было сказано Ею же и что, наверно, не раз потом вспоминала Она и повторяла и Себе Самой, и другим; во–вторых, и к гимну Божией Матери Лк. 1, 47 имеется параллельное место; 1 Цар 21. — Можно указать и на внутренние признаки подлинности Писем или, по крайней мере, глубокой их древности. Это, именно, полное отсутствие догматических формулировок и отсутствие внешне–величественных эпитетов в приложении к Божией Матери. Характерно также выражение «Твой» (— т. е. Божией Матери —) Иисус («de Iesu enim tuo …»), как–то странно звучащее в устах человека, мыслящего догматически–отчетливо о Личности Иисуса Христа. Краткость Писем, отсутствие в них риторических амплификаций и жизненные черточки тоже делают подлинность их весьма вероятною.
Могучее и неизгладимое впечатление, которое производила на очевидцев Дева Мария, изображено яркими словами в замечательном памятнике, известном под названием «Письма св. Дионисия Ареопагита к Апостолу Павлу» [651]. Вот, что значится в этом «Письме», повествующем о посещении Божией Матери Ареопагитом:
{стр. 365}
«Исповедаю пред Богом, о славный учитель и путеводитель наш, что мне невероятным казалось, чтобы могло быть еще существо так обильно исполненное Божественной силы и дивной благодати, кроме Самого Вышнего Бога. Но я видел не только душевными, но и телесными очами то, чего никакой ум человеческий постигнуть не может. Да! Да! Я видел собственными очами Бого–образную и выше всех духов небесных Святейшую, Матерь Христа Иисуса нашего. Я удостоился этого по особенной благодати Божией, по благословению верховного из Апостолов и по неисповедимой благости и милосердию Самой Пресвятой Девы. Еще и еще исповедаю пред всемогуществом Божиим и пред преславным совершенством Девы, Матери Его, что когда Иоанн, верховный апостол и высший пророк, сияющий в земной жизни своей, как солнце на небесах, ввел меня пред лицо Бого–образной и Пресвятой Девы, то меня озарил не только извне, но и внутри столь великий и безмерный свет Божественный и кругом разлились столь дивные ароматы и благоухание, что ни тело мое немощное, ни даже дух мой не могли вынести столь чудных знамений и начатков вечного блаженства. Изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от Её славы и Божественной благодати. Свидетельствуюсь Самим Богом, рожденным от Её девичьей утробы, что если б не были твои Божественные наставления и законы еще так свежи в моей памяти и ново–просвещенном уме, то я почел бы Её истинным Богом и почтил бы Её поклонением, какое должно воздавать одному истинному Богу. Человек не может постигнуть блаженства, чести и славы выше того блаженства, которого я удостоился, увидя Пресвятую. Я был тогда совершенно счастлив! Благодарю Всевышнего, Милосердого Бога, Божественную Деву и преславного Апостола Иоанна, и тебя, верховного предстоятеля и начальника Церкви, за то, что ты явил мне высшее из благодеяний».
Но, быть может, лучше всяких догматических положений софийность Богоматери видна из описаний Её наружности.
По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом, Богородица «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волоса златовидные; глаза быстрые, с зрачками, как бы, цвета маслины; брови дугообразные и умеренно–черные, нос продолговатый; {стр. 366} уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо некруглое и неострое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные [652]».
По преданию, передаваемому св. Амвросием Медиоланским, «Она была Девою не телом только, но и душою: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения,… трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Её было — никого не оскорблять, всем благо–желать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленною, любить добродетель. Когда́ Она, хоть бы выражением лица, обидела родителей? Когда́ была в несогласии с родными? Когда́ погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? у Неё не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Её был выражением души, олицетворением чистоты [653]».
А, по словам Никифора Каллиста, «Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскуственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась естественным цветом их, что еще и теперь доказывает священный головной покров Её. Коротко сказать, во всех Её действиях обнаруживалась особенная благодать». [654].
Пребезмерная благодатность Девы Марии, лучезарная софийность Её описательно указываются весьма многими святыми наставниками Церкви; в богослужении чуть ли ни половина молитвословий обращена к Божией Матери; в иконописи опять таки значительнейшая часть икон — Богородичных. Как в иконостасе, так в богослужении Божия Матерь занимает место симметричное и словно бы равнозначительное месту Господа. К Ней одной обращаемся с молением: «Спаси нас» [655]. Но, если от живого опыта, даваемого Церковью, обратиться к Богословию, то мы чувствуем себя перенесенными в какую–то новую область. Психологически несомненно впечатление такое, словно школьное Богословие говорит не совсем о Той, Которую величает Церковь: школьно{стр. 367}–богословское учение о Божией Матери несоразмерно живому почитанию Её; школьно–богословское осознание догмата приснодевства отстало от опытного переживания его. Но богослужение — вот сердце церковной жизни. Поэтому весьма естественно спросить себя, что́ же означает это величание церковное; естественно искать разума того опыта, который запечатлен в писаниях свято–отеческих.
Попытку дать ответ на наши вопросы, — правда попытку робкую, — находим у св. Амвросия Медиоланского, в его писаниях о девстве и браке [656]. Девство Приснодевы толкует он как явление особой, Ей только свойственной благодати, как производное от дара целомудрия. А так как новое, внесенное в мир христианством, или, иначе говоря, сущность Церкви — именно в целомудренной чистоте, то явно, что Средоточие и источник этого дара отождествляется с Церковью. И еще: Божия Матерь — не только целомудренная, но и владеет целомудрием. Целомудрие же — природы небесной. Поэтому и в Деве Марии должно признать какую–то особую связь с Небом, какую–то небесность. При этом, несмотря на нравственно–назидательное назначение творений Амвросия, у него все время чувствуется за понятиями нравственными какая–то онтология. Церковь, Небо, Дева Мария — это, хотя и не синонимы, но, — онтологически, — имена почти взаимо–заменимые.
Но приведем несколько выдержек из писаний Святителя:
«Прекрасна Мария. — восклицает он, — представившая образ священного девства — egregia igitur Maria, quae signum sacrae virginitatis extulit — и поднявшая ко Христу Святое знамя непорочной чистоты — intemeratae integritatis» [657]. Дева Мария непостижима в Своем превосходстве над всею природою; Она — выше природы: «Спрашивается, кто же может обнять человеческим умом Ту, Которую не подчинила своим законам даже природа? Кто сможет естественным словом вы{стр. 368}разить то, что превыше порядка природы? Она с неба призвала то, чему подражала на земле. И не незаслуженно прияла образ небесной жизни Та, Которая нашла Себе Жениха на небе. Прошедши облака, небо, ангелов и созвездия, Она нашла Слово Божие в самом лоне Отца и всей душой прилепилась к Нему» [658] «В Ней было столько благодати, — gratia, — что Она не только в Себе Самой могла соблюдать дар девства, — virginitatis gratiam, — но могла вызывать обнаружение непорочности, — integritatis, — даже в тех, на которых взирала» [659]. И далее св. Амвросий приводит в пример девственника Иоанна Kpeстителя, «которого как бы некоторым елеем своего присутствия и благовонием целомудрия приуготовила Матерь Божия, когда он был еще в возрасте трех месяцев», и девственника Иоанна Богослова; «посему я не удивляюсь, — добавляете Святитель, — что этот, пред лицом которого пребывал чертог небесных таинств, говорил о Божественных тайнах больше, чем прочие евангелисты» [660]. — «О, Богатства девства Мариина! Она раскалилась как скудельный сосуд и как облако пролила на землю благодать Христову!» [661], — восклицает Амвросий. Эта благодать — духовный дождь, угашающий телесные пламенения, увлажняющий внутренние мысли [662]; это — дар девственного жития. От жизни Марии, «как от зеркала, блещет образ непорочности и красота добродетели, — species castitatis et forma virtutis. Отсюда можно брать вам (т. е. девственницам) примеры жизни: здесь, как бы на чертеж, изображены наставления чистоты» [663]. «Она — образ девства. — imago virginitatis», «жизнь Её Одной является наукою для всех» [664]. Между тем, непорочность — это всё, вся суть церковности. «Непорочность произвела даже ангелов. В самом деле, кто сохранил ее, тот — ангел; кто погубил, тот — дьявол. От неё получила свое имя даже религия. Дева есть та, которая сочетовается с Богом; блудница же — та, которая произвела Богов» [665]. — Итак, то, что делает человека членом Церкви, получается им от Божией Матери. {стр. 369} Но ведь эта благодать, — как говорят обычно, — дается нам Церковью. Каково же, в таком случае, отношение Девы Марии к Церкви? — Мария — это и есть носительница Церкви. Предреченное пророком о Церкви «всецело приложимо» к Пречистой Деве·[666], да и не только «приложимо», но и прямо «под образом Церкви предречено о Марии» [667]. Всю «Песнь Песней» св. Амвросий истолковывает то применительно к Церкви [668], то применительно к Божией Матери то к Той и к Другой зараз, и даже, истолковав некоторые места применительно к Церкви прямо, без дальнейших оговорок ставит «итак» и делает заключение о Деве Марии [669]. Церковь — это и есть Дева, как Дева — Церковь. «Церковь прекрасна среди дев, ибо она есть непорочная дева, — virgo sine ruga» [670]. Девственность — это и есть церковность. Даже в Ветхом Завете Мария (Исх. 15, 20), — говорит Амвросий, — явно играя именем «Мария», — она была «образом», «образчиком Церкви — Ecclesiae… specimen» [671]. Христос — Жених и Муж Церкви; Христос же — «жених девственной чистоты, — sponsus virgineae castitatis» [672]; «Отечество целомудрия — на небесах, — patria castitats in coelo» [673]. Церковь — это и есть «дева, благодаря целомудрию, но матерь, благодаря потомству, — Ecclesia — virgo est castitate, mater est prole» [674].
Такова Божия Матерь и «Её непонятное превосходство пред всем Божиим творением» [675].
Но это «непонятное превосходство» не исчерпывается и не может быть исчерпано описаниями и изображениями. Образ «Невестьы Неневестиой», как в хрустальной призме преломляясь в творчестве художника, хотя бы и свыше–просветленного, отбрасывает на данное время один лишь род благодатных лучей; иконография дает множество отдельных аспектов софийной красоты Девы Марии. Каждая законная икона Божией Матери — «явле́нная», — т. е. ознаменованная чудесами и, так сказать, получившая одобрение и {стр. 370} утверждение от Самой Девы–Матерн, засвидетельствованная в своей духовной правдивости Самою Девою–Матерью, есть отпечатление одной лишь стороны, светлое пятно на земле от одного лишь луча благодатной, одно из живописных имен Её. Отсюда — существование множества «явле́нных» икон; отсюда — искание поклониться разным иконам. Наименования некоторых из них отчасти выражают их духовную сущность, и я привел уже несколько таких типичных названий для икон–аспектов. Другие наименования довольно случайны, потому что ведут свое начало от местностей или событий, внешне связанных с иконою; смысл такой иконы постигается лишь в непосредственном созерцании, и приводить здесь название её не имело бы смысла. Но мне нужно еще остановиться на одном, особенно важном иконографическом сюжете, известном под названием «Софии Премудрости Божией». Впрочем, имеющийся материал должно было бы рассмотреть в особой статье; тут же я делаю лишь самый беглый обзор его, но все–таки надеюсь, что и· этот краткий обзор может дать тело (— «апперцепирующую массу» —) для отмеченных ранее идей духовного созерцания.
Икона Софии Премудрости Божией существует во многих вариантах, и это одно уж доказывает, что в Софийной иконописи было подлинное религиозное творчество, — исходящее из души народа, — а не внешнее заимствование иконографических форм. Но, чтобы постигнуть внутреннее содержание этого творчества, необходимо рассматривать эти варианты не врозь, а вкупе, потому что они — частные аспекты единой идеи.
Задача нашего очерка — уяснить идею Софии (— как бы Софию ни именовали в разные времена, —); поэтому нам мало интереса уяснять всесторонне самый термин «София» в его ино–идейном содержании. Конечно, нет никакого сомнения, что у свв. отцов под словом София весьма нередко разумеется Слово Божие, Вторая Ипостась Пресвятой Троицы; то же {стр. 371} должно сказать и о богослужебных молитвах и песнопениях. Доказывать это обще–известное положение цитатами — значило бы ломиться в открытую дверь. Но если вообще, — повторяем, — мы имеем ввиду лишь особливую идею Софии, то сейчас, вдобавок, мы ограничиваем поле своего внимания данными иконописи, потому что именуемое «Софией» у свв. отцов вовсе не всегда совпадает с содержанием этого имени в иконописи, к тому же — значительно более позднего времени и, наоборот, иконописная «София» вовсе не всегда обсуждается у свв. отцов под этим же самым именем.
Во всяком случае непременно нужно брать вместе хотя бы главнейшие, типические варианты. За вычетом нескольких, весьма редких и особняком стоящих [676], таких вариантов–типов следует считать три, тогда как прочие имеют формы, примыкающие к формам этих трех, основных. Три же типичные перевода могут быть охарактеризованы, как: 1°, тип Ангела, 2°, тип Церкви (иногда его называют Софиею «Крестной») и 3°, тип Богородицы, — или, по городам, где находятся лучшие образцы соответствующих икон, — Софиею: 1°, Новгородскою, 2°, Ярославскою [677] и 3°, Киевскою. Но, прежде чем переходить к выводам относительно их религиозной сути, необходимо привести описание икон этих трех типов.
Древнейшим и примечательнейшим является перевод Новгородский. Новгородский Софийский собор заложен кн. Владимиром в 1045 г. И освящен в 1052 г. Храмовая же икона его, по древнему преданию, признается списком с царе–градской и, вероятно, современна построению собора. По крайней мepe, священник Московского Благовещенского собора Сильвестр, в своей «Жалобнице», поданной в Собор 1554 года, прямо указывает на то и на другое предание.
«Как благочестивый Православный и Великий Князь Владимир сам крестился во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, в Корсуне, — пишет о. Сильвестр, — и приехав в Киев, заповеда всем креститися и тогда вся русская страна крестися; а в начале из Царя града в Киев прислан Митро{стр. 372}полит, а в Великий Новград Владыка Хоаким; и Князь Великий Владимep повеле в Новград поставити Церковь каменну, святую Софию, Премудрость Божию, по Цареградскому обычаю, и икона София, Премудрость Божия, тогды ж написана, Греческий перевод …» [678].
А от 1542–го года имеется прямое известие об иконе Софии: «Премудрость Божия, — говорит Летопись, — простила жену, очима была больна» [679].
Таким образом, икона Софии, если не по списку, то по составу, — одна из древнейших русских икон. Содержание этой заветной святыни Великого Новгорода таково: Центральною фигурою композиции является ангелообразная фигура в царском далматике, с бармами и омофором. Длинные волоса её не вьются, но падают на плечи. Лицо и руки её — огненного цвета, за спиною — два большие огневидные крыла, на голове — золотой венец в виде зубчатой стены. В правой руке её — золотой кадуцей, в левой — закрытый список, прижимаемый к сердцу; около головы — золотой нимб, над ушами — то́роки или «слухи». Это и есть София. Она представлена, сидящею на двойной мутаке, которая лежит на пышном золотом престоле о четырех ножках и подпираемом семью огне–видными столпами. Ноги Софии покоятся на большом камне. Весь престол находится в золотой осьми–конечной звезде, расположенной на фоне голубых или зеленоватых концентрических колец, испещренных золотыми же звездочками. Иногда, впрочем, осьмиконечной звезды нет вовсе. По сторонам Софии, на отдельных подножиях, благоговейно предстоят: справа — Божия Матерь, слева — Иоанн Предтеча. Иногда (— например, на алтарной наружной стенописи Московского Успенского собора —) они, по аттракции атрибутов, тоже изображаются крылатыми. Оба они — в нимбах, но уже не золотых (по крайней мере — иногда), а зеленовато–голубых. Божия Матерь поддерживает руками (иногда же — имеет в лоне) как бы зеленоватую сферу со звездами,
{стр. 373}

{стр. 374} в которой находится Младенец–Спаситель, окруженный шести–угольною звездою. В левой руке Спаситель держит свиток, а правою делает ораторский жест, — то́, что ранее принимали за именословное благословение. Предтеча тоже делает такое же движение pyкою правою, тогда как левая рука его держит развернутый свиток с написью: «Покайтесь» и т. д. Над Софиею находится Спас–Всемилостивый, поясной, с крестчатым нимбом. И эта фигура помещена в шести (?) — угольную звезду, окруженную звездным фоном. Еще выше расположена звездная радуга наподобие ленты. В середин её поставлен четырех–ножный золотой престол с орудиями страстей Господних и с книгою, — так называемое «утотование престола». По сторонам его — колено–преклоненные Ангелы, числом шесть, по три с каждой стороны. Иногда Ангелов только четыре; но тогда над престолом изображен Бог–Отец, сидящий с воздетыми руками на троне с полуцилиндрическою спинкою. Голова Бога–Отца окружена осьми–угольным нимбом, углы которого поочередно красные и зеленые. По бокам этого престола тогда расположены еще два колено–преклоненные Ангела. Наконец, вся композиция окружена иногда венком (— из 12–ти —) отдельных композиций, преимущественно из жизни Богоматери [680].
Прежде, нежели давать окончательное толкование описанной иконе, отмечу некоторые частности, которые наталкивают на объяснение.
Крылья Софии — явное указание на какую–то особенную близость её к горнему миру. Огненность крыльев и тела — указание на духо–носность, на полноту духовности. Кадуцей (а не «жезл с крестом» и не «с монограммою Христа», — по крайней мере в большинстве случаев) в деснице — указание на теургическую силу, на психопомпию, на таинственную власть над душами. Свернутый свиток в шуйце, прижимаемый к органу высшего ведения, — к сердцу, — указание на ведение недоведо{стр. 375}мых тайн. Царское убранство и престол — указание на царственное могущество.
Венец в виде городской стены — обычный признак Земли–Матери в её различных видоизменениях, выражающий, быть может, её покровительство человечеству, как совокупному целому, как городу, как civitas. Камень (— а не «подушка»! —) под ногами — указание на твердость опоры, непоколебимость. То́pоки или «слухи» за ушами, т. е. лента, поддерживающая волосы и освобождающая уши для лучшего слышания — указание на чуткость восприятий, на открытость для внушений свыше: тороки — иконографический символ для обозначения органа Божественного слуха [681]. Девственность же Богоматери до-, во время-, и после рождения обозначается, по обычаю, тремя звездочками: двумя на персях и одною на челе Её.
Наконец, окружающие Софию небесные сферы, исполненные звезд, — указание на космическую власть Софии, на её правление над всею вселенною, на её космократию [682]. Бирюзово–голубой цвет этого окружения символизирует воздух, затем небо, а далее — небо духовное, горний мир, в средоточии которого живет София. Ведь голубой цвет настраивает душу на созерцание, на отрешенность от земного, на тихую грусть о покое и чистоте. Голубизна неба, — эта проэкция света на тьму, эта граница между светом и тьмою, — она — глубокий образ горней твари, т. е. образ границы между Светом, Богатым бытием, и Тьмою–Ничто, — образ Мира Умного. Вот почему голубизна — цвет естественно принадлежащий Софии и, чрез Неё, Носительнице Софии, Приснодеве.
Далее, в рассматриваемой композиции обращают внимание: во–первых, явное различение личностей Спасителя, Софии и Богоматери; во–вторых, нахождение Софии под Спасителем, т. е. на мест подчиненном, и божией Матери — пред Софиею, т. е. опять–таки в положении подчиненном. Итак, Спаситель, София и Божия Матерь — в последовательном иерархическом подчинении. На то́ же их неравенство указывает и различие {стр. 376} нимбов. Иногда, впрочем, София получает в позднейших памятниках иконографии нимб тоже крестчатый. Такова, например, наружная алтарная роспись Московского Успенского Собора, относящаяся к XVII веку. Несомненно, что крестчатый нимб у Софии — смешение иконографических атрибутов, — явление аттракции. Но это смешение в высшей мepe характерно: София, хотя и самостоятельная фигура иконописи, однако является, очевидно, столь тесно связанною со Христом и, — как увидим далее, — с Богоматерью, что может, чрез аттракцию, усвоять себе их атрибуты и тем, так сказать, почти сливаться с Одним или с Другою. Известное сродство трех Лиц обнаруживается иногда и окрыленностью всех их: такова только что упомянутая Московская роспись; такова роспись алтарной стены Успенского Костромского Собора.
Обращаюсь ко второму Софийскому типу, — к переводу Ярославскому, относящемуся к XVI — XVIII векам.
Содержание стенописи в ярославской церкви св. Иоанна Златоуста таково: под шести–столпным киворием, или сенью, находится облаченный престол, за которым, в качестве седьмого столпа, изображено Распятие. Пред престолом стоит в царском далматике и короне царь Соломон, — если судить по читаемой им книге, в которой написано: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь, закла своя жертвенная, и раствори в чаши своей вино, и утотова свою трапезу» (Прит. 91), — а, может быть, просто священно–служитель, ибо это место из Притчей — тема всей композиции. На столпах кивория — по две надписи: «Крещение» и «3–ий собор», «Миропомазание» и «2–ой собор», «Покаяние», и «4–й собор», «Священство» и «6–й собор», «брак» и «7–й собор», «Елеосвящение» и «5–й собор»; а на кресте: — «Причащение» и «4–й собор». Весь киворий утвержден на возвышающемся основании, а на трех ступенях последнего написано: «Ветхаго и Новаго {стр. 377}
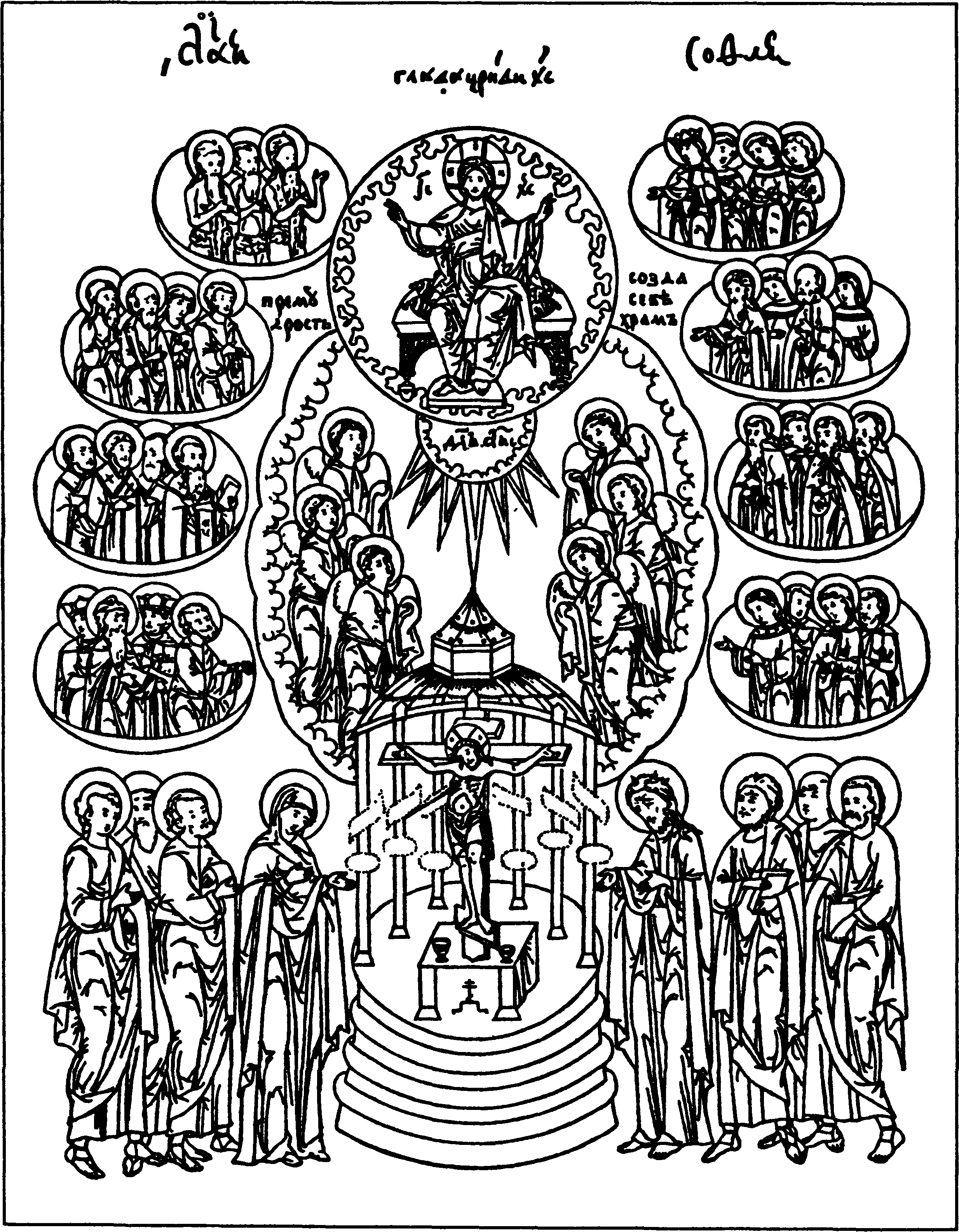
{стр. 378} Завета Божественныя Церкви основание мученическая кровь, апостолов проповедь, пророческая кровь, апостолов учение, камень веры Христос, на сем камени создам Церковь Свою». Вверху над колоннадою написано: «Глава Церкви Христос», а на архитраве — : «и утверди столпов седмь». Выше, над покровом кивория — восседающая на престоле с двойною мутакою Божия Матерь с молитвенно–воздетыми руками и окруженная сонмом дориносящих Ангелов. Над головою Её представлен Дух Святой, от Которого нисходят на Божию Матерь семь лучей — семь благодатных даров. Как видно из надписей, это суть: Премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Божий. Еще выше — Бог–Отец в облаках, с воздетыми руками, восседающий на престоле с мутаками (— а может еще быть и Христос? —). На полях иконы — десять групп святых в облаках: пустынно–жителей, мучеников, мучениц, преподобных, праведных с Иоакимом и Анною во главе, исповедников, святителей, царей и князей, пророков, с Иоанном Предтечею во главе, и апостолов, возглавляемых ап. Павлом. Под этими ликами святых, внизу, расположены шесть групп обыкновенных людей (не святых) с надписью: «Собрани вси языцы»; они находятся уже не в облаках, а на земле, и преклоняют колена пред колоннадою. Общий вид композиции очевиден. Это — Церковь в её целом, со всеми своими духовными силами и основами. Хотя вся композиция носит название «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь», но весьма затруднительно было бы точно установить, к какому из изображенных Лиц относится имя Премудрость: к Богу ли Отцу, к Духу ли, к Богоматери, или к распятому Христу. Если — к Последнему, то именно в Его отношении к строительству спасения, т. е. опять–таки в связи со всеми прочими элементами композиции [683].
Имеются варианты описанного типа «Крестной Софии» [684]. Наиболее замечательные черты одного из та{379}ких вариантов, — распространенная в Новгороде, — заключаются в том, что Богоматерь стоит сбоку кивория, справа; слева же, — по всей вероятности, Иоанн Предтеча. За Тою и за Другим — по три Апостола. Покров кивория увенчивается остроконечием и в него, как бы молния в громо–отвод, упирается средний из лучей, исходящих из полуокружия, которое носит написание «Дух Святый». Еще выше расположен Христос на престоле, изображенный, как Спас–Всемилостивый. Судя по этому варианту, можно думать, что и в — ранее описанном над киворием находится Иисус Христос, а не Бог–Отец (— как утверждает Н. Покровский —). Тогда внутри–киворное распятие. — естественно думать, — есть запрестольное распятие, икона, а не Христос.
Не останавливаясь на других вариациях этой иконной композиции, перейду прямо к Софии Киевской. Она представляет много, аналогий с Софиею Ярославскою. Содержание Софии Киевской следующее:
На семи–ступенчатом амвоне поставлен семи–столпный киворий, под которым стоит Богоматерь. В левой руке Её — Младенец, а в правой — кадуцей (— описываю по преимуществу икону Оптиной пустыни —), иногда же — латинский крест. Под ногами — серп луны, лежащей на облаке. По карнизу ротонды напись: «Премудрость созда себе дом» и т. д. На каждом столпе — по три надписи: первая — название духовного дара, вторая — символическое его изображение, третья — подходящий текст из «Откровения». На ступенях амвона — наименования семи добродетелей, и на ступени «веры» — семь пророков. Над ротондою Бог–Отец (?), а над Ним — Дух Святой. Кругом — семь Архангелов [685]: справа — Михаил с пламенным мечом, Уриил с молнией, Рафаил с алавастром мира; слева — Гавриил с лилиею, Селафиил с четками, Иегудиил с венцом, Варахиил с цветами на Белом плате [686]. {стр. 380}
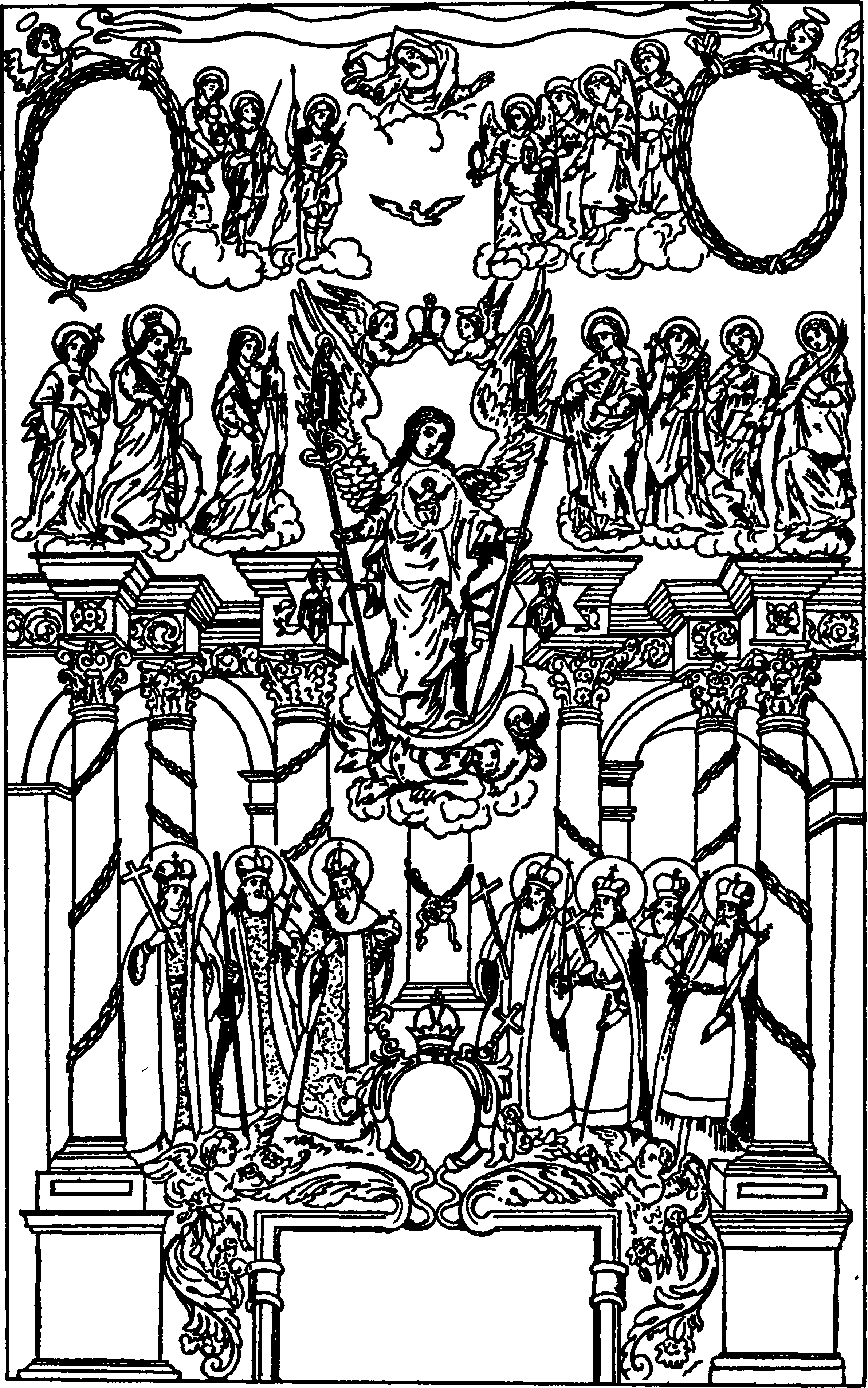
{стр. 381}
Но наиболее замечательною является известная композиция Софийной иконы в иконостасе Собора св. Софии в Киеве, «матери всех церквей русских». Эта храмовая икона, по–видимому, происхождения позднего, половины ΧVIII–го века; но композиция её восходит к XVI–му веку, если судить по точному списку с неё в Соборе Тобольска, написанному при построении храма, т. е. при патриархе Филарете [687]. Композиция, как и вообще иконопись Южной России, образована под явно–католическим влиянием (Богоматерь непокровенна; над головою Её два Ангела держат корону; крест в руке Её — латинский; позади Неё — колоннада и т. п.). Изображенная на иконе Богоматерь в правой руке имеет процветший жезл со змеевидной ручкою, т. е. кадуцей, а, может быть, и епископский жезл; в левой же — латинский крест. Христос изображен у Неё в лоне, причем правая рука Его «благословляет», а левая — имеет державу. За спиною у Богоматери — два распущенных крыла, под ногами — серповидная луна, лежащая на семиглавом змее [688]. — При этом необходимо отметить что описываемая здесь икона по композиции далеко не тождественна своей ризе [689].
Композиция Киевской Софии представляется, таким образом, видоизменением типа Увенчанной Богоматери, — синкретическим объединением венчания Богоматери и типа апокалипсической Жены [690]. Другими словами, Богоматерь освещена тут двойным светом: — Церкви Земной и Церкви Небесной. «По нашему мнению, — утверждает А. И. Кирпичников [691], — тип венчанной Богоматери имел первоначально то же символическое значение, как и фигура Оранты в изображениях Вознесения Христова: Оранта без короны и на земле, есть церковь земная, а женская фигура на облаках с короной на голове, есть победоносная церковь небесная». При этом указывается, что символическое изображение византийское получило на Западе толкование историческое и затем попало к нам, имея уже двойной смысл. Но, и помимо этих выводов из генезиса {стр. 382} композиции, нетрудно видеть, что она стоит в теснейшей связи с «Откровением». Серп луны, семиглавый змей, апокалипсические тексты и апокалипсические символы на столпах и сами по себе были бы уже достаточны для сделанного утверждения. Но оно еще более обосновывается, если я напомню тебе, что в самом нижнем ярусе иконостаса, — кажется, современного иконе, — можно видеть еще четыре иконы на явно апокалипсические темы. Это — небольшие медальоны, за решеткою весьма трудно разглядываемые. Особенно интересна находящаяся прямо под Софиею–Премудростью. Тут — сложная композиция, куда входят Жена, облеченная в солнце, Богородица, Архангел Михаил, Зверь, выходящий из бездны, и т. п. [692].
Может и должен возникнуть вопрос: но где же в Софийском Соборе то, что сызначала дало ему имя, — где главная святыня его? Ответ на это, конечно, прост, по крайней мepe кажется простым. Этою основною соборною святынею является палладиум Киева, — славная и чудодейственная «Нерушимая стена». Но, при легкости дать этот формальный ответ, ответ содержательный вызывает затруднения. В самом деле, что и кого живописует это изображение? Обычно говорят, что — Божию Матерь. Но отсутствие Младенца, воздетые руки, вся постановка тела до такой степени приближают «Нерушимую стену» к Орантам древнейшей христианской иконописи, что делается несомненным, что в «Нерушимой стене» Богородица представлена как Оранта, т. е. выражает ту же идею, что и древние Оранты. Эта идея есть, повторяю, идея Церкви [693]. Исследователи идут и далее сделанного здесь утверждения. Так, по мнению Н. П. Кондакова [694] «Нерушимая стена» есть монументальное изображение Церкви, а по мнению Крыжановского [695] — изображение невещественного дома Софии Премудрости Божией. Так же думают и другие исследователи [696].
{стр. 383}
Таковы три типа Софийной иконографии. Истолковать их — это значит понять то единое, общее для всех их духовное Начало, в силу которого все они носили одно имя и чтились, как выражение одной идеи. Конечно, это Общее наши предки не знали «ответчиво», по слову Ф. М. Достоевского; но невозможно допустить, чтобы его вовсе не было, чтобы спутанность была в самых переживаниях: ведь разбираемый сейчас иконописный сюжет был в свое время обширным религиозным явлением, может быть даже — обширнейшим и, во всяком случае, любимым и национальным [697]; допустить возникновение его ex nihile, из религиозной пустоты — было бы нелепо. — Стороны этого Единого отмечаются врозь отдельными исследователями. Какие же это стороны?
В Софии (— при этом имелась в виду София Новгородская —) видели олицетворение отвлеченного свойства Божия, атрибута Его мудрости, но не Личной, не Ипостасной Мудрости Божией, а мудрости in abstracto. Толкование это правильно в том отношении, что София, во всяком случае, не есть Ипостась в строгом смысле слова и что Она не тождественна с Логосом. Что, действительно, олицетворения стихий, городов и местностей, нравственных и догматических понятий и т. п. Были вполне возможны в христианской иконографии — это доказывается обще–известным фактом наличности персонифицированных: Моря, Гор, Ветра, Снега, Пустыни, Неба и Земли, Космоса, Иордана, Солнца и Луны, Ночи и Утра, Небесного Вещества, Глубины, Ада, Чермного Моря, Египта, Назарета, Вифлеема Иepyсалима, Мелодии, Силы, Высокомерия, Раскаяния, Юности, Δικαιοσύνη και Ελεημοσύνη, Добродетелей, Προφητεία, Σοφία, Синогоги, Церкви и т. п. на множестве икон, миниатюр, стенописей и проч. [698] известно, что Константин Великий воздвиг в Царе–граде три храма, — в честь: Премудрости — 'Η αγία Σοφία, — Миpа — Ή άγία Είρήνη — и Силы — Ή άγία Δύναμις, — впоследствии преобразовавшиеся в {стр. 384} храмы св. Софии, св. Ирины и свв. Сил Небесных. В истории Рима языческого подобных примеров храмо–здательства в честь отвлеченных понятий — сколько угодно; но не следует отсюда слишком поспешно выводить, будто Константин «посвящает свои храмы идеям и в частности идее Божественной Премудрости без всякого отношения этого понятия к Сыну Божию». Скорее правильна мысль † проф. А. П. Голубцова, видевшего в этих нейтральных, так сказать, между язычниками и христианами посвящениях меру тактическую, посредством которой император незаметно вводил христианство, — тогда как для желающих быть вне ограды церковной предоставлялась возможность видеть в Премудрости, Мире и Силе только олицетворенные понятия [699].
Так или иначе, но отвлеченностями люди не живут, и произошло то, что должно было произойти. А именно, стали искать для Софии конкретных представлений. Юстинианов храм Софии посвящен уже Воплотившемуся Слову Божию, так что праздником освящения было 22–23–е декабря, а храмовым, — по–видимому, Рождество Христово. Но, вместе с тем, столь же несомненна религиозная связь Софии с Богородицею, раскрывающаяся в бого–служебной практике и в религиозном миро–созерцании наших предков [700]. Для рассудка единое переживание и тогда двоилось, причем рассудок колебался между Спасителем и Богородицею, Богослужебный ритуал доказывает это с несомненностью. Уже в XVI веке наши доморощенные Богословы теряются при попытке рассудочно определить идею Софии: «Овии убо глаголют яко освятися церковь Св. Софии во имя Пречистыя Богородицы; овии же глаголют яко несть зде имени саму в Руси ведомо, ниже Мудрости сия мощно толку ведати» [701] . Но и западные посетители Царе–града видимо не знают, кому посвящен храм Софии. По крайней мере в своих описаниях Софии Царе–градской они решительно умалчивают насчет занимающего нас {стр. 385} предмета [702]; а один из крестоносцев, участников взятия Константинополя, — Роберт Кларийский пишет в своей хронике странное на первый взгляд сообщение: «Or vous dirai du moustier Sainte Souphie comme fais il estoit (SainteSouphie en Grieu, ch’est Sainte Trinites en franchois) — теперь я вам скажу о храме Св. Софии, как он сделан (Св. София по гречески то же, что Св. Троица по французски)» [703]. Таковы уже древние разногласия в вопросе о Софии. Эти колебания перешли и к исследователям современным. В то время как для одних исследователей София есть Слово Божие или даже Пресв. Троица [704], другие видят в Ней Богородицу, третьи — олицетворение Девства Её, четвертые — Церковь и пятые — совокупное человечество, «Grand Etre» О. Конта.
Нужно ли признать эти толкования непримиримыми? — Разумеется, Слово Божие, Богородица, Девство, Церковь, Человечество, как рассудочные понятия, несовместимы друг с другом; но если мы обратимся к соответствующим идеям, то этой несовместимости уже не будет; мало того, предыдущий, — метафизический, — разбор дела показал уже взаимную связь этих идей. Не останавливаясь на каждой из них в частности [705], приведу лишь несколько древне–русских толкований, которые дают тонкий синтез отдельных аспектов Софии [706].
Вот надпись на иконе Софии Премудрости в иконостасе Успенского Собора Троице–Сергиевской Лавры [707]:
«Образ Софии, Премудрости Божией, проявляет Собою Пресвятыя Богородицы неизглаголаннаго девства чистоту. Имать же Девство лице огненно и над ушами тороцы: венец царский на главе и над главою имеет Христа, а на высоте простерты небеса. Толкование: Лице огненное являет яко девство подобляется Богу вместилище быти, огнь бо есть Бог попаляяй страсти телесныя и просвещает душу девственную. А еже над ушами тороци и еже имут ангели — яко девственное со ангелы равно есть. Тороци же осенение Святаго Духа. На главе же имать венец царский. Сим являет яко смиренная её мудрость царствует над страстми. Над главою же имать Христа, глава бо Мудрости Сын, {стр. 886} Слово Божие. Той возлюби Девство Пресвятыя Богородицы и тоя смиренную Мудрость и благоизволи плотию родитися от Неё. Простерты же бысть небеса являет яко девственная душа присно свое желание имать на небеси. Препоясание же по персям являет сан старейшинства и святительства. В руце имать скипетр, им являет сан царский. Крили же орли и огненныя на высокопарение и пророчество: птица же сия, егда видит ловца, выше возлетает; так и любящие девство неудобь уловлени бывают от ловца диавола [708].
В шуйце же имать свиток, в нем же вписаны недоведомые и сокровенные тайны Божии: непостижимо бо суть Божественные девства ни ангелам, ни человекам. Одеяние же света и престол на нем же сидит, иного будущаго света покоище являет. Утверждены же седмь столпов — седмь Духа дарований, пророком Исаием провозвещенные. Нози имать на камень: Девство бо исповеданий яже во Христа веры стоит непоколебимо взывая к Богу: «На камени мя веры утверди». Елици же девство хранят, подобятся Пресвятей Богородице, Сие возлюби Иоанн Предтеча: сподобися крестити Христа, Бога нашего. Сие возлюби Иоанн Богослов: сподобися возлещи на персях Христа, Бога нашего. Бог — бесплотный и безтелесный радуется чистоте и целомудрию души. Приведутся, рече, царю Девы вслед её, и искрении Её приведутся в веселии и радовании. Введется в храм царев сиречь девственнии души приведутся вослед Пресвятыя Богородицы к Сыну её и Богу нашему. Аминь».
Другие объяснения не особенно разнятся с только что приведенным и в основных моментах могут считаться тождественными. Но позволю себе привести кое что из них в виду их малой известности.
Так, в одной рукописи читаем (— заметим, что "т" означает толк, толкование, а "в" — вопрос —):
«Сказание истолковано, что есть софия премудрость Божия. Церковь Божия софия пречистая дева богородица. т сиречь девственных душа неизглаголаннаго девства. Чистота смиреныя мудрости истина, в имеет надглавою христа. т глава бо мудрости сын слово Божие. простерта же небеса пре выспрь тоя. т преклони бо небеса, сниде, сниде в деву чисту. елико бо их любят девство подобятся Богородицы. Сия бо роди сына и слово божие господа исуса христа. любящеи бо девство ражают словеса детели. Рекше неразумныя научати. Сию же возлюби предтеча креститель, крестиса {стр. 887} устав девства показа жестокое о бозе житие. Имат же девство лице девиче огнено. т огньбо есть Божество, попаляя страсти тленныя, просвещающая же душу чисту. Имат же надушима тороцы. еже имут аггели. т житие чисто со аггели равно есть. тороцы же суть покоище святаго духа. Нагалве же её венец царскии. т смиренная мудрость царствует страстем, нанже препоясание во чреслах, т образ стареишинства и святительства. Вруце же держаще скипетр. т царскии сан. Имат же крыле огнене. т высокопаривое пророчество разум скоро (?) являет зело — зрачная птица любящи мудрость еда бо видит ловца, выше возлетает. Тако любящей девство неудоб‘уловлени бывает от ловца дьявола. Вшуицы же имать свиток написан. т Внем недоведомые сокровенные таины. Рекше преданная писания видет, непостижима — сут божественная действа ни аггелом ни человеком. Одеяние же света и престол нанем же седи. т Иного будущаго света покоище являет, утвержена на седмью столпе. т Седмью духа даровании. Что во исаине пророчество писано. Нози же имат на камени. т На сем бо камени созижду церковь мою. И паки на камени мя веры утверди, софия премудрость божия. т Святеи соборнеи апостольстей церкви. девство образ Божии от девы бо родися господь. девство почте елико бо безсплотен и безтелесен Господь толико чистоте и безтлению плоти нашея радуется. девство наполняет горнюю твар. Иместо еж истощивши отпавших аггели, елико бо человек смертных толико девственичество женившихся честнее яко по образу божию лепо нам есть жити христосови почести девство плоти тления и кала убегающа. Дивно же нетленну быти человеку без–тля чистотою христовым воплощением. Нетленно отдевы приведутся рече царю девы понем. сиречь девственных душа. Тем же не скорбите сам бо нам обетова глаголя. Идеже аз буду ту и слуга мои будет» [709].
Такое же, но несколько укороченное, толкование находим в одном рукописном лицевом Апокалипсисе [710], под надписанием: «О софеи премудрости божии списано с местнаго образа, иже в великом нове граде». Это толкование начинается словами: «Церкви Божия софея пречистая дева богородица и т. д.»; кончается же словами: «На сем — рече камени созижду церковь мою. И паки рече, на камени мя веры утверди». Это весьма важно. Очевидно, рассуждение о превосходстве безбрачия пред браком и резко–аскетический манихейский {стр. 388} тон в конце предыдущего «Сказания» есть прибавка позднейшая, — если только дозволительно в данном случае делать заключение от древности рукописи к древности редакции. Добавлю еще, что на л. 72 находятся апокалипсические миниатюры, относящиеся к Софийным темам.
В рукописной «Книге Алфавит», или точнее, Толковый Словарь в алфавитном порядке, XVII–го века [711], опять–таки находится «Толкование образу Св. Софии премудрости божией. София церковь Божия — пречистая дева–Богородица — сиречь дей[в?]ственная душа, неизглаголанного девства чистота и т. д.».
Несколько подобных толкований имеется и в библиотеке Свято–Троицкой Сергиевой Лавры [712]. Так, например, в рукописном толковом Апокалипсисе [713] говорится: «Словеса избранна от многих книг различных строк. Нач. Слово о премудрости. Неизреченнаго девства чистота смиреныя мудрости истина имеет бо над главою Христа»; на л. 150 толкование трех стихов под заглавиеме: «В св. Софии есть комора. Соломона сына Давидова от камени другаго [драгаго?] сделана, на ней же суть написани стиси трие еврейскими и самарянскыми писмены …». На белом же листе впереди книги помещен ex–libris: «Сия святая Откровение Ивана Богослова и ваньгилиста Апокалипсис, да в ней служба толковая, да иных приписей много без числа, мудрых без меры. Асия книга Зосимы митрополита всея руси» [Митрополитом Зосима был в 1491–1494 гг.],
В другой рукописи, XVI в., находится «Слово св. Софии о Премудрости Божией. Нач. Церкви Божия Софиа пречистая Дева Богородица …» [714].
Тесная связь Софии и Богородицы ярко запечатлена в церковных песнопениях. Так, в Московской Софийской церкви, что близь Лубянской площади, есть особенная служба св. Софии, и в икос этой службы,правимой 15–го {стр. 389} августа, говорится о девственной Душе Богоматери, как о Церкви и о Софии:
«… заступницу мирови, пренепорочную Невесту, Деву воспети дерзаю, еяже девственную душу церковь свою Божественную нарекл еси, и воплощения ради Слова твоего Софию Премудрость Божию именовал еси. — Зрак её огневиден вообразил еси, от неё же изыде огнь Божества твоего, сиречь единородный Сын твой» [715].
Некоторые части этой службы, как то: паремии стихиры на литие и стихиры на стиховне, заимствованы из службы Успения Пресвятой Богородицы; замечательно при этом, что сказанное заимствование сделано сознательно и заключается следующей оговоркой. «Сего ради Стиховна и прочая, писана празднеству успения Пресвятыя Богородицы понеже она есть церковь одушевленная премудрости, и Слову Божию, София именуемая» [716]. Другими словами, опять подтверждается, что София — это и есть Богородица, храм ипостасной премудрости, Слова Божия.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что София празднуется в день рождества Богородицы (— в Киеве —) или в день успения (— в Вологде —).
Таков один ряд толкований Софии. В других же, как например в «Сборном Подлиннике графа Строганова», Премудрость прямо называется Сыном и Словом Божиим [717]. Точно также, в упомянутой выше «Службе Софии» София иногда почти отождествляется с Богом–Словом [718].
Таково толкование Софии нашими предками. Сразу видно отличие его по тону от толкования византийских греков. Занятая богословскою спекуляциею, Византия воспринимала Софию со стороны её спекулятивно догматического содержания. София, в понимании греков, — по преимуществу предмет созерцания. — Наши же предки, восприняв от Византии готовые догматические формулы, прилепились душою к подвигу, и к непо{стр. 390}рочности, возлюбили чистоту и святость отдельной души. И тогда София повернулась к их сознанию другою своею гранью, — аспектом целомудрия и девственности, аспектом духовного совершенства и внутренней красоты. — Наконец, наши современники, мечтая о единстве всей твари в Боге, всю мысль устремили к идее мистической Церкви. И София повернулась к ним своею третьею гранью — аспектом Церкви. Феодор Бухарев, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, «нео–христиане», католические модернисты и т. д. [719] — вот те течения, которые опять находят себе символическое выражение в Софийных иконах. Чем же теперь является София?
«Это Великое, царственное и женственное существо, которое, не будучи ни Богом, ни вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, принимает почитание и от завершителя Ветхого Завета и от родоначальницы Нового ; кто же оно, — говорил в своей речи 1898 г. о Конте Вл. С. Соловьев [720], — кто же оно, как не самое истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процесс соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, что есть. Несомненно, что в этом полный смысл Великого Существа, наполовину прочувствованный и сознанный Контом, в целости прочувствованный, но вовсе не сознанный нашими предками, благочестивыми строителями Софийских храмов». Короче, София — это Память Божия, в священных недрах которой есть все, что есть, и вне которой — Смерть и безумие.
Таковы три аспекта идеи Софии. Существует одно замечательное изображение, объединяющее их в себе, — все три. Это, именно, — стенопись в притворе, у самого входа, справа, Костромского Успенского Собора. В ряде последовательных, находящихся друг под другом, медальо{стр. 391}нов изображены тут: Бог Отец, Иисус Христос, София (с надписью: Иис. Хр.), Божия Матерь (типа Знамения) в восьми–угольной звезде и, наконец, Церковь представленная св. Престолом, возле которого стоит ап. Петр, затем, сонм пророков и святых, — одним словом, — вся мистическая цепь домостроительства. Изображение это в высшей степени интересно, и жаль только, что не имеется с него фотографического снимка.
Аналогичное соотношение иконных сюжетов — в наружной алтарной росписи того же храма: В средине росписи представлена Пресвятая Троица, слева от Неё — Божия Матерь, сидящая на престоле, а справа — София, новгородского извода. Над Софиею — четыре ангела, по сторонам же Её — Божия Матерь и Иоанн Предтеча и сонмы святых.
Три главные аспекта Софии–Премудрости и три типа понимания Её в разные времена и в разных душах получают по очереди свое преобладание. Парение богословского созерцания, подвиг внутренней чистоты и радость всеобщего единства, — эта тройственная жизнь веры, надежды и любви, — она дробится человеческим сознанием на раздельные моменты жизни и только в Уте́шителе получает свое единство. Но мы не должны забывать, что линишь в этом единстве — сила и смысл каждого из них. Лишь в преодолении плотяной рассудочности выступает, как снежная вершина из сизой утренней мглы, «Столп и утверждение Истины».
Вопрос — в том, при каких же, именно, жизненных условиях вырастает подвиг этого само–преодоления. — Условия эти — в том, чтобы показать душе своей предварительное, частичное преодоление плотяности и тем увлечь ее к подвигу.
София, — эта истинная Тварь или тварь во Истине, — является предварительно как намек на преображенный, одухотворенный мир, как незримое для других явление горнего в дольнем. Это откровение совершается в личной, искренней любви двух, — в дружбе, когда лю{стр. 392}бящему дается предварительно, без подвига нарушение само–тождества, снятие граней Я, выхождение из себя и обретете своего Я в Я другого, — Друга. Дружба, как таинственное рождение Ты, есть та среда, в которой начинается откровение Истины.

Faustum praelium. · Бой счастливой.
{стр. 393}
Далекий Друг и брат!
Бесконечными кругами кружит метелица, — тонким снежным прахом засыпает окно и бьется в оконные стекла. На кусте, — что пред окном, — осел холм морозной пыли, и эта снежная пирамида растет с каждым часом. Дорожки курятся; когда попытаешься выйти наружу, то из под ног рвется снежный дым. Вззг, вззг! — взвизгивает щелями душник; ветряным порывом извлекаются завывания из печной трубы. Снова и снова крутятся снежные белые вихри. Сорван зимний убор с дерев, и стоят дерева с оголенными, простертыми ветвями, раскачиваемые.
Прислушиваешься к шуму в трубе, к вззгам отдушины. Душа замирает в смутных воспоминаниях (— или предчувствиях? —) и, кажется, будто срастворяется шумам. Кажется, будто сам весь обращаешься в метелевый вихорь. Окно уже засыпано до половины. В комнате начала водворяться сумеречная полутьма. Жидкая, синеватая тень легла на предметы. Оправляю лампаду. Ярче — золотой сноп лучей. Зажигаю еще пред Божией Матерью душистую медовую свечу янтарно–желтого воску, привезенную оттуда, где мы бродили вместе, бросаю не{стр. 394}сколько зерен ладана в глиняную кадильницу с тлеющими углями и вздуваю жар. Дымные волокна потянулись по всем направлениям; потом запутались друг в друге и смешались синеватым клубящимся облаком.
Пусть засыпает метелицею наружное окно. Так — хорошо. Так — ярче горит лампада внутри, благоуханнее клубится курево, ровнее пламя медвяной свечки. Снова я — с тобою. Каждый день воспоминаю что–нибудь о тебе, а потом сажусь писать. Так, изо дня в день, скользит к «тому берегу» жизнь моя, чтоб мог я, хотя бы оттуда, смотреть на тебя,
«любовью смерть
и смертью страсти победивши»…
Сегодня — непрестанно на уме тот морозный и метельный день, когда мы шли с тобою в скит Пара́клит. Проходили лесом. Глубокий снег был едва выезжен, и мы ежеминутно увязали. Но все–таки добрались. Несколько дней запечатлелись, как целая жизнь. Пост, общая молитва пред большим распятием. Вставали по ночам; холодно. В потемках с трудом доходили до церкви, — по сугробам. При спуске вниз, под землю, спотыкались. В церкви — полутемно, как в склепе. Помнишь ли старого–престарого схимонаха, совсем согбенного, — как преп. Серафим? Помнишь ли о. Павла, молодого запостившегося монаха, который приобщался вместе с нами? Уж и тогда было видно, что ему жить не долго; знаешь ли? он, ведь, действительно, скоро после того и умер, — от чрезмерного воздержания. Вместе с тобою приобщились; этим было положено зерно всего того, что я теперь имею. Ведь не напрасно столько раз говорил нам наш авва Исидор (— только после ухода его отсюда я начинаю понимать сокровенный смысл всегдашних, его упорных слов —):
«Брат от брата укрепляем, яко град тверд» (Прит. 18, 19). Вот это–то мне и хочется несколько осмыслить в настоящем письме.
{стр. 395}
Та духовная деятельность, в которой и посредством которой дается ведение Столпа Истины, есть любовь. Но это — любовь благодатная, проявляющаяся лишь в очищенном сознании Нужно еще достичь ее, — долгим (— ох, долгим! —) подвигом. Чтобы стремиться к ней, — непредставимой для твари, — нужно получить начальный толчок и нужно иметь поддержку в дальнейшем движении. Толчком таким бывает столь обычное и столь непонятное рассудку откровение человеческой личности, — в восприемлющем это откровение являющее себя как любовь: «Любовь, — говорит Гейнрих Гейне, — это — страшное землетрясение души» Говорю любовь; слово это употребляю и не в том смысл, в каком ранее [721], в письме четвертом, и — в том же, потому что эта любовь есть не то, что та, и, вместе, — предвосхищение той, ожидаемой. Любовь дает встряску целому составу человека, и после этой встряски, этого «землетрясения души», он может искать. Любовь приоткрывает ему двери горних миров, и тогда веет оттуда прохладою рая. Любовь показывает ему «как бы в тонком сне» лучезарный отблеск «обителей», — на мгновение сдергивает пыльный покров с твари, хотя бы в одной точке, и обнаруживает Бого–зданную красоту её; дает забыть о власти греха, выводит из себя, говорит властное «стой!» потоку мятущихся помыслов самости и толкает вперед: «иди и найди во всей жизни то, что видел в полуочертаниях и на мгновение». Да, лишь на мгновение. И, возвратившись в себя, душа тоскует об утраченном блаженстве, томится сладким воспоминанием, как сказано:
«Я помню чудное мгновенье
передо мной явилась ты,
как мимолетное виденье,
как гений чистой красоты».
Теперь душе предстоит выбор: или погружаться во грех, разъедающий личность, или же… украшать себя горнею красотою.
{стр. 396}
За моментом эроса, в Платоновском значении слова, открывается в душе φιλία, — высшая точка земли и мост к небу. Постоянно являя в лице любимого отблеск первозданной красоты, она снимает, хотя предварительно и условно, грани самостного от–особления, которое есть одиночество. В друге, в этом другом Я любящего, он находит источник надежды на победу и символ грядущего. И тут ему дается предварительное едино–сущие и, следовательно, предварительное ведение Истины. На эту–то вершину человеческого чувства и спускается небесная благодать той любви. Но, чтобы ясно представлять оттенки упоминаемых здесь понятий, необходимо вникнуть в содержание имеющихся налицо греческих глаголов любви: язык одних только эллинов выражает непосредственно эти оттенки.
Четыре глагола любви существуешь в греческом языке для запечатлетя в слове различных сторон чувства любви; это именно: — έράν, φιλεΐν, στέργειν и αγαπάν [722].
1°, — έράν или, в поэтическом язык, έράσθαι значит направлять на предмет всецелостное чувство, отдаваться предмету, для него чувствовать и воспринимать. Глагол этот относится к любви, страсти, к ревностному и даже чувственному желанию. Отсюда, έρως есть общее выражение для любви и её пафоса, а также — для любовного желания.
2°, — φιλεΐν более всего подходит к нашему «любить» в его общем значении, и противо–полагается μισεΐν и έχθαίρειν. Оттенок, выражаемый этим глаголом любви, есть внутренняя склонность к лицу, выросшая из задушевной общности и близости, и поэтому φιλεΐν относится к каждому виду любви лиц, стоящих в каких–либо внутренне–близких отношениях. В частности, φιλεΐν (с- или без прибавления τω στόματι, устами) означает внешнее выражение этой внутренней близости, целовать. Как находящее свое удовлетворение в самой близости любящих, φιλεΐν включает в себя момент довольства, само–насыценности; по объяснении древних {стр. 397} лексикографов, φιλειν значит «αρκεισθαί τινι, μηδέ πλέον έπιζητειν. — быть удовлетворенным чем, ничего более не искать». Но, с другой стороны, как чувство естественно–развивающееся, φιλειν не имеет никакого морального или, точнее, моралистического оттенка. — Φιλία, φιλότης означает дружественное отношение, нежное выражение любви, которое относится ко внутреннему расположению любящих. В частности, φίλημα — поцелуй.
3°, — στεργειν означает не страстную любовь или склонность к лицу или вещи, не позыв к объекту, определяющему наше стремление, а спокойное и непрерывное чувство в глуби любящего, так что, в силу этого чувства, любящий признает объект любви близко–принадлежащим ему, тесно с ним связанным и в этом признании обретает душевный мир; στεργειν относится к органической, родовой связи, нерасторгаемой, в силу этой прирожденности, даже злом. Такова нежная, спокойная и уверенная любовь родителей к детям, мужа к жене, гражданина к отечеству. Соответственное со στεργειν значение имеет и производное στοργή.
4°, — αγαπάν указывает на любовь рассудочную, основывающуюся на оценке любимого и потому не страстную не горячую и не нежную. Относительно этой любви мы можем дать себе отчет в рассудке, потому что в αγαπάν менее ощущений, привычек или непосредственной склонности, нежели убеждений. В общем слово–употреблении глаголов любви, αγαπάν есть речение наислабейшее и ближе всего подходящее к нашему ценить, уважать. И, чем более получает места рассудок, тем более слабнет сторона чувства. Тогда αγαπάν может значит даже «ценить правильно, не переоценивать». Так как оценка есть сравнение, выбор, то αγαπάν включает в себя понятие свободного, избирающего направления воли, — было бы интересно уяснить этимон разбираемого слова; но, к сожалению, делавшиеся опыты корне–словия αγαπάω не дали никаких решительных или даже сколько–нибудь устойчивых выводов. По Шенкелю, αγαπάω связано с {стр. 398} άγαμαι — изумляюсь, восхищаюсь и, быть может, с άγη — изумление, удивление, άγανός — достойный удивления, благородный, άγάλλω — прославляю, украшаю, γαίω — горжусь, радуюсь, γάνυμαι — радуюсь, веселюсь и с латинскими gau, gaudium, gaudere [723]. Если — действительно так, то άγαπάν, очевидно, означает «иметь свою радость в чем–нибудь». Но есть и иные объяснетя. По Прелльвицу άγαπάν — из άγα (или άγαν), т. е. «весьма», «очень», и из √pa, входящего в πάομαι — беру, приобретаю, так что άγαπαν — «весьма брать, sehr nehmen» [724] в смысле — охотно, жадно. — Однако, эта гипотеза Прелльвица отвергнута в дальнейших исследованиях (Зругманна, Фикка и Лагеркранца. Подводя итоги, автор новейшего этимологического словаря Эм. Буазак заявляет, что этимология άγαπάω, — «obscure, темна» [725].
Производные от αγαπάω: άγάπησις — любовь вообще, без отношения к чувственности или сердечности, и άγάπημα — любимый предмет.
Соотношение четырех глаголов любви таково: глагол άγαπάν во многом сходствует с φιλειν, но, как относящийся к рассудочно–моральной сторон душевной жизни, он не включает в себя идеи об охотном, непосредственно из сердца идущем действии, которое выявляло бы внутреннюю склонность; άγαπάν лишено усвоенных φιλειν оттенков «делать охотно», «лобызать» (поцелуй и есть одно из таких «охотных», непосредственных выражений чувства), обвыкнуть делать. Эта разница между φιλειν и άγαπάν у Аристотеля [726] характеризуется следующим сопоставлением обоих глаголов: καί ό φίλος των ήδέων. τό τε γάρ φιλειν ήδύ (ουδείς γάρ ρίλοινος μή χαίρων οΐνω) καί τό φιλείσθαι ήδυ φαντασία γάρ καί ενταύθα του υπάρχειν αυτω αγαθόν είναι, ου πάντες έπιθυμουσιν οί αισθανόμενοι, τό δέ φιλείσθαι αγαπάσθαι έστιν αυτόν δι αυτόν, т. е.: «и друг — из числа приятного, — говорит Аристотель: — любить ведь приятно (всякий ведь любитель вина наслаждается им) и быть любимым — тоже приятно; ибо и здесь — представление о наличности у него [у любимого] {стр. 399} блага, которого желают все знающие; быть же любимым — φιλεΐσθαι — значит быть ценимым — αγαπάσθαι — самому чрез себя», т. е. быть ценимым не по каким–нибудь внешним для самого любимого причинам, а именно из–за него самого [727].
Таким образом, φιλειν есть склонность, соединенная с самим любимым лицом и вызванная близкою совместною жизнью и единством во многих вещах; αγαπάν же не есть склонность, соединенная с самим лицом, а скорее — с его признаками, с его свойствами, и потому — склонность несколько безличная, абстрактная. Поэтому–то φιλεισθαι может быть объяснено чрез άγαπάσθαι посредством прибавки αυτόν δι εαυτόν. 'Αγαπών имеет в виду свойства лица; φιλών — самого его. Первый дает себе отчет в своей склонности, рассчитывает и взвешивает; у второго же она раскрывается непосредственно, любезна ему. Поэтому αγαπάν окрашивается морально, а φιλειν не принимает никакой моральной окраски: φιλειν ведь означает любовь естественной склонности, первоначально не свободную любовь, amare, а αγαπάν — любовь, как направление воли, определяемой рассудком, свободную любовь, diligere (в особенности этот последний момент ярко выразился в библейском словоупотреблении) и потому αγαπάν, προαιρεισθαι, διώκειν употребляются Аристотелем синонимично [728].
Что касается до отношения φιλειν к έράν, то они тоже во многом сходственны по содержанию, но только έράν относится к аффективной, чувственной и пафологической стороне любви, а φιλειν — ко внутренней проникновенности и близости.
Наконец, στοργή обозначает не вспыхнувшую страсть, έρως [729], и не возникшую личную склонность к человеку, φιλία, и не теплую оценку его качеств, άγάπη, — одним словом, не чувство возникающее у человека, как особливой личности, а от природы присущие человеку, как члену рода, приверженность, нежность и обходительность в отношении лиц, с которыми су{стр. 400}ществуют бытовые, корневые, под–личные связи: στοργή есть чувство, по преимуществу, родовое, тогда как прочие, т. е. ερως, φιλία, αγάπη — личны.
Подводя итог, в φιλεΐν можно отметить следующие черты:
1°, — непосредственность происхождения, основанного на личном соприкосновении, но не обусловленного одними лишь органическими связями, — естественность.
2°, — проникновенность в самого человека, а не только оценка его качеств.
3°, — тихий, задушевный, нерассудочный характер чувства, но в то же время и не страстный, не импульсивный, не безудержной, не слепой и не бурный.
4°, — близость и, при том, личная, нутряная.
Итак, греческий язык различает четыре направления в любви: стремительный, порывистый ερως или любовь ощущения, страсть; нежную, органическую στοργή или любовь родовую, привязанность; суховатую, рассудочную αγάπη или любовь оценки, уважение; задушевную, искреннюю φιλία или любовь внутреннего признания, личного прозрения, приязнь. В сущности, ни одно из этих слов не выражает той любви дружбы, о которой идет речь в настоящем письме, — любви совмещающей в себе моменты φιλία, ερως и άγάπη, что отчасти и пытались выразить древние сложным словом φιλοφροσύνη Но, во всяком случае, изо всех слов ближе всего под ходит сюда φιλεΐν с производными. Ввиду этого выясним несколько этимон и слово–употребление φίλος, cpавнительно с синонимичными словами той же основы.
Φίλος происходит от местоименного корня ΣFΕ (— звучащего в русском «свой» —), дающего начало четырем синонимам
| 1°, — Fετης или ετης | √ΣFΕ |
| 2°, — εταίρος | |
| 3°, — φίλος | |
| 4°, — ίδιος |
{стр. 401}
Следовательно, по основе, φ–ι-λ–ο-ς означает «своего» человека, человека близкjго. Но ведь и прочие производные от основы ΣFΕ означают «своего». Какой же оттенок дифференцирует φίλος от каждого из них?
1°, — гомеровское Fέται — это те лица, с которыми часто встречаются, имеют обычно тесное обхождение. Можно было бы передать Fέται собирательным «знать», обозначающим круг знакомства, приятелей, вообще всех известных, знакомых лиц и употребляющимся в воронежском наречии [730]; это — то же, что и древнее церковнo–славянское «знаемые», — как например в Пс. 87, 19: «уда́лил еси от мене друга и искренняго и знаемых моих от страстей».
2°, — εταίροι у Гомера означает союзников, — тех, которые имеют общее предприятие; поэтому уже Аристарх объяснил εταίροι чрез συνεργοί — со–работники. Έτης — более древняя форма того же слова εταίρος, но не ограниченная в своем содержании посредством какого–либо суффикса. 'Εταιρία и εταιρεία — союзничество.
Равнозначащее с έταΐρος старинное русское товар т. е. товарищ, равно как и ласкательные формы этого слова товарищ, товариш, товаруш происходить, по объяснению Ст. Микуцкаго [731], от √var — крыть, закрывать — и означает, собственно, защита, защитник. Русское старинное товар, товары, т. е. лагерь, воинский стан, значит, собственно, защита. Подобно тому и мадъярское var — крепость, укрепление означает, собственно, защита. Что же до частицы «то», — она есть указательное местоимение, звучащее в: русском то–пыриться (ср. пыриться); литовском toligus (ср. ligus) — равный, ровный; польском тояд (tojad, ср. яд) — ядовитое растение; чешском roztomily (roz to mily) — весьма милый. Это «то», по всей вероятности, тождественно с членом–определителем, употребляемым в болгарском языке и доселе хранящимся в некоторых северных наречиях языка русского, — особенно в костромском.
3°, — φίλος — друг, — тот, с которым мы связаны связью взаимной любви; φιλία — дружба. Соотношение φίλος с εταίρος таково: в отношении к φίλος бывают всегда {стр. 402} хорошо настроены, ибо, за отсутствием этого хорошего настроения, φίλος перестает быть для нас таковым; напротив, εταίροι — друзья случая, — друзья, как такие, с которыми лишь преследуют сообща предпринятую общую задачу. Следовательно, если φίλος и εταίρος противо–полагаются друг другу, то первое слово означает тесно и внутренне привязанного посредством любви, а второе — только лишь товарища; и даже: εταίρος иногда означает лишь политического со–партийного союзника. 'Εταίροι связаны временною, случайною и внешнею связью, а φίλοι — неразрывною (— по крайней мере она должна быть такою —), внутренно–необходимою и духовною. В этом смысл правильно равенство:
φίλος = πιστός εταίρος,
друг — верный товарищ, верный до конца и во всем; поэтому πειρασθαι φίλων — испытывать друзей есть знак недоверия и недостатка дружбы.
Об этом различии εταίρος и φίλος говорили уже древние грамматики Так, по Аммонию, «εταίρος и φίλος — различны. Φίλος ведь есть и εταίρος; εταίρος — не совсём φίλος. Поэтому и о ветре говорит Гомер (Од. 11, 7): «Надувающего паруса подлинного товарища», и иначе: φίλος обыкновенно называются все соблюдающие относительно друг друга обязанности τής φιλίας; εταίροι же — вообще находящиеся в сожительств и в со–работничестве — εν συνηθεία καί εν συνεργία».
4°, — Наконец, слово ίδιος означает «свой собственный», в противоположность тому, что нам обще со многими, т. е. κοινός, δημόσιος и т п.; ίδιος есть своеобразность, т. е. лицо или вещь в противо–положении их к другим, имеющим свою особую природу.
Таково естественное, человеческое значение глаголов любви и их производных. Но Св. Писание, восприняв некоторые из них, придало им в своем слово–употреблении новое содержание, одухотворило их и насы{стр. 403}тило идеею благодатной, Божественной любви, причем внутренняя энергия слова стала обратно–пропорциональною той человеческой энергии, которая связывалась со словом в языке классическом [732].
Слова έραν, έρως почти исключены из книг Ветхого Завета (у LXX–ти) и вовсе не допущены в книги Нового Завета. Нужно, однако, заметить, что и термины έρως, έραν нашли себе место в писаниях подвижнических. Отцы–мистики, как–то Григорий Нисский, Николай Кавасила, Симеон Новый Богослов и другие [733] пользуются этими терминами для обозначения высшей любви к Богу; напомню в частности, что у Симеона Нового Богослова целое обширное сочинение о любви к Богу даже названием имеет 'Ερωτες, т. е. «Эросы». — Φιλεΐν в Священном Писании одухотворилось и стало выражать христианские отношения любви, опирающиеся на личную склонность и личное общение. — и, наконец, бесцветное и сухое αγάπάν наполнилось духовною жизнью, а в ново–образованном, нарочито–библейском αγάπη стало выражать проникновенную, вселенскую любовь, — любовь высшей духовной свободы. — В некоторых случаях φιλεΐν и αγαπάν почти взаимо–заменимы; в других же — они дифференцируются. Так, где дело идет о заповеди любви к Богу и к ближним, там всегда говорится άγαπαν; и о любви к врагам стоит только αγαπαν, но никогда — φιλεΐν. Напротив, об интимно–личной любви Господа к Лазарю (Ин. 11, 3, 5, 36), равно как и об отношениях Его к Любимому ученику (Ин. 20, 21, ср. 13, 23, 19, 26, 21, 7) говорится попеременно φιλεΐν и αγαπάν.
Слово–употребление αγαπάν в новo–заветном языке представляется вкратце следующим образом:
а) Αγαπάν ставится повсюду там, где дело идет о направлении воли (Мф. 5, 41, 44, 1, 9 и др.), а также, — где склонность покоится на решении воли, на выборе объекта любви (Евр. 1, 9; 2 Кор. 9, 7; 1 Пет. 3, 15; Ин. 13, 19; Ин. 12, 43; Ин. 21, 15–17; Лк 6, 32). Чтобы хоть что–нибудь понять из беседы Господа с Петром (Ин. 21, 15–17), столь решаю{стр. 404}щей, — по мнению католиков, — для обоснования их притязаний, необходимо считаться с разницею значений того или другого глагола любви. Воскресший Господь Своим двукратным вопросом указывает Петру, что он нарушил дружескую любовь — φιλία — к Господу и что теперь можно спрашивать с него лишь обще–человеческой любви, лишь той любви, которую всякий ученик Христов необходимо оказывает всякому, даже своему врагу; в этом–то смысле Господь и спрашивает: αγαπάς με;». Смысл вопроса очевиден; но, чтобы выразить его по–русски, требуется распространение текста, хотя бы такое: «Когда–то ты считался Моим другом. Теперь, после твоего отречения от Меня, даже и говорить о дружеской любви не стоит. Но есть другая любовь, которую должно питать ко всем людям. Имеешь ли ты ко Мне, по крайней мере, такую любовь?». Но Петр даже слышать не хочет такого вопроса и твердит о подлинности своей личной, дружеской любви «Φιλώ σε — я друг Тебе». Вот почему он «опечалился», когда, несмотря на это двукратное заверение в его φιλία к Господу, Последний согласился лишь говорить о такой любви, и только теперь, при третьем вопрошании, сказал ему, скорее всего, тоном укора и недоверия: «Φιλεις με; — ты друг мне?». Сперва Господь вовсе не говорил о дружбе, и Петр относился к его вопросу спокойно. В Своей обще–человеческой любви к Господу он был настолько уверен, что сомнение в ней его не задевало, и он даже не считал нужным отвечать на тайный, безмерно–деликатный упрек, сквозивший в этих словах, — на фигуру умолчания. Быть может, он даже не понимал или не хотел понимать Господа в тако́м смысле. Так было дважды. Тогда Господь раскрывает Свою тайную мысль и прямо спрашивает о любви дружеской. Это–то и огорчило Апостола; «он восскорбел, что, — на третий раз, — Иисус спросил его: "Ты друг Мне?"» (Ин. 21, 17а). Так и улавливает ухо в прерывающемся его ответе слезы: «Господи! все Ты {стр. 405} знаешь, Ты знаешь, что я — друг Теб — σύ γιγνώσκεις ότι φιλώ σε» (Ин. 21, 17б). — имея в виду нетождественность слов αγαπάν и φιλειν, едва ли можно понимать всю эту беседу как восстановление Петра в его апостольском достоинстве. Трудно допустить подобный смысл уже потому, что Петр поступил нисколько не хуже (— если только не лучше —) в отношении своего учителя, нежели остальные апостолы и, значит, если Петр потерял свое апостольство, то, не менее его, — и все прочие. Ниоткуда не видно и того, чтобы он, в качестве отступника, был отлучен от общения с «двенадцатью»; напротив, ни он на себе, ни другие на нем не видят какой–либо чрезвычайной вины. Но в чем, действительно, нуждался Петр, — так это в восстановлении дружеских, личных отношений к Господу. Ведь Петр не отрекся от Иисуса, как от Сына Божия, не сказал, что отказывается от веры в Него, как Мессию (— да этого с него и не спрашивали —). Нет, но он оскорбил Господа, как друг своего друга, и потому нуждался в новом завете дружбы. — Короче говоря, разбираемое место вовсе не говорит о церковно–домостроительных событиях, — будем ли мы разуметь их как восстановление Петра в апостольстве, или как дарование ему чрезвычайных полномочий, — а касается исключительно личной судьбы и жизни Апостола. Оно назидательно, но не догматично, так что напрасно подчеркивают его католики. Только что сказанным объясняется, почему Евангелист счел возможным вынести 21–ую главу за общую раму изложения: очевидно, он не видел в ней чего–то непреложно–важного, а этого не могло бы быть при католическом её понимании.
б) αγαπάν употребляется там, где имеет место избрание и, как отрицательное избрание, не–принятие в рассчет, — eligere и negligere (Мф. 6, 24, Лк. 16, 13, Рим. 9, 13). Так, ό υιός μου αγαπητός (Лк. 9, 35, ср. Μф. 12, 13) имеет параллелью и с 42, 1, причем это место у LXX–ти передано чрез ό εκλεκτός μου.
{стр. 406}
в) αγαπάν употребляется и там, где речь идет о свободной — не органической — жалости (Лк. 7, 5, 1; Фec. 1, 4 и др.).
г) наконец, αγαπάν относится к исторически–явленному отношению христиан друг к другу.
Что же касается до αγάπη, — слова, как сказано, вполне чуждого вне–библейскому, древнему светскому языку [734], то оно означает такую любовь, которая чрез решение воли избирает себе свой объект (dilectio), так что делается само–отрицающимся и сострадательным отданием себя для и ради него. Таковая, жертвенная любовь на светской почве известна лишь как порыв, как нездешнее дуновение, но не как определение жизненной деятельности. Этим–то библейская αγάπη являет себя с чертами не человеческими и условными, а божескими и абсолютными.
Четверица слов любви — это одна из великих драгоценностей сокровищницы эллинского языка, и едва ли можно одним взглядом охватить весь круг преимуществ, доставляемых жизне–пониманию этим совершенным орудием. Другие языки не могут похвалиться даже подобным чем–нибудь в области идеи любви; отсюда — бесконечные и бесполезные прения и трения, отсюда же — потребность выдумать хотя бы суррогат эллинской четверицы, т. е. при помощи нескольких слов создать термин равно–сильный греческому одному слову.
Такие сложные термины предлагает Арнольд Гейлинкс в своей «Этике», вышедшей в 1665 году [735]. Он, именно, устанавливаешь следующие четыре вида любви:
Amor affectionis — любовь чувства,
Amor benevolentiae — любовь благожелания,
Amor concupiscentiae — любовь влечения,
Amor obedientiae — любовь уважения.
{стр. 407}
В сравнении с греческими словами любви соотношение было бы приблизительно таково, что нужно было бы приравнять:
amor affectionis и φιλία,
amor benevolentiae и αγάπη,
amor concupiscentiae и έρως,
amor obedientiae и στοργή.
Надо упомянут, при этом, что Гейлинкс признает еще формальную возможность пятого вида любви, которую он называет amor spiritualis и которую он характеризует как пассивную любовь бесплотного существа, — как любовную страсть чистого духа. Но эту отвлеченную любовь он почти не признает за величину реальную, почему, вероятно, и не вводит ее в окончательную классификацию видов любви. Что же касается до нас, то мы готовы признать, что, быть может, и есть особая любовь, свойственная бестелесной, «астральной», — но не духовной от того, — организации, и что она, быть может, находит свое осуществление в явлениях медиумического экстаза у спиритов, хлыстов, некоторых мистиков и т. д.. Но это состояние слишком мало обследовано и непосредственно нам не нужно: — позволю себе оставить его без рассмотрения [736].
Дадим схему, суммарно представляющую воззрения Гейлинкса на любовь; заметим при этом, что некоторые летая противоречия этой таблички объясняются двукратной обработкой его «Этики»: сама «Этика» относится к 1665–му году, а «Примечания» к ней — к 1675–му.
{стр. 408}
| AM | |
| AMOR DILECTIONIS | (Ни та, ни другая [737] не составляет добродетели; с — и без первой добродетель может быть; без второй хотя и не может быть добродетели, но эта последняя amor первее, чем effectionis). |
| est quaevis humana mente suavitas; | |
| non est ipsa Virtus, sed Praemium quoddam accidentale Virtutis, quod, ut subinde Virtutem consequitur, ita et subinde destituit. | |
| Любовь чувства | |
| — всякая сладость в человеческой душе; не сама добродетель, но некоторая побочная награда добродетели, которая часто как следует за добродетелью, так и покидает ее. | |
| AMOR SENSIBILIS seu CORPORALIS, | AMOR SPIRITUALIS, |
| qui est AMOR PASSIO aut | qui est approbatio quaedam — |
| AMOR AFFECTIONIS | любовь отвлеченная, которая есть некоторое одобрение. |
| — любовь чувственная или плотская, которая есть любовь–страсть или любовь влечения. Поскольку человеческая душа соединена с телом, эта любовь–страсть (т. е. страдательная любовь) есть «всецелостная, единая и единственная сладость её»; различные имена её: Laetitia, Deliciae, Jucunditas, Hilaritas, Gaudium, Jubilum; что есть сладкого в Desiderium, в Spes, в Fiducia — это страдательная любовь. Она — ни плоха, ни хороша, но — вещь безразличная (res indifferens), άδίάφορα. Иногда она порождается любовью действия (amor effectionis); это бывает часто при упражнении в добродетели. | Здесь выступает на первый план то одобрение, которым мы одобряем свои собственные действия вследствие того, что они согласны с разумом или вереховным правилом (suprema regula). Но эта отвлеченная любовь (amor spiritualis) людьми «ставится почти ни во что — pro nihilo fere ducitur, ведь люди привержены своей чувственности — addicti sunt sub sensibus». |
{стр. 409}
К стр. 407
OR
| AMOR EFFECTIONIS | |
| est quodvis firmum propositum; | |
| et non tatum firmum Propositum faciendi quod Ratio faciendum esse decernit, pertinet ad Amorem effectionis, sed generatim omne firmum Propositum aliquid agendi illo nomine intelligendum est. | |
| Любовь действия | |
| — всякое твердое намерение; и не только твердое намерение делать то, что сделать разум признает должным, относится к любви действия, но вообще под этим термином должно разуметь всякое твердое намерение делать что–нибудь, — даже несправедливость или отмщение. | |
| = amor respectu finis–cui — любовь целестремительная. Часто ее порождает amor affectionis, но это относится к необузданности (intemperantia). |
| AMOR OBEDIENTIAE | AMOR BENEVOLENTIAE | AMOR CONCUPISCENTIAE |
| — любовь уважения. Эта любовь и «составляет добродетель». Что же такое добродетель, — Virtus est propositum faciendi quod jubet Rаtio. Добродетель есть намерение делать то, что велит разум. Поэтому, добродетельная любовь есть Amor quiddam,qui nempe firmum propositum faciendi quod Recta Ratio faciendum esse decreverit — такая любовь, которая высказала твердое намерение делать то, что считает должным делать правый разум. | aut benefacientiae — любовь благожелания или благодеяния. (Вообще к добродетели не относится; в отношении же к Богу не может не быть позорной и преступной, ибо при наличности её мы ставили бы себя выше Бога и хотели бы быть более достойным, чем Он). | — любовь вожделения, влечения. (Тем менее относится к добродетели). |
[Стр. 407 и 409 — скан неразборчив]
{стр. 410}
Двойным скрепом объединяется и сдерживается религиозное общество. Во–первых, это — личная связь, идущая от человека к человеку и опирающаяся на ощущение сверх–эмпирической реальности друг друга у членов общества, как само–бытных единиц, как монад. Во–вторых, этим скрепом бывает восприятие друг друга в свете идеи о целом обществе, и тогда уже не единичная личность, сама по себе, а все общество, проэктируемое на личность, является объектом любви. Для античного общества такими двумя скрепами были έρως, как сила личная, и στοργή, как начало родовое; именно в них лежал метафизический устой общественного бытия. Напротив, естественною почвою для христианского общества, как такого, стали φιλία, в области личной, и άγάπη, — в общественной. Та и другая сила одухотворяется и претворяется, насыщаемая благодатью, так что даже брак, этот нарочитый приемник для στοργή, и древняя дружба, где преимущественно являлся έρως, в христианстве окрасились в цвет одухотворенных άγάπη и φιλία.
Стоит прочитать непосредственно один за другим три диалога, под одним и тем же заглавием «Пир», — Ксенофонта, Платона и св. Мефодия Олимпийского [738], — чтобы это облагорожение и одухотворение понятий любви выступило с удивительной пластичностью. И такое сопоставление тем нагляднее, что все три диалога написаны по одной литературной схеме и каждый последующий является сознательным подъемом над предыдущим. Можно сказать, что все три диалога — этажи одного дома, построенные на разных высотах, но имеющие приблизительно тождественное расположение комнат. И, в то время как в диалоге Ксенофонта рассматривается жизнь животная, в диалоге Платона — жизнь человеческая, а у св. Мефодия — жизнь ангельская. Так, сохраняя тот тип организации, который присущ человеку, то соотношение сил и способностей, которое заложено в его природе, человек подымается выше и {стр. 411} выше, «к почести вышнего звания» и одухотворяет все жизнедеятельности своего существа.
Агапическая сторона христианского общества, — находя себе воплощение в перво–христианской экклесии [739], в приходе, в киновии (κοινο–βία = обще–житие) монашеской, — своим высшим выражением имеет вечери любви или агапы [740], завершающиеся явно–мистическим, даже мистериальным, со–вкушением Пречистого Тела и Честной Крови. В этом цвет экклезиальной жизни — источник, питающий и всю прочую жизне–деятельность экклесии, начиная от каждо–дневного мученичества взаимного ношения тягостей и до кровавого исповедничества включительно. Такова, говорю, агапическая сторона жизни. Филическая же — воплощается в отношениях дружбы, расцвет свой находящих в сакраментальном брато–творении и со–вкушении св. Евхаристии и питающихся этим вкушением для со–подвижничества, со–перпения и со–мученичества.
Об стороны церковной жизни, т. е. сторона агапическая и сторона филическая, братство и дружество, во многом протекают параллельно друг другу; можно было бы указать ряд таких форм и схем, которые одинаково относятся, как к той, так и к другой области. Основываясь на этимологии, правда мало вероятной, можно сказать, что брат — братель бремени жизненного [741], тот, кто берет на себя крест другого. Таково или нет происхождение слова брат, во всяком случае, по существу, брат есть братель. Бремени. Но таков же именно и друг. А, с другой стороны, если друг — другое Я, то разве нельзя сказать того же и о брате. В точках высшей много–значительности, на вершинах своих, обе струи, братство и дружество, стремятся даже совсем слиться; это и понятно, ибо приобщение ко Христу чрез таинство св. Евхаристии есть источник всякой духовности. Но, тем не менее, они несводимы друг на друга; каждая по сво́ему необходима в церковной экономии, подобно тому и в свя{стр. 412}зи с тем, как каждое по своему необходимы и личное творчество и непрерывность предания: сочетание их дает двуединство, но не смешение, не отождествление. Для христианина всякий человек — ближний, но вовсе не всякий — друг. И враг, и ненавистник, и клеветник — все же ближний, но даже и любящий — не всегда друг, ибо отношения дружбы глубоко индивидуальны и исключительны. Так, даже Господь Иисус Христос называет апостолов своими «друзьями» лишь пред расставанием с ними, совсем на пороге своей крестной муки и смерти (Ин. 15, 15). Следовательно, наличность братьев, как бы любимы они ни были, не устраняет еще необходимости друга, и — наоборот. Напротив, потребность в друге — еще жгучее от наличности братьев, а данность друга включает в себя необходимость братьев. 'Αγάπη и φιλία только при недостаточной силе своей могут казаться почти одним и тем же, подобно тому как лишь нечистый брак «похож» на — нечистое!, — девство, а в пределе своем есть антиномически–сопряженная пара к пределу девства. Но, чем ярче и красочнее «раскрывшийся цветок души», тем очевиднее, тем бесспорнее антиномичность двух сторон любви, их двойственная сопряженность. Чтобы жить в среде братий, надо иметь Друга, хотя бы далекого; чтобы иметь Друга, надо жить в среде братий, по крайней мepe быть с ними духом. В самом деле, чтобы ко всем относиться, как к самому себе, надо хоть в одном видеть себя, осязать самого себя, необходимо воспринимать в этом одном уже осуществленную, — хотя бы и частично, — победу над самостью. Таким одним и является Друг, агапическая любовь к которому есть следствие филической любви к нему. Но, с другой стороны, чтобы филическая любовь к Другу не выродилась в своеобразное себя–любие, чтобы Друг не стал просто условием уютной жизни чтобы дружба имела глубину, необходимо проявление во–вне и раскрытие снаружи тех сил, которые даются дружбою, т. е. необхо{стр. 413}дима агапическая любовь к братьям. Φιλία в обще–церковной экономии (где личности — «три меры муки», а Церковь — «женщина») есть «закваска», αγάπη же — предохраняющая от разложения «соль» человеческих отношений: без первой нет брожения, творчества церковного человечества, нет движения вперед, нет пафоса жизни; а без второй — нет безгнилостности, собранности, чистоты и неповрежденности этой жизни, — нет хранения устоев и уставов, нет уклада жизни.
В своих пред–чувствиях грядущего христианства древность выдвигала и ту, и другую сторону церковной жизни. Нет надобности, конечно, указывать примеры. Полезнее отметить двумя–тремя беглыми чертами, как последующая мысль смотрела на дружбу (говорю: «на дружбу», ибо отношение её к братству достаточно известно и не нуждается в напоминаниях [742]).
Открывающееся в сознании друзей их мистическое единство проникает собою все стороны жизни их, озолачивает и каждо–дневное. Отсюда выходит, что и в области простого со–работничества, просто товарищества Друг делается величиною бо́льшею по своей ценности, нежели последняя того эмпирически стоит. Помощь Друга приобретает таинственный и любезный сердцу оттенок; выгода от него делается святынею. Эмпирическое дружбы перерастает себя, упирается в небо и врастает корнями в земные, ниже–эмпирические недра. Может быть, — да и не может быть, а конечно, — в этом именно лежит причина той настойчивости, с которою и древние и новые, — и христиане, и иудеи, и язычники — восхваляли дружбу в её утилитарном, воспитательном и житейском моменте.
«Двум лучше, чем одному, так как у них есть доброе вознаграждение за труд их; потому что, если они упадут, то один поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лягут двое, то тепло им; а {стр. 414} одному ка́к согреться? И если станет пересиливать кто–нибудь одного, то двое противо–станут ему. И нитка втрое сплетенная, не скоро порвется» (Ек. 49, 12). Это — относительно жизненной взаимо–помощи. Но далее: взаимным трением и приспособлением друзья воспитывают друг друга: «железо острит железо и человек острит взгляд друга своего» (Прит. Сол. 27, 17). Самая близость друга радостна: «Масть и курение радуют сердце, но сладкая речь друга лучше душистого дерева» (Прит. Сол. 27, 9). Друг — опора и покров в жизни: «верный друг — крепкая защита; кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. Верный друг — врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что каков он сам, таким делается и друг его» (Сир. 6, 14–17).
Чрез утилитарно–практические соображения о выгоде и приятности дружбы тут явно сквозит духовная оценка дружбы, и она выступает еще более явно и ясно, если вспомнить те обязанности, которые требуются в отношении к другу. Истинный друг узнается лишь в несчастии: «друг любит во всякое время и сделается братом во время бедствия» (Прит. Сол. 17, 17). Должно быть верным другу: «Не покидай друга твоего» (Прит. Сол. 27, 10), говорит Премудрый, а Сын Сирахов высказывает ту же мысль полнее: «Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним: друг новый — то́ же, что вино новое; когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его» (Сир. 9, 12–13). Помощь другу есть «приношение Господу» (Сир. 14, 11), и потому, «прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку, и давай ему. Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя» (Сир. 14, 13–14); и еще: «Не забывай друга в душе твоей, и не забывай его в имении твоем» (Сир. 37, 9).
Друзья связаны теснейшим единством: «иной друг {стр. 415} более привязан, чем брат» (Прит. Сол. 18, 24), и поэтому дружба ничем не может быть разрушена, кроме как тем, что направлено прямо против самого единства друзей, что ударяет в сердце Друга, как Друга, — вероломством, издевательством над самою дружбою, над святынею её: «Наносящий удар глазу вызывает слезы, а наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное. Бросающий камень в птиц, отгонит их; а поносящий друга расторгнет дружбу. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся: ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, не бойся: ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга» (Сир. 22, 21–25); «Открывающий тайны потерял доверие, и не найдет друга по душе своей. Люби друга, и будь верен ему. А если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Ибо как человек убивает своего друга, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел, и убежал, как серна из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение» (Сир. 28, 16–22). И, наконец, другу должно принадлежать высшее доверие и высшее прощение. Услышав слово на друга своего, «расспроси друга твоего, может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил того; и если сказал, то пусть не повторит того, расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому слову верь» (Сир. 19, 13–16). Высшее доверие, какое можно оказать человеку, это, — не смотря на худые суждения о нем, не смотря на явные факты, свидетельствующие против него, не смотря на всю действительность, говорящую против него, — все же верить в него, т. е. принимать на вид лишь суждение его собственной совести, его собственные слова. А выс{стр. 416}шее прощение — в том, чтобы, и это приняв, вести себя так, как если бы не было ничего, забыть о происшедшем. Такое доверие и такое прощение нужно оказывать другу. Вот почему он — самое близкое к сердцу существо; вот почему Библия, желая указать на внутреннюю близость Моисея к Богу, называет его «другом Божиим» (Исх. 32, 11, Иак. 2, 23). Библия показывает и осуществление этого идеала дружбы в живой действительности. Разумею трогательную до остроты дружбу Давида с Ионафаном, изображенную в словах немногих, но, быть может, от того именно трогательных до боли: «Как будто для меня именно написанных», — подумает о них каждый.
«… душа Ионафана прилепилась к душе его (Давида), и полюбил его Ионафан, как свою душу…. Ионафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои и меч свой, и лук свой, и пояс свой» (1 Цар. 13, 1, 3, 4). «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя», — говорил Ионафан Давиду (1 Цар. 20, 4). «Ты принял раба своего в завет Господень с тобою; и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня» (1 Цар. 20, 8). «И снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему: ибо любил его, как свою душу» (1 Цар. 20, 17). «Давид пал лицом своим на землю, и трижды поклонился; целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более» (1 Цар. 20, 41).
Потрясающие стоны 87–го Псалма обрываются воплем, — о друге. Для всяких скорбей находятся слова, но потеря друга и близкого — выше слов: тут — предел скорби, тут какой–то нравственный обморок. Одиночество — страшное слово: «быть без друга» таинственным образом соприкасается с «быть вне Бога». Лишение друга — это род смерти. «Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою…. Душа моя на{стр. 417}сытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы между мертвыми брошенный— как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, в мрак, в бездну… Око мое истомилось от горести; весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои Я несчастен и истаеваю с юности; несу указы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня, всякий день окружают меня, как вода: обличают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего: знакомых моих не видно».
Царь–Пророк в своих Псалмах строит мост от Ветхого Завета к Новому. Так и дружба его с Ионафаном решительно подымается над уровнем утилитарной дружбы Ветхого Завета и предвосхищает трагическую дружбу Нового. Тень глубокого, безысходного трагизма легла на этого Предка Христова; и честная земная дружба от этой тени сделалась бесконечно углубленной и бесконечно сладкой для нашего, имеющего Евангелие, сердца. Мы полюбили трагизм: «сладкая стрела христианства ноет в нашем сердце», как говорит В. В. Розанов.
Антиномия αγάπη–φιλία намечалась уже в книгах Ветхого Завета. Может быть, ее смутно провидели и эллинские «христиане до Христа». Но полностью она впервые открылась в той Книге, в которой безумно–ясно и спасительно–остро выявились антиномии духовной жизни, — в Евангелии.
Равно–мерная любовь ко всем и к каждому в их единстве — сосредоточенная в один фокус любовь к некоторым, даже к одному в его выделении из общего единства; явность пред всеми, открытость со всеми — эсотеризм, тайна некоторых; величайший демократизм — {стр. 418} строжайший аристократизм; безусловно все — избранные и из избранных избранные; «проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15, ср. Кол 1, 23) — «не мечите бисера пред свиньями»; одним словом, αγάπη–φιλία, — таковы антиномичные двоицы Благой Вести. Сила Евангелия — в том, что оно всем доступно, не нуждается в истолкователе; то сила его — и в том, что оно насквозь эсотерично, что тут ни одного слова правильно нельзя понимать без «преданий старцев», без истолкования духовных наставников, преемственно передающих от поколения к поколению смысл Евангелия. Книга, прозрачная как хрусталь, есть в то же время Книга за семью печатями. Все равны в христианской общине, и, в то же время, вся структура общины иерархична. Около Христа — несколько концентрических слоев, ведающих все больше и глубже по мepe своего сужения. Снаружи — внешние «толпы народа»; затем идут «окружавшие Христа; затем — тайные ученики и сторонники вроде Никодима, Иосифа Аримафейского, Лазаря с сестрами, женщин, ходивших за Господом и т. д.; далее — избранные: «семьдесят», за ними — «двенадцать», еще за ними — «трое», т. е. Петр, Иаков и Иоанн и, наконец, «один», «которого любил Господь» (Ин. 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7, 20). Таково характерное построение священной общины учеников Христовых. Напоминать ли, далее, проповедь притчами, ограничение круга свидетелей тем или другим концентрическим слоем, объяснение притчи наедине?
«ученики же Его спросили у Него: "Что́ бы значила притча сия?" — Он же сказал: "Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим — в притчах, чтобы (— читающий да разумеет! —) они видя не видели и слыша не слышали — ϊνα βλέποντες μή βλέπώσιν και άκονοντες μή βλέπώσιν"» (Лк. 8, 1). (Ν. Β.).
И все–таки, если это и многое другое доказывает несомненную эсотеричность христианства [743], то не меньшее количество данных (— они хорошо известны! —) доказывает полную его эксотеричность. Эксотеризм и эсо{стр. 419}теризм не совместимы рассудочно и примиряются лишь в самой таинственной жизни христианской, а не в рассудочных формулах и рациональных схемах.
Дружественная, филическая структура братской, агапической общины христтан характеризует собою не только иерархическое и филархическое отношение сo–членов её по направлению к центру, но и мельчайшие обломки общины. Подобно кристаллу, община не дробится на аморфные, уже некристаллизованные. — на омиомэрные или подобно–целые части. Предел дробления — не человеческий атом, от себя и из себя относящийся к общине, но общинная молекула, пара друзей, являющаяся началом действий, подобно тому как такою молекулою языческой общины была семья. Это — новая антиномия, — антиномия личности–двоицы. С одной стороны, отдельная личность — все; но, с другой, она — нечто лишь там, где — «двое или трое». «Двое или трое» есть нечто качественно–высшее, нежели «один», хотя именно христианство же создало идею абсолютной ценности отдельной личности [744]. Абсолютно–ценною личность может быть не иначе как в абсолютно–ценном общении, хотя нельзя сказать, чтобы личность была первее общения, или общение — первее личности. Первичная личность с первичным общением, — рассудочно исключающие друг друга, — даны в жизни церковной, как факт, — зараз. И если в возникновении той или другого мы не можем мыслить их онтологической равно–сильности, то в осуществленной действительности мы тем менее способны мыслить их онтологически не равно–сильными Духовная жизнь личности неотделима от предварительного её общения с другими но самое общение непонятно вне уже имеющейся духовной жизни. Эта связанность общения и духовной жизни выразительно указана в Святой Книге.
Призвав «двенадцать» учеников, Господь посылает их на проповедь по два, — καί ήρξατο αυτους αποστέλλειν δύо δύο — причем это отправление по два ставится в связь {стр. 420} с дарованием власти над нечистыми духами, т. е. харисмы, — первее всего, — целомудрия и девственности: «и призывает их… и начал посылать по два,… и дал им власть над духами нечистыми …» (Мк. 6, 7).
Точно таково же было отправление «семидесяти»; избрав «семьдесять» Господь тоже послал их по два, — καί άπέστελειν αυτούς άνά δύο (Лк. 10, 1), — причем тоже даровал им дар исцеления (Лк. 10, 9) и власть над бесами (Лк. 10, 17, 19, 20). Кроме того, в разбираемых текстах Мк. и Лк. содержится подразумеваемый намек и на ведение тайн Царствия, хотя бы на частичное: ведь тут говорится об отправлении на проповедь, а проповедь предполагает такое ведение. Не случайно также, надо полагать, и отправление Иоанном Крестителем ко Христу двух своих учеников (Мф. 11, 2), когда надо было духовно прозреть в Личность Иисуса и определить, Христос ли Он. Впрочем, надо оговориться, что это место — «посла два от ученик своих, рече ему… πέμψας δύο των μαθητών αύτου είπεν αύτω» — иною критикою текста [745] исправляется так: «послав сказал ему чрез учеников своих, διά των μαθητών αύτου». Но это исправление, если оно и имеет текстуальные основания, однако не меняет смысла, ибо парное число посланных учеников Иоанна подтверждается у Лк. 7, 18: «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить — καί προσκαλεσάμενος δύο τινας τών μαθητών αυτού ό’Ιωανης έπεμψεν προς τον Κύριον λέγων».
Итак, ведение тайн, т. е. духо–носность обращенная, так сказать, внутрь, равно как и чудо–творение, т. е. духо–носность обращенная, так сказать, наружу, или, короче, духо–носность вообще — имеет основою пребывание учеников по два. «Двое» не есть «один да один», но нечто по существу бо́льшее, нечто по существу более много–знаменательное и могучее. «Двое» [746] — это новое соединение химии духа, когда «один да один» («опара» притчи) преобразуются качественно и образуют третье («вскисшее тесто»).·
{стр. 421}
Эта мысль, — развернутая, — красною нитью проходит через всю 18–ую главу Мф. Но я отмечу лишь некоторые сочленения из связи мыслей.
В виду разговоров учеников Христовых о согршающем брате Господь указывает на их власть вязать и решить (Мф. 18, 18). Но так как сущность этой власти — в духовном ведении тайн Царствия, в постижении духовного мира и воли Божией [747], то внутреннее ударение 18–го стиха — именно напомнить ученикам о гнозисе их, о их духовности. А далее, в непосредственно–следующем стихе 19–м, Господь как бы парафразирует Свою мысль, переводя только что высказанное им — на лад иных понятий, но оставляя нетронутым внутренний смысл высказанного:
«Опять таки воистину говорю вам — παλιν αμήν λέγω υμιν, — т. е. «еще раз», «повторяю», — что если бы двое — δύο — согласились бы из вас на земле о всяком деле, — чего если бы попросили, то будет им от Отца Moero Небесного. Где, ведь — γάρ — собраны двое или трое — δύο ή τρεις — в Мое имя — εις τό έμόν όνομα, — там Я есмь посреди них» (Мф. 18, 19–20).
Ведение тайн или, частнее, власть вязать и решить есть еще — πάλιν — со–пpошение двух со–гласившихся во всякой вещи на земле, т. е. вполне смиривших себя друг перед другом, вполне победивших противоречия и противо–мыслия и противо–чувствия до единосущия друг другу. Со–прошение такое всегда исполняется, — говорит Спаситель. Почему же так? A потому, что — γάρ — собранность двух или трех во Имя Христово, сo–вхождение людей в таинственную духовную атмосферу около Христа, приобщение Его благодатной силы [748] претворяет их в новую духовную сущность [749], делает из двух частицу Тела Христова, живое воплощение Церкви (— Имя Христово есть мистическая Церковь! —), воцерковляет их. Понятно, что тогда — и Христос «посреди них», — Он посреди них, как душа «посреди» каждого члена одушевляемого ею тела. Но Христос {стр. 422} едино–сущен Отцу Своему, и поэтому Отец делает то, о чем просит Сын. — Власть вязать и решить имеет в основt своей симфонию двух на земле о всяком деле, победу самости, едино–душие двух, разумеемое уже не условно и ограничительно, но до точности и безгранично. Но, во–первых, на земле это достигается, но не достижимо безусловно; во–вторых, мера достижения есть вместе и мера кротости. Непосредственно на объясненное Господом («тогда приступив, τότε προσελθών» Μф. 18, 21) самонадеянный и стремительный Петр вопрошает Его: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня — ποσάκις άμαρτήσει εις εμέ ό αδελφός μου καί αφήσω αύτω;? — до семижды ли?» (Μф. 18, 21), т. е. желает знать норму и границу прощения (семь — число полноты, завершенности, законченности, предела [750]). Но это «до семижды», этот предел прощения именно и указывал бы на плотскую ограниченность прощающего грех против него, на отсутствие в нем истинной духовной любви (совсем другое дело — прощение греха против Духа, — против Самой истины), — было бы лишь видоизменением самости. В отношениях, ограниченных сколько–нибудь кратным прощением, вовсе нет христианской силы, это — отношения не–духовные. Вот почему Господь отвечает Апостолу: «Не говорю тебе: До семижды, но — до семижды семидесяти раз» (Мф. 18, 22), т. е. без какой–либо ограничительности, без конца, всецелостно и всемилостиво (ибо седмижды семьдесять означает уже не конечность, а всецелостную полноту, актуальную бесконечность) [751].
Таким образом, чтобы осудить человека за грех против судящего, необходимо стать на высоту не человеческую, а Божескую, необходимо ведать тайны Божии. Осуждение заключалось бы в исполнении воли Божией. Но ведать тайны Царства можно лишь в полной любви, доходящей у двоих до симфонии во всем (— частный случай чего представляет старчество —). {стр. 423} Эта симфония теперь не может быть осуществлена человеческими усилиями, но лишь осуществляетcя, — в бесконечном смирении пред другом своим, — в прощении греха против себя «до седмижды семидесяти раз».
Загадочная [752] притча Господа о «домоправителе неправедном» (Лк. 16, 1–8) выражает ту же идею прощения, как основы дружбы. Богач притчи — это Бог, Богатый творчеством, а домоправитель, οικονόμος — человек. Приставленный к Божиему имению, т. е. к той жизни, которая вверена ему, к тем силам и способностям, которые вручены ему для осуществления их, для приумножения их (— ср. притчу о «талантах» —), человек расточает свою жизнь, нерадит о своей творческой способности, расхищает имение Божие. Но вот Бог требует его к отчету; человек должен оставить все, чем он воображал себя владеющим и что, на деле, было лишь доверено ему; предстоит лишиться всех внешних сил, которыми он пользовался при жизни, затем тела с его органами и, наконец, душевного устроения, которое выгорит в огне судном. Предстоит человеку оказаться «нагим» и «нищим», «вне» дома Божия, ибо господин объявил ему уже: «Ты не можешь более управлять» (Лк. 16, 2). Управитель понимает, что его положение безвыходно, ибо жил он только на Божие имение, а не на свое, и что собственного творчества жизни у него нет и быть не может: «Что мне делать, — сказал он сам себе. — Господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом» (Лк. 16, 3, 4). Итак, изгоняемый из дома Божия он хочет обеспечить себе место хотя бы в домах других других людей, т. е. в душах, в молитвах, в мыслях других людей, — в памяти Церкви. Какие же меры предпринимает он для этой памяти о себе, для этого приема своего в чужие домы? А вот что: «призвав {стр. 424} должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: "Сколько ты должен господину моему?". Он сказал: "Сто мер масла". И сказал ему: "Возьми твою расписку и садись, скорее напиши. пятьдесят". Потом другому сказал: "А ты сколько должен?". Он отвечал: "Сто мер пшеницы". И сказал ему: "Возьми твою расписку и напиши: восемьдесять"» (Лк. 16, 6–7). Другими словами, домоправитель неправедный счеркивает с должников господина своего часть того, что они должны господину его, убавляет часть их долга пред господином своим, т. е. в своем сознании сокращает их грехи пред Богом. Моралистически, юридически, законнически этот поступок есть новый проступок пред господином. Этот поступок «неправеден», так как «праведность» есть применение закона тождества, и «по–праведному» должно говорит о должнике, — тем более чужом, — как о должнике, но нельзя — как о не–должнике, и — о каждом долге, — тем более другому, — так, каков есть он, а не так, каков он не есть. Законнически — вообще нельзя прощать грех; ни во всяком случае, никак нельзя прощать грех не против себя, а против Бога. Но, в духовной жизни, эта–то «неправедность» и требуется: сознавая себя виновным пред Богом, должным Богу, грешным пред Богом и нуждаясь в прощении Божием, достоит и другим отпускать их грехи, уменьшать меру их виновности. Да, мы! не имеем «права» покрывать то, что составляет обиду не нам, а Богу, — что затрагивает не нас, а Бога. Кажется даже весьма естественным, по ревности к славе Божией, усугублять вины других людей, подчеркивать, что мы «не сочувствуем» их грехам, что должников Божиих мы готовы считать чуть не своими собственными должниками. И однако, «похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16, 8). Неправедно прощая чужие грехи мы более оправдываем себя, неправедных «сынов века сего», нежели праведно осуждая {стр. 425} чужие грехи могли бы оправдать себя, праведных «сынов света». Но это должно делать наедине, с каждым грешником порознь, втай, — воистину покрывая грех его, так, чтобы в самом деле убавить в своем сознании грех его, а не просто показать свое великодушие другим: такое, открытое прощение было бы не только не достигающим цели, т. е. не покрывало бы греха брата, но и, напротив, вдобавок возбуждало бы в других соблазн делать грех: «Все равно де простят».
Смысл рассматриваемой притчи — это православное понимание канонов, в противоположность пониманию католическому. Согласно последнему, канон есть церковно–правовая норма, «закон», который должен быть исполнен и неисполнение которого должно быть удовлетворено «сатисфакцией» [753]. Напротив, по православному пониманию каноны — не законы, а регулятивные символы церковного общества. Никогда они не выполнялись целиком, да и нельзя ждать, чтобы были выполнены когда–либо до точности; но всегда их должно было и должно есть иметь в виду для яснейшего сознания своей виновности пред Богом. «Вот, помни, — как бы говорит св. Церковь своим чадам, но говорит каждому наедине, негласно, втай, — помни, каким до́лжно быть и что́ следовало бы по справедливости тебе за то, что ты не удовлетворяешь правде Божией. Но вина твоя убавляется тебе, не потому, что ты хорош, не за твои заслуги, а потому, что Бог милосерд, долготерпелив и многомилостив. Смотри же, будь смиренен и не осуждай других, когда они виновны, хотя бы ты видел их виновность с такою же несомненностью, как "долговую росписку"».
Имущество приточного господина все благо и все праведно. Но управитель, чтобы отпустить часть долгов должникам господина, в сущности, брал себе из имения господина отпускаемую часть долга и как бы дарил ее, уже от себя, должникам; тот долг, который отпускал он должникам, был, в отношении к {стр. 426} нему, имуществом незаконным, «Богатством неправедным», «мамоною неправды», «μαμονά τής αδικίας» (Лк. 16, 9). Ведь никакое имущество само по себе не бывает праведным или неправедным, законным или незаконным: оно просто есть, и есть благо [754]. Но, всякое имущество, в отношении к лицу, им овладевающему, законно или незаконно, праведно или неправедно. И, для приточного домоправителя, имение господина, которое он расхищал, сперва на себя, затем — на других, и, стало быть, рассматривал как бы свое, было «Богатством неправедным», и в том, и в другом случае.
Также точно, и возможность покрывать грех из милосердия Божия, на счет благости Божией, не принадлежит нам и, для нас, если мы усваиваем ее себе, есть «Богатство неправедное». Но так как мы и без того все время всячески расхищаем это Богатство на себя самих, на покрытие своих грехов, то единственное, что остается нам, — как мера на случай нашего отрешения от этого Богатства милости Божией, — это обеспечить себе место в сердцах других людей, «в вечных обителях», и тогда Господь, быть может, похвалит нашу догадливость. Это обеспечение себе места есть ничто иное, как создание дружеских связей. «И Я говорю вам, — поясняет притчу Сам Спаситель: — приобретайте себе друзей Богатством неправедным— έαυτοις ποιήσατε φίλоυς εκ του μαμωνά τής αδικίας, — чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители — ινα όταν έκλυπη δέξωνται υμάς εις τάς αιωνίους σκηνάς» (Лк. 16, 9).
Возвращаюсь к той мысли, что дружба по–двое была осуществлена в среде учеников Христовых и что эта связь по–двое выразилась в распределении их по–двое для проповеди. Дружба эта была для них делом жизни, а не мимолетным и случайным сотрудничеством попутчиков или со–товарищей, и на эту прочность двойственных отношений явно указывает твердо–установившаяся ассоциация апостольских имен по два. «В {стр. 427} перечне апостолов замечается явное намерение называть имена попарно, вероятно как посылались они Христом на проповедь, апостольствовали при жизни Господа …» [755], утверждает один известный экзегет.
Если — так, то уже загодя можно предположить, что эти пары не случайны, но спаяны чем–то более крепким, нежели внешние соображения об удобстве исполнять совместно общее дело. Действительно, три пары определяются родственными, кровными и даже братскими связями; таковы двоицы:
Андрей – Петр — сыновья Ионы.
Маков – Иоанн — сыновья Зеведея.
Иаков Алфеев – Иуда Симон (?) Леввей–Фаддей — сыновья Алфея.
Что касается до прочих трех, то, кажется, такою внешнею затравкою для образования духовной связи, такою завязью тут было сродство характеров, — быть может, единство миро–чувствия и миро–созерцания, или какие–либо особенности в жизни до- или после следования этой группы за Христом; к этим парам относятся:
Филипп – Нафанаил Варфоломей.
Матфей Левий – Фома Близнец.
Иуда (Симон) Искариот – Иуда (?) Симон Кананит–Зилот Клеопа (?).[756]
Наконец, можно добавить сюда еще две пары:
Тимофей – Павел.
Лука – Сила
В народных легендах, — вообще нередко «искажающих» историческую фактичность в пользу высшей правды и {стр. 428} осмысленности повествований [757], — такая связь между харисматическими дарами и дружбою двух запечатлена со всей отчетливостью. Дар исцеления, в народном сознании, получают лишь пары последователей Господних, а не отдельные, отъединенные друг от друга, — так сказать а–филические, — личности. Поэтому–то, — как приметил уже Авг. Моммзен [758], а за ним А. П. Шестаков — [759], апостолы–целители, да и вообще святые–целители, являются в народных сказаниях привычно вдвоем; таковы например:
апп. Петр и Иоанн,
— Петр и Павел,
свв. Косма и Дамиан,
— Кир и Иоанн,
— Пантелеимон и Ермолай,
— Самсон и Диомид (Диомофей)
— Трифон и Фалалей (Далалей),
— Муций и Аникита.
Парность духо–носных личностей несомненна. И каковы бы ни были первоначальные толчки к их дружбе, — из тех даров, которые получили они в своей дружбе, необходимо заключить и к таинственной спайке их личностей. По–парное распределение апостолов было замечено уже и древними экзегетами.
Так, по словам бл. Иеронима [760],
«По двое призываются и по двое отправляются ученики Христовы, ибо любовь не бывает с одним, почему и говорится: «Горе одинокому» — Bini vocantur, et bini mittuntur discipuli Christi, quoniam caritas non consistit cum uno. Unde dicitur: Vae soli».
Бл. Августин говорит [761]: «Что же касается до того, что посылает по двое, то это есть таинство любви, или потому, что двое — заповедь любви, или потому, что никакая любовь не может быть менее, нежели как между двумя — quod autem binos mittit, sacrаmentum est caritatis, sive quia duo sunt caritatis praecepta, sive quia omnis caritas minus quam inter duos esse non potest».
{стр. 429}
Таинство любви, — sacramentum caritatis — вот высший мотив для жизни вдвоем, — хотя слово caritas поставлено здесь, вероятно, за недостатком более точного латинского обозначения для искренней любви друзей. Но есть и низший мотив, поскольку люди слабы, нуждаются во внешней поддержке друга и в сдержке от искушений; тут друг — тоже необходим, — даже хотя бы как свидетель, который может во–время отдернуть в сторону от падения. Так рассуждали св. Иоанн Златоуст, в 14–ой главе «Толкований на книгу бытия», и св. Григорий Богослов, в Слове 17–ом. Самое присутствие другого человека способно рассеивать напряженность греховного помысла. Преподобный Серафим Саровский неохотно советовал селиться в пустыни. «В монастыре, — говорил он в пояснение, — иноки борются с противными силами, как с голубями, а в пустыни — точно как со львами и леопардами». — Эта последняя сторона, — сторона взаимного присмотра, — особенно врезалась в сознание монахов, преимущественно же — католических; но так как она стоит вне области моей работы, то я опускаю ее [762] Замечу только, что сюда же примыкают и наши православные запрещения ходить монахам в одиночку, запреты св. Серафима Саровского жить ученикам его по одному и т. д.
Какую важность придавал Господь дружбе, показывает рассмотренная выше притча о домоправителе неправедном. Замечательно, что тут вовсе не говорится о благотворительности из мамоны неправды, о помощи бедным. Нет, непосредственною целью выставляется не филантропия, а приобретение себе друзей, дружба: «и Я говорю вам: приобретайте себе друзей Богатством неправды — έαυτοις ποιήσατε φίλους έκ του μαμωνά της άδiκίας (Лк. 16, 9)». На это место обратил внимание уже св. Климент Александрийский [763]. Он говорит:
«Господь не сказал: «Дай» или «Доставь», или «Благодетельствуй», или «Помоги», но — «Сделайся дру{стр. 430}гом», потому что дружба выражается не в одном даянии но в полном самопожертвовании и продолжительном сожительстве».
Мистическое единство двух есть условие ведения и, значит, — явления дающего это ведение Духа Истины. Вместе с подчиненностью твари внутренним законам, данным ей Богом, и полнотою целомудрия, оно соответствует пришествию Царства Божия (— т. е. Духа Святого —) и одухотворению всей твари. По замечательному преданию, сохраненному в так называемом «Втором послании св. Климента римского к Коринфянам»,
«Сам Господь, спрошенный кем–то: «Когда придет Его Царство», ответил на этот вопрос: «Когда будет два — одним, и наружное, — как внутреннее, и мужеское вместе с женским — не мужеским и не женскиме — όταν εσται τα δύο εν, καί το εξω ώς το έσω, καί τό αρσεν μετά της θηλείας, ουτε αρσεν ουτε θήλυ» [764].
Вот как толкует этот загадочный аграф сам Климент:
«"Два же одно есть", когда бы говорили друг другу правду и в двух телах нелицемерно была одна душа. И "наружное как внутреннее", это значит: душу называет (Христос) внутренним, наружным же называет тело. Каким образом, значит, является — φαίνεται — твое тело так и душа твоя будет явною в прекрасных делах твоих (έν τοις καλοίς έργοις. — Ν. В.: сказано καλοίς, прекрасных, а не αγαθοις, благих, добрых). И "мужеское с женским — не мужеское и не женское", это значит: чтобы брат, увидев сестру, не помыслил о ней женского (относящегося до женщины, θηλυκόν, т. е. как о женщине), ни она не помыслила чего о нем мужеского (αρσενικόν, т. е. как о мужчине) [765]. "Это когда будете вы делать, — говорит, — то придет Царство Отца Моего"» [766].
Но это толкование, — весьма правдоподобное! — относится более к внешне–психологической стороне Гряду{стр. 431}щего Царства и мало проникает в онтологические условия, при которых станет возможна такая жизнь души. Думается, что сам аграф достаточно говорит за себя, стоит только взять его, как он есть. Но сейчас мне важен лишь первый член аграфа, а именно: «когда будет два одним — όταν εσται τά δύο εν», т. е. Указание на доведенную до конца дружбу, — разумея ее не столько со стороны действий и чувств, не номиналистически, сколько со стороны метафизической почвы, на которой возможно полное едино–душие, — реалистически.
У свв. отцов много–краты повторяется мысль о необходимости, наряду со вселенскою любовью — άγάπη, и уединенной дружбы — φιλία. Насколько первая должна относиться ко всякому, не взирая на всю его скверну, настолько же вторая должна быть осмотрительною в выборе друга. Ведь с другом срастаешься, друга, вместе с его качествами, принимаешь в себя; чтобы не погибнуть обоим, тут нужно тщательное избрание.
«Ουκ εστιν ούδέν κτήμα βελτιον φίλου.
πονηρόν ανδρα μηδέπου κτήση φίλον
— нет никакого приобретения лучшего нежели друг; но лукавого человека никогда не приобретай себе в друзья», высказывается св. Григорий Богослов [767]. А в другом месте он расточает все лучшие слова, лишь бы достойно оценить важность дружбы:
«Друга верного нельзя ничем заменить, — так начинает он, обращаясь к св. Григорию Нисскому, — и несть мерила доброте его. Друг верен кров крепок» (Сир. 6, 14–15) и огражденное Царство (Прит. 18, 12); друг верный — сокровище одушевленное. Друг верный дороже золота и множества драгоценных камней. Друг верный — «вертоград заключен, источник запечатлен» (Песн. Песн. 4, 12), которые временно отверзают, и которыми временно пользуются. Друг верный — пристанище {стр. 432} для упокоения. А ежели он отличается благоразумием, то сие сколько еще драгоценнее. Ежели он высок ученостию, ученостию всеобеемлющею, какою должна быть и и была некогда наша ученость, то сие сколько преимущественнее? А ежели он и «сын Света» (Ин. 12, 36), или «человек Божий» (1 Тим. 6, 11), или «приступающий к Богу» (Исх. 19, 22), или «муж» лучших «желаний» (Дан. 9, 22), или достойный одного из подобных наименований, какими Писание отличает мужей Божественных, высоких и принадлежащих горнему: то сие уже дар Божий, и очевидно выше нашего достоинства» [768].
Раз уж друг избран, то дружба с ним имеет, по Григорию Богослову, черты безусловности. Словом, — говорит он, — «полагаю меру ненависти, но не дружбе, ибо ненависть должно умерять, а дружбе, не должно знать пределов — τούτώ μετρώ μίσος, άλλ’ ού φιλίαν, τό μέν γάρ μετρεΐσθαι δει, τής δε μηδένα γινώσκειν όρον» [769].
В чем же выражается эта беспредельность дружбы, это «незнание ею предела»? — По преимуществу — в ношении немощей друга своего, — до беспредельности: во взаимном терпении, во взаимном прощении. «Дружество перенесет все, что ни терпит и ни слышит — πάντα οίσει φιλία και πάσχουσα και άκούουσα» [770].
Интересы друзей сливаются; достояние одного делается достоянием другого и благо одного — благом другого.
«Ξυνη γάρ πάντεσσι πέλει χάρις, ευτε τις έσθλών
έσθλα πάθη, θεσμώ κιρναμένης φιλίης
— ведь когда один из хороших испытал что–нибудь хорошее, то, в силу уз соединяющей дружбы, общая радость бывает у всех их» [771].
Самое «едино–мыслие — ведет начало от Троицы, так как Ей и по естеству всего свойственнее единство и внутренний мир» [772].
Поэтому, — как бы вторит Святителю авва Фалассий, — «любовь, постоянно простертая к Богу, соединяет любящих с Богом и друг с другом» [773]. Или, в другом месте, — еще определеннее:
{стр. 433}
«Одна любовь соединяет создания с Богом и друг с другом во единомыслие» [774].
Подобные же мысли высказывались другими отцами; приведу несколько случайных выдержек. Так, св. Василий Великий видит в общении людей их глубочайшую органическую потребность:
«Кто не знает, что человек есть животное кроткое и общительное, а не уединенное и дикое? Ничто ведь так не свойственно нашей природе, — говорит он, — как иметь общение друг с другом и нужду друг в друг и любить соплеменных — τις ουν ουκ οίδεν, ότι ήμερον καί κοινωνικόν ζώον ό άνθρωπος, καί ουχι μοναστικόν, ουδέ αγριον; Ουδέν γαρ ούτως ίδιον τής φυσεως ήμών, ώς τό κοινωνεϊν άλλήλοις, καί χρήζειν άλλήλων, καί άγαπαν τό ομόφυλον (— qui ejusdem sunt generis —)» [775].
Между любящими разрывается перепонка самости и каждый видит в друге как бы самого себя, интимнейшую сущность свою, свое другое Я, не отличное, впрочем, от Я собственного. Друг воспринимается в Я любящего, — оказывается в глубоком смысле слова приятным ему, т. е. приемлемым им, допустимым в организацию любящего и нисколько не чуждым ей, не извергаемым из неё. Любимый, в изначальном смысле слова, — приятель, «приятелище» [776] для друга своего, ибо, как мать младенца, так любящий приял его в недра свои и под сердцем носит. Так, правда по несколько иному случаю, говорит Поэт:
«Сумрак тут, там жар и крики,
— я брожу, как бы во сне, лишь одно я живо чую —
Ты со мной и вся во мне» [777].
Приятие в душу дружеского Я сливает во–едино два раздельных потока жизни. Это жизненное единство получается не как порабощение одной личности другою, и даже не как сознательное рабство одной личности пред другою. Дружеское единство нельзя тоже назвать уступкою, уступчивостью. Это — именно единство. Один чув{стр. 434}ствует, желает, думает и говорит не потому, что так именно сказал, подумал, возжелал или почувствовал другой, а потому, что оба они чувствуют — в одно чувство, желают — в одну волю, думают — в одну думу, говорят — в один голос. Каждый живет другим; или, лучше сказать, жизнь как одного, так и другого, течет из в–себе–единого, общего центра, творческим подвигом ставимого другами над собою. Поэтому–то разные проявления его всегда сами собою бывают гармоничны. Да, сами собою, — не чрез напряженное чувство, или волю, или думу, или словесную формулу, выставляемую, как принцип единства. Словесная ли формула, система ли таковых, дающая программу, — все равно, это подобно–сущное единство или союз, alliance, совсем не то, что едино–сущное единство или единство в собственнейшем смысл слова, unite [778].
В ноуменальных недрах други определяют свою дружбу, — не в плоскости полу–призрачной и бескрылой феноменальности («психики»). Поэтому–то други образуют двуединство, диаду; они — не они, а нечто большее, — одна душа.
По словам Марка Минуция Феликса, друг его Октавий любил его так горячо, что во всех важных и серьёзных и даже в маловажных делах, даже в забавах, их желания были во всем согласны. «Можно было подумать, что в обоих была разделена одна душа» [779].
Иначе и быть не может: ведь друзья, — так утверждает Лактанций, — «и не могли бы быть привязанными дружбою столь верной, если бы в обоих не была одна душа, одна и та же мысль, одинаковая воля, равное мнение»[780]
Общая жизнь — это общая радость и общее страдание. В дружбе — не со–радование, и со–страдание, а созвучное радование и созвучное страдание: состояния первого рода идут от периферии души к центру её и относятся к тем, кто сравнительно дальше от нас. Но {стр. 435} радость и страдание совсем близких, возникая в самом центре нашей души, устремляются отсюда к периферии; это — уж не отражение чужого состояния, а собственное созвучное состояние, — собственная радость и собственное страдание. Уже Аристотель, — применительно к страданию, — подметил эту разницу переживаний [781]. Еврипид же, в своей трагедии «Геракл», дает нам художественное доказательство такого различия, сопоставляя страдания Амфитриона и Геракла, Амфитриона и Фесея [782].
Но если близкие связи вообще благоприятны для созвучных переживаний, то почвою по преимуществу приспособленною к ним бывает дружба: по утверждению св. Максима Исповедника «верный друг несчастия друга считает своими и терпит их вместе с ним, страдая до смерти» [783]. Ведь, вообще отличительное преимущество любви, по св. Нилу Синайскому, — в том, что она объединяет всех, до самого внутреннего расположения души; вследствие такого единства каждый свои страдания передает всем другим, а сам от других принимает их страдания [784]. Все за всех отвечают и все за всех страдают.
Объединясь так, существом своим, и образуя рассудочно непостижимое дву–единство, други приходят в едино–чувствие, едино–волие, едино–мыслие, вполне исключающие разно–чувствие, разно–волие и разно–мыслие. Но, вместе с тем, будучи активно ставимым, это единство — вовсе не медиумическое взаимо–овладение личностей, не погружение их в безличную и безразличную, — а потому и несвободную, — стихию обоих. Оно — не растворение индивидуальности, не принижение её, а подъем её, сгущение, укрепление и углубление. Тем более относится это к дружбе. В отношениях дружбы незаменимая и ни с чем не сравнимая ценность и своеобразность каждой личности выявляется во всей красоте своей. В другом Я личность одного открывает свои задатки, духовно оплодотворяемые личностью другого. По слову Платона, {стр. 436} любящий рождает в любимом [785]. Каждый из друзей для личности своей получает утверждение, находя свое Я в Я другого. «имеющий друга. — говорит Златоуст, — имеет другого себя — άλλον εαυτόν έχει» [786].
«Любимый для любящего, — рассуждает св. Отец в другом месте, — то же, что сам он. Свойствo любви таково, что любящий и любимый составляют уже как бы не двух отдельных лиц, а одного человека — ταυτα γάρ έστι φιλία, μηκέτι είναι τον φιλουντα και τον φιλουμενον δυο διηρημένους, άλλ' ένα τινά άνθρωπον» [787].
Разделенность в дружбе — лишь грубо–физическая, только для зрения в самом внешнем значении слова. Потому–то, в стихире на день Трех Святителей, 30–го января, поется о них, живших в местах различных, как o «разделеннех телесне, но совокупленнех духовне». Но при житии совместном даже тело становится как бы единым. Так, Киево–печерский иеросхимонах Антоний, описывая кончину архимандрита Мелетия, пишет: «Тридцать с лишним лет были мы с ним в теснейшем дружеском общении, а последние три года у нас было так, что мы стали как–бы тело едино и душа едина» [788].
И мощь и трудность службы — не в фейерверочно вспыхивающем подвиге минуты, а в неизменно теплящемся терпении жизни. Это — тихое пламя елея, а не взрыв газа. Героизм — всегда лишь украшение, а не суть жизни, и, как украшение, он непременно имеет свою законную долю рисовки. Но, становясь на место жизни, он неизбежно вырождается в грим, в более или менее правдоподобную позу. Самый непосредственный героизм — в дружбе, в пафосе её; но и тут героизм — лишь цветок дружбы, а не стебель и не корень её. Героическое расточает, а не собирает; оно всегда живет за счет другого, питается соками, добытыми житейскостью. Тут, во тьме житейскости, кроются тончайшие и нежнейшие корни дружбы, добывающие {стр. 437} истинную жизнь и сами не видные ничьему взору, порою даже не подозреваемые никем. Но они питают данную в настоящем жизнь, а раскрывшийся цветок героизма, если не будет пустоцветом, произведет лишь семя другой, будущей дружбы [789].
Дружеская любовь относится не к отдельным точкам духовного оживления, не к встречам, впечатлениям и праздникам жизни, а ко всей жизненной, даже житейской, даже будничной действительности, — требует «внимайте себе» именно там, где «герой» совсем распускает себя. Если говорилось, что нет великого человека для его лакея или, лучше, нет героя для его лакея, то ведь на то один из них — герой, а другой — лакей. Ведь героизм не выражает существенного величия личности, а лишь надевает его на срок; пред лакеем же остается только самим собою. Но в дружбе — наоборот. Всякое внешнее действие одного кажется другому недостаточным, потому что, зная душу друга, он видит несоответственность какого угодно действия внутреннему величию души. По отношению к герою одни удивляются, другие — им пренебрегают; одни увлекаются им, другие — ненавидят. Друг же никогда не удивляется своему другу и не пренебрегает им; не увлекается им и не ненавидит его. Он — любит; а для любви бесконечно–милою, безценною и весь мир со всеми соблазнами его перевешивающею бывает именно эта, единственно эта любимая душа. Ведь φιλία знает друга не по внешней обрисовке, не по платью героизма, а по его улыбке, по его тихим речам, по его слабостям, по тому как он обращается с людьми в простой, человеческой жизни, — по тому как он ест и спит.
Можно риторически говорить речи — и обмануть. Можно риторически страдать, даже умереть можно риторически и — обмануть своею риторикою. Но нельзя обмануть повседневною жизнью, и истая проба подлинности души — чрез жизнь вместе, в дружеской любви. Тот или другой акт героизма может совершить всякий; {стр. 438} интересным может быть всякий; но так улыбнуться, так сказать, так утешить, как делает это друг мой, может лишь он один, и никто более. Да, никто и ничто в мире не возместит мне потери его. Тут, в дружбе, начинается выявление личности, и потому тут начинается и настоящий, глубинный грех и настоящая, глубинная святость. Можно сказать великую ложь о себе во многих томах сочинений; но нельзя и малейшей произнести в жизненном общении с другом: «Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку» (Прит. Сол. 27, 19). Соотношение житейского и героического похоже на соотношение черт лица и случайных бликов на нем: последние могут быть эффектны, но они не касаются того, что нам дорого в лице или отвратительно, что нам привлекательно или ненавистно. Дружба же построяется на этих полу–тенях, выявляющих черты лица, на улыбках, на просто жизни, — на той самой жизни, где воистину воцаряется или любовь или ненависть, окончательные. Отыми от человека его героизм, — и человек останется тем, что он есть; попробуй мысленно выделить из него его глубинную святость или глубинную любовь, его сокровенную жизнь и сокровенный грех, сквозящие в каждом жесте, и… не останется человека вовсе, подобно тому как если бы выделить из влаги водород её.
Это конечное разложение, эта фракционная перегонка человека полностью совершается Духом Святым, при конце веков. А здесь, теперь такое разделение может совершаться чрез человека, дружески любящего, ибо только он станет указывать нам наше сокровенное. Тут еще раз обнаруживается метафизическая природа дружеской связи. Дружба — не только психологична и этична, но прежде всего онтологична и мистична. Так на нее смотрели во все времена все углубленные созерцатели жизни. Что́ же есть дружба? — Созерцание Себя через Друга в Боге.
{стр. 439}
Дружба — это видение себя глазами другого, но пред лицом третьего, и именно Третьего. Я, отражаясь в друге, в его Я признает свое другое Я. Тут естественно возникает образ зеркала, и он вот уже много веков стучится за порогом сознания. Пользуется им и Платон: друг, — по утверждению величайшего из знатоков των ερωτικών, Платоновского Сократа, — «в любящем, как в зеркале, видит самого себя — ώσπερ δέν κατόπτρω έν τω έρώντι εαυτόν όρων» [790]. А через дважды двенадцать веков почти дословным отзвуком вторит ему Шиллеp: «Поза видел, — говорит он, — в этом прекрасном зеркале (т. е. в друге своем Дон Карлосе) себя самого и радовался собственному изображению» [791]. Это обретение и узнание себя в созвучном чувстве друга конкретно изображено в словах Карлоса к Филиппу:
«Как сладко, хорошо в душе прекрасной
себя преображать; как сладко думать,
что наша радость красит щеки друга,
что наша грусть другую грудь сжимает,
что наша скорбь глаза другие мочит» [792].
Но Гомер, еще раньше Платона, по поводу дружбы заметил, что «Божество всегда ведет подобного к подобному — ώς αιει τον όμοιον αγει θεός ως τον όμοιον» [793] и делает их знакомыми (на это место ссылается и Платон в «Лизисе»), а Ницше, после Шиллера, утверждает, что каждый человек имеет свой μέτρον и что дружба — это два человека, но один общий μέτρον или что, другими словами, дружба есть одинаковый строй двух душ [794].
Но друг — не только Я, но и другое Я, другой для Я. Однако, Я — единственно, и все, что есть другое в отношении Я, то уж — и не–Я. Друг — это Я, которое не–Я: друг — contradictio, и в самом понятии о нем завита антиномия. Если тезис дружбы есть тождество и подобие, то её антитезис — не–тождество и не–подобие. Я не могу любить то что не есть Я, ибо {стр. 440} тогда допустил бы в себя нечто чуждое себе. Но, вместе с тем, любя я хочу не того, что сам я есмь: в самом деле, на что́ же мне то, что у меня уже́ есть. Эта само–противоречивость дружбы раскрыта юным Платоном в Лизисе»; а заново ее открывает Шиллеp.
«Любовь, — говорить он относительно дружбы, в противоположность приведенному выше, — любовь возникает не между двумя однозвучными душами, а между гармонически звучащими»; и еще: «С удовольствием, — пишет Юлий, обращаясь к своему другу Рафаэлю, — с удовольствием вижу я свои чувства в своем зеркале, но с пламенным наслаждением пожираю я твои высшие, которых мне недостает» [795].
В любви происходить размен существ, взаимное восполнение. «Когда я ненавижу, — заверяет Шиллер рукою своего Юлия, — я нечто отнимаю от себя; когда я люблю, я обогащаюсь тем, что я люблю» [796]. Любовь обогащает; Бог, — имеющий совершенную любовь, — Он — богатый: Он богат Сыном Своим, Которого любит; Он — Полнота.
Подобие — τό όμοιον — и не–подобие или противоположность — τό εναντίον — равно необходимы в дружбе, образуя её тезис и антитезис. В Платоновой диалектике эта антиномичность дружбы снимается или, точнее, прикрывается совмещающим то и другое понятием свойственности; друзья. — говорится у Платона, — «по естеству свои друг другу, — οικείοι» [797], — в том смысле «свои», что каждый из них есть часть другого, восполняющая метафизический недостаток его существа и потому однородная с ним. Но ни логическое понятие свойственности, ни равно–значительный с ним, вековечный по пластичности мивический образ андрогина [798] не может засыпать пропасть между двумя устоями дружбы, ибо и понятие это и образ этот, на самом деле, суть ничто иное, как сокращенное обозначение антиномии Я и не–Я.
{стр. 441}
Еще можно уподобить дружбу консонансу. Жизнь — сплошной ряд диссонансов; но чрез дружбу они разрешаются, и в дружбе общественная жизнь получает свою осмысленность и примиренность. Но, как строгий унисон не дает ничего нового, а тоны близкие, но не равно–высокие, сочетаются в невыносимые для уха перебои, — так же и в дружбе: чрезмерная близость в строении душ, но при отсутствии тождества, ведет к ежеминутным толчкам, к перебоям, невыносимым по своей неожиданности и непредвидимости, — раздражающим словно мигающий свет.
Тут, в понятии консонанса, мы опять–таки укутываем антиномию, ибо консонирующие тоны должны быть чем–то равны между собою и, в то же время, — разны. Но, какова бы ни была метафизическая природа дружбы, — дружба существенное условие жизни.
Дружба дает человеку само–познание; она открывает, где и как надо работать над собою. Но эта прозрачность Я для себя самого достигается лишь в жизненном взаимо–действии любящих личностей. «Вместе» дружбы — источник её силы. Даже об общинной жизни св. Игнатий Богоносец, указывая на таинственную, чудо–творную силу, получаемую христианами от жизни вместе, писал ефесянам:
«Итак, старайтесь плотнее собираться для благодарения Бога и славы. Ведь когда вы бываете плотно на одном месте, то счищаются силы Сатаны и устраняется гибель его в едино–мыслии вашей веры — έν τή όμονοία ύμών της πΐστεως. Ничего нет лучше мира, в котором прекращается всякая война небесных и земных» [799].
Тут явно указывается, что «вместе» любви не должно ограничиваться одною отвлеченною мыслию, но непременно требует ощутимых, конкретных проявлений, — до «тесноты» в касании включительно. Надо не только «любить» друг друга, но надо и быть вместе {стр. 442} ποκνώς, тесно, стараться быть по возможности ποκνοτερον теснее друг к другу. Но когда же друзья бывают теснее друг к другу, как ни при поцелуе? Самое название поцелуя сближает его со словом целый и показывает, что глагол целоваться означает приведение друзей в состояние целостности, единства. Поцелуй — духовное объединение целующих друг друга лиц [800]. Преимущественная же связь его именно с дружбою, с φιλία видна из греческого названия его, — φίλημα; кроме того, — о том было уже упомянуто, — φιλειν, с прибавлением τφ στόματι, устами, или же без него, — прямо значит целовать.
Надо жить общею жизнью, надо будничную жизнь просветить и пронизать близостью, даже внешнею, телесною, и тогда у христиан явятся новые, неслыханные силы — препобеждающие Сатану, смывающие и удаляющие все его нечистые силы. Вот почему тот же Святой пишет св. Поликарпу, епископу смирнской церкви, и значит, тем самым — всей Церкви: «Со–трудитесь друг другу, со–старайтесь, со–бегите, со–страдайте, со–отдыхайте, со–бодрствуйте, как Божии домо–правители и гости и слуги» [801].
Быть может, имея пред духовными очами эти слова уже ушедшего Наставника, св. Поликарп Смирнский в свой черед учил филипписийцев:
«Имеющий любовь — αγαπην — далек от всякого греха» [802].
И тут опять повторяется основная мысль. Любовь дает особые силы любящему, и силы эти препобеждают грех; они смывают и удаляют, — по словам Богоносца, — силы Сатаны и его гибель.
Это же самое твердят и другие люди, ведающие законы духовной жизни. Так, старец Свирского монастыря о. Феодор пред смертью уговаривал отечески тихо:
«Отцы мои! Господа ради друг от друга не разлучайтесь, поелику ныне в пребедственное время ма{стр. 443}ло найти можно, дабы с кем по совести и слово–то сказать» [803].
Слова эти в высшей степени примечательны: ведь в них говорится не о том, чтобы не злобствовали, не гневались друг на друга, или не ссорились друг с другом. Нет, тут вполне определенно сказано o необходимости быть вместе, — быть внешне, телесно, эмпирически, житейски.
И такое купно–житие Церковью считалось и считается столь непреложно–необходимым, столь существенно связанным с лучшим в жизни, что даже над усопшим мы слышим Её голос: «Се что добро́, что красно́ еже жити братии вкупе». При гробе одного из близких мне запало в сердце это воздыхание о дружбе. Даже тогда, — думалось мне, — даже тогда, когда покончены все счеты с жизнию, даже тогда вспоминается, — со жгучим желанием, — о совместной жизни, об идеале дружбы. Нет ничего уже, — нет самой жизни! Но, все ж, остается тоска по дружескому общению. Не следует ли отсюда, что дружба–то и составляет последнее слово собственно–человеческой стихии церковности, вершину человечности? Пока человек остается человеком, он ищет дружбы. Идеал дружбы — не врожден человеку, а априорен для него [804]: это — конститутивный элемент его естества.
Иоанн Златоуст [805] даже истолковывает всю христианскую любовь, как дружбу. В самопожертвовании ап. Павла, в готовности его и в геенну броситься ради любимых, он видит «пламенную любовь» дружбы.
«Я хочу, — говорит он, — представить пример дружбы. Друзья дороже отцов и сыновей, — друзья о Христе». Далее приводится пример перво–христиан Иерусалимской общины, изображенной в Деян. 4, 32, 35. «Вот дружба, — продолжает св. Отец, — когда кто не почитает своего своим, но — принадлежащим ближнему, а собственность ближнего считает чуждою для себя, — когда один так бережет жизнь другого, как свою соб{стр. 444}ственную, а тот платит ему взаимно таким же расположением!». В отсутствии такой дружбы Златоуст усматривает грех человечества и источник всех бедствий и даже ересей. «Но где же, — скажут, — можно отыскать такого друга? именно, нигде нельзя; потому что мы не хотим быть такими, а если бы захотели, — было бы можно и даже очень можно. Если бы это было в самом деле невозможно, то Христос не заповедал бы того и не говорил бы так много о любви. Великое дело дружба и в какой мере великое, того никто не может понять, этого не выразит даже никакое слово, разве кто узнает по личному опыту. Непонимание её произвело ереси; оно делает еллинов доселе еллинами» и т. д.
Быть вместе, со–пребывать требуется в общинной, приходской жизни. Но тем более это «со-» относится к дружеской жизни, где конкретная близость имеет особую силу, и тут это «со-» получает гносеологическое значение. Это «со-», разумеемое как «несение тягостей» друг друга (Гал. 6, 2), как взаимное послушание, есть и жизненный нерв дружбы и крест её. И потому, на нем, на этом «со-» столько раз настаивали опытные люди на всем протяжении церковной истории
Так, говоря о хождении монахов по два, Фома Кентерберийский приводит народную пословицу: «Miles in obsequio famulum, clericus socium, monachus habet dominum», т. e.: «для воина послушник — слуга, для клирика — сотоварищ, для монаха — господин».
Да; и всякая дружбы, как и вообще жизнь христианская в этом смысле есть монашество. Каждый из друзей безропотно смиряется пред своим спутником жизни, как слуга пред господином: тут вполне оправдывается французская пословица: «Qui a compagnon, a maitre, — у кого спутник, у того — и господин». В этом–то и лежит послушание дружбы, несение креста Друга своего.
{стр. 445}
Верность раз завязавшейся дружбе, неразрывность дружбы, строгая, как неразрывность брака, твердость до конца, до «кровей мученических» — таков основной завет дружбы, и в соблюдении его — вся сила её. Много соблазнов отступиться от Друга, много искушений остаться одному или завязать новые отношения. Но кто порвал одни, тот порвет и другие, и третьи, потому что путь подвига подменен у него стремлением к душевному комфорту; а последний не будет достигнут, не может и не должен быть достигнутым ни при какой дружбе. Напротив, каждый пройденный подвиг придает крепость дружб. Как при кладке стен, чем больше льют воды на кирпич, тем крепче стена, так и от слез, пролитых из за дружбы, она делается лишь прочнее.
Слезы — это цемент дружбы, но не всякие, а те, которые струятся от не могущей выразить себя любви и от огорчений, причиненных другом. И, чем больше дружба, — тем больше слез, а чем больше слез, — тем больше дружбы.
Слезы в дружбе — это то же, что вода при пожаре спиртового завода: больше льют воды — больше вздымается и пламя.
И было бы ошибкою думать, что слезы — только от недостатка любви. Нет, «существуют зерна, которые прорастают в нашей душе только под дождем слез, пролитых из за нас; а между тем, эти зерна приносят прекрасные цветы и целительные плоды. — и я не знаю, решился бы я полюбить человека, который никого не заставил плакать. Очень часто те, кто наикрепче любил, наиболее заставлял страдать, ибо неведомо какая нежная и застенчивая жестокость обычно бывает беспокойною сестрою любви. Любовь ищет во всяком месте доказательств любви, а кто́ не склонен находить эти доказательства прежде всего в слезах любимого? — Даже смерти не было бы достаточно, чтобы убедить любящего, если бы он решил выслушивать {стр. 446} требования любви, ибо мгновение смерти кажется слишком кратким внутренней жестокости любви; по ту сторону смерти есть место для моря сомнений; те, кто умирает вместе, не умирает, быть может, без тревоги. Здесь нужны долгие и медленные слезы. Скорбь — главная пища любви; и всякая любовь, которая не питается, хотя бы немного, чистою скорбью, умирает подобно новорожденному, которого стали бы кормить, как взрослого. — Нужно, — увы!, — чтобы любовь плакала, и весьма часто именно в тот самый момент, когда подымаются взрыды, цепи любви куются и закаливаются на всю жизнь» [806].
Рано или поздно является внутренняя близость личностей, теснейшее сплетение двух внутренних миров. «Прежде, — говорит один из героев Шекспира, — прежде, я любил тебя, как брата, но теперь уважаю тебя как душу свою». Прежде отношение было поверхностное, внешнее; теперь — перешло к мистическим корням друзей. Общение душ происходит теперь уже не в явлениях, а глубже. Друг по́-милу хорош, а не по–хорошему мил. Всякий внешний ищет моего, а не меня; Друг же хочет не моего, но меня. И Апостол пишет: «ищу не вашего, но вас — ού γάρ ζητώ τά υμών, αλλά υμας» (2 Кор. 12, 14). Внешний домогается «дела», а Друг — «самого» меня. Внешний желает твоего, получает из тебя, от полноты, т. е. часть и часть эта тает в руках, как пена. Только друг, желая тебя, каков бы ни был ты, получает в тебе всё, полноту, и богатеет ею. Получать от полноты — легко: это значит жить на чужой счет. И давать от полноты не трудно. Получать же полноту трудно, ибо нужно сперва принять самого Друга, и в нем найти полноту, а Друга нельзя принять, не отдавая себя; давать же себя трудно. Поверхностный и периферический дар требует такой же отплаты; а нутряной и центральный дар требует и отдачи нутряной и центральной. Поэтому, щедрою рукою разбрасывай внешним от пол{стр. 447}ноты своей, из себя; не скупись в своем. Но только Другу своему, — тайно, — передай скудость свою, — себя, да и то не ранее, как скажет тебе Друг твой: «Не твоего прошу, — тебя; не твое люблю, — тебя; не о твоем плачу, — о тебе».
Когда же у друзей настанет откровение каждого в каждом, тогда вся личность, с её полнотою, делается прозрачною, — до предвидения того, что сокровенно, до ясно–зрения и ясно–слышания.
«В каждой дружбе, сколько–нибудь продолжительной, — говорит М. Метерлинк [807], — наступает таинственный момент, когда мы начинаем различать, так сказать, точное место нашего друга относительно неизвестного, окружающего его, положение судьбы относительно него. Вот с этого–то момента он действительно принадлежит нам…. Непогрешимое ведение, кажется, беспричинно зародилось в нашей душе в тот день, когда глаза наши открылись таким образом, и мы уверены, что такое–то событие, которое, кажется, уже, подкарауливает такого–то человека, не сможет настигнуть его. С этого момента особая часть души царит над дружбою существ даже самых темных. — Происходит как бы перестановка жизни. И когда мы встречаем случайно одного из тех, кого мы узнали так, и говорим с ним о падающем снеге или о проходящих женщинах, то есть в каждом из нас что–то, что приветствует друг друга, рассматривает, вопрошает помимо нашего ведома, интересуется случаями и разговаривает о событиях, которые невозможно нам понять».
Но это взаимное проникновение личностей есть задача, а не изначальная данность в дружбе. Когда оно достигнуто, дружба силою вещей делается нерасторжимою, и верность личности Друга перестает быть подвигом, потому что не может быть нарушена. Пока же такое, высшее единство не достигнуто, верность есть и всегда считалась церковным сознанием за нечто не об{стр. 448}ходимое не только ради сохранения дружбы, но и ради самой жизни друзей. Соблюдение раз начатой дружбы дает всё, нарушение же является нарушением не только дружбы, но и подвергает опасности самое духовное существование отступника: ведь души друзей уже начали срастаться.
Между тем, есть страсть, которая предостерегает дружбу, — которая в одно мгновение ока может разорвать священнейшие привязанности. Страсть эта — гнев. Его–то и нужно бояться более всего друзьям. «Ничто, — говорит один психолог [808], — ничто не уничтожает с такой неудержимостью действие запретов, как гнев, потому что его сущностью является разрушение и только разрушение, — как выразился Мольтке о войне. — Это свойство гнева делает его неоценимым союзником всякой другой страсти. Самые ценные наслаждения попираются нами с жестокой радостью, если они пытаются задержать взрыв нашего негодования. В это время ничего не стоит порвать дружбу, отказаться от старинных привилегий и прав, разорвать любые отношения и связи. Мы находим какую–то суровую радость в разрушении; и то, что носит название слабости характера, по–видимому, сводится, в большинстве случаев, к неспособности приносить в жертву свое низшее «я» и все то, что кажется ему милым и дорогим».
Приведу же два житийных повествования, выясняющих церковный взгляд на необходимость соблюдения дружбы. —
О нарушении дружественной любви от вспыхнувшего гнева и о грозных последствиях такого нарушения говорит в свое время весьма распространенная и популярная «повесть»: «О двою брату подуху, о евагрии диаконе, и тите попе», в поучение братии изображенная, между прочим, и на стене притвора в храме Зосимовой пустыни, что́ близ Троицко–Сергиевой Лавры; вот эта повесть [809]:
{стр. 449}
«Два брата беста подуху восвятой обители печерской евагрии диякон, тит же поп, иместа же любовь велику и нелицемерну между собою, яко всем дивитися единоумию их и безмерной любви. Ненавидяйже добра диавол, яже всегда рыкает яко лев, ища когождо поглотити, и сотвори вражду и ненависть межь ими. Яко и влице нехотяху видети друг друга, и уклоняхуся друг от друга, многаждыже братия моливше их. еже хотяху егдаже стояше вцеркви евагрии, идущуже титу скадилницею, отбегаше евагрии фимиана, егдажели небегаше, то преминоваше его тит некадив, и пребысть много время во мраце греховнем, тит убо служаше прощения невозмя, евагрииже комкаше гневаяся [т. е. приобщался в состоянии гнева], насе врагу вооружившу их. Некогда–же тому титу разболевшуся вельми, и уже внечаянии лежащу, паче плакатися своего лишения. ипосла смолением кдиакону глаголя: прости мя брате Бога ради, яко безума гневахся на–тя. Сии же жестокими словесы проклинаше его, старцыже тии видевше тита умирающа, влечаху евагрия нуждею дапроститися з’братом. Болныиже видев брата, мало восклонився паде ниц пред’ногама его сослезами глаголя: простимя отче и благослови; онже немилостивый и лютыи отвержеся предевсеми глаголя: николиже сним хощу прощения имети, ни в'сии век нив’будущии, и абие исторгся отрук старцев тех падеся, ихотевшим воставити его. И обретоша его мертва, и немогаша ему нируку протягнути ниуст свести, яко давно уже умерша, болныиже скоро востав, яко николиже болев. ужасошажеся старцы онапрасней смерти его. и оскором исцелении того. и много плакавше погребоша евагрия, отверсты имуща уста и очи, и руце растяжены. Вопросишаже тита что се сотворися: тотже исповедаше отцем глаголя; видех рече аггелы отступльша отмене, и плачущеся одуши своей [т. е. моей] бесиже радующся огневе моем, и тогда начах молити брата дапростит мя. егдаже приведоша его ко мне и видех аггела немилостива держаща пламенное копие, и егдаже непростимя, удари его и падеся мертв. мнеже по{стр. 450}дает руку и воз’стави мя. Рече авва ияков: якоже светильник втемне ложнице просвещает ю. тако и страх божии внидет в сердце человеку. просвещает его и учит всем заповедем божиим».
Чтобы пояснить теперь, что́ именно я называю верностью дружбы, приведу рассказ блаженного Иоанна Мосха о двух Иерусалимских подвижниках–друзьях. Вот этот благоуханный цветок с безыскусного и полного благодатной простоты «Луга Духовного» [810]:
«Говорил авва Иоанн отшельник, по прозванию «Огненный»:
Я слышал от аввы Стефана Моавитского:
Однажды мы были в монастыр великого киновиарха — του μεγάλου κοινοβιάρχου — св. Феодосия. Были там два брата сотворившие клятву — ни в жизни, ни в смерти своей не разлучаться друг от друга. Ну, хотя были они в киновии строителями всех, — один брат подвергся блудной брани и, не имея сил перенести брань, говорит брату своему: «Отпусти меня, брат! Потомучто одолевает меня блуд, и намереваюсь я уйти в мир». Брат же начал увещевать его и говорит:
— Нет. Брат, не губи своего труда.
Тот же говорит ему:
— Или иди вместе со мною, чтобы я сотворил дело, или отпусти меня уйти.
Брат же, не желая отпустить его, ушел с ним в город. Ну, вошел в притон блудницы подвергшийся брани брат; а другой брат, стоя наружи, персть взяв от земли, начал сыпать на свою голову и сокрушал себя сильно. Ну, когда вышел вошедший в блудилище, сотворив дело, говорит ему другой брат:
— Что пользы, брат мой, получил ты от этого грехa? Не повредил ли ты себе, наоборот? Пойдем обратно в свое место.
— Он же говорит ему:
{стр. 451}
— Уж более не могу я идти в пустыню. Ты, значит, ступай. Ведь я останусь в миру.
Ну, когда после многих стараний он все–таки не убедил его следовать за ним в пустыню, то и сам остался с ним в миру, и оба начали они работать, чтобы кормиться.
В то время авва Авраамий, недавно состроивший свою обитель, так называемых, «авраамитов», сделавшись затем архиепископом ефесским, — благолепный — καλός — и кроткий пастырь, — созидал свой монастырь, — так называемый, «византийцев». Ну, отойдя, оба брата стали работать там и получали плату. И впавший в блуд получал плату обоих и отправлялся каждый день в город, и тратил ее на распутство. Другой же — каждый день постился к с великим молчанием был, делая дело, — не говоря ни с кем. Мастера, видя его каждодневно не едящим, не разговаривающим, но всегда сосредоточенным, говорят о нем и об его образе жизни иже во святых авве Авраамию. Тогда великий Авраамий призывает труженика в свою келлию и спрашивает его, говоря:
— Откуда ты, брат? и какое у тебя занятие?
Он же все исповедал ему и говорит: «ради брата я все терплю, чтобы Бог, видя скорбь мою, спас брата моего».
Услыхав это Божественный Авраамий говорит ему:
— И Господь даровал тебе душу брата твоего!
Ну, как только отпустил авва Авраамий брата и тот вышел из келлии, как вот пред ним — брат его, восклицая:
— Брат мой, возьми меня в пустыню, чтобы спастись мне!
Немедленно, значит, взяв его он удалился в пещеру, близ святого Иордана, и затворил его там, и немного времени спустя, весьма продвинувшись вперед к Богу духом, тот скончался. Оставался же брат в той пещере согласно клятве, чтобы и самому скончаться там же».
{стр. 452}
Вот еще несколько черточек дружбы, обрисовываемых самою жизнью. — После смерти одного из близких, мне достался его дневник. Среди многих других жизненных затруднений покойный мучился этим трагизмом дружбы, этой необходимостью положить душу свою за друга, — собственно и точнее, — кажущеюся бессмысленностью такой жертвы. И, думается, было много взаимного непонимания. Мне думается также, что покойный так и не сумел смириться до конца. Но, для пояснения мысли моей, для конкретности представлений o дружбе, его заметки дают довольно ценный материал. Привожу чуть ни наудачу несколько отрывков из разных мест этого дневника, почти в их сыром виде: «М*** спит еще, высыпается от заутрени и обедни. Но моя мысль непрестанно возвращается к нему и гонит сон. М*** положительно беспокоит меня. Что́ я для него делаю? Что́ я даю ему? Он болен — и телом и душою. Он скучает, ему пусто на душе. И ни одной крупинки содержания я не́-дал ему доселе. А ведь я, — хорошо чувствую это, — я должен буду ответить за него Богу… Я даже о ближнем не умею пещись. Ведь Евангелие отменило то метафизическое понимание ближнего, согласно которому «ближний, ό πέλας» есть родственник и т. д., одним словом, человек связанный не воззрительно–пространственными связями, а иными, более онтологичными, и установило геометрическое понимание ближнего. «ближний, ό πέλας» есть тот, кто близко, πέλας, по́д–боком. С кем столкнулся, с кем случилось быть близко — о том и заботься. А бросил одного, — что ручается тогда за твою верность кому либо другому? Нечего залетать в надзвездные края. Довольно, довольно с нас платонизма! М*** — мой ближний, ибо он — самый близкий ко мне, — в одной комнате со мною. Но, Господи! научи меня, что делать мне, чтобы дать ему мира и радости, — чтобы приобрел М*** чрез меня Твое успокоение».
{стр. 453}
«Молиться ли, чтобы тебе было хорошо, или чтобы ты был хорош? Молюсь о последнем, Друг и брат мой, и страдаю твоим страданьем».
* * *
«Майков где–то говорит:
«Если ты хочешь прожить безмятежно, безбурно,
«Горечи жизни не зная, до старости поздней, —
«Друга себе не ищи и ничьим не зови себя другом:
«Меньше ты радостей вкусишь, меньше и горя!»
«Да, но тут важно это "если". А, по мне, не только ритмическая чреда горя и радости с другом бесконечно ценнее ровной и спокойно–текущей жизни одному, но даже сплошное горе с другом я не променяю на сплошную одинокую радость.
«Есть вещи, относительно которых o человеке должен заботиться не сам он, а друг его. А если друг не хочет заботиться? — Тогда не должно заботиться никому. Если друг игнорирует гибель свою и друга, то надо гибнуть. Надо падать, не рассчитывая на пощаду и остановку. — Сегодня — пьянство, завтра — еще что–нибудь, после–завтра — еще, после–после–завтра — то, после- после–после–завтра — другое и т. д. и т. д. Изо дня в день разрушается душа. Изо дня в день опустошается душа. Изо дня в день делается все бессмысленнее жизнь. И нет надежды на просвет, нет надежды на что бы–то ни было лучшее. Нет надежды на чистоту. — Ниже и ниже. Плотянее и плотянее. Жаль его, и не смею оставить его. А с ним — надо гибнуть. С ним — надо падать. Уходит время, — часы, недели и месяцы. Уходят силы, уходит здоровье. Все уходит. Ничего не остается. И не только нет надежды на лучшее будущее, но, напротив, есть полная уверенность в худшем: так пойдет и далее, — все хуже и хуже. Опустошенная душа. Земленеющая душа. Могильный камень надавливает грудь. И, вдобавок, ложь: «Ты спишь?.. Я пойду поговорить». Все это — неправда! — и верно говорил М***: «Не суйся». {стр. 454} Попытался, сунулся, — и гибну, и никому не могу помочь.
«Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю». Надо уходить отсюда. Меня сдерживала ранее мысль o Боге. А теперь цепь вдвое крепче. — от жалости. Жаль М***. Что́ с ним будет? Как он обойдется без меня? И терпишь. А все же, надо уходить».
* * *
«Господи, Боже мой! Неужели жизнь — в этом? Жизнь среднего, слабосильного, обыкновенного человека, — неужели она — в этом? Господи Иисусе! Неужели вся жизнь — в этом? Господи! Научи меня: как быть, как одернуть М***? Как одернуть себя от грехов и отупения. Ой, страшно, страшно, Господи! Страшно за себя и за других, — страшно за душу человеческую. — Так или иначе, надо уходить отсюда: либо умереть, либо в монастырь. В пустыню, Господи, в пустыню возьми меня, потащи силою меня, если ничего я не могу сделать ни с собою, ни с М***, и ни с кем. С собою ничего не сделал, — ка́к же другому поможешь? и я знаю, что М*** с того момента пошел вниз, когда увидал, что я не справился с собою. Быть может, это случилось бы и без меня, но это было бы позже. А теперь, как ни перетолковывать действительность, все равно виноват все же я и я, и только я один.
Говорят: «То — пустяк». Да, «то — пустяк», «это — пустяк». Пусть. Но ведь в таком случае естественно же задать вопрос: «Что́ же есть положительное, что́ есть хорошего; что есть то, что — не–пустяк?» — Ничего, ничего, ничего! В том–то и беда, что вся жизнь — мусор, что́ во всей жизни нет ничего хорошего. Пусть лучше — жизнь исполненная греха, с сознанием, что — грех, нежели чем дыра и пустота, чем это безразличие святости и греха, Бога и диавола, — чем это «окамененное нечувствие»».
* * *
«От всякого серьезного разговора, о вещах ли обективных, или лично нас касающихся, М*** явно укло{стр. 455}няется. Существенные дела требуют разрешения. — Он тянет, не хочет сказать, а если пытаешься сам сделать какое–нибудь решение, — то гневается и раздражается. Мертвая точка, да и только. Он ласков тогда и только тогда, когда поддакиваешь ему в отчаянии его… И своем. Но пикни только супротив, — и он выходит из себя, или дуется по целым дням. И я, — и я тоже дуюсь, потому что не знаю, что́ же мне делать, ка́к быть. Господи! Господи! помоги моему неумению! моему греху! моему невежеству! моему отчаянию и М…му! Он не хочет думать ни о ком и ни о чем, — хотя по природе совсем не эгоист. — «Там, на кухне спят» [т. е. не ходи туда]. — «Ну, так что ж? А мне какое дело». — Ну, будет. Словно жалуюсь на кого–то. Больше надо молиться, вот что».
* * *
«Половое воздержание, если оно не сопровождается возбужденным состоянием, — не вредно физиологически или, во всяком случае, не особенно вредно, а в отношении оккультном и мистическом даже служит к выработке новых способностей. Но воздержание, связанное с возбужденностью, т. е. с представливанием выхождения из себя чрез пол, — вредно, и тем вреднее, чем ярче образы воображения: душа грязнится и гниет, равно, как и тело гибнет. Быть может, главный вред — от постоянной неудовлетворенности. — Не то же ли самое надо сказать и относительно выхождения из себя чрез душевное общение, — в дружбе. Ведь брак есть «два в плоть едину», дружба же — два в душу едину. Брак есть едино–плотие, όμοσαρκία, а дружба — едино–душие, ομοψυχία. Одиночество, если оно не имеет своим привязчивым спутником постоянной мысли о друге, — не вредно и даже полезно в некоторых отношениях, — например для подвига молчальничества. Но представливание в одиночестве дружбы действует вредно, особливый же вред для личности, особливое опустошение личности, умирание её происходить тогда, когда, желая дружбы и думая о {стр. 456} дружбе, человек вынужден толочься налюдя́х, общаться, без действительной дружбы, — не выходя из себя воображать себя — выходящим и вести себя, — как если бы было на самом деле такое выхождение. Не получая духовного удовлетворения, но вечно бегая за ним и около него, он дразнит себя мечтой воображения и на нее утекают все его духовные силы.
«Не так ли и со мною? — Но, если и так, все же я не могу, не смею, не должен оставить М***. Пусть нет ничего и пусть ждет меня духовная (а, может быть, и не только духовная) могила! Пусть! Но я не оставлю его. Если гибнуть, то вместе. Не умели жить вместе, ну — погибнем вместе».
На этом пока покончим выдержки из дневника.
Дружба дает высшую радость, но она же требует и строжайшего подвига. Каждый день, час и минуту, со скорбью погубляя душу свою ради Друга, Я в радости обретает ее восстановленной. Как αγάπη к человеку порождает φιλία к нему, так и тут, в дружбе, в φιλία воплощается, словно в жизненной среде, державная άγάπη. Божественная, агапическая любовь пресуществляет любовь филическую, и на этой вершине человеческого чувства, подобно облакам, задевающим двуединый Арарат, горнее клубится над дольним: «больше сей любви — αγάπην — никто не имеет, чтобы кто душу свою положил за друзей своих — υπέρ των φίλων αύτου» (Ин. 15, 13). Наибольшая агапическая любовь осуществима только в отношении к друзьям, — не ко всем людям, не «вообще». Она — в «положении души за друзей». Но было бы чересчур упрощенным то понимание, согласно которому положить душу за друзей — это значит умереть за них. Смерть за друзей — это лишь последняя (— не труднейшая! —) ступень в лествице дружбы. Но, прежде чем {стр. 457} умереть за друзей, надо быть их другом, а это достигается подвигом, долгим и трудным. Один из героев Ибсена говорит: «Можно умереть за жизненную задачу другого, но нельзя жить для жизненной задачи другого». Однако, сущность дружбы — именно в погублении души своей ради друга своего. Это — жертва укладом всей своей организации, своею свободою, своим призванием. Кто хочет спасти душу свою, тот должен положить ее за друзей всю; и не оживет она, если не умрет.
Дружба необходима для подвижнической жизни; но она неосуществима человеческими усилиями и сама нуждается в помощи. Как же, именно, психологически и мистически, запечатлеть естественное стремление к дружескому единству? Посредством чего получает дружба благодатную помощь и чем принятое решение скрепляется для сознания, — Какая связь связывает дружбу, так, что она перестает быть субъективным хотением и становится объективною волею? Ведь, чтобы всегда побеждать свою самость, чтобы тысячи раз сращивать соединительные нервы дружбы, неизбежно рвущиеся и от греха друзей и от воздействий извне, — для этого необходима какая–то памятка, нечто конкретное, с чем ассоциировалось бы внутреннее решение все претерпеть. — до конца; и, кроме того, нужен таинственный ток энергии непрестанно обновляющий первое, ослепительное время дружбы.
Такою крепостью дружбы служит, во–первых, «естественное таинство», — да извинит читатель это неподходящее слово–сочетание!, — побратимства или братования и, во–вторых, на нем, как на плодоносной природной почв, произросишй особый благодатный обряд, — «чино–последование на брато–творение», ακολουθία εις αδελφόποίησιν или εις αδελφοποιία. Не стану тут разбирать ни того, ни другого, ибо такой разбор вывел бы нас из области Феософии и личных религиозных переживаний {стр. 458} в область народоведения и литургики [811]. Замечу только, что побратимство в существенном слагается из реального объединения посредством обмена кровью, обмена именами (иногда также: рубашками, одеждою, оружием), сo–вкушения священной пищи, клятвы в верности и поцелуя, при чем в данную конкретную форму побратимства эти элементы могут входить не все зараз. Ясно, что побратимство соответствует естественному религиозному сознанию. В братотворении же христианском заменяется обмен кровью и со–вкушение — со–причащением св. Даров — Крови Христовой, а обмен имён — обменом тельных крестов, — что соответствует обмену крещальных имен. Полуцерковное, полународное брато–творение совершается чрез обмен крестов, клятву в братской любви и верности пред иконою в храме и поочередное держание в руке зажженной свечи впродолжение Херувимской.
Чин же церковного братотворения имеет различные изводы, но главнейшие его моменты — следующие:,
1°. — постановление братующихся в храме пред налоем, на котором лежит Крест и Евангелие; при этом старший из братующихся стоит десную, младший же — ошуюю.
2°. — молитвы и ектении, испрашивающие побратимам соединения в любви и приводящие им на память церковно–исторические примеры дружбы.
3°. — связывание братующихся одним поясом, положение их рук на Евангелие и вручение им по зажженной свече.
4°. — чтение Апостола (1 Кор. 12, 27–13, 8) и Евангелия (Ин. 17, 18–26).
5°. — еще молитвы и ектении, подобные указанным в 2°.
6°. — чтение «Отче наш».
7°. — приобщение побратимов преждеосвященными св. Дарами, — общая чаша.
{стр. 459}
8°. — обвождение их, держащихся за руки, вокруг аналоя, при пении тропаря:
«Господи, призри с небеси и виждь….»
9°. — обмен поцелуем.
10°. — пение: «Се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс. 13, 21).
Иногда сюда присоединяется и обмен тельными крестами; но возможно, что он не вошел существенным элементом в чино–последовании в виду того, что побратимы уже до брато–творения менялись крестами. Наряду с со–причащением, этот обмен есть самый важный идейный момент чино–последования, — во–первых, как знак взаимного кресто–ношения братующихся, а во–вторых, как обряд, дающий каждому из «названных братьев» памятку o само–отречении и o верности другу.
Что ж такое братотворение? Глубокомысленный Н. Ф. Федоров видел в нем род литургии «Чин братотворения. — говорит он, — есть совершенное подобие литургии, он заканчивается причащением преждеосвященными дарами; особенности этого последования, опоясывание вступающих в союз одним поясом, обхождение кругом аналоя при пении «Призри с небесе и виждь, и посети виноград свой, и утверди его же насади десница Твоя», не потому ли не употребляются в литургии, что стены храма служат, можно сказать, поясом, связующим всех присутствующих, а ходы церковные имеют смысл объединения в жизненном пути и в общем деле?» [812]. Эти соображения весьма замечательны. Но, в связи с ними, Н. Ф. Федоров думает, что чин братотворения выделился из литургии, как «сущность литургии оглашенных», — тогда, именно когда жизнь церковная обмирщилась и когда союз всечеловеческий стал подменяться союзами частными [813]. Позволительно очень и очень сомневаться в правоте такого принижения нашего чина. В том — {стр. 460}то и дело, что церковная жизнь антиномична, т. е. не заключается в рациональной формуле; и в рассматриваемом отношении нельзя свести ее ни к союзам только частным, ни всецело к союзу только общему. В том–то и дело, что и то и другое, и общее и частное, несводимое друг к другу, равно необходимы в ней и соединены в процессе жизни. Так, например, брако–сочетание, — тоже род литургии, — есть аналог общинной литургии, а не отпадение от неё, ибо нельзя же и помыслить, чтобы сперва был «групповой брак» и «общее» венчание, а потом, с обмирщением церковной жизни, началось единобрачие. Так — и с братотворением. Между тем, по Н. Ф. Федорову выходит, что и брак, в числе всех прочих таинств и обрядов, должно считать выделением литургии, продуктом разложения обще–церковной жизни. Явная ошибка!
Впрочем, мысль Н. Ф–ча, — хотя и выраженная неверно, — сама по себе верна. Конечно, прав Н. Ф–ч: в Церкви не может быть ничего такого, что не было бы обще–церковным, как не может быть ничего и такого, что не было бы личным. В Церкви нет «Privatsache», как нет в ней и безличного «права». Каждое явление церковной жизни, будучи все–церковным по своему значению, имеет тем не менее свой центр, точку своего особливого применения, в которой оно не только наиболее сильно, но и по качеству совсем иное, нежели в других местах. Вот, например, брак:
Брак каждого члена Церкви есть, конечно, дело всей вселенской Церкви, но вовсе не в том смысле, что все женятся вместе с каждым на его жене, а в том, — что для всех это событие имеет известную духовную значимость и не есть нечто безразличное: для всех жена брата их делается не кем–то, а именно женою брата, но, вместе с тем, одному она делается просто женою, а другим — женою брата. Это различие не только степени, но и качества, хотя и то и другое — церковно. Так вот, бракосочетание захваты{стр. 461}вает ближайшим, совсем особым образом двоих, мужчину и женщину («мы венчаемся»), а иным образом — прочих членов Церкви («они венчаются»). То же должно сказать и об общинной литургии Она захватывает совсем особым образом членов общины прихода («мы молимся», «мы приобщаемся») и иным — всех прочих членов церкви («они молятся», «они приобщаются»). Точно также, известное явление может захватить несколько общин, — епископию–епархию или несколько епископий, т. е. поместную церковь, и т. д. Но всегда церковная жизнь такова, что она ни просто «вообще», ни просто «какое дело до нас другим»; она никогда ни просто «социальное явление», ни просто «Privatsache». Всегда она вселенска и обща по своему значению, а по своему приложению и возникновению лична и конкретна.
Все сказанное относится и к братотворению. Как, наряду с агапическою любовью, должна быть, несводимая к ней, но и неотделимая от неё, любовь филическая, так же точно должны сосуществовать друг другу несводимые друг на друга литургические чинопоследования союза агапического и союза филического. И понятно, что как оба вида любви — аналоги друг друга, точно так же аналогами оказываются и соответствующие им чинопоследования общинной литургии и братотворения. Но, будучи аналогами, т. е. построенные по одному типу, они вовсе не выводятся одно из другого. Это можно сравнить с у строением организма, рука построена по тому же типу, как и нога, они — аналоги; и верхняя часть тела — аналог нижней. Тем не менее, наряду с руками необходимы и ноги, и наряду с верхним полюсом тела необходим и нижний. Они не только не–заменимы друг другом, но, мало того, не могут жить нормальною жизнью друг без друга. Общее начало устроения осуществляется в частностях, и частности — пронизаны началом единства. Но нужно и конкретное многообразие, и единящий тип устройства. Так — и в церковной жизни: общее начало — любовь, живет не только агапически, но и филически, и создает {стр. 462} себе форму, — не только общинную литургию, но и дружеское братотворение.
Но тут естественно возникает вопрос, какая же сила обеспечивает неслиянность явлений разнородных? Что́ поддерживает равновесие начала особливого и начала общего? Какая духовная деятельность, не мешая особливым, филическим явлениям быть обще–церковными, в то же время оберегает их особливость. Несомненно, что должна быть таковая — иначе не было бы духовного равновесия Церкви. Это ясно видно на примерах. Так, раз жена брата должна быть для всякого женою брата, но — лишь женою брата, а не женою всякого, то должна быть какая–то деятельность духовная, которая ставит ее к своему мужу в совсем особые отношения и непрерывно обеспечивает их особенность.
Точно также, раз для каждого члена Церкви друг брата должен быть другом брата, но лишь другом брата, а не просто другом всякому, то необходимо должна быть и сила, которая устрояет и поддерживает индивидуальность дружеского союза. Наряду с силою объединяющею, выводящею за границу отдельного существования, должна быть и сила обособляющая, создающая границу расплывчатости и безличности. Наряду с силою центро–бежной должна быть и сила центро–стремительная. Сила эта — pевность, и произведение ее — изоляция, обособление, ограничение, расчленение. Если бы не было её — то не было бы конкретной церковной жизни, с её определенным строем, а было бы протестантское, анархическое, коммунистическое, толстовское и т. д. смешение всего со всем, — полная безвидность и хаос. Сила ревности жива и в дружбе и в браке, и в общине–приходе и в монастыре–киновии, и в епископии–епархии, и в поместной церкви, — всюду [814]. Всюду требуется определенность связей и постоянство союзов, — будь то с другом, с супругою, со старцем, с пастырем, с еписко{стр. 463}пом, с митрополитом или патриархом, т. е. всюду должна быть не только любовь, но — и ревность, — к другу, к супруге, к пастве, к братии, к епархии, к поместной церкви. Нам нужно теперь глубже проникнуть в это понятие, столь важное и обычно столь мало исследуемое.

Mersus ut emergam. Ныряю дабы вынырнуть.
{стр. 464}
Мне кажется, стало несомненным, что обсуждение любви вообще и дружбы в частности, и в их конкретной жизненности, почти неизбежно подымает вопрос о явлении теснейше с ними связанном, — о ревности. Что практически этот вопрос выдвигается на первую линию по важности, — о том едва ли возможно двоякое мнение. Но, мне думается, не достаточно сознается большинством мыслителей его теоретическая важность: в философской литературе понятие ревности загнано куда–то на задворки и редко–редко когда его удостаивают взглядом. Вот почему мне кажется необходимым глубже проникнуть в понятие ревности. Полагаю, на основании сказанного в конце предыдущего письма, что уяснение понятия ревности служит, вместе, к уяснению самого понятия дружбы и любви.
Итак, что́ же такое ревность? —
В ходячем, интеллигентском слово–употреблении ревность понимается как порок, или, по меныпей мер, как бесспорный нравственный недостаток? — нечто постыдное и достойное осмеяния. В основе ревности ин{стр. 465}теллигенцией принято усматривать и гордость, и тщеславие, и самолюбие, и подозрительность, и недоверие, и мнительность, — словом, все что угодно, но только не какое–либо моральное преимущество [815]. Этот взгляд на ревность особенно свойствен тому веку, который был революционно–интеллигентским по преимуществу, — XVIII–му; и осуждается ревность в особенности в том месте, где просветительская рассудочность царила нетерпимее всего, — в Париже.
«Гордость и тщеславие делает ревнивыми столько же людей, сколько и любовь», — сказал Буаст. — «Любовь ревнивцев походит на ненависть» — свидетельствует Мольер. — ревность происходит более от тщеславия, чем от любви». — признает M–me де Сталь. — «В ревности бывает часто более самолюбия, нежели любви», — указывает Ля–Рошфуко. — «ревность грубая, это — недоверие к любимому предмету; ревность деликатная, это — недоверие к самому себе», — рассуждает некто. — «Самые ревнивые из всех любовников, это — любящие славу». — наблюдает Трюблэ. — «ревнивец, это — ребенок, который путается чудовищ, созданных в потемках его воображением», — думает Буаст. — «Ревнивец проводит свою жизнь в отыскании тайны,. открытие которой нарушает его благополучие», — подмечает Оксенштирн. Эту мысль облекает игрою слов Шлейермахер или Грилльпарцер: «Die Eifersucht mit Eifer sucht, was Leiden schafft» [816], т. е. «ревность с рвением ищет то, что доставляет страдание», или: «что страсть», т. к. в произношении слышится «Leidenschaft»; каламбур, который можно передать приблизительно чрез: «ревность ревностно ищет, что — страсть.» — «из недугов ума ревность есть тот, пищею которому служит наибольшее число вещей, а лекарством — наименьшее» — определяет Ноэль. — «у ревности глаза рысьи», — говорит Беллами. — Поэтому, любовь и ревность несоединимы. «Когда самолюбие господствует над ревностью, любовь потеряла свою власть», — утверждает {стр. 466} Ленгрэ. — «ревность гасит любовь так же, как пепел гасит огонь». — пишет королева Наварpская. — «Сильные страсти выше ревности», — читаем у Ля–Рошфуко [817].
Это, — несколько расплывчатое, житейское, — понимание ревности нашло себе законченную и психологически–мотивированную форму в чеканном определении ревности, данном Барухом Спинозою. Любовь, полная ненависти к любимому предмету и зависти к другому, пользующемуся любовью первого, есть, — по Спинозе, — ревность. Спиноза тут чрезвычайно удачно пользуется образом смешения двух жидкостей, когда они, проникая одна в другую, струятся и мутнеют, — что обозначается термином fluctuatio. Так и при ревности: любовь и ненависть, смешиваясь, образуют fluctuatio, «струение» души, вследствие чего сознание мутнеет и делается непрозрачным.
Ревность, — по Спинозе, — есть такое именно «струение души», происходящее зараз от любви и ненависти, сопровождающейся идеей другого, которому душа завидует: «Нос odium erga rem amatam Invidiae junctum Zelotypia vocatur, quae proinde nihil aliud est, quam animi tluctuatio orta ex Amore et Odio simul, concomitante idea alterius, cui invideret» [818].
Вот какими рассуждениями приходит Спиноза к этому своему классическому определению ревности:
Любовь, говорит он, стремится ко взаимности, и притом — к совершеннейшей взаимности. Всякое умаление и всякий ущерб, испытываемые нами в этом отношении, ощущаются как само–умаление, т. е. причиняют сильнейшую скорбь. Совершеннейшая взаимная любовь есть любовь всепоглощающая; мы хотим сполна обладать ею, она — наше высшее счастие, которое мы ни с кем не хотим делить и никому не хотим уделять. Если любимое существо любит кого–либо другого более, чем нас, то мы ощущаем себя безгранично несчастными. При{стр. 467}чина нашего несчастия есть предмет нашей ненависти; следовательно, мы будем ненавидеть возлюбленного, потому что он лишает нас своей взаимности, и завидовать тому, кто пользуется этой взаимностью. Так возникает любовь, которая одновременно ненавидит и завидует, — ревность. Эта страсть особенно сильна, если нашим счастьем завладел другой; и, чем сильнее было счастие, тем ярче разгорается ревность, так что она, если не укротит ее какая–нибудь иная сила, затемнит всю нашу душу: ненависть к любимому предмету тем сильнее, чем сильнее была ранее любовь [819].
Вот важнейшие относящиеся сюда теоремы [820]:
Рrор. XXXV. «Si quis imaginatur rem amatam eodem vel arctiore vinculo Amititiae quo ipse eadem solus potiebatur, alium sibi jungere, Odio erga ipsam afficiebatur, et illi alteri invidebit». — «Если кто воображает, что любимая им вещь находится с кем–либо другим в такой же или еще более тесной связи дружбы чем та, благодаря которой он владел ею один, то им овладевает ненависть к любимой им вещи и зависть к другому».
Prop. XXXVI. «Qui rei, quam semel delectatus est, recordatur, cupit eadem cum iisdem potiri circumstantiis, ac cum primo ipsa delectatus est». — «Кто вспоминает о вещи, от которой он когда–либо получил удовольствие, тот желает владеть ею при той же обстановке, как было тогда, когда он наслаждался ею в первый раз».
Рrор. XXXVII. «Cupiditas, quae prae Tristitia vel Laetitia, praeque Odio vel Amore oritur, eo est major, quo affectus major est». — «Желание, возникающее вследствие неудовольствия или удовольствия, ненависти или любви, тем сильнее, чем больше эти аффекты».
Prop. XXXVIII. «Si quis rem amatam odio babere inciperit, ita ut Amor plane aboleatur, eandem majore odio, ex pari causa, prosequatur, quam si ipsam nunquam amavisset, et eo majori quo Amor antea major fuerat». — «Если кто начал любимую им вещь ненавидит, так что любовь совершенно уничтожается, то вследствие одинаковой причины он будет питать к ней бо́льшую ненависть, чем если бы никогда не любил её, и тем большую, чем больше была его прежняя любовь».
Согласно житейскому пониманию, ревность есть вредный для любви и безобразный нарост её; причины {стр. 468} ревности чужды сущности любви, и потому ревность обычно признается устранимой из любви. Спиноза усматривает более тесную связь между любовью и ревностью; для него, ревность — не случайный попутчик любви, а верная тень, появляющаяся на экране душевной жизни всякий раз, как любовь освещается изменою любимого; или, точнее, ревность, по Спинозе, есть необходимый эквивалент любви, возникающий при повороте отношений к худшему. Любовь не исчезает, но преобразуется в ревность. Но, все же, и тут, на почв Спинозовского анализа, мыслима любовь без ревности, — при полной взаимности, — так что ревность, — хотя и необходимая психологически при известных условиях, — получает в глазах .Спинозы оценку отрицательную, как animi fluctuatio, — как затемнение сознания, как неукротимая страсть. Ревность в любви, для Спинозы, не есть любовь; и потому, — как инородная любви, как не–любовь, хотя с любовью и находящая сЯ в причинном отношении, в отношении эквивалентности, — ревность предосудительна. Таким образом, и Спиноза, в итоге, остается при ходячем понимании ревности. Почему же это произошло?
Что́бы ответить на поставленный вопрос, вспомним безжизненный и вещный характер всей философии Спинозы. Не имея категории личности, Спиноза не может различать любви к лицу и вожделения к вещи, — смешивает любовь и вожделение или, точнее сказать, подменяет первую последним. Всюду мы читаем у него безличное res amata, — что должно перевести: «вещь вожделенная», ибо вещь не может быть любима; да, «res amata». — но нигде нет речи о любимой личности, — о личности, к которой одной только и может быть приложен эпитет «любимая». Правда, в современном обществе нередко можно услыхать что–нибудь вроде «любимое варенье», «люблю сигары», «полюбил карты» и т. п., но для всякого здорового человека ясно, что это — или извращение и затемнение сознания, или же — насилие над языком. «Ва{стр. 469}peнье», «сигары», «карты» и т. д. нельзя любить, а можно лишь вожделеть. Но кореллат вожделения — ненависть с завистью; поэтому–то у Спинозы, в исходном понятии любви, получает такое ударение этот предосудительный момент ненависти с завистью. Однако, как любовь не есть вожделение, так же точно и ненависть с завистью — не ревность, хотя, действительно, последняя так же относится к тому, что Спиноза разумеет под ревностью, как истинная любовь — к вожделению. Чтобы понять ревность в собственной её природе, надо еще теснее связать ее с любовью, ввести в самое сердце любви и, подчеркнув личную природу любви, вскрыть, что ревность есть сама любовь, но в своем «ино–бытии»; нам надо обнаружить, что ревность есть необходимое условие и непременная сторона любви, — но обращенная к скоpби, — так что желающий уничтожить ревность уничтожил бы и любовь. Точно также, в вожделении есть всегда ненависть с завистью.
Чтобы показать это, прежде всего надо снять с ревности тяготеющий над нею момент осуждения, ревность так часто смешивалась с известными недолжными видами проявления её, что самые слова: «ревность», «ревновать» и «ревнивый», не говоря уж о «ревнивец», стали словами осуждения.
И однако, видеть в подозрительности, мелочном самолюбии, недоверии, недоброжелательстве, злобе, ненависти с завистью и т. п. сущность ревности — столь же неправильно, как в недавании свободы, лицеприятии, несправедливости и т. п. полагать суть любви, или в холодности, черствости сердца, жесткости и жестокости его усматривать суть справедливости. Подозрительность, ненависть с завистью и т. д. — все это дурные, недолжные, эгоистические проявления ревности, рождающиеся от смешения любви с вожделением. Между тем, два ряда исторических данных намекают на эту непре{стр. 470}досудительность, и даже не только не предосудительность, а прямо положительность, должность ревности. В самом деле, во–первых, народ с Богосознанием чистейшим, избранный народ еврейский, яснее, нежели кто–нибудь знавший и понимавший любовь Божию, настойчиво, непрестанно, без колебаний твердит о ревности Божией. Вся Библия насыщена и пронизана ревностью Божиею, и не считаться с этим — невозможно. А затем, во–вторых, народ чистейшей человечности, гениальный народ эллинский, лучше кого бы то ни было знавший и понимавший человеческую любовь во всех её видах, он опять таки черту ревности имеет во всем как основную черту, как черту характернейшую и неотъемлемую от него. Фр. Ницше, в своих набросках «размышления» «Мы филологи», среди трех «избранных пунктов из древности» преднамечает к разработке: «Облагорожение ревности, греки — самый ревнивый народ» [821]. И с этим, опять, нельзя не считаться. Если и яснейший гений и чистейшая вера являет нам ревность, как силу положительную и необходимую в существе любви, как человеческой, так и Божественной, то значит — она и есть такова и, значит, она — совсем не то, что побочные страсти, сопровождающие ее.
Но что́ же, в таком случае, — сама ревность? Она — один из моментов любви, основа любви, фон любви, первичная тьма, в которой возсиявает луч любви. Любовь есть свободное избрание: из многих личностей, Я, актом внутреннего само–определения, избирает одну и к ней, — одной из многих, — устанавливаете отношение, как к единственной, душевно прилепляется к ней. Ее, — обыкновенную, — Я хочет рассматривать как необыкновенную; ее, — серую, — как праздничную; ее, — будничную, — как торжество. Она в толпе стоит, но Я вызывает ее и с площади ведет в прибранную горницу сердца своего. Я рисует изображение её на чеканном золотом поле [822]. И — справедливо, ибо это изображение — не карика{стр. 471}тура, какую рисуют люди в большинстве случаев; это даже и не портрет, — живописуемый мудрыми. Это — образ образа Божия, — икона. Я, нарушая «справедливость» закона тождества, метафизическим актом самоопределения, — не рассудком, — всем существом своим, — решает видеть в избранной, — одной из многих, — личности — исключительную, из ряда прочих выходящую, — одним словом, делает себя в отношении к избранной таким, что та личность делается для него Ты. Дружба, повторяю, исключительна, как исключительна и супружеская любовь. «Много» — признак несовершенства объекта любви, как такового, признак незаконченности Ты, как Ты. И много–брачие и много–дружие ложны по самой идее своей и неизбежно должны или перейти в нечто личное, — первое в едино–брачие, второе — в едино–дружие, — или же вовсе растлиться и перегнить, — первое в отношения похоти, а второе — в отношения корысти, т. е. Из полуличных сделаться вещными. «Нельзя, — говорит Аристотель [823], — нельзя быть другом многих, имея в виду совершенную дружбу, точно так же, как нельзя в одно время быть влюблену во многих. Подобная дружба кажется совершенством и, как таковое, может быть обращена лишь на одного человека. — Πολλοις δ’εΐναι φίλον κατά τήν τελείαν φιλίαν ουκ ενδέχεται, ώσπερ ουδ* έραν πολλών αμα εοικε γάρ υπερβολή, τό τοιουτο δέ προς ένα πέφυκε γίνεσθαι».
Но, если даже сказать здесь, что таких, любимых, Ты — бывает «много», то все–таки к каждому, при любви, отношение — как к единственному. Всякая любовь, в существе своем, имеет избирательную, избирающую силу, есть dilectio, и потому, любимый — всегда избранник, избранный, единственный. В этом–то и заключается личная природа любви, без которой мы, имели бы дело с вещным вожделением и с безразличием в замене вожделенной вещи вещью ей равною. Требование нумерического тождества любимой личности, — хотя бы при отсутствии тождества генерического, приз{стр. 472}накового, т. е. верность личности и при изменении её [824], — характеризует любовь и, вместе, нарушение ею закона тождества, тогда как требование генерического, признакового тождества вожделенной вещи, — при безразличии к тождеству нумерическому, даже при непонимании его, — и, потому, — соблюдение закона тождества характеризует собою вожделение. Сознание единственности — таково условие любви, даже в самых несовершенных её проявлениях; мало того, даже для иллюзии любви нужна, если не единственность, то хотя бы иллюзия единственности, неповторимости, исключительности, — хотя бы он, любящий, мнил любимое существо единственным столь же неосновательно, сколь всегда мнит себя единственною в мир и истории всякая первая любовь, сколь ошибочно считает себя единственным каждый из «единственно–законных» наследников и истолкователей Канта, сколь ложно, наконец, утверждает себя единственным «Единственный» Штирнера. Иначе — безусловно невозможна даже иллюзия любви, и будет в отношениях лишь корысть, грязь и смерть. Самая мысль о возможности замены одного лица другим, как опирающаяся на признание омиусии, т. е. вещности, есть мысль греховная и ведущая к смерти.
Непонятным актом избрания личность сделана единственной, призвана к высокому, к царственному сану Ты. Она согласилась на это избрание. Она сказала «Да» и возложила на себя венец величия. Чего же теперь Я хочет, — Только одного: того, чего восхотело, — любви своей. Я утверждает акт любви своей как вечный по ценности и, значит, требует его пребываемости, его неотменности. Это внутреннее утверждение выражает себя как рвение или ревность воплотить во времени свой вечный акт избрания любимого Ты. Я желает, чтобы Ты не мешало ему в его любви, т. е. чтобы оно в отношении к нему действительно было Ты. Пусть любимое Ты ведет себя, как единственное; пусть не сходит со своего пьедестала выделенности, обособлен{473}ности, избранничества. Это ничего, если избранное Ты будет самым заурядным в толпе и для толпы. Но для Я, для избравшего, оно должно быть именно Ты, и — ничем, кроме как Ты: иначе невозможна самая любовь, иначе не может воплотиться во времени самый акт избрания. Иначе «время» любви не будет «подвижным образом вечности» [825], избрания. Ты, в отношении Я, должно и вести себя как Ты, а не как один из многих, — должно быть в венце царском, а не в ночном колпаке. Сознание необходимости этого от Ты для самой возможности любви влечет за собою желание осуществить это избранничество и, затем, утвердить и охранить его. Все это вместе и будет ревностью.
А если Ты не захочет этого? Если оно упорно нарушает сан свой и высокое положение, свободно им принятые? Если оно, сказав «Да» на предложение ему новой сущности, — Ты, — если оно, по легкомыслию, или по упрямству, или по недостатку искренности в принятом на себя высоком жребии, своей жизнью показывает, что для него Я — не Я? Если, желая быть Ты, оно не хочет признавать Я за Я? — Тогда Я не может и не должно оставаться без пpотиво–действия. Это противо–действие есть проявление pевности, — ревности к своей любви, т. е. заботы о непорочности, о подлинности, наконец, о сохранении своей любви. Требование этого от Ты во имя самой возможности любви влечет за собою желание осуществить это избранничество, утвердить и оградить его. Все это, вместе, — повторяю, — и будет ревностью. Что–нибудь одно. Или Ты должно признать это противо–действие себе, эту борьбу за любовь, эту ревность — и измениться, или же оно должно отказаться от сана своего, признать себя только заурядным, вернуться с престола в серую толпу, из торжества — в будничную обстановку. Для Я нельзя любить и не ревновать, когда Ты фактически перестает быть Ты, т. е. не стараться снова сделать его Ты. По{стр. 474}этому, если за ним не признают права и долга ревности, то не остается ему ничего, кроме как низвержения Ты с его престола. Я должно забыть о Ты, разлюбить его, ибо только этим путем можно избавить Ты от требования ответной любви Но Ты — вросло в Я, сделалось частью его. Разлюбить — это значит лишиться части своей. Забыть — это значит отсечь от себя кусок живой плоти. Так и бывает, когда, уважая чужую свободу, приходится вырвать любовь из груди вместе с самым сердцем.
Любовь — беспредельна; она не ограничивается ни местом, ни временем, она — вселенска. Но эта вселенскость любви не только не исключает, но даже предполагает обособленность, отъединенность, изоляцию [826]. Ведь любовь имеет корнем своим святыню души и возможна лишь постольку, поскольку жива эта святыня. Оберегать жемчужину души — значит оберегать самую любовь; нерадеть о святыне своей — значит нерадеть о любви. Любовь не только вселенска, но — и ограниченна; не только беспредельна, но — и замкнута. Слово, сказанное о сем Господом, ныне не приемлется и считается жестким и жестоким; но, что всего замечательнее, в «мати всем книгам», — в Евангелии, — оно стоит непосредственно после слова о неосуждении ближнего и притчи о бревне и сучке в глазу. «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» (Мф. 6, 5). И антитетически встречается с этою мыслью, как бы направляясь острием против её острия: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7, 6). Как бы поясняя это изречение, преп. Серафим Саровский учит нас: «Что есть лучшего в сердце, — то мы без надобности не должны обнаруживать; не всем открывай тайны сердца твоего» [827] .
{стр. 475}
Итак, с одной стороны» «не осуждай», но, с другой, «считай псами и свиньями» тех,которым не достоит открывать тайны сердца. Открывай их лишь некоторым, избранным, выделенным из стада свиного. Это — антиномия, и антиномия эта приблизительно равносильна антиномии любви–ревности.
Для примерного (— хотя и приблизительного только —) пояснения сказанного приведу еще отрывок из уже цитированного ранее дневника [828]. Это — запись какого–то действительного или воображаемого разговора с другом. Вот она:
«… Ты ведешь себя так–то и так–то. Ты таишься, ты секретничаешь, ты желаешь полной самостоятельности, тебя тяготит признание, — как твое, так и друга.
— Да, но неужели ты не знаешь, что я всегда и везде так веду себя?
— Хотя это и несовсем правильно, и ты далеко не со всеми и не всегда и не везде таков, но если бы и так было, — это для меня не ответ. — «Дружба» потому и есть дружба, что от другого что–то передается мне и от меня — другому. Потому «отношения» и суть отношения, что они кого–то к кому–то, т. е. к другому, относят, — выводят каждого из само–замкнутости эгоизма и узости сердечной, — что они «расширяют бытие» личности, как говорил Спиноза…
— Но если, — пойми, — природа моя, естество мое такое.
— Ну, так что ж? Всякого естество таково, — эгоистично и узко. Но дружба–то и открывает ход притоку новой реальности. На то — и дружба, чтобы мы не были
«сердцем хладные скопцы»,
а ведь скопчество сердечное — самый худший из пороков, самое ужасное из всего, что может быть с человеком.
{стр. 476}
— А если я — всегда «скопец»…
— В любви наша личность перестает быть такой, как «всегда», как «везде», как «со всеми». Старчество, дряхлость души проходят. Душа обновляется и молодеет.
— Но разве у нас нет никаких отношений? Живем же как–нибудь…
— В том–то и дело, что — «как–нибудь». Если же нет тех отношений, о которых я говорил, если «отношения» никого не со–относят и «связи» никого не связывают, — тогда их вовсе нет, и личности — не в дружбе, не друг в друге, а сами в себе и сами по себе, — в себя–любии. Если ты остаешься со мною, «как со всеми» и ведешь себя в отношении меня, «как всегда и везде», то это–то лучше всего доказывает, что ты не ведаешь ни дружбы, ни отношений, ни связи…
Пойми, я не любви или нелюбви твоей хочу, не дружбы или вражды, а простой определенности, чтобы я знал, стоит ли изнемогать и тратить силы над этою нивой дружбы, в надежде хотя бы на далекий урожай, или же я заранее должен отказаться от мысли на лучшее будущее, бросить бесплодную, каменистую ниву и заняться тогда уже «своими» делами. Но ты глух:
«добру и злу внимая равнодушно»
ты отмалчиваешься. Долго ли так?..»
Сердце, изъязвленное Другом, не залечится ничем, — кроме Времени, да Смерти. Но Время стирает язвы его, удаляя и больную часть сердца, — частично умерщвляет, — а Смерть изничтоживает всего человека. Поскольку жив, стало быть, человек, постольку неисцельны и болезненны раны его от дружбы. И будет он ходить с ними, чтобы явить их Вечному Судие.
Взгляни на Господню притчу о «званных», и «избранных» (Мф. 22, 2–14; Лк. 14, 16–24). Сколько в ней тайной горечи, — бесконечной горечи и боли уязвленного в самую {стр. 477} любовь свою сердца. Любимые, званные, те, которых сам Бог ревновал, которым Он всё делал, — чего не делал ни одному народу… И что же? Они не хотят быть избранными, они не хотят собственного спасения своего. Мало того, они не хотят даже быть просто деликатными, — откликнуться на призыв Любви дающей им высший дар Свой, делающей их друзьями Своими. Они пренебрегают любовью Любви. Ну, тогда: «Изыди скоро на распутия и стогны града, и нищыя, и бедныя и слепыя и хромыя введи семо». И, когда осталось еще место, то опять: «изыди на пути и халуги, и убеди внити да наполнится дом мой». Пир любви который некому предложить, — который готовился для милых сердцу, но оказался наполненным проходимцами с улицы!
Всё делать, всё сделать в дружбе, чтобы преодолеть стоящую между человеками стену. Не жалеть сил, бороться за общение до поту, до кровей мученических, до смерти. Положить живот за други своя, ибо первое, от чего должно освободить друзей, — это от неискренности, от холодности, от само–замкнутости. Но есть, бывает граница, которой не перейдешь. Есть стена, которой не прошибешь ни лбом, ниже́ тараном. И, когда подошел к этой границе, когда вплотную придвинулся к этой стене, — тогда надо уходить. Со скорбью сердца надо вырвать чувство из себя, — хотя бы отрывая кусок плоти живой; надо освободиться от того, что невозможно, — а невозможно, именно, показать другому, что невозможное, — т. е. любовь, — возможно. Сам Спаситель мира избранному Богом народу, — когда подошел к этой границе, с которой ясно была видна невозможность пронять его любовью, — Сам Он повернул вспять. «Иepyсалиме, Иерусалиме, избивый пророки, и камением побиваяй посланные к тебе, колькраты восхотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте! Се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 37–38).
{стр. 478}
Из произведенного анализа понятия ревности видна глубочайшая связь её с преодолеванием закона тождества, — этой перво–основы рассудка. Отсюда понятно, почему ревность, даже в наиболее чистых проявлениях своих, навлекает на себя косой взгляд недоброжелательства со стороны рассудка, почему «здравый смысл» и кровная дочь его, насмешка, так охотно прохаживаются на счет ревности, даже когда последняя берется in abstracto, в принципе. Как любовь, так и ревность, — другая любовь, — сражаются с рассудком, прорывая своим напором основную часть его, — закон тождества. И, в этом смысле, ревность — глубоко несправедлива. Если безрассудность ревности навлекает на нее интеллектуальное осуждение, как «нелепости», то эта несправедливость ревности, в свою очередь, вызывает раздраженную моральную оценку её, как явления «безнравственного». Вот еще причина затемнения разобранного нами понятия ревности.
Данные этимологии подтверждают те заключения, к которым привел нас метафизический анализ понятия ревности. Понятие ревности, в русском языке [829], в основном своем направлении, характеризуется как мощь, как сила, как напряжение, но вовсе не как страх, или ненависть, или зависть. — Рев–н-ив соответственные производные рев–н-о–ва–ть, рев–н-ость некоторыми сближаются с латинскими riv–al–is, riv–in–us — соперники с французскими riv–al, riv–al–is–er, riv–al–it–e. Но, если это — и так, то всё же остается неясным, каково коренное значение этого слова. Ответ на этот вопрос дать не трудно. Рев–н-ив, чрез свою старо–славянскую форму рьв–ьн–ив, приводится к тому же корню, что и семейство слов рв–ен–i–e, рев–н-ост–н-ый, рев–н-и–тел–ь, ибо для этих последних старо–славянскими производными будут рьв–ен–и-ie, ръв–а-н–ь, т. е. lucta, борьба. Ревность, очевидно, — то же, что и рвение, ревнивый — то же, что и ревнитель, ревновать — то же, что и рвать или, скорее, рваться. Сербское рв–а-ти име{стр. 479}ет смысл eniti, рв–а-ти се — certare. Тут проводятся соотношения с санскритскими: ar–v–an — стремительно бегущий, поспешающий, aurva — проворный, быстрый, конный; с греческими όρέfοντο — они поспешили, ό–ρού–ει — спешит, устремляется; с латинским ru–i–t, с древне–саксонским aru, древне–северным örr — быстрый, готовый, конный.
Как «иметь ревность», так и «иметь рвение», по своему корню, означает лишь наличность силы, мощи, стремительности. Это — противоположность вялости, бессилию, слабости. Вот почему, ревновать нередко употребляется в значении «с силою, с энергиею стремиться к чему–нибудь», «быть энергичным в чем–нибудь». Ревновать чего или поревновать чего значит, — по в. далю, — «потщиться всеми силами», «со рвением стремиться к чему–либо». Так, говорится: «ревную знаний», «ревную небесного царства», «ревнуйте же дарований бо́льших». Ревновать кому, чему имеет значение «соревновать, подражать, последовать, или стремиться, как бы взапуски, не уступая. Так, Ломоносов употребил оборот: «ревнуйте нашему примеру»; так же точно говорится: «я всегда ревновал успехам его» и т. д. Отсюда мы можем с решительностью заключить, что ревность прежде всего означает, — как и указывает В. Даль, — «горячее усердие, стремление» и даже, преимущественно, — «к делу»; в этом именно смысле говорится: «ревность по службе», «ревность к службе», «ревность не по разуму». Вместе с тем, ревностный значит «самый усердный, прилежный, заботливый, предавщийся всею душею делу»; таков оборот: «ревностный поборник правды или за правду» [830].
Точно также и греческое ζήλος или, в дорической форме, ζάλος имеет собственным своим значением «пыл, рвение — ardeur, zele» [831], затем «соперничество, ненависть — rivalite, haine» и, наконец только, «ревнии{стр. 480}вость — jalousie», т. е. ревность, как принято понимать ее в интеллигентском языке и как ее вовсе не понимает ни один народ. Сообразно с этим, глагол ζηλόω означает «домогаться с жаром, сильно желать, rechercher avec ardeur, envier». Что же касается до этимологии этих слов, то здесь имеется такое изобилие различных и притом искусственных гипотез, что сказать что–нибудь определенное было бы опрометчивым [832]. Можно указать только, что, по Прелльвицу, слово ζήλος происходит от √ja, т. е., собственно, «быть рьяным — heftig sein», равно как и глагол ζητέω — искать, домогаться.
Латинский язык не дает нам в настоящем случае ничего нового: слово zelotypia, — ревность, — заимствовано из греческого и происходить, следовательно, от ζήλος.
Наконец, в древне–еврейском язые, как рвение, Efer, так и ревность, Eifersucht, обозначается одним словом, а именно קנאה кин’а, происходящим от обще–семитского √קנא, √кн’. Этот трех–литерный корень нисколько не содержит в себе оттенка интеллигентской ревности; так, в арабском языке он имеет значение «становиться весьма красным — hochrot werden», в сирском — «быть темного цвета — dunkelfarbig sein». Отсюда уже в языке еврейском и в прочих семитских √קנא, √кн’ означает «быть ревнивым, страстным». Самое слово קנאה кин’а означает, прежде всего, страсть любви с ревностью, затем соревнование и еще ревность, Божию ревность о славе Своей [833].
Существует ещё одно слово, признаваемое некоторыми [834] за эквивалент русского «ревность», — это именно шекида.
Но слово шекида, еще менее чем кин’а, содержит в себе понятие «ревности», в специфическом значе{стр. 481}нии слова. В самом деле, шекида происходит от обще–семитского √שּׁקר, √шкд, в финикийском язык соответствующего понятию «уважать, почитать, ценить что — auf etwas achten», а в языке мишнаическом и таргумическом получившем значение «быть ревностным — eifrig sein» [835].
Итак, общее заключение, к которому пришли мы, будет таково: Этимология и слово–употребление слова ревность и производных его бесспорно подтверждают данный ранее метафизический анализ понятия ревности.
А именно, окончательно снимается с ревности тяготеющее на ней осуждение, и она признается лишь необходимым выражением, или, точнее сказать, лишь необходимою стороною сильной любви Это–то и делает понятным; почему Слово Божие столь часто и столь упорно приписывает ревность Богу. Да и было бы совершенно непонятно, как состояние, само в себе предосудительное, может быть образом чего–то в Божественной жизни. Ведь никогда, ни при каких анфропопафизмах Богу не приписывается греха, или похоти, или лжи. Если же Ему приписывается ревность, то, как бы мы ни понимали эту Божию ревность, загодя можно утверждать, что она–нечто святое; и потому, человеческая ревность не есть что–то само в себе недолжное и скверное. Из сделанных же здесь разъяснений очевидно, что в таковом приписывании Богу ревности должно видеть не натянутый анфропопафизм, а точное обозначение существа дела. Ведь ревность есть понятие онтологическое, а не психологическое и не этическое.
Но мало того, что ревность есть необходимый момент любви. Она, по распространительному толкованию преп. ИсаакаСирина, есть необходимая сторона всего доброго,что ни есть человеке. Она вообще есть сила, осуществляющая добрые желания. «Кто имеет добрые желания, тому противление не может воспрепятствовав ис{стр. 482}полнить оные… Бывает же это по следующей причине. За всякою мыслью доброго желания, в начал его движения, последует некая ревность, горячностью своею уподобляющаяся огненным углям; и она обыкновенно ограждает сию мысль, и не допускает, чтобы приблизилось к ней какое–либо сопротивление, препятствие и преграда, потому что ревность сия приобретает великую крепость и несказанную силу ограждать на всякий час душу от расслабления или от боязни, при устремлениях на нее всякого рода стеснительных обстоятельств. И как первая та мысль есть сила святого желания, от природы насажденная в естестве души, так ревность сия есть мысль, движимая раздражительною в душе силою, данная нам Богом на пользу, для соблюдения естественного предела, для выражения понятия о своей свободе исполнением естественного желания, находящегося в душе. Это есть добродетель, без которой не производится доброе, и она называется ревностью, потому что от времени до времени движет, возбуждает, распаляет и укрепляет человека. — Некто — ревность сию в словах своих назвал «псом и хранителем закона Божия», т. е. добродетели…» [836].
Далее, св. Отец объясняет, что ревность слагается из страха утратить благо и из стремлений удержать его; вот почему ослабление ревности — худое предзнаменование, обусловленное либо охлаждением духовным, либо самонадеянностью и гордостью, т. е. отношением к духовному благу уже не живым и личным, а имущественным и плотским, как к какой–то вещи, которую можно положить под замок и, не переживая ее, все же владеть ею.
Так стремление к Столпу и утверждению Истины осуществляется и сохраняется ревностью, этою для современного сознания загнанною и презренною силою нашего духа.
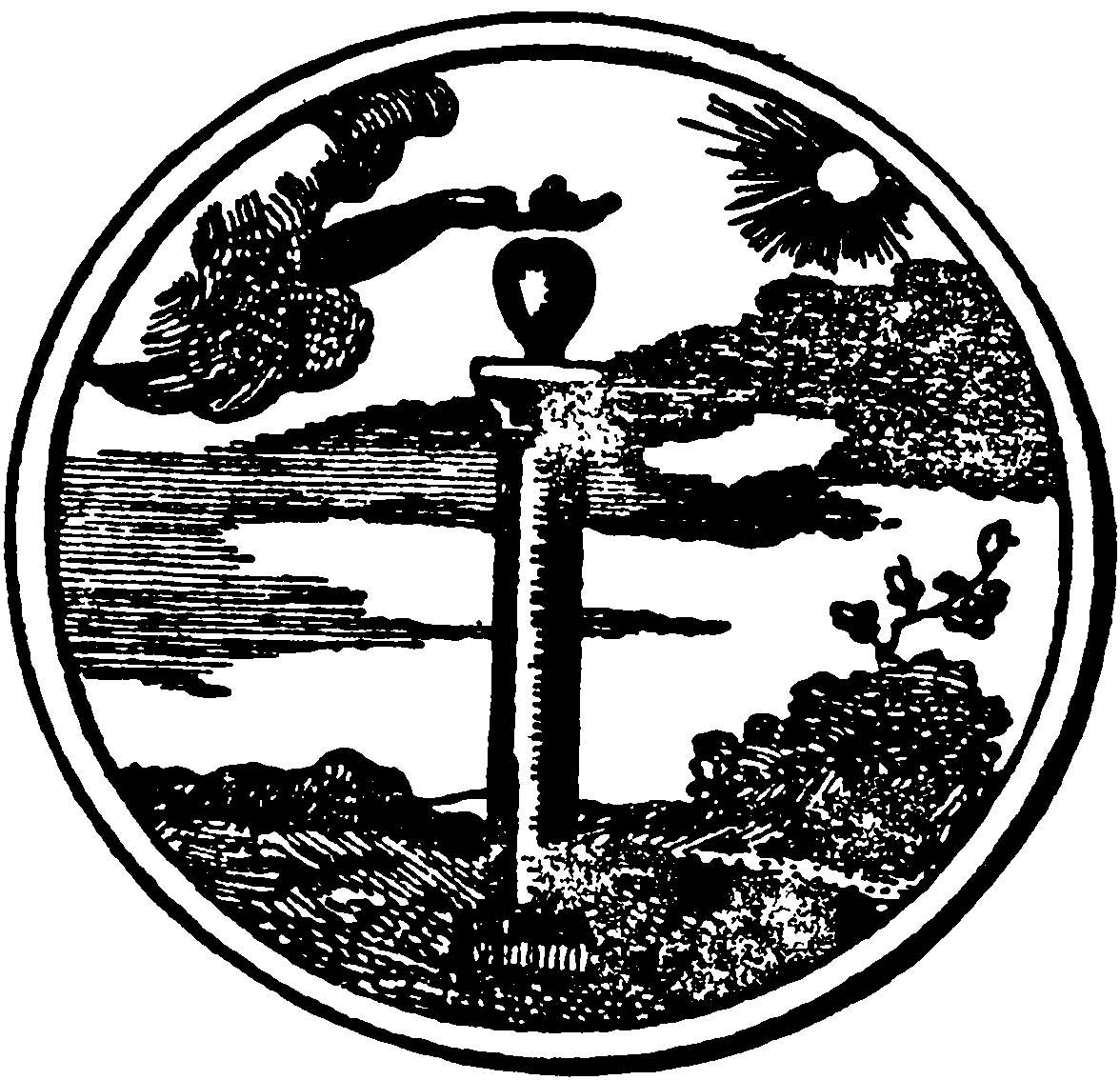
Propter constantiam. Для постоянства.
{стр. 483}
Теперь, на конце немалого пути, уместно оглянуться вспять и, с достигнутой высоты, осмотреть путь свой и точку отправления.
Есть два мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, — если только не живет силами того мира. В настроении — противо–чувствия, в волении — противо–желания, в думах — противо–мыслия. Антиномии раскалывают все наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и всегда противоречй! И напротив, в вере, препобеждающей антиномии сознания и пробивающейся сквозь их всеудушливый слой, обретается каменное утверждение, от» которого можно работать на преодоление антиномии действительности. Но как подойти. к тому Камню Веры?
Противоречия чувства толкают к воле, но и тут — выкрики нестройных голосов; тогда мы обращаемся к рассудку. Однако и он — не целен, и он рассыпается в антиномиях. Их — без числа много; их — столь ко же, сколько может быть актов рассудка. Но, тем не менее, как уже было сказано ранее, антиномии, в существе своем, приводятся к дилемме: «конечность или бесконечность». Эта противо–борственность конечности и бесконечности в греховном ра{стр. 484}зуме, или рассудке, есть выражение глубочайшего противоречия коренных норм самого разума в его современном, падшем состоянии. По греховной природе своей, рассудок имеет закал антиномический, ибо рассудок дву законен, двуцентрен, двуосен. А именно, в рассудке статика его и динамика его исключают друг друга, хотя, вместе с тем, они не могут быть друг без друга.
С одной стороны, в статическом плане, в плане неподвижной данности понятий каждое А есть А, и вся сила мышления — именно в том, чтобы всякое А разграничить от не–А, — и твердо держаться этого разграничения. Чтобы мыслить А, мы должны изолировать его от всего того, что не есть А, т. е. мы должны обособить, отграничить А, отделив его от не–А. А, как мыслимое, по существу дела есть нечто конечное. Мы не может мыслить процесса, не разлагая его на последовательность стационарных состояний, — на последовательность моментов неизменности [837]. И мы не можем также мыслить непрерывное, continuum, не разлагая его на прерывную совокупность точечных элементов [838]. Движение мы разлагаем на ряд состояний покоя, как в кинематографе, непрерывное — на множественность элементов уже неделимых. На этом основаны вечно–истинные, — что бы против них ни пытались возражать, — вечно–истинные «парадоксы» Зенона: о летящей стреле и др. [839] .
Это — с одной стороны. А с другой, — в плане динамическом, в плане устремления к обосновке понятия. — т. е. в плане определения и доказательства, — каждое А должно иметь свою основу в не–А; сущность всякого объяснения — именно в приведении А к тому, что само не есть А, к не–А, ибо иначе объяснение было бы тождесловием. Когда мы спрашиваем: «Что́ есть А?», то нам дают ответ: «А есть Б», т. е., другими словами, выводят А из его само–тождества «А = А» и приравнивают его Б, — тому, что не есть тождественно А.
{стр. 485}
«Мыслить ясно и отчетливо» — это значит под А разуметь именно А и — ничего более; «объяснять» и «доказывать» — это значит выходить мыслию за пределы А, к Б. «Мыслить ясно и отчетливо» — это значит стоять на А и не сбиваться с него на не–А. «Объяснять»י — т. е. «опpеделять» и «доказывать» — это значит идти от А к Б, — к тому, что есть не–А. Но, чтобы идти от А к Б, надо сперва установить А, как А, т. е., чтобы «объяснять» или «доказывать» А, надо сперва «мыслить его ясно и отчетливо». Для того же, чтобы «мыслить ясно и отчетливо», надо понимать это А, т. е. надо «объяснять» его, — т. е. «опpеделять» и «доказывать», — надо устанавливать А, как не–А. Но для последнего опять таки надо установить А, как А. И так идет процесс ad indefinitum. Одна функция разума предполагаешь другую; но, вместе, одна — исключает другую. Всякое не–тождесловное объяснение приводит А к не–А. Всякое ясное и отчетливое мышление устанавливаешь тождество А=А. Утверждение А как А, и утверждение его, как не–А — таковы два основные момента мысли. С одной стороны — статическая множественность понятий, ибо каждое из многих А закрепляется в своем противо–положении всем прочим; с другой — динамическое единство их, ибо каждое из многих А приводится к другому, это — к третьему и т. д.
Статическая множественность понятий и динамическое их единство несовместны друг с другом: с одной стороны, ведь, рассудок должен стоять на данном, — т. е. единичном, — и конечном, — т. е. ограниченноме, — а с другой — идти за всякую данность, — т. е. единичность, — и конечность, — т. е. ограниченность, — ибо всякое объяснение требует бесконечного ряда объяснительных или доказательных звеньев, из которых каждое нарушает само–тождество понятия объясняемого. Это нарушение самотождества, повторяю, никогда не может быть закончено, потому что каждое определение требует {стр. 486} нового определения и каждое доказательство — нового доказательства. Если мы определили или доказали А чрез Б, то прежние вопросы повторяются теперь относительно Б. Стоит дать ответ на них для Б, определив или доказав его чрез В, чтобы они повторились теперь для В, и т. д. Итак, первая из норм рассудка требует остановки мысли, а вторая — беспредельного движения мысли. Первая, понуждает установить А, а второе свести его к Б. Первая есть закон тождества, а вторая — закон достаточного основания.
Едва ли при этом требуется нарочитая оговорка, что под законом тождества, во все время исследования, разумелась совокупность аналитических законов мышления, или, так называемый, логический «закон формы» [840] т. е. закон тождества, и его неизбежные сопутники, закон противоречия и закон исключенного третьего, ибо они, все три, говорят с разных сторон об одном, — а именно, как указывает Г. Гагеманн [841], выражают требование «мыслить объект мышления как этот и — никакой другой и совокупить в нем все те определения, которые ему присущи». Или, как отмечает В. Вундт [842], «закон тождества означает просто связность, — Stetigkeit, — нашего мышления». Будучи «основным законом познания», он обозначает прежде всего «поведение нашего мышления относительно объекта». Подобно сему и Р. Шуберт–Зольдерн [843] считает законы тождества и противоречия «лишь двумя сторонами того закона, что все дано в некоторой первоначальной разности, поскольку исходят из множественности — Vielheit, — и что не имеется этой множественности где не имеется различности». Можно было бы и еще приводить подтверждения тому взгляду, что во всех трех аналитических законах раскрывается одна деятельность, — отъедннение, разграничение и установление объекта мышления, статика мышления, некая логическая ревность [844]. Но удовлетворимся сказанным.
К закону тождества, понимаемому в только что раз{стр. 487}ясненном смысле, и к закону достаточного основания сводятся все нормы рассудка, но эти, коренные, редуцирующие, нормы — не совместимы между собою и своим раздором уничтожают разум. Основа рассудка — закон тождества, и уток его — закон достаточного основания. Ткань рассудка, — сотканная из конечности и безконечности, — дурной бесконечности, беспредельности, — раздирается в противоречиях. Рассудок равно нуждается в обеих своих нормах, и ни без одной, — т. е. без начала конечности, — ни без другой, — т. е. без начала бесконечности, — работать не может. Он не может работать, однако, и при пользовании обеими ими, ибо он не совместны. Нормы рассудка необходимы, но они — и невозможны. Рассудок оказывается насквозь–антиномическим, — в своей тончайшей структуре. Кантовские антиномии — только приоткрывают дверь за кулисы разума. Но, будучи выставлены с полною сознательностью и в упор эпохе просветительства, с вызовом рационализму XVIII–го века, он являются великою моральною заслугою Коперника философии.
Только что указанная антиномичность основного строения рассудка ставит существенный вопрос о разуме, а именно: «Как возможен рассудок?». Попытку дать ответ на поставленный вопрос представляет вся настоящая работа, в целом её объеме.
Как возможен рассудок?
Ответ на поставленный вопрос гласил: «рассудок возможен не сам в себе, а чрез предмет своего мышления, и именно в том, и только в том, случае, когда он имеет такой объект мышления, в котором оба противоречащие закона его деятельности, т. е. закон тождества и закон достаточного основания, совпадают; другими словами, он возможен лишь при таком мышлении, при котором обе основы {стр. 488} рассудка, — т. е. начало конечности и начало бесконечности, — становятся, на деле, одною»; или еще: «Рассудок возможен в то́м случае, когда, по природе его объекта, само–тождество рассудка есть и его ино–утверждение, и наоборот, когда его ино–утверждение есть его само–тождество»; или еще: «рассудок возможен тогда, когда мыслимая им конечность есть бесконечность, и, наоборот, когда мыслимая в рассудке бесконечность есть конечность»; или наконец: «Рассудок возможен, если дана ему Абсолютная Актуальная Бесконечность». Но что́ ж это за Бесконечность? Оказалось, что таковой Объект мышления, делающий его возможным, есть Триипостасное Единство. Триипостасное Единство, — предмет всего Богословия, тема всего богослужения и, наконец, — заповедь всей жизни, — Оно–то и есть корень разума. Рассудок возможен потому, что есть Трисиятельный Светоч, и — постольку, поскольку он живет Его Светом.
Дальнейшею задачею нашею было выяснить, каковы формальные, и, затем, каковы реальные условия данности такового Объекта, таковой Конечной Бесконечности или Едино–сущной Троицы. Вопрос о вере веруемой, — tides quam creditur, — перешел в вопрос о вере верующей, — lides qua creditur, — и, следовательно, — к образу её возникновения. Выяснив «что́?» веры и «как?» её, мы были поставлены лицом к лицу с новым вопросом, — об условиях возникновения веры. «Или–или» характеризует эти условия, соответственно свободе акта веры. Первое «или» — геенна; второе «или» — подвиг. Или то, или другое: между генною и подвигом tertium non datur. Но и то, и другое средство имеет в основе своей двойственную природу имеющего уверовать. Этою–то двойственностью твари и было необходимо заняться далее, причем тут вопрос раздвоился . Сперва была рассмотрена безусловная природа твари, а затем — те жизненные условия, при которых вырабатывается эмпирический характер. Первый воп{стр. 489}рос, опираясь на идею об образе Божием в человеке, самым делом есть вопрос о Церкви мистической; второй же, основываясь на идее о подобии Божием в человеке, есть вопрос о Церкви в её земной и собственно–человеческой стороне, как среде для совершения каждым своего подвига. Психологической же почвою для э́тoй стороны Церковной жизни служат любовь и дружба, αγάπη и φιλία.
Так движется сознание к «Столпу и утверждению Истины».
Итак, снова вопрошая себя, что есть Столп и утверждение Истины, мы пробегаем мыслию ряд ответов, данных здесь. Столп Истины — это Церковь, это достоверность, это духовный закон тождества, это подвиг, это Триипостасное Единство, это свет фаворский, это Дух Святой, это целомудрие, это София, это Пречистая Дева, это дружба, это — паки Церковь.
Чтобы придти к Истине, надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя; а это для нас решительно невозможно, ибо мы — плоть. Но, повторяю, как же именно, в таком случае, ухватиться за Столп истины? — Не знаем, и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности. Это непостижимо, но это — так. И знаем, что «Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых» [845] приходит к нам, приходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. Человекам это «невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 26, Мк. 10, 27). И вот, «Сама Истина побуждает человека искать истины — αυτη ή ,Αλήθεια αναγκάζει τον άνθρωπον άλήθειαν επιζητειν» [846] — Сама Триединая Истина делает за нас невозможное для нас. Сама Триипостасная Истина влечет нас к Себе.
{стр. 490}
Ей слава во веки!
«ПОКЛОНИМСЯ ОТЦУ, И ЕГО СЫНОВИ, И СВЯТОМУ ДУХУ, СВЯТЕЙ ТРОИЦЕ ВО ЕДИНОМ СУЩЕСТВЕ, С СЕРАФИМЫ ЗОВУЩЕ:
"СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ЕСИ ГОСПОДИ"!».
АМИНЬ.
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990
{стр. 492}

In motu quiesco. В непогоде тих.
{стр. 493}
Бесконечный, бесконечность приходится слышать очень часто в обыкновенном разговоре; но стоит только попросить объяснения этих слов, чтобы встретить недоумевающий взгляд. Однако, если в широкой публике — только непонимание, то среди людей, занимающихся умственной работой, на этот счет часто бывает извращенность в понимании и даже полная путаница. Очень сильные и тонкие умы часто не бывали свободны от неясностей и недоговорок в вопросе o понятии бесконечности. Недостаток места не позволяет, к сожалению, привести ряд поучительных примеров, но читатель из дальнейшего изложения и сам сообразит, на кого тут можно было бы сослаться.
Впрочем, затруднения лишь отчасти и даже в очень незначительной части зависят от отвлеченности вопроса; главная причина тут — в тенденциозности мышления, в нежелании или неумении смотреть на объект наследования прямо. Приступается к изучаемому с уверенностью, что оно уже известно; и мнимое знание, — по слову Г. Кантора, «horror infiniti», царящий в обществе, — дает себя знать.
Главные ошибки, которые делаются сплошь и рядом {стр. 494} в рассуждениях о бесконечном, появляются вследствие пренебрежения основной и совершенно–элементарной дистинкцией актуальной и потенциальной бесконечности. Поэтому, мне придется подробнее, чем хотелось бы, остановиться на этом подразделении. Пока, впрочем, будет дано лишь предварительное определение бесконечности; на нем мы основываться не станем, так как оно не упирается на достаточно простые понятия, хотя само по себе и верно.
Всякий quantum, или, — как предлагает говорить Н. И. Лобачевский, — всякое «коликое», по самому своему определению, может быть двояким. Оно может быть данным и неизменно и твердо установленным, вполне определенным, и тогда представит из себя то, что носит название постоянного или константы. Оно может также не быть определенным, может меняться, становясь больше или меньше. В этом последнем случае quantum носит название переменного. Так вот, актуальная бесконечность есть частный случай постоянного, а потенциальная — переменного «коликого», и в этом — их глубочайшее принципиальное различие, — если угодно, их существенная противоположность. Разъясним это частнее.
Пусть у нас есть переменное, и пусть оно меняется не каким–нибудь, а определенным способом, — так именно, чтобы оно становилось больше всякого постоянного конечного «коликого» того же рода, или меньше. В каждом состоянии это переменное конечно; но в нашем понимании совокупность этих состояний отличается от совокупности каких–либо произвольно подобранных состояний. В этом смысле мы говорим, что наш quantum есть потенциальная бесконечность, потенциальная — в виду того, что он может стать более всякого другого quantum’a. Таким образом, потенциальная бесконечность не обозначает какого–либо quantum’a, в себе взятого, а только особый способ рассмотрения quantum’a, именно, в связи с характером его {стр. 495} специального изменения. Потенциальная бесконечность, по словам Г. Кантора, не есть идея, а — только вспомогательное понятие; оно — ens rationis, по счастливому выражению Штёкля. Одним словом, потенциальная бесконечность есть то́ самое, что древние называли άπειρον, схоластики — syncategorematice infinitum, или indefinitum, новые философы — дурной или точнее, простой бесконечностью, schlechte Unendlichkeit.
Итак, это, никогда не заканчиваемое, потенциальное, бесконечное есть переменное конечное количество, quantum, возрастающий над всеми границами, или, наоборот, падающий ниже всякой конечной границы. Таковы, например, дифференциалы, охарактеризованные уже Лейбницем, именно за это свойство, как чистые фикции. В виду этого ясно, что говорить о законченной потенциальной бесконечности, — что, по словам Кантора, делал Фонтенелль, — есть contradictio in terminis.
К несчастию, бесчисленное множество, — легион, — авторитетов всех специальностей усвоило себе эту простую истину чересчур крепко и, забыв о слове потенциальная, начало разными голосами заявлять, что «законченная бесконечность есть нечто нелепое». Отсюда вытекает старинный афоризм: «Numerus infinitus repugnat»; отсюда же утверждение Тонджиорджи: «Multitudo actu infinita repugnat» и другие подобные. Этот, — вполне невинный, по–видимому, — пропуск породил не одну грубую ошибку, и на ней, между прочим, держатся и первые «антиномии чистого разума» у Канта. На этом же пропуске, как увидим, основаны так называемые аргументы против законченной бесконечности и многие соображения позитивизма.
Рассмотрим теперь другой род бесконечности, — бесконечность актуальную. С этой целью мы возвращаемся к нашему исходному пункту, к понятию quantum'a, именно, quantum’a постоянного, и содержание этого понятия константы обогатим новым призна{496}ком. Некоторая константа может быть такова, что она стоит в ряду других констант того же рода, т. е. больше одних конечных констант и меньше других. Тогда она и сама будет конечной. Но может случиться, что она не стоит в ряду других постоянных, потому что она больше всякой конечной константы, как бы великой мы ее ни взяли. Тогда мы скажем, что наш quantum есть актуальная бесконечность, бесконечность in actu, actualiter, а не только in potentia.
Так, например, в диалоге «Бруно» Шеллинг [848] блестяще вскрывает, что каждое понятие есть бесконечность, потому что оно объединяет собою множество представлений, которое не является конечным; но так как объем понятия, по существу дела, вполне определен и дан, то эта бесконечность не может быть ничем иным, кроме актуальной бесконечности. Всякое суждение, всякая теорема носят в себе актуальную бесконечность, и в этом — вся сила логического мышления, как указывал еще Сoкpат.
Возьмем примеры более конкретные. Например, обращаясь к пространству, мы можем утверждать, что все точки внутри некоторой замкнутой поверхности образуют множество актуально–бесконечное. В самом деле, каждая из них вполне определена, значит и все — тоже вполне определены; но однако число их превосходит всякое из чисел ряда: 1, 2, 3,… n,… И больше каждого из этих чисел. — В этом же смысле мы можем сказать, что могущество Божие актуально–бесконечно, потому что оно, будучи определенным (— в Боге нет изменения —), в то же время больше всякого конечного могущества.[849]
Очень ярко выражает мысль об актуальной бесконечности автор книги: «О небесной иерархии», книги, приписываемой св. Дионисию Ареопагиту: «и то, по моему мнению, — говорит он, — достойно тщательного размышления, что говорит писание об Ангелах, то есть, что их тысячи тысяч и тьмы тем, умножая на самих себя числа, у {стр. 497} нас самые высшие. Через сие оно ясно показывает, что типы небесных существ для нас неисчислимы; потому что бесчисленно блаженное воинство премирных умов. Оно превосходит малый и недостаточный счет употребляемых нами чисел, и точно определяется одним премирным их разумением» [850].
В здесь рассмотренном понятии актуальной бесконечности не трудно узнать то, что у древних было известно под именем αφωρισμένον, у схоластиков — под именем kategorematice infinitum, у новых философов — положительной, собственной бесконечности. Как выражается Гёте [851], «это — замкнутая бесконечность, более соответствующая человеку, чем звездное небо», причем последнее, конечно, разумеется именно как некоторая возможность устремляться все далее и далее, никогда не будучи в состоянии произвести синтез и успокоиться на целом.
Тут мы сталкиваемся с новым соображением. Чтобы была возможна потенциальная бесконечность, должно быть возможно беспредельное изменение. Но, ведь, для последнего необходима «область» изменения, которая сама уже не может меняться, т. к. в противном случае пришлось бы потребовать область изменения для области и т. д. Она, однако, не является конечной и, следовательно, должна быть признана актуально–бесконечной. Следовательно, всякая потенциальная бесконечность уже предполагает существование актуальной бесконечности, как своего сверх–конечного предела [852]; всякий бесконечный прогресс уже предполагает существование бесконечной цели прогресса; всякое совершенствование бесконечное требует признания бесконечного совершенства. Отрицающий актуально–бесконечное в каком бы то ни было отношении тем самым отрицает и потенциальную бесконечность в том же отношении, и позитивизм несет в себе элементы собственного разложения, — так сказать, с позитивизмом происходит само{стр. 498}отравление продуктами его же деятельности.
По раскрытому выше определению актуальной бесконечности можно заключить, что такая бесконечность может быть мыслима в двух модификациях. Во–первых, будучи более всякого конечного quantum’a, она сама может оказаться не имеющей другого quantum’a, тоже бесконечного, который был бы больше её; другими словами, тут она оказывается неспособной быть меньше чего–либо другого. Это — актуальная бесконечность, неспособная к увеличению, абсолютный максимум; как вообще, так и у Г. Кантора, он называется Аbsоlutum. Во–вторых, — и этого не замечали говорившие о бесконечности, — из определения актуальной бесконечности вытекает возможность второго её видоизменения. Актуальная бесконечность, именно, может тут иметь над собою дpyгие quanta, большие её самое; тогда она будет способна к увеличению, будет увеличиваемою актуальною бесконечностью. Чтобы избегнуть раз навсегда путаницы слов и длиннот, Кантор дает ей название сверх–конечности, Ueberendlichkeit.
От этих формальных соображений перейдем к реальным. С актуальной бесконечностью мы сталкиваемся или, по крайней мере, можем надеяться на столкновение в трех различных областях. Во–первых, поскольку это актуально–бесконечное реализовано в высшем совершенстве, во вполне независимом, вне–мировом бытии, одним словом — in Deo sive natura naturante, при чем последнее выражение Кантор понимает не в смысле пантеизма, а в том первоначальном смысле, который придали ему Фома Аквинский и другие Богословы. Здесь бесконечное является абсолютным максимумом и есть то самое, что ранее было названо Absolutum или абсолютной бесконечностью. Во–вторых, актуально–бесконечное может быть предположено in concreto, в зависимом мире, в твари, in natura naturata. Тут Кан{стр. 499}тор называет ее Transfinitum. Наконец, в–третьих, актуально–бесконечное может быть in abstracto, в духе, поскольку он имеет возможность познавать Transfinitum в природе и, до известной степени, Absolutum в Боге. В этом последнем случае бесконечность получает название символов бесконечного. В частности, если дело идет именно о познании Transfinitum, эти символы получают название трансфинитных чисел и трансфикитных типов. Два последних вида бесконечности являются бесконечностями увеличиваемыми [853].
{стр. 500}
Выход из сомнений, указываемый в тексте, на стр. 61, представляется, с формально–логической точки зрния, частным случаем логической задачи, предложенной Льюисом Кэрроллем (Lewis Carroll). Для бо́льшей осознанности того шага, который мы делаем, когда верим в Истину, полезно рассмотреть соответствующие акту веры умственные процессы in abstracto, т. е. решить вышеупомянутую логическую задачу в её общем виде. Эта задача формулируется так:
«q включает r; но p включает, что q включает не–r; что́ должно заключить отсюда? — q implique r; mais p implique que q implique non–r; que faut–il en conclure?» [854].
Выражаясь обычным языком, хотя и несколько односторонне сужая задачу, мы можем ее передать в следующих выражениях:
«истинность суждения или понятия r с необходимостью вытекает из истинности другого суждения или другого понятия q; но некоторое третье суждение или некоторое третье понятие p таково, что из его истинности необходимо вытекает, что из q не может вытекать r, как было сказано раньше, а вытекает непременно отрицание r, не–r; что можно заключить из такой совокупности посылок?».
{стр. 501}
Сперва может показаться, что речь идет о разрешении какой–то необыкновенной и искусственно–сочиненной трудности, не имеющей никакого жизненного значения. Но это — далеко не так.
Задача Л. Кэрролля — не «сочинена», а выдвинута действительной нуждой. Но интереснее всего то, что сам автор задачи, при теоретическом решении её, впал в ту самую ошибку, в какую обычно впадают при решении её на практике. Он именно рассуждает так: «Если q включает r, то невозможно, чтобы q включало не–r; значит, р включает в себя невозможное и, следовательно, — ложно» [855]. Но заключение Кэрролля ошибочно, ибо возможно, что не р ложно, а ложно q, включающее в себя зараз r и не–r, т. е. два противоречивых суждения или понятия.
Таким образом, заключение от здравого смысла не дает определенного, строго–логического решения. Напротив, символический метод логистики позволяет получить таковое путем весьма элементарных преобразований. Мы проделаем их сейчас, но сперва запишем символически условия задачи. Очевидно, первое условие задачи напишется:
q Ɔ r — (I),
а второе — :
p·Ɔ·q Ɔ ⌐r — (II).
Но первое включение (I), с переменою знаков на обратные, дает:
⌐r Ɔ ⌐q — (I'),
а второе (II), после замены включения во второй части q Ɔ ⌐r равносильною ему суммою ⌐q и ⌐r, дает:
р Ɔ ⌐q ᴗ ⌐r — (II')
Подставляя в (II') вместо ⌐r включаемое им в (I') ⌐q находим:
р Ɔ ⌐q ᴗ ⌐q — (III),
т. е. — р ᴗ ⌐q — (IV),
что и дает правильное решение задачи Кэрролля.
{стр. 502}
Мы вели решение полусимволически. Одними же символами оно напишется так:
qƆr:ᴖ:p.Ɔ.qƆ ⌐r | Ɔ | ⌐rƆ⌐q: ᴖ : p.Ɔ.⌐q ⌐r | Ɔ |
|Ɔ|р.Ɔ.⌐qᴗ⌐r: ᴖ :⌐r Ɔ ⌐q | Ɔ p.Ɔ.⌐qᴗ⌐q | Ɔ | pƆ⌐q — (V).
Каков же смысл полученного решения (IV)? — Тот, что истинность р влечет за собою отрицание q, т. е., дpyгими словами, что нельзя утверждать q, поскольку, в то время как, если, там где имеет силу p. Это однако вовсе не значит, ни того будто р нелепо, как полагал Л. Кэрролль, — как, равным образом, не значит и того, что нелепо q, включающее в себя противоречивое следствие, — как, от имени здравого смысла, полагает возможным утверждать Кутюра́. p Ɔ ⌐q — это решение удовлетворяет и первому, и второму условию задачи, признавая истинность и ценность их, a решения от здравого смысла не удовлетворяют ни первому, ни второму условию, ибо объявляют по меньшей мepe одно из них простою нелепостью и, стало быть, лишь недоразумением. Выражаясь образно, можно представить себе, что условие (I) есть показание одного свидетеля, а условие (II) — другого. Третейский судья — здравый смысл — вмешавшийся в этот спор, легкомысленно заявляет, что либо показание второго свидетеля, — в силу его утверждения, — либо показания обоих, — в силу утверждения тем и другим q, — чепуха, вздор, нелепость. Этими словами «чепуха», «вздор», «нелепость» здравый смысл говорит не то, чтобы кто–нибудь из спорящих лгал, или ошибался, — и тогда требовалась бы фактическая проверка показаний того и другого. Вовсе нет, он попросту говорит, что слова по меньшей мepe одного из них бессмысленны и потому не заслуживают никакой фактической проверки, сами себя опровергая. Таким образом, здравый смысл не только не дает правильного решения, но и вообще не дает решения, ибо говорит! «или один, или оба говорят вздор»; но, мало того, он, не давая решения, удерживает спорящих от {стр. 503} наследования, от фактической поверки своих утверждений, ибо нечего исследовать фактически то, что нелепо уже формально. — Тогда, оба свидетеля, обиженные таким исходом дела обращаются к судье более основательному, — к логистике. Этот судья, разобрав дело, выносит приговор вполне определенный, а именно: «pƆ⌐q», т. е., другими словами, не обижая ни одну из спорящих сторон упреком в бессмысленности показаний и даже признавая правоту обих, судья утверждает, что ни тому, ни другому нельзя говорит о q в те времена и при тех условиях, когда получает силу р. При наличности p, q отменяется; а во всех остальных случаях оно — в силе. Права первая сторона, утверждавшая условия (I); права и вторая, утверждавшая условия (II). Но и та и другая должны усвоить себе, что обычное, повседневное, повсеместное q перестает быть таковым в особых условиях, а именно при условии р.
Чтобы пояснить эти отвлеченные рассуждения над p, q и r, заменим знаки конкретными данными, т. е. решим придуманные мною ad hoc, — за ненахождением готовых, — примеры.
Пример 1: «Небо — голубое; на закате небо — красное. Что́ можно заключить отсюда?»
Обозначиме: «небо» — q, «голубое» — r, «на закате», т. е.: «когда закат», «если закат», «закатное», — р и, наконец, «красное», т. е. «не голубое» — ⌐r.
Символически условия нашего примера представятся так:
q Ɔ r: ᴖ : p.Ɔ.q Ɔ ⌐r — (IV),
т. е. он действительно оказывается частным случаем задачи Л. Кэрролля. По приговору здравого смысла вышло бы, что или бессмысленно выражение р, «на закате», т. е. что заката не только не бывает фактически; но что он и чисто–логически есть нечто невозможное и недопустимое, или же, — что нелепо q, т. что самое понятие о «небе» внутренне противоречиво {стр. 504} и что никакого «неба» быть не может. Ответ же логистики дает (IV, V):
pƆq,
т. е., что, хотя и «небо» и «закат» вполне возможны и, если добросовестные наблюдатели показывают их действительность, — они и в самом деле существуют, однако «при закате» наблюдатель не имеет дело с «небом», не наблюдает «неба», а — с чем–то иным, — не с небом; например, если пытаться дать положительный ответ, наблюдатель тогда видит солнце, хотя и чрез атмосферный слой, чрез «небо».
Существенная важность такого ответа едва ли требует доказательства. Достаточно привести себе в память хотя бы объяснение «неба» пылевой теорией Рамзея и Тиндаля, чтобы понять, что тут логистика вводит нас in medias res научной работы физика [856].
Пример 2: «Рационалист говорит, что противоречия Священного Писания и догматов доказывают их не–Божественное происхождение; мистик же утверждает, что в состоянии духовного просветления эти противоречия именно и доказывают божественность Священного Писания и догматов. Спрашивается, какой вывод должно сделать из этих заявлений».
Опять обозначиме «противоречия Священного Писания и догматов» — q, «не–Божественное происхождение» — r, «состояние духовного просветления» — р и, наконец, «Божественность», т. е. «не–неБожественность» — ⌐r. Тогда, опять, условия этой коллизии выразятся формулою: qƆr:ᴖ:p.Ɔ.qƆ ⌐r — (IV'),
т. е. опять обнаруживается, что наш пример подходит под схему Л. Кэрролля. Стало быть, решая задачу, как хотел бы здравый смысл, мы пришли бы к выводу, что либо р, либо q бессмысленно, т. е. либо бессмысленно и невозможно «духовное просветление», либо — нелепость говорить о «Противоречиях Священного Писания и догматов». В первом случае бессмысленно {стр. 505} было бы заявление мистика, а во втором — и мистика и рационалиста. Ответ логистики (IV, V) опять таки дает:
p.Ɔ.⌐q
т. е. правы и рационалист и мистик. Как «противоречия Священного Писания и догматов», так и «духовное просветление» не заключают в себе ничего нелепого и, следовательно, если на них ссылается честный рационалист и честный мистик, то они и на самом деле существуют. Но то, что для ratio есть противоречие, и несомненное противоречие, — то на высшей ступени духовного познания перестает быть противоречием; не воспринимается как противоречие, синтезируется, и тогда, в состоянии духовного просветления, противоречий нет. Поэтому, на рационалиста нечего натаскивать сознание, что нет противоречий: они имеются; да, они несомненны. Но рационалист должен поверить мистику, что эти противоречия оказываются высшим единством в свете Незаходимого Солнца, и тогда они–то именно и показывают, что Священное Писание и догматы — выше плотской рассудительности и, значит, не могли бы быть придуманы человеком,. т. е. — Божественны. Это — тот самый вывод, к которому мы пришли в настоящем сочинении.
{стр. 506}
Можно пояснить на одном примере, что сверх–рассудочный синтез, — каковым является догмат, — не есть нечто вовсе невиданное и неожиданное в науке. Он осуществляется очень часто, например в построении, так называемых, иррациональных чисел.
По первоначальному определению, «число» есть число целое, а затем — и рациональное, т. е. ,дробь. Однако, решение некоторых геометрических задач часто приводит к такому отношению величин, — например, отрезков, — которое не выражается числом. Арифметические же операции соответствующие этим действиям, — невозможны, потому что данное сочетание арифметических символов лишено какого ни на есть смысла. Что значит. например, √2? — Это значит то́ и только то́, что в ходе решения мы наткнулись на стену. Мы искали некоторое число, а оказалось, что нет числа, которое удовлетворило бы условиям задачи: √2 есть символ арифметической невозможности. Почему? — А потому, что вообще √a означает такое число х, которое, будучи возведено в квадрат, дает а, т. е. число удовлетворяющее уравнению: х2=а. Но легко доказать, что нет и не может быть такого числа х, квадрат которого был бы равен 2. Подобным же образом — и в геометрии. Мы можем, например, стараться узнать, {стр. 507} во сколько раз один отрезок длиннее другого. В одних случаях мы определим это «во сколько?», т. е. найдем число, его характеризирующее; а в других — такого числа вовсе не окажется, и тогда самый вопрос «во сколько» не имеет смысла. Так, диагональ квадрата ни во сколько раз не длиннее и не короче стороны того же квадрата. Диагональ и сторона несравнимы между собою в направлении «во сколько», — как говорят, — «несоизмеримы». Какое бы число мы ни взяли для охарактеризования этого отношения, оно окажется негодным. Если у стороны есть свое число, то его нет у диагонали, и наоборот. Между тою и другою — какая–то бездна, непроходимая для чисел. Длина диагонали трансцендентна (— употребляю это слово в общем значении, а не как математический terminus technicus —) в отношении длины стороны. Этот факт впервые открыт еще Пифагором; как известно, сам геометр ужаснулся глубине открытого им факта и последствий, которые из него проистекают. Ведь одним этим фактом раз на всегда нанесены непоправимые бреши всякому рационализму.
Такие комбинации символов, как √2, еще в Средние Века именовались «numeri ficti, выдуманные числа» или, — в Liber abaci Леонарда Пизанского, относящейся к 1202 г., — «numeri surdi, глухие числа» и вовсе не рассматривались за числа. Впервые только в Arithmetica integra Михаила Штифеля, изданой в Нюренберге в 1544 г., им придано условное значение чисел и соответственное имя «numeri irrationales», причем Штифель заявляет, что «irrationalis numerus non est verus numerus», т. e. что «иррациональное число не есть истинное число». А и сейчас во множестве учебников алгебры важно заявляется, что хотя де извлечь корня квадратного из 2 нельзя, но все–таки и т. д.
В круге тех операций, которые знает арифметика, нет выхода из этого затруднения. Эти операции ведут к такому результату, который уже не имеет {стр. 508} смысла, если не порвать их круга; а если его не порвать, то данная комбинация нарушает цельность самого крута, производя внутреннее разрушение и опустошение. Так — и вообще: рассудочные операции ведут к таким комбинациям, которым нет уже места в среде своих производителей и которые требуют разрыва рассудочной области чтобы родиться в новый, дотоле невиданный и немыслимый мир. Выход, в алгебре, достигается лишь созданием по–ту–сторонних, трансцендентных для круга данных операций арифметических сущностей, которые невыразимы уже в конечных символах, но ими постулируются, их обосновывают и им придают новый, высший смысл. Однако, лишь только эти новые арифметические сущности мы хотим мыслить в терминах старых, лишь только хотим влить вино новое в мехи ветхие, — так получается разложение символа новой сущности на составные элементы, несовместные друг с другом в области старых понятий, а самая сущность — испаряется.
Скажу определеннее, в чем тут дело. — Иррациональные «числа» долгое время были туманною нелепостью, которою все бессознательно пользовались ради практической необходимости, и в которой, однако, никто не давал себе отчета. Но к 70–м годам XIX–го века выйти из этого положения сделалось настоятельною необходимостью. Вопрос назрел, и ответ на него дан был почти одновременно несколькими исследователями, среди которых, как крупнейшия, могут быть указаны имена Г. Кантора, К. Вейерштрасса, Ш. дю–Мерэ, Э. Гейне, Р. Дедекинда, Г. Коссака, С. Пинчерле, О. Бирманна, Ж. Таннери, М. Паша, В. Рёсселя и др. Построения, предложенные различными исследователями, были независимы друг от друга и потому, — что весьма понятно, — значительно разнятся по своему внешнему облику. Но, в существе дела, все они говорят одно и тоже. Поэтому я останавливаюсь несколько на одном из них, — на методе Г. Кантора, — того самого Кантора, о котором столько {стр. 509} раз доводилось толковать нам с тобою на раздолье медленно волнующихся хлебов, около опушки березовой рощи и дома, пред пылающею печью. А помнишь ли? иногда, проснувшись ночью, мы втягивались в тихую беседу, и незаметно скользило время, пока часы на колокольне не напоминали о близящемся утре…
Чтобы понять тебе канторовское построение, попрошу тебя об одном: забудь все, что ты слыхивал доселе об иррациональных числах, и держи в уме, что надо создать объект мысли совершенно новый.
Г. Кантор берет бесконечное множество чисел a1, а2, а3, а4,… , аn,… аn+m,… , расположенных в порядке написания, так что после каждого числа следует ближайшее к нему и перед каждым, кроме первого, есть ближайшее, ему предшествующее. Этот ряд чисел рассматривается Кантором как единый объект α. Символически обозначим это, заключив всю группу в скобки, так, что явится возможность написать равенство, служащее определением а, а именно:
а=(а1, a2, а3,… аn,… an+m, …)
Оно означает, что α есть ничто иное, как бесконечная группа, мыслимая в единстве.
В известных случаях числа а1, a2,… аn,… могут оказаться таковыми, что ряд а, как говорят, «будет сходиться», т. е. будет обладать следующим свойством: какое бы малое число σ мы ни взяли, всегда найдется n настолько великое, т. е. член, или элемент, аn столь далекий, что разница между ним и любым последующим членом аn+m, — как бы ни было велико это m, — по абсолютной величине (т. е. не принимая во внимание знака разности) будет менее σ; символически:
|аn+m — аn| <σ, где σ сколь угодно мало.
Другими словами, чем дальше мы берем какой–нибудь член аn, тем менее делается разница между ним и всеми последующими за ним, и, при том, может быть как угодно близко подведена к нулю, хотя ну{стр. 510}лем, вообще говоря, никогда не сделается. Такова, например, будет группа чисел.
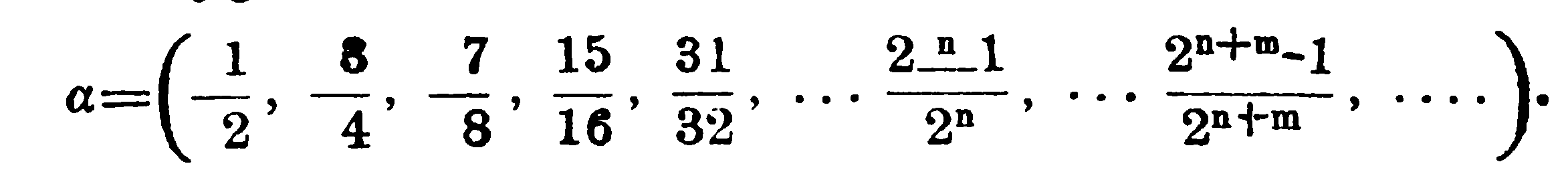
В самом деле, для неё абсолютная величина разности между (n+m) — м и n–м членом будет:
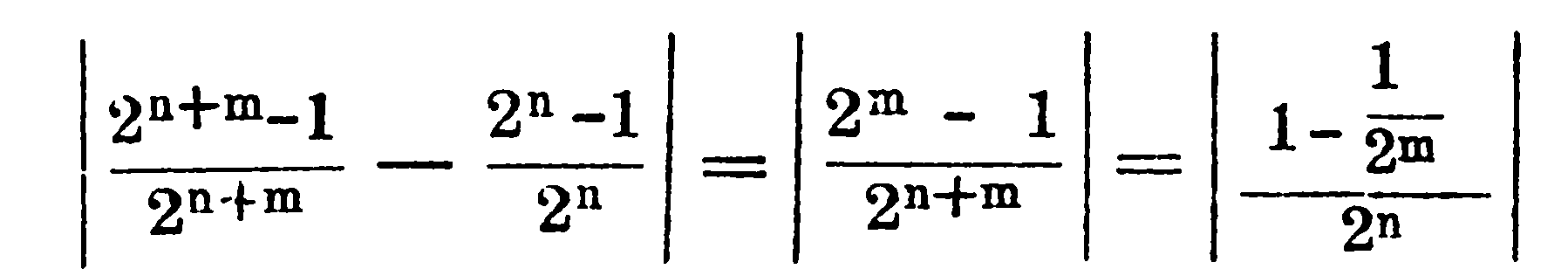
Чем более m, тем менее величина, и потому тем больше числител. Но он всегда < 1, почему и вся разность будет < |1/2n. Ясное дело, что как бы ни было мало некоторое заданное нам число σ, всегда можно подобрать n столь великим, чтобы было |1/2n| <σ и потому, — тем более, — чтобы разность между (n+m) — м и
n–м членом, т. е.
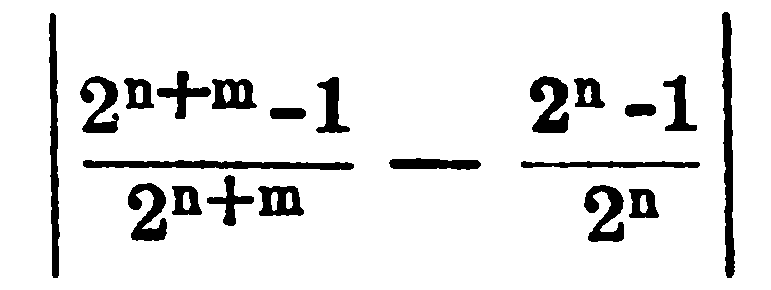
Была < σ. — Но возвратимся от частного примера к общей теории. Итак, если вообще группа а удовлетворяет условию сходимости, «сходится», то ряд а1, а2, а3,·… получает название основного ряда, Fundamentalreihe, а вся группа, в качестве единого объекта α, — название иррационального числа.
Таким образом, иррациональность, в области конечной, на рассудок опирающейся арифметики, является бессмыслицею с точки зрения «чисел», т. е. чисел в собственном, конечном смысле, получаемых как сочетание конечного числа символов основных (1, 2, 3, 4, 5,… n, …). Никакою комбинациею этих символов, конечных, имманентных рассудку, нельзя дать образа для иррациональности или даже чего–либо «подобного» ей. Иррациональность безусловно трансцендентна, безусловно непостижима для области рациональной. И раз навсегда, окончательно и бесповоротно нужно отказаться {стр. 511} от намерения представить иррациональность в виде конечной комбинации рациональностей.
Но, пользуясь рациональными символами как безвидным веществом, мы можем, помощью совершенно нoвых конструктивных определений, внести в бескачественный, как целое, агрегат рациональных чисел новую устрояющую его сущность. Тогда в этом «веществе» будет запечатлено и воплощено число иррациональное. Каждое рациональное число в отдельности, каждый элемент, каждый атом этого агрегата сам по себе, по своему первоначальному смыслу, не имеет ничего общего с воплощенным в нем целым, — как эстетическая идея статуи не имеет ничего общего с кристалликами мрамора, статую составляющими, или смысл поэмы — со звуками отдельных слов. Но бесконечная, — точнее: сверх–конечная, — совокупность их всецело отображает это целое, эту идею. В канторовском основном ряде, который изображает, воплощает, представляет и есть, согласно определению, иррациональное число α, каждый из элементов а1, а2,… аn,… покуда, — пока мы только входим в область иррациональностей, — не имеет ничего общего с α и даже нелепо спрашивать, в каком взаимо–отношении находятся эти существенно–несравнимые символы, из которых α трансцендентно для всякого аi (где i=1, 2, 3,… n, …). Но совокупность чисел аi, связанная признаком сходимости и определением «действий» над α, как единым объектом, в точности изображает эту трансцендентную сущность α. Впоследствии, когда α вполне обследовано, оказывается возможным транспонировать все аi в виде α, хотя нельзя, обратно, транспонировать α в виде аi; тогда устанавливается понятие «сходства» между ai и α, хотя это «сходство» есть только сходство намека, — не тавтегории. Это значит, что хотя α трансцендентно для всех аi «непостижимо» с точки зрения аi, но все аi имманентны для α, насквозь для него прозрачны. Можно, даже сказать, что с точки зрения аi нельзя видеть {стр. 512} тех трансцендентных корней аi, того трансцендентного освещения аi, которое, однако, явно и очевидно с точки зрения α. Имманентность и трансцендентность в области сущностей разума подобна таковым же в области сущностей онтологии: Бог трансцендентен для мира, с точки зрения мира, но мир не трансцендентен Богу, а всецело пронизывается Божественными энергиями. — α и аi различны, но если α рассматривать в ряду всех аi, то можно усмотреть, что разница или сходство аi и α с изменением i сами меняются. С точки зрения формально законнической, рассудочной, по закону тождества, аi не похоже на α; но, для непосредственного сознания, аi может намекать на α, и, притом, прозрачнее или мутнее, в зависимости от величины i. Впрочем, прошу обратить внимание, что здесь я только излагаю общие результаты, но не самую теорию.
Из понятия о равенстве двух иррациональностей, — α и другой, аналогичной ей, β, — полученных разными процессами, — устанавливается, что конечную часть символов аi можно выкинуть из α, что можно из группы (а1, a2,… аn) выбрать и удалить бесконечную группу, что можно, наконец, произвести по–парно перестановку, — «транспозицию», — бесконечного множества элементов а!, — лишь бы не изменялась структура ряда, лишь бы элементы не перемещались так, чтобы быть не в состоянии вернуться к старому расположению определенными парными перестановками, — и все–таки а не изменится. Мало того, даже совсем разные совокупности (а1, а2, а3,… аn,…) и (b1, b2, b3,… bn, …) могут выразить одно и то же число а; совершенно разные знаки могут выражать одну и ту же разумную сущность.
Итак: встретив невозможную комбинацию символов, мы были абсолютно не в силах решить задачу. Мы наткнулись на стену, — на ограниченность самых арифметических сущностей, воплощаемых в данных знаках. Оставалось одно: либо отказаться от самой задачи, либо подняться над тою плоскостью мышления, кото{стр. 513}рая оперирует с «конечными» символами, — привнести новую идею, идею актуальной, — т. е. синтезированной, — бесконечности и, при помощи неё, создать особым творческим актом духа совершенно новую мысленную сущность, — иррациональность.
Была ли тут последовательность выведений? Конечно нет! Мы совершили скачок, — перерыв в развитии; мы внесли нечто существенно новое. Мы могли и не вносить его, ограничившись теми сущностями, которые даны, — т. е. сущностями «конечными», — предавшись позитивистическому обеспложению разума и успокоившись на невозможности выйти за границы данных символов. Мы могли также подняться в высь; но для этого требовалось напряжение воли и подвиг разума, — совершенно специфическое усилие и смирение пред объектом исследования потребовалось для создания символов иррациональности. Создание новой сущности требует свободного подвига. Свобода его выражается в том, что нам дана возможность либо оставаться при «хорошем» старом, либо подняться к «лучшему» новому. Подвиг же — в том, что «естественные силы», — присущие уму инертность и само–довольство, — толкают его к коснению в старом, в конечном, в «известном». Нужно преодолеть самодовольство рассудка, порвать магический круг его конечных понятий и выступить в новую среду, — в среду сверх–конечного, рассудку недоступного и для него нелепого. Таков разумный подвиг в арифметике.
Однако, было бы величайшей ошибкой видеть в этом подвиге нечто исключительное и особняком стоящее. Современная математика, вся целиком, построена на понятии предела и предельного процесса, с которыми приходится иметь дело явно всякий раз, как явно проступает идея бесконечности и без молчаливого участия которых в построении науки нельзя ступить ни шагу. Иррациональности, некоторые намеки на теорию которых были сделаны здесь, — это лишь простейший и обще–известный случай предельного процесса; но, {стр. 514} кроме того, имеется еще множество других подобных сему применений основного понятия о преодолении конечности. Так, трансцендентная аналитическая функция не может быть выражена никаким конечным числом элементов, тогда как относительно алгебраической Вейерштрасс нашел, что она всегда может быть выражена таковым. Но тогда выступает начало преодоления конечности и оказывается, по теореме Пуанкарэ, что «всякую аналитическую функцию можно определить посредством счетового множества элементов (х–а)» [858]. Таким образом, функция аналитическая стоит в таком же отношении к функции алгебраической, как число иррациональное к числу рациональному.
К этой же области преодоления конечности относятся чрезвычайно интересные, с теоретико–познавательной и онтологической точки зрения, исследоваиия признаков сходимости и расходимости бесконечных рядов, в связи с вопросом о возрастании и убывании функций и теорией определенных интегралов. Тут «идеальные функции» П. дю Буа–Реймона опять могут быть, в известном смысле, приравнены к иррациональностям, но уже не среди чисел и не среди функций, а среди интегралов. Исследоваиия Н. Абеля, Н. В. Бугаева, П. дю Буа–Реймона, Э. Бореля, Ж. Адамара, А. Пуанкарэ и др. [859], несмотря на специальность задач ставимых там и методов там применяемых, имеют величайшее значение для философии, и нужно только удивляться, что до сих пор из них не сделано здесь почти никаких применений [860].
{стр. 515}
Рассматриваемые в тексте понятия нумерического и генерического тождеств запущены в современной философии, но различались в философии схоластической. Вот суммарное изложение относящихся сюда определений собственными словами приверженцев схоластики.
«Генерически — Специфически — Нумерически (Generice — Specifice — Numerice). Говорится чаще всего о различии вещей.
Генерически то́ разнится, что не сходно ни в одном едино–смысленном (univoco, — т. е. не дву–смысленноме) предикате, как например субстанция и количество. Отсюда происходят высшие роды — genera — вещей, которых насчитывается десять и которые называются предикаментами.
Сцецифически — то, что сходно в каком–нибудь едино–смысленном роде, но содержится под разными родами, как например человек, лев, камень и т. д. Пoэтому, промежуточные роды разнятся собственно не генеpически, но специфически….
Наконец, одним только числом — solo numero differunt — различаются особи — individua, — содержимые под одним и тем же видом, которые, следовательно не знают ни генерической, ни специфической разницы, но только различаются согласно тому, что присоеди{стр. 516}нено к природе вида — sed tantum distinguuntur secundum ea quae sunt naturae speciei adiuncta [861], — как, например, Сократ и Платон. Мы сказали «одним только числом — solo numero», т. к. вообще говорится, что различается числом — numero — то, что может быть счисляемо, как различающееся, в каковом смысл также и особи различных видов, как например Александр и буцефал, различаются числом — numero.
Специфическая разница называется также и формальною, т. к. происходит от того, что — формально — appellatur etiam formalis, quia fit secundum id quod est formale [862] нумерическая же разница — материальной — materialis, ибо материя — начало, из коего — многие особи одного и того же вида» [863].
Трем типам различий соответствуют и три типа единств: «unitas generica — specifica — numerica. Т. к. единое обозначает неделимую сущность — ens individuum, — то будет столько единств — unitates, сколько бывает разделений. А вещи разнятся между собою или родом — genere, как например камень от человека [864]; либо — видом — specie, как например лев от лошади; либо числом — numero, как например Петр от Павла. Итак, существует три единства; то́ из них, которое отрицает деление рода, называется генерическим — generica; которое отрицает деление вида называется специфическим — specifica; которое отрицает деление вида численное, называется нумерическим — numerica — или индивидуальным — individualis. Отсюда, единое по роду — unum genere — то, что сходно в одном и том же генерическом понятии — ratione. Видом — то, что сходно в одном и том же определении. То, что едино по роду и виду, называется также формально единым — formaliter una, т. е. включительно до существенного понятия — quoad essentialem conceptum. Наконец, все единичное — singularia — или особи — едино по числу — numero. Одно только индивидуальное единствo — unitas individualis — есть реальное единство; ведь в природе вещей {стр. 517} существует только единичное — singularia. Генерическое же и специфическое единство, если к ним не привходит единство индивидуальное, не суть co стороны вещи — a parte rei — совершенные единства, но — только отрицания разнообразия. Так, например, природа Петра и Павла называется единою не потому, что полагает одну и ту же сущность, но только потому, что отрицает специфическое разнообразие. Поэтому св. Фома говорит: «То, что неделимо в отношении какого–нибудь либо рода, либо вида, — не называется просто единым — simpliciter unum, но единым либо в роде, либо в виде — ; а то, что просто неделимо, есть просто едино, т. е. единое по числу — unum numero» [865]. Далее, то что образует нумерическое единство, или то, посредством чего в одном и том же виде одно разнится от другого, называется началом обособления — principium individuationis» [866].
Но, несмотря на эту достаточную ясность в различении понятий разных типов единства и различия, и схоластической философии, особенно при переходе её к философии новой, не чуждо было стремление свести нумерическое единство к единству генерическому и отождествить тождество индивидов с равенством соответствующих им единичных классов. Это стремление весьма откровенно выражает Франциск Суарец или Суарий [867] (1548–1617 гг.).
«Нумерическим единством, — говорит он, — называется состояние реального существования, которое имеет природа со стороны вещи существующая в особях — in singularibus, а также называется состояние стяжения — status contractionis, как если бы посредством него природа, или существенное понятие вещи, стягивалась к неделимым и особям, и отсюда происходит нумерическое единство, которое именно имеется у вещей, как они существуют со стороны вещи. —… vocatur existentiae realis quem habet natura a parte rei in singaluribus existens, et vocatur etiam status contractionis, quasi per illum natura, seu essentialis rei conceptus, ad individua et {стр. 518} singularia contraheretur, et hinc exsurgit unitas numerica, quae rebus nimirum convenit, ut a parte rei existunt».
Итак, нумерическое единство — это лишь «состояние стяжения — status contractionis». Это — не первичный факт само–положения личности, а продукт известной эволюции (— пусть логической! —) природы вещи, которая от начала безлична. Не «природа» полагается само–полагающейся личностью, но личность — «природою». Это представление нумерического единства, как «стяжения» общей сущности в единичную вещь, выпукло проявляет всю суть вещной философии, для которой нумерическое тождество есть равенство единичных классов, а индивид отождествляется со своим единичным классом. Стоит только, — по этому воззрению, — достаточно сузить («стянуть») объем класса, чтобы получить единичный класс, т. е. индивид, каковой и есть ничто иное, как status соntractionis общего понятия.
Таково западное, католическое жизне–понимание. Но мы уже видели, до какой степени православное жизне–понимание чуждо этой философии, у которой в сокровенной основе всех глубин лежит категория вещности, и которая решительно чужда идеи личности, как чужд признания личности с её запросами и весь строй католицизма, представляющий практическую сторону этого безличного жизне–понимания.
{стр. 519}
Стремление исключить из сферы науки всякий разговор о нумерическом тождестве, как и должно было ждать, наиболее ярко выступает там, где научный метод вообще наиболее строг и точен, а именно в современной математической логике или, так называемой, логистике. Тут, в «исчислении классов», тождество индивидов определяется вполне строго, и определяется именно как совместная принадлежность их ко всякому классу, к какому каждый из них вообще только может принадлежать, т. е., другими словами, как возможность для любой комбинации признаков одного индивида подыскать соответственную ей и равную ей комбинацию признаков другого. Ясное дело, что здесь тождество нумерическое подменено тождеством специфическим. Рельефность этой подмены — тем определеннее, что в математической логике строго различается индивид от единичного или особого класса, ему соответствующего (класс с объемом в «один») и что, в «исчислении отношений», полагается важная аксиома, согласно которой у каждой пары данных индивидов существует особое отношение, несуществующее между двумя другими какими–нибудь индивидами т. е. отношение, этой паре исключительно свойственное. И все же, вот, несмотря {стр. 520} на эти тонкие различения, тождество индивидов целиком разлагается в современной науке на совокупность общих признаков, так что реальный характер индивида, как носителя своих признаков, в отличие от его формального характера, опять таки только утверждается, но нисколько не выражается. Это–то и доказывает еще лишний раз, что нумерическое тождество может лишь символически полагаться или утверждаться, но не определяется, не формулируется и не выражается логически.
После этих общих замечаний напомним себе вкратце, как указанные определения выражаются в символических знаках логистики.
Как известно, здесь прежде всего бросается в глаза решительное различение отношений «импликации» и «инклюзии», т. е. включения суждения или класса в другое суждение или класс, от операции подчинения индивида классу или, соответственно, суждению, Ɔ — знак, как импликации, так и инклюзии; ε — относительно класса — знак операции установления соответствия (сокращение έστί), и ϶ — знак той же операции относительно суждения. Это различение, закрепленное различием знаков, чрезвычайно важно. Однако, обычная речь смешивает оба вида отношений, — т. е. импликащю с инклюзией и операцию соответствия, — под общим обозначением связки «есть», «суть»; логики их отождествляли долгое время, и только Пеано впервые фиксировал их, да и то благодаря придуманной им символике.
Чтобы сделать более наглядною разницу операции Ɔ и операции соответствия, возьмем, для примера, обычный силлогизм:
major: Всякий человек смертен.
minor: Сократ — человек.
----------------------------------
conclusio: Следовательно, Сократ смертен.
Связка большей посылки тут будет Ɔ, как это и думают обычно, но связка меньшей посылки — вовсе не Ɔ, как это вообще склонно думать чуть ли ни по{стр. 521}головное большинство логиков, но — ϵ. В самом деле, в большей посылке устанавливается отношение классов «человечность» и «смертность», а во втором — уже не отношение классов, а индивида «Сократ» к классу «человечность», к которому «Сократ» принадлежит. Итак бо́льшая посылка есть несомненная импликация, как это и принято говорить, но меньшая посылка уже не импликация, а подчинение индивида классу, и именно первого типа. Значит, формула разбираемого силлогизма будет на самом деле:
aƆb.ᴖ.xϵa:Ɔ:xϵb — (I),
а вовсе не формулою обычного, типического силлогизма, устанавливающая соотношение между классами:
аƆb.ᴖ.сƆа:Ɔ:сƆb — (II)
Едва ли нужно отмечать существенную разницу формул (I) и (II).
Не следует думать, что символы Ɔ и ε, имея весьма разное логическое и онтологическое значение, могли бы быть безнаказанно смешиваемы с точки зрения формальной, в целях счислительной логистической механики, и что эта «тонкость» Пеановского различения понятий не имеет никакого «прагматического» значения для техники счисления. Далеко нет, ибо самые свойства того и другого отношения, т. е. Ɔ и ϵ, существенно различны: отношение Ɔ, как устанавливающее связь однородных сущностей или терминов (классов, суждений) — транзитивно, тогда как отношение ϵ, как устанавливающее связь сущностей неоднородных (класс и индивид) — заведомо интранзитивно: если аƆb и bƆс, то ясно, что, по формуле
аƆb.ᴖ.bƆс:Ɔ:аƆс — (ΙII),
b аƆс; но из того, что х ϵ у и у ϵ z, — вовсе не следует, что х ϵ z, ибо если х, как индивид, подводится под класс у, а класс у, как индивид, подводится под класс z, то z уже будет в отношении к х классом {стр. 522} классов, а не просто классом, и следовательно не может считать х в числе своих элементов, в составе своего объема; для z объем состоит из индивидов–классов, и сами они, для z, уже неделимы, нераздробимы, неразложимы.
При невнимании к интранзитивности отношения ϵ, в свою очередь основывающемся на смешении ϵ с Ɔ, нередко строятся софизмы, формальное и ответчивое изобличение которых далеко не всегда легко. Таковы, например, некоторые софизмы в «философской комедии» Платона «Евтидем» [868], ну хотя бы рассуждения вроде следующих: «Золото есть золото и не может быть не золотом; человек есть человек и не может быть не человеком. Следовательно, и твой отец Хередэм, — приблизительно так говорит Сократ Евтидему, — есть отец и не может он быть не–отцом. Значит, он — всем отец, и не только людям, а и лошадям и прочим животным. Точно так же и мать твоя — всех мать, — мать и ежей. Значит ты — брат телятам, и щенятам, и поросятам.
«Затем, у тебя есть пес, а у него — щенятки и, следовательно, пес им — отец. Но пес — твой. А твой он, будучи отцом, так что твой отец — пес, и ты — брат щенятам.
«Далее: ты бьешь своего пса, — значит, — бьешь своего отца и т. д.»
Или, вот еще пример из «Иппия бо́льшего» [869]: «Каждый из нас, двоих собеседников, — один и, следовательно, каждому свойственно быть нечетом. Следовательно, мы оба вместе будем тоже нечетом, когда нас двое. Но, если это — не так, если оба вместе мы — чёт, то и каждый порознь — тоже чёт, и т. п.» рассуждения ведутся здесь по следующей схеме:
Хередэм (индивид) ϵ твой родитель (класс);
твой родитель (индивид) ϵ родитель (класс);
родитель (класс) = рождающее существо (класс);
{стр. 523}
производящие на свет ежей, поросят и т. д. (класс) Ɔ
Ɔ рождающие существа (класс).
Но ясно, что, вследствие интранзитивности операции «ϵ», из данных посылок никак нельзя сделать заключения, что:
Хередэм ϵ производящий на свет ежей и т. д.
Точно также, из того, что Петр (индивид) ϵ апостол (класс апостольства),
| апостолы | индивид; исторически известная группа апостолов. | ϵ«12» | класс всех предметов, коих бывает по двенадцати. |
вовсе не следует, что
Петр ϵ «12»,
т. е., что Петр — тоже «двенадцать», а не «один» [870].
Итак, из сказанного делается окончательно несомненным, что даже с чисто–формальной точки зрения индивид принципиально отличен от класса, даже от класса единичного, — вопреки мнению логиков–номиналистов, стремившихся истолковать класс не как единый и в себе замкнутый объем мысли, а как совокупность индивидов, и вопреки же стремлениям логиков–позитивистов, желавших уничтожить самобытную природу индивида и свести его к сумме признаков, т. е. к единичному классу. «Особый» или «единичный» — singuliere — класс должен быть строжайшим образом разграничен от единственного индивида, входящего в его объеме: иначе можно было бы написать для такого класса х формулу:
х ϵ х — (IV)
что, как мы уже видели, — бессмысленно, ибо «ϵ» есть знак отношения между разными и даже разнородными терминами, а не одним и тем же. Единичный класс, образованный из единственного элемента «х», {стр 524} принято обозначать поэтому особым знаком, а именно ɩx, читаемыме: «равно х», «egal а х»; тут символ «ɩ» есть сокращение слова ίσος. Равный. Этот символ «ɩ» формально определяется равенством:
ɩх = у϶ (у = ⌐х) — (V),
т. е. «ɩх есть символ такого класса у, который (϶) оправдывает пропозициональную (предложительную) функцию (с переменным у) «у = х». Отсюда, применяя к обеим частям написанного равенства операцию «уϵ», подводящую элемент–индивид «у» равным между собою классам «ɩх» и «у϶ (у=х)», и памятуя, что операции «уϵ» и «у϶» взаимно разрушают друг друга, мы находим:
у ϵ ɩх. =. y = х — (VI),
т. е. равенство двух символов «ϵι» и «=», так что
ϵɩ. =. = — (VII).
Отсюда следует, что, хотя формула (IV) несправедлива, однако
х ϵɩ х — (VIII)
(ибо х = х), т. е. что индивид «х» всегда принадлежит к своему единичному классу «ɩх».
Если, наоборот, «а» есть единичный класс, то его единственный элемент уже нельзя обозначить чрез «а», но должно — особым символам, в состав которого входит обращенный символ «ɿ», — а именно чрез «ɿа», который читается: «оный а», «lе а», «der а», «о а». Вообще, символ «ɩ» преобразует индивид в его единичный класс, и обратно, символ «ɿ» преобразует единичный класс в индивид, так что имеем два равенства.
а = ɩх и х = ɿа — (IX)»
эквивалентных между собою; в знаках:
а = ɩх. =. х = ɿа — (Х) [871].
Все то, что сказано доселе — совершенно справедливо, ибо тут полагается в основу существенное различие единичного класса и индивида. Но индивид здесь вводится одним только символом, — без определения. Поэто{стр. 525}му, для рационализма тут явный камень преткновения. Его пытаются обойти следующим путем:
Единичный класс определен, как класс образованный одним единственным индивидом. Но что́ же такое число «один»? и что́ такое «индивид»? Математическая логика, «по обычаю математических наук — selon l’habitude des Mathematiques» [872] не определяет индивида, но — лишь тождество индивидов. Конечно, дело тут вовсе не в мнимом «обычае математических наук», а — в невозможности определить индивид, как реальность сверх–рассудочную. Попытка же определения тождества индивидов дает возможность подменить вопрос о реальном нумерическом тождестве вопросом о признаковом, формальном подобии, т. е. рассуждения, — невозможные!, — над индивидами — рассуждениями над понятиями о них, т. е. над классами. Эта подмена делается сознательно, и она глубоко знаменательна, особенно после решительного различения индивидов и классов.
Итак, «говорят, что два индивида k и l тождественны, если второй принадлежит ко всякому классу, в котором участвует первый — on dira que les deux individus k et l sont identiques, si le second appartient a toute classe dont le premier fait partie» [873]. Символически это определение выражается формулою:
k ≡ l : ≡ : к ϵ а. Ɔа. l ϵ а — (ХI).
Тут «≡» есть знак тождества, указатель же «а» при Ɔ означает, что написанная импликация справедлива при всяком а, которое удовлетворяеn инклюзии «k ϵ a» [874]. При этом, обращает на себя внимание то обстоятельство, что «тождество индивидов логически отлично от равенства классов, точно также как индивиды k и l отличны от единичных классов ɩk и ɩl» [875].
Как же разуметь эту формулу? — Не более, как определение знака «≡». Формула (XI) говорит, что когда у нас встретится доселе невиданная графическая комбинация черточек и букв, «картинка»
«k ≡ l»,
{стр. 526}
не имеющая, по сему самому, никакого смысла, то, отныне раз на всегда, мы хотим, мы полагаем, мы требуем разуметь под нею не иное что, как сокращенное, условное обозначение уже понятной нам импликации
kϵa.Ɔa.lϵa — (XII)
Или, точнее говоря, совокупности множества импликаций, со всевозможными значениями переменного «а», поле изменения которого определяется функцией «k ϵ а», т. е., — повторяем еще раз, — под «kϵl» мы хотим разу меть сокращенное обозначение выражения
Пa (кϵа Ɔ lϵа) — (XIII)
kϵa
где П есть знак логического умножения всех множителей, полученных для всевозможных значений а. Вот эту–то систему импликаций, говорящую только о соотношении принадлежностей, — ϵ, — индивидов «k» и «l» к классам «а» мы уславливаемся называть тождеством индивидов. Но что такое индивид, мы все же не знаем логически, понятия индивида не имеем и, следовательно, только полагаем термин его чисто–символически, как знак чего–то (— чего угодно, но только не класса и не суждения и не отношения —), что может находиться в отношении «тождества»; под тождеством же мы разумеем некоторую сложную формулу в отношении этого «что–то» к классам.
Еще раз повторяем, что тут, самым наглядным образом, встает бессилие логической мысли пред конкретным, т. е. индивидуальным бытием, и жалкость (— необходимая жалкость! —) попытки рассудка подменить индивидуальное бытие рассудочно–образными, — но не рассудочными!, — терминами.—
Далее, как сказано, остается открытым и вопрос об определении единичности класса. Как, в самом деле, определить, в рассудочных терминах, что класс ɩа единичен, т. е. что он содержит один только элемент, — что есть только одно а? — Это до{стр. 527}стигается чрез указание двух признаков класса ɩа: во–первых, что в нем вообще имеются элементы, т. е. что он — класс не нулевой; во–вторых, что если бы таких элементов было два, а именно х и у, то они были бы тождественны между собою. Что класс ɩа — не нулевой, это выражается отрицательною формулою:
а ⌐= Ʌ — (XIV),
т. е.
а «не есть» (⌐=) — Ʌ, — (XIV')
где Ʌ — знак нулевого класса, или еще, в более удобной, положительной форме:
Ǝa — (XV),
т. е.
«существуют а» [876],
так что
а ⌐= Ʌ. =. Ǝа — (XVI).
Итак, единичность класса ɩа выразится посредством формул:
а ⌐= Ʌ:хϵа.уϵа.Ɔ х, у. х ≡ у (XVII),
Или
Ǝа. хϵа.уϵа.Ɔх,у. х ≡ у (XVIII) [877],
т. е., при каких угодно х и у, принадлежащих к классу ɩа, написанная импликация остается истинною.
Едва ли нужно указывать, что все сказанное по поводу логического определения тождества, относится и к этому определению единичности, ибо единичность есть лишь частный случай тождества, а именно тождество с собою, самотождество.
Обращаясь, наконец, к логике отношений — re1аtions, — мы тут естественно должны решить вопрос об отношении между индивидами. В этом отделе математической логики принимается за аксиому, что всегда существует отношение между индивидами, само индивидуальное, само представляющееся своеобразным индивидом. «Между двумя данными индивидами, — гласит аксиома, — существуешь особое — singuliere — отношение, которое не существует между любыми двумя другими индивидами». Одна{стр. 528}ко, и это, особое, отношение объясняется, — что и следовало ждать, — в смысле формальном, а не в смысле реальном. Это делается явным из разъяснений, которые следуют за этой аксиомой. «С точки зрения объема — ехtension, — гласят они, — эта аксиома очевидна, ибо рассматриваемой пары достаточно, чтобы определить отношение, отличное от всех прочих. С точки же зрения содержания можно сказать, что если рассматривают совокупность — l'ensemble — всех отношений, которые существу ют между двумя данными индивидами то той же самой совокупности не существует между какою–либо другою парою индивидов; иначе говоря, если некоторая пара имеет все отношения другой пары, то эти две пары тождественны, — что пишется так:
х1Ry1. ƆR. x2Ry2 :Ɔ: х1≡х2 y1≡у2 — (XIX) [878].
Тут знак ƆR показывает, что компликация левой части справедлива при всяком отношении R, которое. может связывать х1 и y1.
Итак, индивидуальное, т. е. конкретное, отношение опять таки разлагается на ряд общих, т. е. абстрактных, — всех абстрактных отношений, входящих в состав данного конкретного. Но, и помимо онтологической бессмысленности такого приравнивания конкретного сумме абстрактностей, возникает вопрос о законности такого определения даже в области чисто–формальной. Оно, ведь, всецело опирается на понятие «всех» отношений между данною парою элементов. Не говоря о том, что самое понятие «все» не определено еще в математической логике, в особенности же когда оно относится к группе сверх–конечной, — под сомнением находится, может ли, вообще, быть определенное понятие о группе всех отношений не между классами, а между индивидами. Но это–то и требует доказательства, ибо вовсе не ясно (— да и едва ли допустимо вообще —), что трансфинитная группа абстракций может исчерпывать конкретность. Если конкретность и может быть рассматриваема под формальнорассудочным углом зрения, то она, несомненно, может {стр. 529} быть введена в формальные спекуляции не иначе, как под видом пpедела, т. е. как абсолютный максимум. Но понятие такового еще не разработано, — если не считать совершенно неизвестной попытки архим. Серапиона, — а кроме того неясно, вообще может ли применительно к индивидам быть таковое. Ведь конкретные особи владеют творчеством, способны созидать абсолютные, непредвиденные отношения, не вошедшие в состав сколь угодно объемистой группы из отношений уже готовых, — одним словом превышают всякое заранее составленное о них понятие: по выражению А. Бергсона, «la vie deborde l’intelligence — жизнь выступает из берегов рассудка», и так бывает всегда.
{стр. 530}
Существование во времени по существу своему есть умирание, — медленное, но неуклонное, наступление Смерти. Жизнь во времени есть неизбежное покорение себя Хищнице. Жизнь и умирание — одно. А Смерть — ничто иное, как более напряженное, более эффектное, более обращающее на себя внимание Время. Смерть — это мгновенное время, а Время — длительная смерть. Рок, тяготеющий над каждым, не есть что–то внешнее для жизни; нельзя думать, будто идет–идет, укрепляясь и нарастая нить жизни, и вдруг ее, случайно, разрезает ножницами смерти злая парка Атропос. Черная Смерть не извне налетает на светлую Жизнь, но сама жизнь в недрах Своих таит неумолимо–растущее ядро смерти. Живя — умираем, умирая — живем. Умирание есть условие жизни, как низкая температура холодильника — условие работоспособности локомобиля. Колыбель — потому и колыбель, т. е. почка жизни, а не просто малая кровать, что она же — и гроб. Не бывает настоящего без прошедшего; не бывает жизни без смерти. Смерть завита в акт рождения, и рождаемое — тленно. Потому человек и зовется в Зенд–Авесте Кайомортсом, т. е. «Жизнью смертною», рождение и Смерть — полюс одного, — Жизни ли, Умирания ли, — называй каждый как ему слаще, — а точнее сказать — рока или Времени. И это единое Время, этот рок состоит опять таки из полярно–соединенных {стр. 531} Рождения–Смерти, и так — все далее и далее, до последних элементов жизни, т. е. до наименьших проявлений жизнедеятельности [879].
Подобно сему, нельзя отделить в намагниченной полоске полюс северный от южного; и, двигаясь от первого, где «северность» напряженнейшая, мы переходим незаметно ко второму, где наибольшая «южность». Но разломим полосу — и, как каждая из половин будет о двух концах, так точно каждая из них получит полюс и северный и южный, и напряженность всех их будет одинаковая и — ослабленная. Сломим пополам половины — и опять тоже. Так, ослабевая по мepe увеличения числа частей, магнитная сила обнаружится во множестве полюсов северных и южных, но всегда парнонеразлучных; и нет конца этой сопряженности полюсов кусочков–магнитиков.
Точно также и Время, как бы ни делили его, всегда остается временем [880], т. е. вереницею, рядом, движением: оно всегда имеет начало и конец, прошедшее и будущее, возникновение и прекращение, рождение и смерть. И жизнь, связанная со Временем, по существу своему такова же и не может не быть таковою.
Рок, тяготеющий над нами, есть Время. Самое слово «рок» имеет смысл темпоральный. У некоторых славянских племен оно прямо обозначает «год», «лето», т. е. двенадцать месяцев [881]; подобное же значение этого слова можно найти в русском языке южных и западных губерний [882].
На чешском языке, среди прочих значений, оно имеет и значение «определенного времени», «срока», затем, «времени вообще» и в особенности «часа» [883]. Точно также русское «с–рок» сохранило темпоральное значение своей основы «рок»; в древнем же языке «рок» прямо обозначало «определенное время», «срок», «год», «возраст» и, затем уже, — «судьба» [884].
«Рок», «роковой» происходит от «рещи», т. е. означает нечто изреченное или изрекаемое; по своему ко{стр. 532}ренному значению, рок — это изречение. В чешском языке слово rok даже прямо означает речь, слово, а затем — обручение, — сговор [885]. Точно также, и слово «судьба» связывается с понятием суда, присуждения; по Миклошичу [886] темою *san–dhа- объясняется греческое συν–τί–θη–μι, т. е. соединять, назначать по взаимному договору. От того же корня √dha происходит и греческое θέ–μι(δ) — ς — право, закон, справедливость.
В латинском языке — как раз то же самое. Fatum, — Судьба, Рок, — происходит от fa–to–r или, в более обычной форме, for, fatus sum, fari, т. e. от корня fa (санскритское bha), опять таки обозначающего «говорить». Fatum — опять таки нечто изреченное [887]. — В каком же смысл Fatum может быть назван изречением? — По римскому верованию, Боги, — а среди них Юпитер в особенности, — устанавливают своими речениями, открывающими людям их волю и называемыми fatum или fata, — устанавливают участь людскую: что Бог сказал, то и есть участь, fatum, как отдельного человека, так и целых народов, городов и т. д. [888]. Так, «vox enim Jovis fatum est — глас Юпитера есть рок» [889]; «fatum esse quidquid Juppiter dixerit — рок есть все то, что бы ни изрек Юпитер» [890]. Таким образом, «fatum autem dicunt esse quidquid dii fantur, quidquid Juppiter fatur — роком называют все то, что изрекают Боги, что изрекает Юпитер» [891]. Затем, fatum, по обычному для римской мысли приему [892], олицетворяется и рассматривается как особое Божество, как Fatum. Далее, полнота Божественных определений символизируется образом Тria Fatа, приравниваемых греческим Τρισσαί Τυχαί [893]. Наконец, при дальнейшем процесс олицетворения, средний род заменяется более личным мужеским или женским, и Fatum, под влиянием греческой религии, становится Fatus или Fata.
Намогильные написи упоминают «Fatus meus» и «Fatus suus», т. e. Fatus рассматривается как Божественное существо, имеющееся у каждого отдельного человека и ру{стр. 533}ководящее его судьбою. Fatus такого рода напоминает древне–римского гения, этого идеального двойника отдельных явлений и индивидуумов; тогда Fata, быть может, соответствовала бы юноне, т. е. женскому гению [894].
Римское Fatum, как и наше «рок», сплетается с идеей времени. Как и Время, Fata ведут участь в твердо определенном порядке, так что можно говорить о «fatorum ordo» [895] и о «fatorum series» [896]; как необратимо и невозвращаемо вспять Время, «irreparabile Tempus» Поэта, так — и Fata: что они определили, то не может быть взято обратно [897]. Fata изречены по рождении человека, ибо они намечают его участь, ибо они — Fata scribunda. Fata одаряют людей духовными дарами и определяют ему число лет его жизни; они устанавливают конец его жизни, в особенности же конец преждевременный — от них. Как и Время, Fata неумолимо–могучи; они — насильники, они — «violenta Fata» [898]; «Nil prosunt lacrimae nec possunt Fata moveri — ничуть не помогают слезы, и не могут быть тронуты Судьбы», — так гласит одна надпись; они — «crudelia Fata», они убивают и грабят. Fata — Божества смерти [899].
Но, если так, то чем же Fata отличаются от Времени? — Ничем. И в самом деле, в многочисленных надгробных надписях слова «Fatum», «Fata» (— множественное число среднего рода —) и «Fatus» употребляются как явные синонимы словам «aetas» и «tempus»;
«Noli dolere, amica, eventum meum; properavit Aetas: hoc dedit Fatus mihi — Не скорби, подруга, об исходе моем: Век поспешил, вот что даровал мне Рок»,
гласит одна напись; или:
«Hunc Fatus suus pressit, vixit annis XII — Сего пригнел рок его, он жил 12 лет».
Или еще:
«Noli dolere, mamma, faciendum fuit, properavit Aetas, Fatus quod voluit meus; noli dolere, mater, factui meo, hoc Tempus voluit, hoc fui; Tempus meus — Не скорби мама, должно было случиться, Век поспешил, этого хотел мой рок; не скорби, мать, о моей кончине, этого хотело Время, это было мое Время» [900],
{стр. 534}
где Tempus очевидно заменяет Fatus, — что и доказывает их равно–значимость.
Или, наконец:
«Nolite dolere eventum meum, properavit Aetas: hoc dedit Fatum mihi — Не скорбите об исходе моем, Век поспешил: вот что даровал мне Рок» [901].
{стр. 535}
(Из статьи П. Д. Юркевича [902]). (К стр. 267).
Сердце есть средоточие душевной и духовной жизни человека. Так
В сердце зачинается и рождается решимость человека на такие или другие поступки, в нем возникают многообразные преднамерения и желания; оно есть седалище воли и её хотений. Эти действия преднамерения, хотения и решимости обозначаются выражениями: «и вдах сердце мое» (Ек. 1, 13); «и положи Даниил на сердцы своем» (Дан 1, 8); «и бысть на сердцы отцу моему Давиду» (3 Цар. 8, 17). Тоже самое говорят выражения: «благоволение сердца» (Рим. 10, 2), «изволение сердца» (2 Кор. 9, 7, Деян. 11, 23). Древний Израиль должен был приносить дары на построение скинии, «всяк по воле сердца своего» (Исх. 35, 5), и «принесоша кийждо, яже возлюби сердце их» (ст. 21). Кто высказывал свои желания, тот говорил «вся, елика име на сердце своем» (3 Цар. 10, 2). Когда мы делаем что–нибудь охотно, то наш поступок происходит «от сердца» (Рим. 6, 17)· Кого мы любим, тому отдаем наше сердце и обратно, того имеем в нашем сердце: «даждь ми сыне твое сердце» (Притч. 23, 26), «в сердцах наших есте» (2 Кор. 7, 3); «за еже имети ми в сердце вас» (Филип. 1, 7).
{стр. 536}
Сердце есть седалище всех познавательных действий души. Размышление есть «предложение сердца» (Притч 16, 1), усоветование сердца: «усоветова сердце мое во мне» (Неем. 57). Уразуметь «сердцем» значит понять (Втор 8, 5); познать «всем сердцем» — понять всецело (Иис. Нав. 23, 14). Кто не имеет сердца «разумети», у того нет «очес видети и ушес слышати» (Втор. 29, 4). Когда сердце одебелевает, то человек теряет способность замечать и понимать самые очевидные явления Божия промысла: «тяжко» слышит он «ушима своима» и смежает «очи свои» (Ис. 6, 10). Вообще «всяк помышляет в сердце своем» (Быт. 6, 5). Человек недобрый имеет «сердце, кующее мысли злы» (Прит. 6, 18). Лживые пророки «прорицают произвол сердца своего» (Иep. 14, 14), «видение от сердца своего глаголют, а не от уст Господних» (Иep. 23, 16). Мысли суть «советы сердечные» (1 Кор. 4, 5). Слово Божие «судительно помышлениям и мыслям сердечным» (Евр. 4, 12). Что мы твердо помним, напечатлеваем в душе и усвояем, то влагаем, слагаем и записываем в сердце своем, «вложите словеса сия в сердца ваша» (Втор. 11, 18); положи мя яко печать на сердцы твоем» (Песн. 8, 6); «Мариам соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сердцы своем» (Лк. 2, 19); «напиши я (словеса премудрости) на скрижали сердца твоего» (Прит. 3, 3). Все, что приходит нам на ум или на память — всходит «на сердце». В царстве славы подвижники, страдавшие за правду и веру, «не помянут прежних, ниже взыдут на сердце их» (Ис. 65, 17); «и на сердце человеку не взыдоша, еже уготова Бог любящим его» (1 Кор. 2, 9).
Как слово есть явление или выражение мысли, то и оно износится «из сердца» (Иов. 8, 10); «от избытка — сердца уста глаголют» (Мф. 12, 34). И как мышление есть разговор души с собою, то размышляющий ведет этот внутренний разговор в «сердце» своем: «глаголах суд в сердце своем» (Ек. 1, 16), «рекох аз в сердце моем» (Ек. 2, 1); «речет злой раб той в сердцы своем» (Мф. 24, 48).
{стр. 537}
Сердце есть средоточие многообразных душевных чувствований, волнений и страстей. Сердцу усвояются все степени радости, от благодушия (Ис. 65, 14) до восторга и ликования пред лицем Бога (Ис. 83, 3, Деян. 2, 46); — все степени скорбей, от печального настроения — когда «припадшая страсть в телеси сердце оскорбляет» и когда «печаль мужу вредит сердце» (Прит. 25, 20, 21), — до сокрушающего горя, когда человек «вопиет в болезни сердца своего» (Ис. 65, 14) и когда он чувствует, что «возмятеся сердце его и отторжеся от места своего» (Иов. 37, 1); все степени вражды, от ревнования и «горькой зависти» (Прит. 23, 17, Ион. 3, 14) до ярости, в которой человек скрежещет зубами своими (Деян. 7, 54) и от которой сердце его разгорается местию (Втор 19, 6); — все степени недовольства, от беспокойства, когда сердце «смущает» человека (Прит. 12, 25), до отчаяния, когда оно «отрекается» от всяких стремлений (Ек 2, 20); — наконец, все виды страха, от благоговейного трепета (Иep. 32, 40) до подавляющего ужаса и смятения (Втор 28, 23, Ис. 14, 24). Сердце истаевает и терзается от тоски (Иис. Нав. 5, 1, Иер. 4, 19); по различию страданий оно делается «яко воск таяй» (Пс. 21, 16), или иссыхает (Пс. 10, 15), согревается и разжигается (Пс. 38, 4, 72, 21) или делается сокрушенным и сотренным (Иер. 23, 9, Пс. 146, 3). В унынии человек бывает «страшлив и слаб сердцем» (Втор. 20, 8). От сострадания сердце «превращается» (Ос. 11, 8). Благодатное слово Божие действует в сердце «яко огнь горящ» (Иер. 20, 9); сердце воспламеняется и горит, когда к нему прикасается луч Божественного слова (Лк. 24, 32).
Наконец, сердце есть средоточие нравственной жизни человека. В сердце соединяются все нравственные состояния человека, от высочайшей таинственной любви к Богу, которая взывает: «Боже сердца моего и часть моя Боже во век» (Пс. 72, 26), до того высокомерия, котopoe, обожая себя, полагает «сердце свое яко сердце Божие» и говорит «аз есмь Бог» (Иез. 28, 2). По разли{стр. 538}чию нравственных недугов, сердце омрачается (Рим. 1, 21), одебелевает (Ис. 6, 10), делается жестким (Ис. 63, 17), каменным (Иез. 11, 19), нечеловеческим, звериным (Дан 4, 18). Есть «сердце лукавое» (Иер. 16, 12), «сердце суетное» (Ис. 5, 10), «сердце неразумное» (Рим. 1, 21). Сердце есть исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях и поступках человека, есть доброе или злое сокровище человека; «благий человек от благаго сокровища сердца износит благое: и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое» (Лк. 6, 45). Сердце есть скрижаль, на которой написан естественный нравственный закон; посему язычники «являют дело законное написано в сердцах своих» (Рим. 2, 15). На этой же скрижали пишется и закон благодатный: «людие мои», взывает Господь, «имже закон мой в сердце вашем» (Пс. 51, 7); «и на сердцах их напишу я» — (закон благодати) (Иеp. 31, 33). Посему слово Божие посевается на ниве «сердца» (Мф. 13, 19); совесть имеет свое седалище «в сердце» (Евр. 10, 22); Христос вселяется «верою в сердца» наша (Евр. 3, 17), также дарует «обручение духа в сердца» наша (2 Кор. 1, 22). «и мир Божий да водворяется в сердцах ваших» (Кол 3, 15); «яко любы Божия излияся в сердца наша Духом Святым» (Рим. 5, 5). Благодатный свет «возсия в сердцах наших» (2 Кор. 4, 6). — Но с другой стороны грешнику диавол влагает в «сердце» злые начинания (Ин. 13, 2), исполняет его сердце злыми помыслами (Деян. 5, 3). К невнимательным слушателям слова Божия «абие приходит сатана, и отъемлет слово сеянное в сердцах их» (Мк. 4, 15).
Как средоточие всей телесной и многообразной духовной жизни человека, сердце называется исходищами живота или истоками жизни: «всяцем хранением блюди твое сердце: от сих — исходища живота» (Притч 4, 23); оно есть [?] «коло рождения нашего» (Иак. 3, 6), то есть, круг или колесо, во вращении коего заключается вся наша жизнь. По сему оно составляет глубочайшую часть нашего существа: «глубоко сердце человека паче всех, и кто по{стр. 539}знает его» (Иер. 17, 9). Никогда внешние обнаружения слова, мысли и дел не исчерпывают этого источника; «потаенный сердца человек» (1 Пет. 34) открыт только для Бога: «Той бо весть тайная сердца» (Пс. 43, 23). Состоянием сердца выражается все душевное состояние (Ис. 50, 12, 83, 3). Человек должен отдать Богу одно свое сердце, чтобы сделаться Ему верным в мыслях, словах и делах: «даждь ми сыне твое сердце», взывает к человеку Божия премудрость (Прит. 23, 25).
{стр. 540}
Рассуждая o космическом аспекте Божией Матери, мы не можем обойти молчанием довольно загадочной иконы благовещения, «найденной» мною в церкви села Новинского, Нерехтского уезда, Костромской губернии Говорю «найденной», ибо икона эта находилась в забросе и валялась где–то на подоконнике, покрытая таким слоем пыли и грязи, что изображения не было видно вовсе. Бросившись в глаза во время моей исповеди, она, по какой–то непонятной для меня причине, привлекла внимание и, при первой возможности я вновь посетил это село и занялся чисткою и промывкою иконы. После около двух–часовой работы выступило на углубленном золото́м поле иконы изображение, оказавшееся очень тонкой работы, со множеством мельчайших подробностей и фигур, весьма тщательно выписанных; полагаю, что фигур должно быть более 150. Судя по композиции, эта икона относится либо к концу XVII–го, либо к началу XVIII–го века. Размеры её, думается, 5 х 3 1/2 вершк., но даю их, равно как и все дальнейшее описание, главным образом по памяти через три года после того, как рассматривал ее. Правда, я пытался сфотографировать ее, но неудобные условия съемки и неподходящий аппарат воспрепятствовали этому намерению. Поэтому, и прила{стр. 541}гаемое здесь схематическое изображение иконы в значительной мepe сделано на память, по прошествии трех лет.

Композиция иконы слагается из трех — догматической, церковно–исторической и космологической. Последняя не только наиболее интересна для нас, но и в иконе занимает центральное место; это, очевидно, — «сама» икона, тогда как все остальное — пояснения и углубления. Что́ же видим мы тут, в этом ядре иконы? Начем прежде всего останавливается глаз? — Это — киноварного цвета кольцо, испещренное золотыми звездами. В это кольцо вписана квадрато–образная фигура, состоящая из круговых дуг. В середине её помещен равнобедренный треугольник со Всевидящим Оком, окруженный сиянием. По сторонам квадрато–образной фигуры расположены четыре символа времен года, с соответствующими надписями, а именно: оголенная ветка, покрытая снегом и «зима»; цветы и «весна»; {стр. 542} сноп колосьев и «лето»; плоды (?) и «осень». Наконец, в промежутках между квадрато–образной фигурой и кольцом, против указанных выше символов времен года, изображено двенадцать небольших кругов с символами знаков зодиака; круги эти распределены на группы, по три, соответственно временам года. Фон каждой группы соответствует времени года, к которому она относится. Так, зимние знаки зодиака изображены на фоне ветвей, покрытых снегом; летние — на фоне созревшей нивы; весенние и осенние — на фоне зеленого пейзажа.
Ближайшею к этой, центральной, части композиции должно признать изображение Благовещения, расположенное по сторонам описанного выше круга. Слева, — для зрителя, — от круга находится вожженный седми–свещник, а над ним — Архангел в облаках. Справа же от круга и симметрично со свещником помещено весьма неясное изображение, смысл которого мне не удалось определить, а над ним — Приснодева. Выше Неё, справа, находится сияние и в нем — как будто лицо (— солнце? —), а слева — кружок с изображением Духа–Голубя, летящего вверх.
Наконец, в верхней части иконы, среди облаков и сонмов ангелов и праведников, изображен Бог Отец (?) и, пред ним, колено–преклоненная, ангело–образная фигура. Источающееся от Него сияние частью как бы заканчивается тремя концентрическими ликами, составленными из мельчайших ангельских голов с распростертыми крыльями, частью же — проходит далее, сквозь них. — Эти ангельские лики написаны, соответственно, на фоне трех цветных колец: внутреннее кольцо зеленоватое, среднее — розовое, наружное — голубое.
Что же означает вся эта своеобразная композиция? Не берясь объяснять ее, — ибо для этого требуется еще внимательное изучение, — выскажу лишь догадку, что она живописует речения акафиста: Пресвятая Богородица — «всех {стр. 543} стихий земных и небесных освящение» [903], «всех времен года благословение» [904], ибо в момент благовещения, когда тварь, в лице Божией Матери, прияла в себя Божество, содержится вся Вечность, а в Вечности — вся полнота времен. Праздник Благовещения, космически, — праздник весеннего равноденствия: хотя в настоящее время празднование Благовещение отстало от равноденствия на 13 дней [905], но во II–м веке равноденствие считалось 24–го марта, т. е. праздником весны. И, как в моменте весеннего равноденствия заключена, как бы в зерне, вся полнота космического года, так же в празднике благовещения Пресвятой Деве содержится, как в бутоне, вся полнота церковного года. А далее, и космический год и церковный год — это образы года онтологического, — года или полноты времен и сроков всей мировой истории. Вся мировая история содержится в Деве Марии; а Дева Мария вся выражается в моменте Благовещения.
Этот–то бесконечно–полный миг, этот момент полноты бытия и являет нам, в наглядных образах, описанная тут икона.
{стр. 544}
Век исторической критики, XIX–ый, изменил характер нападок неверия против Церкви и из области философии перенес борьбу в область истории. Подлинность или неподлинность того или другого исторического памятника — вот преимущественный предмет горячих пререканий в XIX–м веке. Но самая острота этих споров заставляет думать, что молчаливою, общею предпосылкою спорящих сторон было предположение, что можно убедить друг друга, что то или другое мнение рано или поздно непременно возьмет верх и, притом, с непреложностью «объективной» научной теоремы, независимо от общих убеждений каждой из спорящих сторон. Этот исторический рационализм, т. е. Убеждение в рациональной доказуемости исторических тезисов есть, конечно, не более как методологическая наивность. В корне же её лежит невнимание, некритическое отношение к понятию «вероятности» и его производным, в особенности же к понятиям «математического ожидания» [906] и «ожидания нравственного» [907], разработанным формально в теории вероятностей и представляющим явно или подспудно основные понятия всякой исторической науки.
В самом деле, недостаточно сказать «знаю», но нужно еще определить степень знания, необходимо оха{стр. 545}рактеризовать «количество знания» [908]. Другими словами, здравый смысл, которым довольствуется историческая наука, должно, по меткому слову Лапласа «перевести на вычисление» [909] и тем впервые получить возможность отнестись к своему знанию сознательно. Так понятно, что, сознавая неполноту своего знания, мы должны стараться уяснить себе меру его. Век ХIХ–ый ознаменован в самом начал своем критикою знания, ХХ–ый же производит критику методов знания. Итог этой критики — тот, что в настоящее время не нуждается уже в подробном объяснении мысль, высказанная ранее блестящим Стенли Джевонсом, а именно, что «почти каждая проблема в науке принимает форму балансирования вероятностей» [910] и что, следовательно, не может быть рациональной уверенности в том или другом решении наук апостериорных, но — лишь та или иная степень вероятия. Заключение от следствий к причинам и от фактов к их генезису всегда только вероятно, и вероятность эта определяется законами, открытыми Бернулли, Чебышевым и др. Только бесконечный опыт мог бы дать достоверное знание; вероятность же в нашем знании и есть отражение потенциальной бесконечности опыта. Это относится и к физике, и к астрономии, и к химии, и, в особенности, — к историческим дисциплинам. Однако, в дисциплинах исторических вопрос ставится по особому. Ведь тут наука имеет дело не с тезисом, более или менее безразличным для духовной культуры, а с духовною ценностью, в охранении или в ниспровержении которой каждый непременно заинтересован — так или иначе. Поэтому, мы не в силах, да и не в праве, рассматривать ту или иную гипотезу касательно исторической данности безотносительно к ценности, которую имеет в нашем сердце эта данность при сделанной гипотезе; и следовательно, когда задаемся мы той или иной гипотезой относительно некоторого памятника духовной культуры, то мы безусловно не можем, — да и нисколько не {стр. 546} должны, — обследовать ее вне своей оценки этого памятника, хотя и самая оценка тоже, в свою очередь, зависит от характера гипотезы. Конечно, во всякой наук есть прагматический момент; но в науках о культуре он относится не только к целому мировоззрению, но и к каждой частности его.
В науках естественных известные основные положения обосновываются прагматически, следствия же чисто внешне, логически, вытекают из предпосылок. В науках же о культуре каждое положение, каждый шаг вырабатывается целестремительно. Тут — такая же разница, как между механизмом и организмом. В первом лишь общий план целесообразен, а части — чисто–внешне сцепляются друг с другом; во втором же нет ни одной клеточки, которая бы сама не была целестремительной, и весь насквозь он организован. Может быть, мы можем приблизительно «объективно» учитывать вероятность гипотезы (— всегда лишь гипотезы! —) о составе того или другого минерала; но было бы явною нелепостью притязать на «объективное» обсуждение подлинности какой–нибудь реликвии, происхождения Св. Писания или, даже, времени написания диалогов Платона или поэм Гомера. И, кто вообразит, что в этих вопросах он что–то «доказал» с непреложностью, тот очевидно никогда еще даже не ставил себе критической задачи о сущности исторических методов. Должно решительно отказаться от каких бы то ни было пререканий с ним до тех пор, пока он, хотя бы элементарно, ни проштудирует теории вероятностей, — этого «самого величественного из созданий ума» [911].
Всякое суждение и всякое умозаключение в области исторических наук есть суждение с коэффициентом вероятности [912]; если суждение и умозаключение выражается формулою
аƆb,
то историческое суждение и историческое умозаключение, во всяком случае, должно выражаться формулою
аƆpb,
{стр. 547}
где символ
Ɔp
означает связку, как функцию параметра р, т. е. вероятстйи связи «аƆb». Язык подтверждает, что связка имеет степени вероятности, ибо дает множество речений, соответствующих различным оттенкам этой связки. Для наглядности часть этих речений расположим в табличку, представляющую собою лестницу ступеней «нравственного ожидания» известной гипотезы. — так сказать, спектр степеней твердости нашей веры или нашего неверия в гипотезу. Вот эта табличка [913]:
| +∞ | абсолютно да |
| наверное, наверняка да | |
| несомненно, без сомнения, конечно да | |
| да | |
| + | очевидно да |
| по–видимому да | |
| вероятно да | |
| кажется да | |
| возможно да | |
| быть может да | |
| пожалуй да | |
| как будто да | |
| О | не знаю; а Бог его знает; и да — и нет; и так и сяк. |
| ⌐ | пожалуй нет |
| как будто нет | |
| быть может нет | |
| возможно нет | |
| кажется нет | |
| вероятно нет | |
| по–видимому нет | |
| очевидно нет | |
| нет | |
| несомненно, без сомнения, конечно нет | |
| наверное, наверняка нет | |
| ⌐∞ | абсолютно нет |
{стр. 548}
Итак, исследуя какой–либо памятник, мы имеем в виду его самого, как некоторую ценность α, и подлинность его, — никогда, впрочем, не безусловную, но всегда лишь более или менее вероятную, — степень подлинности, степень вероятности, измеряемую некоторым коэффициентом p. Но ни α, ни р не даются нам порознь, ибо мы не можем судить ни о ценности произведения, совершенно отвлеченно от вопроса о его происхождении, — ни о происхождении его, независимо от ценности Эти величины р и α даются нам в действительной жизни всегда вместе, в виде произведения рα, носящего название «математическое ожидание»; выражение рα или P и должно быть предметом обследования всякой сознательной критики; попытка же узнать значение отдельно p и отдельно α есть наивная мечта o невозможном, да и не нужном. — Для нас важно то, у чего значительно произведение Р. — Величина же Р определяется либо значительностью р, либо значительностью α, либо тем и другим зараз. При этом, р — всегда положительная, правильная дробь, т. е. большая нуля и меньшая единицы, — ибо никогда не исключен случай возможной подлинности известного творения и никогда не исключена безусловно возможность его неподлинности. Что же до α, то оно простирается от -∞ до +∞, так что:
0 < p < 1
И
-∞ < α < +о∞.
Возможно, что в иных случаях вместо величины α должна быть взята бернуллиева [914] или, если считать ее недостаточно точною, еще какая–нибудь функция φ(α), так что вместо «математического ожидания» Р получается «нравственное ожидание» Q=рφ(α) или Q׳=ψ<p, α).
Но, так или иначе, однако ясно, что при весьма большом α, т. е. при весьма ценном памятнике, даже малая вероятность его подлинности все же может сохранить значительное математическое Р или нравственное Q или Q' ожидание его. Этот именно случай мы имеем в приве{стр. 549}денном ранее Письме Божией Матери. Ведь если бы и впрямь его р было мало (— но оно, во всяком случае, не нуль —), все–таки α его так безмерно велико, что Р получается значительным. А т. к. α определяется не наукою, а другими деятельностями духа, — и в частности, α духовных творений определяется Церковью, — то ясное дело, что, в конечном счете, всецело от Церкви же зависит сделать Р как угодно великим. Другими словами, лишь Церкви принадлежит удостоверение подлинности или неподлинности тех или иных памятников, но ни в коем случае — не науке. И потому, лишь вера в Церковь или неверие в нее, а вместе с нею — и в её творчество, — лишь они дают решающий поворот нашим историческим убеждениям, и тем определяют весь уклад научной мысли. В науке, как и в нравственности, есть «два пути»; один из них — путь веры, другой же — неверия, «и различие между ними большое».
Чтобы сделать приводимые здесь соображения совсем наглядными, поясним сказанное аналогией. Представим себе, что мы владеем некоторым имуществом, котoрoe у нас хотят оттягать. Но вообще ни про одну тяжбу нельзя сказать, что она закончится непременно в интересах истца, как ни про одну нельзя сказать и того, что ответчику обеспечен его интерес. Тяжба есть балансирование вероятностей, и потому, как бы ни было мало надежды у ответчика на проигрыш дела истцом, никогда не исключена возможность, что он не лишится имущества, которым владеет. Итак, если дело начинается, то неужели он бросит свое имущество из–за возможного проигрыша? И если вероятность удержания за собою этого имущества α есть р, то степень твердости р, с которою он будет защищать свое право на имущество, выразится вовсе не чрез p, а чрез р.α или чрез p.φ(α), — чрез «математическое» или чрез «нравственное» ожидание выигрыша процесса. А, пока что, он будет пользоваться имуществом. {стр. 550} Точно также, владея духовным капиталом и угодьями духовной культуры, Церковь вовсе не отказывается от них из–за того, что неверием возбужден иск против неё. Она продолжает пользоваться ими, а степень её стойкости в борьбе за свое имущество выражается величиною математического или нравственного ожидания выигрыша ею этого процесса.
Onus probandi лежит на вчиняющем иск, и верующему беспокоиться о том, написана ли Книга Бытия Моисеем столь же мало подходит, как помещику начать беспокоиться, прадедом или пра–прадедом приобретено поместье, полученное им в наследство. Чем более ценность этого поместья, тем менее у него будет охоты уступать свое право и потому тем менее убедительными будут для него аргументы противника. Если же эта ценность бесконечно велика, то даже тень надежды, даже ничтожнейшей вероятности выигрыша дела достаточно для него, чтобы не внимать аргументам, кажущимся его противнику весьма сильными. А кто может доказать, что нет надежды ни малейшей! Bepa необходимо связана с риском и со стойкостью. Но такова даже и наука, даже естественная наука.
«Сделавши однажды обдуманный выбор, — говорит Ст. Джевонс [915], — естество–испытатель, может уже с полным правом оставаться непоколебимо верным своей теории. Он не пренебрегает никаким возражением; потому что для него всегда есть шанс встретить фатальное возражение; но он, однако, будет постоянно иметь в виду незначительность сил человеческого ума сравнительно с предстоящим ему делом. Он увидит, что ни одну теорию нельзя сразу же примирить со всеми возражениями, потому что может быть много мешающих причин и самые последствия теории могут иметь сложность, которой не и состоянии исчерпать исследование нескольких поколений. Если, поэтому, теория представляет несколько поразительных совпадений с фактом, то ее не нужно отвергать до тех пор, пока не будет {стр. 551} доказано по крайней мepe одно решительное разногласие, причем, однако, нужно иметь в виду и возможную ошибку при установлении этого разногласия. В науке и философии тоже иногда нужен риск».
В итоге, приемы исторической критики, порою кажущиеся наивному уму чем–то неумолимо–логичным, на деле так же основаны на вере, как и убеждения верующего сердца. В сущности, не приемы различны, — они одинаковы, ибо одинаково устроение ума человеческого, — а различны веры, лежащие в основе тех и других у одного — вера в неверие, вера в сей преходящий и растленный мир, у другого — вера в веру, вера в иной, вечный и духовный, мир. У одного — вера в законы дольнего, у другого — в законы горнего. И, согласно вере своей, каждый говорит, раскрывая в объективных по виду приемах доказательства чаяния своего сердца. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Мф. 6, 21, ср. Лк. 12, 31). И вот, где полагается сокровище–ценность, туда и устремляется сердце, т. е. на той ценности и «ориентируется» все существо. И потому, если кто сдается на доводы исторической критики, то это не то значит, что они основательны, а то, что он уже расслаб в своей вере и душа его тайно вожделела, с кем бы ей пасть.
{стр. 552}
Указанное в тексте значение кругов около Софии может быть подтверждено символикою голубого цвета и цветов сродных и близких к голубому. (Заметим тут же, что мы будем употреблять их названия, как синонимичные, ибо речь идет, собственно, о цвете неба, а небо, в разных странах и в различные времена дня и года, бывает весьма различных оттенков, от темно–синего и до бледно–бирюзового включительно). Голубизна, как известно, символизирует воздух, небо и, отсюда, — присутствие Божества в мире чрез его творчество, чрез его силы. Так, Филон [916] усматривал в голубом одеянии (תחלת техелет, небесно–синий, coeruleus, гиацинтовый) первосвященника (Исх. 27, 31, Лев. 7, 7) символ воздуха; Иoсиф Флавий [917], объясняя символически цвета, принятые при окраске Скинии и одежд первосвященника, толкует гиацинтовый или голубой цвет как воздух, а гиацинтовую тиару — как небо; бл. Иepoним [918] воспроизводит объяснения Флавия. Это натуралистическое толкование естественно связывается с толкованием нравственным. Фома Аквинский [919] видит в гиацинтовом цвете созерцание вещей небесных. Действительно, израильтяне должны были помещать по четырем углам своих покрывал кисточки {стр. 553} с гиацинтовыми нитями, чтобы «вы, — говорит Господь, — смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству; чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим» (Чис. 15, 38–41; ср. Втор. 22, 12). Итак, голубой цвет — символ того, что противоположно блудодейству и отпадению от Бога, — символ духовной чистоты и целомудрия, бл. Иероним [920] говорит, что гиацинтовое одеяние первосвященника, представляя цвет воздуха, символизирует возвышение сердца над земными вещами, Фома Аквинский [921] видит в этом одеянии образ сношения с небом чрез дела усовершенствования. Он добавляет [922], что гиацинтовые полосы на покрывалах были символом устремления небесного, — которое должно возглавлять все действия.
Подобны сему и новейшие толкования.
Так, по О. Вейнингеру, «голубой цвет есть цвет радости и блаженства высшей жизни. Красный цвет ада — противоположность голубого цвета неба» [923].
В виду такой символики голубого цвета, Созepцательное Богословие, единственная из семи фигур, олицетворяющих семь небесных наук, на фреске Симона Мемми в испанской капелле в Santa Maria Novella во Флоренции, представлена в голубых и красных одеждах, тогда как Богословие Практическое — в зеленых, Мистическое — в белых, Полемическое, равно как и Гражданское Право, — в красных, а Церковное Право — в золотых и белых [924].
Поэтому же, в той же церкви, на фреске Джотто (1276–1333 гг.), изображающей отречение от мира Франциска Ассизского, «гневный отец одет в красный цвет, изменчивый как страсть, а мантия, которой епископ накрывает св. Франциска, голубого цвета — символ небесного мира». Добавим еще, что это распределение цветов — вовсе не случайность: Джотто — {стр. 554} один из величайших красочных символистов и, притом, не просто пользовавшийся условною раскраскою традиции а создававший новые символы для каждой картины и, значит, лично переживавший их [925].
Опять же таки поэтому, цвет синей мозаики особенно подходит к украшению храма, приводя душу молящегося в неизъяснимый трепет. «Необычайно и как–то непостижимо глубок очень темный синий цвет на потолке мавзолея Галлы Плацидии, — говорит один путешественник [926], описывая равеннские мозаики V–го века. — В зависимости от игры света, проникающего сюда сквозь маленькие оконца, он изумительно и неожиданно переливает то зеленоватыми, то лиловыми, то багряными оттенками. — При виде всего этого великолепия невольно думается, что человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен… Сияющий синим огнем воздух, которым окутан саркофаг, достоин быть мечтой пламенно–религиозного воображения. Не к этому ли стремились, другим только путем, художники цветных стекол в готических соборах?»
Наиболее систематическое и подробное изучение символики цветов находим мы у Фр. Порталя [927]. Изложим вкратце мысли, им развиваемые. В основе их лежит признание, что религиозное сознание человечества постепенно вырождается и грубеет и что поэтому символы религиозные делаются все более и более плотскими. Принимая, далее, в рассчет сообщение св. Климента Александрийского о трех видах письма у египтян и — Вappона — о трех богословиях, Порталь развивает мысль, что и в истории религии имеются три стадии ознаменованные тремя различающимися между собою языками. Духовный мир распадается в человеческом рассудке на свои атрибуты, а эти последние, вырождаясь далее, получают значение как явления {стр. 555} этого мира. Таков процесс духовного вырождения. Ему соответствует последовательность трех языков.
«Язык Божественный обращается сперва ко всем людям и открывает им существование Бога; символика — язык всех народов, как религия — достояние каждой семьи; священства еще нет; каждый отец — царь и жрец.
«Священный язык рождается в святилищах, он заведует символикой зодчества, ваяния и живописи, равно как и культовыми обрядами и жреческими одеяниями: это первое оплотянение заключает язык Божественный в непроницаемые покровы.
«Тогда мирской язык — profane, — вещественное выражение символов, бывает пищею, брошенною нациям, обратившимся к идолослужению» [928].
Итак, всякий символ тройственен; то же должно сказать в частности и о символах цветовых. «История символических цветов свидетельствует об этом трояком происхождении, каждый оттенок носит различньш значения в каждом из трех языков, — Божественном, священном и мирском» [929].
В частности, голубой цвет, лазурь небесного свода означает первоначально, на языке божественном, вечную Божественную Истину; затем, на языке священном, он делается символом человеческого бессмертия и, отсюда, цветом смерти, цветом печали и траура. Наконец, на язык мирском он означает верность. «Так, от догмата вечной мудрости человек переходит к созерцанию своего бессмертия; догматы забываются, символ оплотяневает и, в наши дни, имеет только значение верности» [930].
В основе цветовой символики лежит, по Поршалю, производство всех цветов от света и тьмы. Красный, цвет Божественной любви, и белый, цвет Божественной мудрости, непосредственно происходят из Света; желтый, происходящий из красного и белого, есть символ откровения любви и премудрости Божией. Голубой — тоже происхо{стр. 556}дит из красного и белого; он означает Божественную премудрость, обнаруженную посредством жизни, духа или дыхания Божия; он есть символ духа Истины; он указывает обнаружение любви и премудрости в деянии; он был символом любви и возрождения души подвигами. Другими словами, в основе символики можно заметить три момента:
10, бытие в себе [т. е., по концепции нашей книги — Бог в себе, Отец и Триединица]; тут преобладает цвет красный и белый.
20, обнаружение жизни [т. е., опять таки по мыслям нашей книги — Логос в мире и София]; тут символами служат цвета желтый и голубой.
30, действие, отсюда получающееся [т. е., в том же цикле мыслей, — Тваpь, оживляемая Духом Святым], символом Которого служит цвет зеленый [931].
Не касаясь теперь других принципиальных вопросов символики цветов, перейдем прямо к рассмотрению взглядов Порталя на три значения голубого цвета [932].
Прежде всего, у Порталя говорится о значении голубого цвета на языке божественном. Воздух, а потому и лазурь, цвет воздуха, символизирует Духа Святого, — говорит наш иcследователь, — ссылаясь на повествование Св. Писания о сошествии Духа (Деян. 2) и на беседу Господа с Никодимом (Ин. 38). Далее, устанавливается значение голубого цвета, как символа творческой Божественной мудрости.
Краснорогий голубой овен, на котором восседает у индусов Агни; голубой Юпитер–Аммон с рогами овна; значение огонь в слове azur — лазурь — на языках восточных; Зевс, как эфирный огонь у греков, по сообщению св. Климента Александрийского и т. д., все это указывает, по Порталю, на соединение в верховном Божестве мудрости и любви.
В космогониях творит мир Божественная премудрость; потому Бог–Творец всегда голубого цвета. Так, в Индостане, Вишну родился из голубизны, и, когда изображается творящим мир, то пишется с телом небесно–голубым. В Египте, верховное Божество, творец вселенной Кнеф, писался небесного цвета. В Греции [?], лазурь — цвет {стр. 557} Юпитера, отца Богов и людей. В Китае, небо — верховное Божество, а в христианской символике лазуревый свод — это мантия, которая покрывает и окутывает Божество. Вечная Истина, воплотившаяся на земле, тоже символизируется лазурью, — как спасающая и, как бы, заново творящая человечество. У индусов, Кришна, в мифе о котором можно находить некоторый аналогии Евангелию, а, быть может, и прямые заимствования, изображается с голубым телом. Точно также Амона, Божественное Слово египтян, по Евсевию [933], представляли лазоревого цвета, и таковым он является на египетских изображениях.
Переходим теперь к языку священному. Тут различаются три голубые цвета; один, происходящий от красного, другой — от белого, и третий — близящийся к черному. Эти цвета то разнятся оттенками, то сливаются в одном. Голубой, происходящий из красного, представляет эфирный огонь; его значение — небесная любовь к истине. В мистериях он относится к крещению огнем. — Голубой, происходящий из белого, указывает истину веры; он относится к библейским водам живым, или к крещению духом. Голубой, близящийся к черному, приводит нас к космогонии, к Духу Божиему, плавающему над хаосом; он относится к крещению естественному.
Эти три вида одного и того же цвета соответствуют трем главным степеням античного посвящения и троякому крещению христианскому: водою, Духом и огнем. Эти же три степени изображались, в большей раздельности, окрасками: красною, голубою и зеленою.
Зеленый, черный и темно–голубой (— все это один символ —) указывают на мир, рождающийся в лоне первобытных вод, и первую степень посвящения.
Лазурь представляет возрождение или духовное образование человека, а красный — освящение. Первобытный хаос, над которым носился Дух, сотворение Адама — и освящение субботы — вот эти три ступени в Библии.
Языческие Божества были символами атрибутов Бога и возрождения человека. Поэтому, когда Вишну представляет последнюю степень возрождения, то он — зеленоватого или темно–голубого цвета. Сатурн, как и Мемнон, как и Озирис–Серапис, как и Кнеф–Аммо–Агафодемон–Нил, как и Вишну–Нарайяна, Кришна, Будда, был черным или темно–голубым; а все эти боги {стр. 558} имеют некоторое отношение к воде. Кришна — воплощение Божественной истины и поэтому тело его — лазоревое; но, низойдя в условия человеческого существования, он подвержен искушениям зла, и индийская символика посвящает ему также цвета темно–голубой и черный. Плутарх говорит, что Озирис был черного цвета, ибо вода делает темными вещества, которые напитывает. Под этим народным объяснением легко схватить основную мысль, — о Боге, приводящем в движете хаос.
Статуя Сатурна была из черного камня, и жрецы его — тоже черные, в голубых одеждах, с железными кольцами.
Когда царь посещал храм этого Божества, то свита его была одета в голубое или черное. Противоположение этих двух цветов представляет борьбу жизни и смерти в духовном состоянии и в состоянии материальном, которое обнаруживается во времени; а Сатурн — символ Времени. Храм, и статуя Меркурия были из голубых камней; одна из рук его была белою, а другая — черною; Макробий дает ему одно крыло белое, а другое — голубое, или, по другим мифографам, — черное. Присоединённый к черному, голубой цвет — это аттрибут посвящающегося, сокрушающего врата духовной смерти могуществом Истины; белый цвет свидетельствует о полном возрождении.
Миф об аргонавтах, имеющий мистериальное значение, повествует о жертвоприношении Юноне и Нептуну в Кианеях, в Синих теснинах. Но Юнона–воздух — символ небесной Истины, а Нептун–вода — символ истины естественной. Нептун драпировался в зеленое, и ему приносили в жертву быков черных; голубой был посвящен Юноне. Подобные же символы находим и в христианстве, и у китайцев, у Лао–Дзы.
Лазурь, в своем абсолютном значении, представляет небесную истину; что истинно, что есть в себе — то вечно, как и наоборот, преходящее — ложно. Лазурь была поэтому непременным символом Божественной вечности, человеческого бессмертия и, вследствие этого, естественно стала цветом траурным.
Египетский первосвященник носил на груди сапфир, «и это украшение называлось истиною — και εκαλείτο τό άγαλμα 'Αλήθεια»; так сообщает Элиан [934]. Но известно, сверх того, что на этом камне было вырезано изображение Богини истины или Справедливости, Тмэ — Тhme, — имя которой תם ТНМ или תטה ТНМЕ означает по–еврейски справедливость и истину. Еврейский первосвященник носил на груди камень, ко{стр. 559}торый имел то же имя: Истина, Справедливость, תמים THMIM [935]. Самое название сапфир, סביךSPIR или SPHIR, образовано от корня סבך SPR или SPHR, что значит писaть, говорить, прославлять, хвалить, писец, писание, книга. Эти различные наименования указывают на слово, на писанную или изустную речь, на премудрость Божию, содержащуюся в Sepher евреев или Библии [936]. В мистериях, египетский первосвященник бывал одет в небесно–голубое одеяние, усеянное звездами и стянутое желтым поясом. То же — у Аарона. Эта одежда обозначает хранителей вечной истины; в отношении к людям, как сказано, лазурь — символ бессмертия. В египетских могильниках находят большое число фигурок и амулетов голубых. В этом цвете должно видеть символ души, устремляющейся в вечность. В Китае, голубой цвет есть цвет мертвых, символ душ после смерти, а красный означает живых.
В христианской символике Христос во гробе иногда изображался с голубым лицом и окруженным голубыми полосками [937]; один из ангелов тоже писался с голубым нимбом. В миниатюрах некоторых рукописей голубой цвет опять таки символизирует смерть [938].
По Мону, Дева часто, после смерти Христа, является одетою в голубое; поэтому–то, — по замечанию Гиньо (Guigniaut), — священник в Великом посту часто облачается в голубое и, пред Святой Неделей, изображения Христа покрываются покровами (— у католиков —) того же цвета [939].
В этих обрядах видна первая степень оплотянения: символ Божественной вечности и человеческого бессмертия становится эмблемою телесной смерти. «Голубой цвет, — говорит Ля Мот–Левайе [940], — считается цветом смерти на большом протяжении Востока, где траур носят только голубой, и где никто не осмелится предстать царям в одежде столь печального признака, равно как, по той же причине, никогда не произносят в их присутствии неприятного слова смерти».
Эти обычаи показывают нам символ вполне оплотяневшим. Но последнюю степень оплотянения выражает язык мирской. Цвет небесного свода, лазурь, была в языке Божественном символом вечной Истины; в языке священном — бессмертия; а в языке народном она делается символом верности.
Скарабеи из голубого камня украшали кольца египетских воинов; их — множество в коллекциях древностей; эти кольца были символами клятвы верности, которую давали солдаты. {стр. 560} По Гораполлону [941], скарабей был символ мужественности. Кольцо, на котором было его изображение, и которое военные обязаны были носить, означало, по Элиану [942], что все, кто сражался, должны были быть мужчинами т. е. что они должны были оставаться верными клятве [943]. В геральдике голубой цвет означает целомудрие, законность, верность и, как следствие сего, — достойную репутацию [944].
Теория происхождения цветов из света и тьмы у Порталя изложена символически, — как наглядный образ религиозных и феософских умопредставлений. Господствовавшая по всей древности, она первоначально и была таковою; но, как это происходило и с другими религиозными символами, наглядный образ горнего стал само–довлеющим, стал схемою дольнего. Другими словами то, что раньше было знаменуемою реальностию иного мира, теперь стало отвлеченным вспомогательным понятием мира этого, а то, что раньше знаменовало, — т. е. символический язык, самый символ, — то теперь стало знаменуемою реальностью, чувственным представлением. Соотношение высшего и низшего бытия извратилось, и феософический символ выродился, таким образом, в физическую или в психо–физическую теорию. Так огрубел и растлился самый символ; а значение его, отделившись от своего тела, стало отвлеченным морализмом, аллегорически т. е. условно и случайно, присоединенным к тому или другому чувственному языку. Вот пример того как возникла, из развращения науки духовной, наука светская, эта блудная дочь, не ведающая своей матери.
Образчик этой выродившейся религиозной символики находим уже у Платона [945], в его научной теории происхождения цветов из света и тьмы. Правда, вполне допустима и та мысль, что Платон юродствует, ради непосвященных, которым нельзя доверять тайн горнего мира. Но, если и так, то это пристрастие именно к наукообразному юродству характерно для века: значит, по условиям времени требовалось именно оно. А далее, {стр. 561} этот наукообразный язык окончательно превращается в науку и теряет всякий аромат своего высшего смысла [946].
Повторяясь в различных видоизменениях множество раз на протяжении истории древности и средневековья, эта теория находит себе отклик у Леонардо да Винчи и тут, как и всегда, возникает в связи с непосредственными наблюдениями изощренного в цветах глаза художника.
«Белый цвет, — говорит Леонардо, — мы уподобим свету, без которого нельзя видеть ни одного цвета, желтый — земле, зеленый — воде, синий — воздуху, красный — огню и черный — темноте, находящейся над элементом огня, ибо там нет никакой материи или плотного вещества, о которые могли бы ударяться солнечные лучи и освещать их» [947]. «Синий и зеленый цвета — не цвета элементарные сами по себе. Первый складывается из света и темноты, подобно синеве воздуха, складывающейся из совершенно черного цвета и совершенно белого» [948].
Но пышнейшее развитие и тщательность обработки она находит, как известно, у Гёте [949]. Не станем здесь излагать Гётевское объяснение происхождения цветов из участия замутненных сред. Остановимся лишь на Гётевских разъяснениях касательно психологии цветов, т. е. общих воздействий на психику, которые производятся восприятиями цветов. Другими словами, обратим внимание на психологические основы символики цветов, ибо, конечно, известный цвет становится для нас символом той или другой идеи за то, что возбуждает в нас как бы предчувствие этой идеи, склоняет нас к этой идее, навевая что–то, ей сродное.
Все цвета, как по своему происхождению, так и по психическому воздействию, делятся, согласно Гёте, на две группы, положительную и отрицательную.
«Цвета положительной стороны — Plusseie: — желтый, красно–желтый (оранжевый), желто–красный (сурик, {стр. 562} киноварь). Они настраивают бодро, оживленно, стремительно» [950]. «Цвета отрицательной стороны — Minusseite: — голубой, красно–голубой и голубо–красный. Они настраивают на чувство тревожное, кроткое и созерцательное» [951].
Цвет желтый, по Гёте, — это «цвет ближайший к свету» [952], так сказать первое явление света в веществе. Напротив, голубой — это как бы тончайшая мгла, — как бы наиболее просиянное вещество [953].
«Как желтый всегда приводит с собою свет, так же можно сказать, что голубой всегда приводит с собою нечто темное» [954]. Голубой цвет — что–то непонятное. «Этот цвет производит на глаз особое и почти несказанное действие. Как цвет, он — энергия; но, только, он стоит на отрицательной стороне и, в своей высшей чистоте, есть вместе с тем возбуждающее Ничто. Это — некое противоречие возбуждения и покоя во взгляде» [955]. Он углубляет действительность и, создавая воздушную перспективу, как бы одухотворяет зримое. «Как высокое небо и далекие горы видим мы голубыми, так и голубая поверхность кажется отступающей пред нами» [956]. В голубом цвете — душевный отдых. «Как привлекательный предмет, проносящийся пред нами, мы охотно прослеживаем, так же мы охотно всматриваемся в голубое, — не потому, что оно наступает на нас, но потому, что оно нас притягивает к себе» [957]. — «Голубое дает нам чувство холода и напоминает нам также о тени. Как оно происходит из черного, нам известно» [958]. «Комната, которая оклеена чисто–голубыми обоями, кажется нам, пожалуй, обширною, но, скорее, — пустой и холодной» [959]. «Голубое стекло кажет предметы в печальном свете» [960]. «Приятно, если голубое причастно в известной мepe плюсу. Зеленый цвет моря скорее ласковый цвет — liebliche» [961].
Гётевская теория цветов содержала в себе два момента: психологическо–физиологический и физическо–философский. В дальнейшем её развитии оба эти момента {стр. 563} обособляются, однако едва ли на пользу теории. Психологическо–физиологическую сторону её восприняли физик Томас Зеебек [962], Л. Геннинг [963] и, отчасти, знаменитый физиолог Иоганн Мюллер [964]; но наиболее последовательно пытался обосновать физиологически Гётевскую теорию Арт. Шопенгауэр [965]. С физическо–философской стороны эту же теорию принимали и обосновывали Гегель [966] и, отчасти Шеллинг [967]. Не станем приводить их теорий; заметим только, что цвет «синий соответствует. — по Гегелю, — кротости выражению исполненного ума и душевной тишины, сантиментальному [— в хорошем, старинном, смысле слова —] направлению, так как он имеет началом мрак, не производящий противоположности» [968]. Но, какова бы ни была ценность всех этих обоснований самих по себе, для нашей задачи а именно для разъяснения природы голубого цвета, как символа, они не дают ничего существенно–нового, и мы смело можем не излагать их.
Обратимся же к некоторым частностям этой символики.
В связи с указанными выше символическими свойствами и непосредственными действиями на человека этих цветов, делается понятною и таинственная сила, приписываемая драгоценным камням — голубым, синим и фиолетовым, — т. е. цветов близких к синему. Ведь, в геммах, древние обращали внимание по преимуществу на цвет их, на что указывает самое название «самоцветные каменья», и в цвете их по преимуществу надо искать их тайную силу [969]. Это видно хотя бы из того, что камни тождественные или почти тождественные во всех отношениях, кроме цвета, мистическое и символическое значение имеют весьма различное [970]. Из синих и голубых камней наиболее замечателен сапфир. И действительно, за голубым сапфиpом Средние Века признавали свойство охлаждать {стр. 564} страсти, и потому его могли носить священники и все лица, посвятившие себя целомудрию [971]. Точно также, за фиолетовым аметистом признавалась в древности способность противиться нетрезвости, как физической, от вина, так и духовной; отсюда — и самое название его, αμέθυστος, от α и μεθυω, опьяняю [972].
Камень сапфир, אבן ספיר эвен саппр, и из подобия которому, в видении Иезекииля, был престол славы Господней (Иез. 1, 26), обозначает в видении, по всей вероятности, твердь небесную, небо. Но не должно обманываться названием этого камня: саппир или сапфир древних — это вовсе не сапфир современной минералогии или Средних Веков, а, скорее, лазурик или лазуревый камень, ляпис–лазурь — lapis lazuli, — или, по мнению некоторых авторов, — современная бирюза [973]. Может быть, в связи с видением Иезекииля, стали употребляться для церковных престолов, с тем же значением, что и сапфир видения, плиты лазурика; глубокая синева этого камня подходит к цвету южного неба, а золотые блестки, рассеянные по всей его массе, напоминают о звездах [974].
Поэтому же, именно из этого камня выточен шар — для мраморной группы Пресвятой Троицы на гробнице св. Игнатия в Риме [975]. Голубой шар означает вообще небесную сферу, небо [976]. Тут опять мы сталкиваемся с основным значением голубого и синего цветов, — как символов неба, а отсюда — и со всеми производными, о коих было упомянуто ранее. Но все эти производные значения, по–видимому различные у различных авторов и в различные времена, очень определенно объединяются в понятии духовности. Не исключается отсюда и значение сапфира, указываемое Иоанном Геминианом, а именно, что «contemplatio assimilatur saphyro — созерцание уподобляется сапфиру», на что, по Геминиану, имеется три основания. Во–первых, небесно–синий цвет сапфира, color caeruleus (— заметим кстати, что самое слово caeruleus, а первоначально саеlulеus, происходит от caelum —), во–вто{стр. 565}рых, его редкостность и дороговизна, и, в–третьих, отсутствие в нем блеска, — propter defectum fulgoris [977]. Созерцание небесного, согласно указанию того же автора, уподобляется еще камню zimeth, и — тоже по трем причинам, из которых первая, опять–таки, — его небесно–синий цвет [978].
Итак, голубое окружение Софии означает воздух, небо и горний мир. Однако, это общее указание нуждается в некотором углублении Ведь иконографические символы — не только эмблемы, но и некоторые мистические реальности; они, ведь, — не голые значки иного мира, не алгебраические формулы мира духовного, но также — одеяния и картины высшей реальности. Например, венчик на изображениях святых — не только живописный титул «св.» или «преп.», но и примерное изображение действительного свойства духоносной личности, её подлинной осиянности. Точно также, просится на сердце естественный вопрос, для рассудка, впрочем, лишенный неотметаемого достаточного основания: это, именно, вопрос: «Как понимать занимающее нас бирюзовое или зеленовато–бирюзовое окружение Софии?».
Да, после всего сказанного — бесспорно, что это — небо. Но эта лазоревость и эта бирюзовость, присоединены ли они к Софии по отвлеченным соображениям и поверхностным ассоциациям рассудка, или же более принудительная сила живого восприятия сделала голубое естественным символом Софии? Действовало ли тут рассудочное «потому что», или же источником здесь было непосредственное «так есть»? Обычно, ведь, представляют происхождение этого атрибута Софии по схеме:
«Небо означает Софию; небо — голубое; следовательно, Софии можно приписать атрибутом голубое окружение».
{стр. 566}
Но возможно, что дело происходило совсем иначе, и именно по схеме:
«София есть истинное Небо; в софийных переживаниях налично восприятие голубизны; следовательно, голубое — естественный символ Софт, а потому и Небо, — символ Софии, — является нам голубым».
Короче говоря, не потому представляется София с голубым окружением, что небо есть голубое, а потому небо является голубым, что у Софии — голубое окружение. Как солнечный свет — естественный символ Триипостасного, так же и голубое прозрачное покрывало — естественный символ Софии. Иначе и быть не может: мир духовный реальнее мира тленного; и: не высшее определяется низшим, а низшее — высшим, свойства же дольнего — не более как затемненные грехом и огрубленные порчею свойства горнего. Духовное созерцание, «обличая вещи невидимые», не условно облекает их в ту образную оболочку, но воплощает их в символическое тело, сообразное им, хотя и приспособленное к нашей, — земной, затемненной, — способности познания. Софийные созерцания, в их непосредственной, наличной действительности, характеризуются именно этим, воздушноголубым, небесным «телом».
Так, имеется подлинное донесение о. Архимандриту Ювеналию, впоследствии Епископу, одного из послушников Курской Коренной Рождества–Богородицкой Пустыни о своем видении. Послушник этот видел рай и там, между прочим, было «великое множество людей,… все были в великом восхищении и неизреченной радости. И носился там благоуханный воздух, тонкий и приятный, как бы голубого цвета. И сказал мне, — сообщает самовидец, — один из юношей: "Смотри — это покой мирских людей"» [979].
Ж. Г. Буржа́ [980] рассказывает об одном замечательном случае, когда, в десятилетнем возрасте, ему при{стр. 567}шлось пережить умирание и у него развилось такое ясновидение, что, хотя и с закрытыми глазами, он видел однако все, что делалось в его комнате и в других комнатах, — видел сквозь стену в 25 сантиметров толщины. В невыразимом страдании душа его томилась около умирающего тела. «Как вдруг, — повествует рассказчик, — как вдруг, как бы спустившись с потолка, с быстротою молнии, предо мной предстал светоносный образ. Этот образ остановился у края моей кровати, около колонны, поддерживающей драпировки. Я стал различать мало–помалу голову, черты которой вырисовывались с поразительной ясностью, остальные части тела были окутаны голубоватым туманом. Я наблюдал явление скорее изумленный, чем испуганный; напротив того, эта симпатичная и прекрасная личность привлекала меня Дух все время стоял предо мной. На его лице все яснее стало выражаться сострадание ко мне, я чувствовал, что меня влечет к нему, но не мог отделиться от моего тела, которое сдерживало меня, парализовало меня, несмотря на все напряжение моей воли. Прошло несколько минут; вдруг как бы фиолетовое облако окружило видение; затем облако это рассеялось, поднявшись кверху. — Все это происходило при полном свете, но этот свет почти пугал меня». Приблизительно через два месяца после сего случая мальчик поправился и, у одной своей родственницы, увидел написанным во весь рост портрет того, кто явился ему во время болезни. «На лице его было то же выражение кротости и доброты, а сам он был одет в блестящий военный мундир». Оказалось, что это прадед мальчика, Жан Буржа.
В обоих приведенных выше случаях видение голубой духовной атмосферы, — этого мистического воздуха загробного мира, — давалось при исключительном состоянии всего организма. Но, при повышенной естественной сенситивности, или в связи с особою психометрической тренировкою, «астральный план» делается зримым постоянно. Не станем сейчас рассуждать о нежелательности этого преждевременного «отверзения чувств» [981]; факт тот, что оно бывает, и тогда делаются видимы световыя оболочки или «ауры», окружающие все тела. Особенно развитою бывает эта оболочка около человеческого тела, и тут цвет её определяется духовным состоянием носителя данной ауры. По исследованиям Лидбитера, в его книге «Видимый и невидимый человек», голубой цвет ауры обнаруживает религиозность, а фиолетовый — духовность [982]. «Голубые тона цветов выступают, — говорит р. Штейнер [983], — у благоговейных, преданных натур. Чем больше человек жертвует своим «Я» для служения какому–нибудь делу, тем значительнее становятся голубые оттенки. И здесь тоже встречаются два совсем различные рода людей. Есть натуры с ограниченной силой мышления, пассивные души, которые не имеют за собой ничего, что бы они могли бросить в поток мировых событий, кроме своего «доброго нрава». Их аура сияет красивым голубым цветом. Такова же она и у многих самоотверженных религиозных натур. Сострадательный души и те, кто охотно проводит свою жизнь в благотворительности имеют подобную ауру. Если же эти люди сверх того еще и интеллигентны, тогда чередуются голубые и зеленые излучения, или же голубое принимает тогда зеленую окраску. Отличительное свойство активных душ, в противовес пассивным, состоит в том, что их голубизна изнутри просвечивает светлыми цветами. Изобретательные натуры, те, которые имеют плодотворные мысли, излучают как бы из какого–то внутреннего центра светлые цвета. Это наблюдается в высокой степени у тех личностей, которые называются «мудрыми», и именно у тех, которые исполнены плодотворных идей. Изобретательный человек, употребляющий все свои мысли на удовлетворение своих чувственных страстей, являет иссиня–темно — {стр. 569}красные оттенки; у того же, кто отдает свои плодотворные мысли бескорыстно существенным интересам, преобладают светло–красно–синие цвета. Жизнь в духе, сопутствуемая благородной преданностью и самопожертвованием, — сказывается оттенками розово–красными, или светло–фиолетовыми».
(Более внимательное изучение позволяете различить, по учению теософов, в общей массе ауры собственно три ауры. Первая аура отражает влияние тела на душу; вторая — самостоятельную жизнь души, которая поднялась над чувственностью; третья — «ту власть, которую приобрел вечный дух над преходящим человеком». В первой aype «боязливость, страх пред чувственными впечатлениями проявляются коричнево–синими или изсеро–синеватыми красками». Во второй aype «голубой цвет — знак благочестивого настроения. Чем больше это последнее приближается к религиозному восторгу, тем больше голубое переходит в фиолетовый цвет. Идеализм и серьезное отношение к жизни, в высшем значении этого слова, видим как индиго–синий цвет». В третьей ауре «голубое есть знак самоотверженности и желания приносить себя в жертву за всех. Если эта склонность к самопожертвованию крепнет настолько, что претворяется в сильный акт воли, выражающийся в деятельном служении миру, тогда голубое просветляется до светло–фиолетового» [984].
Это же восприятие Софийного мира, сильное, но не отчетливое и не расчлененное для неустроенного сознания, дается иногда поэтам и тем, чья душа, — без само–упорства и гостеприимно открытая для всего, как чистого, так и нечистого, — способна иногда, как случайный дар, получить, несмотря на свою греховность, созерцание иного мира. Так, дословное совпадете с приведенным выше описанием рая находим в изображении Олимпа, — жилища Богов:
«… светлоокая Зевсова дочь полетела
вновь на Олимп, где обитель свою, говорят, основали
{стр. 570}
Боги, где ветры не дуют, где дождь не шумит хладоносный,
где не подъемлет метелей зима, где безоблачный воздух
легкой лазурью разлит и сладчайшим сияньем проникнут —
там для Богов в несказанных утехах все дни пробегают» [985].
Но наиболее замечательно в данном случае то обстоятельство, что эта «легкая лазурь, разлитая в безоблачном воздухе» и его «проникающее сладчайшее сияние» — творческое добавление софийного переводчика–поэта, — очевидно по личному опыту. По крайней мepe, греческий подлинник говорит просто:
«… άλλα μάλ' αίθρη
πέπταται ανέφελος, λενκή έπιδέδρομεν αϊγλη
τω ένι τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα» [986].
Таково же удивительное по реалистичности и по проникновенности стихотворение, помеченное 28–м июнем и описывающее с величайшей точностью, — несомненно!, — живой опыт Поэта:
«Твоя ль голубая завеса,
Жена, чье дыханье — Отрада,
вершины зеленого леса, яблони сада
застлала пред взором, омытым
в эфире молитв светорунном,
и полдень явила повитым ладаном лунным!
Уж близилось солнце к притину,
когда отворилися вежды,
забывшие мир, на долину слез и надежды.
Еще окрылиться робело
души несказанное слово, —
а юным очам голубела радость Покрова.
и долго незримого храма
дымилось явленное чудо,
и застила синь фимиама блеск изумруда» [987].
{стр. 571}
Стихотворение, приводимое ниже, — подобно по содержанию, но «небо на земле» является в восприятии, в нем описанном, чрез фиалковую дымку. Вот это стихотворение:
Глубокие у́тра холодного лета!
Пол–неба одето огнем перламутра.
Чуть мглисты и сини бодрящие дали.
Где́ горечь печали? Где́ тяжесть полыни?
И к сердцу безвольно ласкаются руки.
Над–мирные звуки звенят Богомольно.
Как в винном потире, — во влаге огнистой
на дне аметисты; в небесном эфире
разлита отрада фиалковой мутью.
Пойду к перепутью любезного сада.
Заросшие кашкой пурпурные пятна!
Тут гибель приятна, — бессмертье не тяжко.
Ка́к пахнет цветами и мёдом душистым!
К устам розво–листым, смиренно устами
прильну я; и знаю, Кто́ в душу глядится:
взирает Царица фиалковой далью.
Это же представление о синеве блаженной страны Хораи свойственно японцам, и они даже изображают Хораи красками на шелковых каке́моно. В ниже–следующих строках знатока Японии, английского писателя Лафкадио Xёрна, дается описание этой синей страны блаженства, а затем Хёрн пытается самую Японию, — древнюю Японию, — истолковать как Хораи. Сделавшись совершенным японцем и по образу жизни, и по образу мыслей и чувств, Хёрн умеет выражать религиозно–мистическую суть японских переживаний. И мы видим с глубочайшим интересом, как идея синевы сплетается у него с ощущением атмосферы душ, т. е. чего–то врод «Великого Существа», — соотношение уже указывавшееся нами ранее. Но дадим слово Хёрну:
{стр. 572}
«Синее видение: выси, утопающие в глубинах, море и небо, сливающиеся в сияющем аромате. Весеннее утро.
Только море и небо — синяя бесконечность… Спереди серебристые искры, пляшущие по ряби морской, и кружащиеся, пенистые волокна.
Дальше движения нет, только краски — нежная, теплая лазурь, воздушная синева, сливающаяся с синевой моря. Нет горизонта, есть только даль, стремящаяся к другим далям…
Разверзаются бездонные глубины, возносятся беспредельные выси, и чем выше, тем глубже становятся краски. А в самой дальней синеве парит легкое, как дымка, видение: дворцы с высокими, серповидно выгнутыми крышами, — силуэт, полный далекой и чуждой нам красоты озаренной солнцем, прекрасный как воспоминание…»
Эта картина называется «Шинкиро», т. е. Мираж. «Это вход в Хораи, мирную обитель, страну Божества…. Есть в Хораи много чудес, много чар, но о самом чудесном ни один китайский писатель не говорит: это — воздух Хораи. Такой воздух только в этой блаженной стране. и солнечный свет там белей, чем где–либо, — опаловый свет, не ослепляющий, удивительно–ясный и нежный… Это не воздух нашего тленного мира, — он изумительно стар, так стар, что я содрогаюсь, когда стараюсь представить себе, ка́к он стар.
Это не смесь азота и кислорода, — это даже не воздух, а дух, совокупность душ триллионов и квинтиллионов поколений, мысливших, чувствовавших иначе, отлично от нас. Каждый, хоть раз вдохнувший воздух Хораи, проникается трепетом этих душ, и они превращают чувства его, преобразовывают его представление о времени и пространстве, заставляют посмотреть так, как смотрят он, чувствовать их чувствами, мыслить их мыслями. Преображение это окутывает нас, как нежная греза …» [988].
Так воспринимается София и софийность при естественной мистике, сознанием, хотя и чутким и гостеприимным, однако не духовным или почти не духовным. В переживаниях же очищенного и устроенного ума эта софийная голубизна, эта аметистовая прозрачность, эта синяя благоуханная радость выступает с полною определенностью.
{стр. 573}
Позволю себе, в качестве темы для дальнейшего исследования, сделать одно утверждение, одну догадку, еще нуждающуюся в проверке, а именно, что сугубая честь Пречистой Девы Марии, — т. е. когда Она чтится Сама в Себе, как Приснодева, и когда — в отношении ко Христу, как Богородительница, — знаменуется и при явлениях Её, — разного цвета покровами и одеяниями Её. Когда Она является как Приснодева, как первая Инокиня [989], как Покровительница девственности, т. е. как Сущая Дева, то имеет на себе голубой или синий покров. Когда же Она является как Богородительница, т. е. как Сущая Матерь, то покров Её бывает пурпуровый, — цвет царственного величия и духовности, — или красный, — цвет страдания и пламенной любви.
По крайней мере, в житии одного из замечательнейших представителей этой органической девственности, — того, который жизнеописателем нелестно именуется «небесным человеком» и «земным ангелом» [990], — в житии преподобного и Богоносного отца нашего Афанасия Афонского, подвизавшегося в Х–м веке, читаем, как от голода разбежалась братия игумена Афанасия и как, оставшись один, он, превозмогаемый голодом и без куска хлеба, решил оставить обезлюдевшую Лавру и идти куда–нибудь в другое место. «На утро же св. Афанасий, — говорит Житие, — со своим железным жезлом, в смутном расположении духа, уныло шел по пути в Кареи. Два часа он прошел этим путем, наконец утомился, и только было хотел присесть отдохнуть, как некая жена под голубым воздушным покрывалом показалась идущею к нему навстречу. Св. Афанасий смутился, и, не веря собственным глазам, перекрестился. «Откуда взяться здесь женщине? — сказал он сам себе. — Вход женщине сюда невозможен». Удивляясь видению, св. Афанасий пошел навстречу незнакомке.
— Куда ты, Старец? — скромно спросила незнакомка {с тр. 574} св. Афанасия, повстречавшись с ним. Св. Афанасий осмотрел с ног до головы незнакомку, заглянул ей в глаза, и, в невольном чувстве почтительности, потупился. Скромность одежды, тихий девственный взор незнакомки, её трогательный голос — все это показывало в ней не случайную женщину». Как затем выяснилось, это была Сама Приснодева Мария, которая обещала отныне навсегда остаться домостроительницей, — экономиссою, — Лавры [991].
Трудно себе представить, чтобы виденное преп. Афанасием «прозрачное голубое покрывало» Пречистой Девы, — или, скорее, голубое окружение, голубой нимб, голубое прозрачное облачко, — чтобы оно было случайностью; в видениях горнего мира нет случайностей, нет ни лишнего, ни недостающего, но — все знаменательно. Да, кроме того, эта подробность и не попала бы в Житие, если бы сам Афанасий на ней не остановился бы вниманием. Можно, в подтверждение этой присущности Богородице голубого цвета, указать еще и на то, что обычаем принято, а для непосредственного вкуса кажется естественным и неотменным, церковные службы в дни, посвященные памяти Пречистой, совершать именно в голубых облачениях. На основании весьма древнего предания, Сама Пречистая Дева тоже изображается в голубой одежде. Так, стенопись «поклонения волхвов» в катакомбе свв. Петра и Марцеллины на Via Libicana, в Риме, относящаяся к III–му веку, представляет Богоматерь в белой тунике с голубыми клавами [992]. Вусыпальнице св. Агнии, относящейся к IV–му веку, она представлена в виде Невесты Неневестной. Лицо Её — невыразимого благородства и чистоты, глаза — карие, как свидетельствует и предание. Нижняя одежда её — коричневатая (вероятно, пурпурная краска выцвела от времени), а верхняя — светлo–голубая [993]. Подобно сему, на стенописи усыпальницы св. Сикста, Божия Матерь представлена в нижней одежде, красного цвета, а верхней — темно–голубого [994]. Оста{стр. 575}ток мозаики, изображавшей «поклонение волхвов» из сакристии церкви S–ta Maria in Cosmodemin в Риме, перенесенный из древней базилики св. Петра и относящийся к самому началу VIII–го столетия, представляет Богоматерь в темно–лиловом одеянии, прикрытом сверху темно–синим плащом, окутывающим голову, плечи и руки [995]. На кресте финифтяной работы IX–го века Богоматерь изображена в синей тунике и коротком красном плаще [996]. В одной из фресок в катакомбе св. Сириаки Богоматерь написана в виде оранты. Нижнее платье её — лилового цвета, верхнее — красное; голова окутана белым платом, поверх которого имеется второй, синий. Это изображение, по д’Аженкуру, относится к IX–XI–му столетию [997]. Мозаичное изображение Богоматери–Оранты в капелле S. Pietro Crisologo в Равенне, перенесенное туда после реставрации базилики Уpса и относимое к Х–му столетию, представляет Богоматерь одетою в голубой хитон и мафорий [998]. На миниатюре «поклонение волхвов» из менология императора Василия II, относящегося к XI–му веку, Богоматерь укутана в темно–синюю тунику, охватывающую Ее с головы до ног [999]. Молящаяся Богоматерь, изображенная мозаикою над правой аркой главного фасада базилики св. Марка в Венеции, одета в синюю тунику и в зеленый плащ; это изображение относится к XI–му веку [1000]. Подобную же тунику на Божией Матери, но с фиолетовым плащом изображает и мозаическая Нерушимая Стена Киево–Софийского Собора, относящаяся тоже к XI–му веку [1001]. Темно–синие же туника и мафорий на Богоматери — в изображении благовещения в том же Соборе [1002].Эта символика сохранилась и в позднейшей италианской иконописи. Так, в иконах–картинах Чимабуэ (XIV–ый в.) и в мозаике Тафи Мадонну писали в голубом платье [1003]. В современной иконографии, как известно, это предание тоже соблюдается.
{стр. 576}
Неудивительно, что и в других аспектах Богоматери может отчасти сохраняться та же символика; не входя в подробности, укажу хотя бы на темно–синие одежды Скорбящей Матери — Mater dolorosa — [1004] и т. д.
Во многих древних миниатюрах Богоматерь опять–таки изображена в голубом одеянии [1005], или в голубой тоге сверх пурпурной туники и тогда, кажется преднамеренно, сближается с Иисусом Христом, или, наоборот, — в голубой тунике под пурпурной тогой и в этом отношении, опять таки едва ли без намерения, походит на Бога Отца [1006]. — В западной иконографии, в тех случаях, когда желают ознаменовать в Деве Марии Царицу духовного Неба, этот тонкий намек, — воздушно–голубое одеяние, — усиливают иногда до явного изображения неба видимого. Ее представляют тогда, как Жену облеченную в солнце, с месяцем под ногами и с венцом из двенадцати звезд на голове. В XVI–м и XVII–м столетиях Её облеченность в солнце изображалась овалом из пламени, пламенной gloria, окружающей Деву. Позднейшие живописцы очень часто присоединяют к двенадцати звездам на голове еще темно–синюю мантию, усеянную звездами. Иногда это одеяние пишется зеленым, но опять таки с желтыми звездами [1007]. Наконец, встречаются изображения Богоматери и в розовой мантии, напоминающей своим цветом о заре. Понятно, что и этот символ знаменует Царицу Небесную [1008].
Но и православной иконографии раскрытие занимающего нас символа, — голубизны Богородичного одеяния, — не чуждо. Иногда и на православных иконах Божия Матерь пишется в испещренном звездами одеянии. Так, на иконе явления Божией Матери преп. Сергию Радонежскому Царица Небесная представлена в пурпурной мантии и в алых сапожках, туника же у Неё темно–синяя, в золотых звездах. Достойно внимания и то, что Божия Матерь окружена яйцевидною золотою «славою» [1009].
{стр. 577}
По смерти одного из наиболее искренних людей, живших на земле (легко догадаться, что я говорю о Блэзе Паскале), в подкладке его куртки — pourpoint, — была найдена небольшая, тщательно сохранявшаяся им записка, впервые опубликованная Кондорсэ под весьма неподходящим названием «мистического амулета — amulette mystqiue». Записка эта относится ко времени или даже моменту «обращения» Паскаля и представляет собою исповедание веры его, — точнее сказать, молитвенное созерцание отдельных моментов духовного восхождения. Об этом «амулете» было споров не мало, но споров довольно безрезультатных [1010]. Безрезультатность эта была обусловлена слишком большим упрощением и опрощением этого документа, содержащего в себе уплотненный сгусток жизни и миро–понимания, — столь сжатый, что отдельные положения кажутся даже бессвязным набором. Но, мне кажется, что мысли развиваемые мною в этой книге, и теория возрастания типов дают ключ к пониманию этой много–содержательной и много–значительной бумажки. Ограничусь пока почти только этим намеком, с тем чтобы впоследствии вернуться к «Амулету» Паскаля. Но приведу, все же, подлинный текст [1011], потому что многое понятно будет и без нарочитых разъяснений.
«L’an de grace 1654.
†
Lundi 23 novembre, jour de St. Clement, pape et martye, et autres au martyrologe.
{стр. 578}
Veille de St. Chrysogone, martyr et autres.
Depuis environ dix heures et demie da soir jusques environ minuit et demi,
Feu.
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob,
Non des Philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.
Dieu de Jesus–Christ
Deum meum et Deam vestrum.
Ton Dieu sera mon Dieu —
Oubli du monde et de tout hormis Dien.
Il ne se trouve que par les voies enseigndes dans l’Evangile.
Grandeur de l’ame humaine.
Рerе juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu.
Joie, Joie, Joie, pleurs de joie.
Je m’en suis separe ---------
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
Mon Dieu me quitterez–vous? — --------
---------------------------
Que je n’en sois pas separe eternellement.
Cette est la vie eternelle qu’ils te connaissent seul yrai Dieu et celui que tu as еnvoye J. — C. — --------
Jesus–Christ. — --------------------------
Jesus–Christ. — --------------------------Je m’en suis separe; je l’ai fui, renonce, crucifie.
Que je n’en sois jamais separe.
Il ne se conserve que par les voies enseignees dans l’Evangile.
Renonciation totale et douce.
Soumission totale a Jesus–Christ et a mon directeur.
Eternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre.
Non obliviscar sermones tuos. Amen».
Вот перевод этого документа, с некоторыми пояснительными примечаниями (они набраны мелким шрифтом и заключены в скобки):
†
«Год благодати 1654.
{стр. 579}
[Паскаль подчеркивает, что живет под благодатью, т. е. когда ВОЗМОЖНО разрешение 'εποχή. Кстати сказать, замечательно мистико–арифметическое значение года обращения, — 2**2**2=7].
Понедельник 23 ноября, день св. Климента, папы и мученика, и других в месяцеслове. Канун св. Хризогона мученика и других. От приблизительно десяти с половиною часов вечера до приблизительно полуночи с половиною,
[Этою точностью даты указывается, что полнота ведения, открывшаяся Паскалю, не была мечтаниями или смутными предчувствиями, почти недатируемыми вследствие своей расплывчатости и качественной неотличности от обычного содержания сознания, а была явлением точно–очерченным и, стало быть, качественно новым, стоящим вне обычных процессов сознания].
Огонь.
[разумеется огонь сомнения, огонь έποχή: в продолжение двух часов Паскаль томился огнём геенским и тогда–то, после сего испытания небытием, ему открылся Сущий].
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Не философов и ученых.
[Истина — Личность, исторически являющая Себя, а не отвлеченный принцип; другими словами, Истина — не вещна, а лична].
Достоверность. Достоверность. Чувство. Радость. Мир.
[Во встрече с Богом–Истиною — достоверность, и потому — разрешение έηοχή; эта–то достоверность и дает удовлетворение чувству, — радость и мир, т. е. Бог удовлетворяет критерию Истины].
Бог Иисуса Христа.
[Бог Иисуса Христа и есть Истина, Триединица, ибо только Христос возвестил Триединство].
«Бога Моего и Бога Вашего».
[Но наш Бог — не Бог Иисуса Христа, ибо я не едино–сущен Истине, а Христос — едино–сущен].
Твой Бог будет моим Богом —
[Чрез Христа я буду приобщен жизни Триединого, и Истина делается моим Богом].
Забвение мира и всего, кроме Бога:
[и тогда я буду «не от мира», забуду тленное, метафизически избавлюсь от него, буду вечен].
{стр. 580}
Он обретается только на путях, указанных в Евангелии.
[Путь к свету Истины — подвижничество, устроение сердца].
Величие души человеческой.
[На пути подвижничества усматривается вечная сторона тварной личности, — София].
Отец праведный, мир не познал Тебя, но я Тебя познал.
[Своею мудростью, которою мир не познал Отца, я познал Его, — чрез созерцание своего очищенного естества, в Господе Иисусе Христе].
Радость, радость, радость, слезы радости.
[В познании Бога чрез очищенное сердце — преизбыточествующая, переливающаяся чрез край радость и блаженство].
Разлучился я с Ним ---------
[Но откровение кончается; эта радость — лишь залог будущей, — не постоянное чувство. Радость уходит и является недоумение и тоска].
«Оставили Меня, источник воды живой».
[Как бы ответ Бога на недоумение: «Этим объясняется чувство тоски»].
Бог Мой, неужели Ты покинешь меня? — --------
[Т. е: «Ты не покинешь, лишь бы я не покидал». Отсюда решение:]
Да не разлучусь я с Ним во веки.
[Внутренним актом решаюсь: прилепиться к Богу].
---------------------------
Это есть жизнь вечная, да познают они Тебя, единого истинного Бога, и что Ты послал И. X.
[С этого момента начинается уже жизнь обычного сознания. Говорится о том, что́ нужно и, далее, о несоответствии между должным и наличным].
Иисус Христос ---------
Иисус Христос ---------
Я разлучился с Ним; от Него я бежал, отрекся, от распятого.
Да не разлучусь я с ним никогда.
Он сохраняется только на путях, указанных в Евангелии.
[Определяется, ка́к же не разлучатся с И. X., а далее указываются средства к устроению себя].
{стр. 581}
Всецелостное и сладкое отречение.
[Отказ от самости, подвиг].
Всецелостное подчинениеИисусу Христу и моему руководителю.
[Старческое послушание].
На веки в радости за день подвига на земле.
[Мысль о будущих благах:]
«Да не забуду слов Твоих». Аминь».
Таким образом, «амулет» Паскаля — как бы программа религиозно–философской системы, — целый круг мыслей, с необычайной быстротой пронесшихся пред сознанием Паскаля, в озарении, длившемся около двух часов. Может быть, его «Мысли о религии» — наброски, предназначенные для осуществления именно этого плана. Как известно, отдельные заметки, входящие в состав «Мыслей о религии», найдены были по смерти Паскаля в полном беспорядке, и обычный порядок их расположения принадлежит вовсе не автору, а первым издателям. Есть попытка расположить те же мысли в другом порядке, более соответствующем замыслу Паскаля [1012]. Но уместно и своевременно попытаться расположить те же мысли согласно «амулету», и я решаюсь высказать свое предчувствие, что здесь исследователя ожидают клады богатые и легко–добываемые. — Напомню, кстати, что есть какое–то сродство у Паскаля с православием [1013], и что недаром же А. С. Хомяков «часто называл Паскаля своим учителем». Это налагает на нас обязанность особенно внимательно отнестись к проникновенному французскому мыслителю.
{стр. 582}
Как значение известного слова, его «семе́ма», так и слово для выражения известного понятия, — т. е. «морфема» и «фонема» понятия, его термин, — непрестанно меняются. Недостаточно поэтому проследить ни историю одного только термина, ни историю одного только понятия: необходимо и то, и другое. К сожалению, ни понятие антиномии, столь занимающее нас в настоящей работе, ни термин «антиномия», столь часто употребляемый нами, не могут похвалиться знанием своих родословных. И та и другая требуют специальных разысканий, и мы можем, сейчас, лишь наметить несколько точек пути развития последнего из них.
Прежде всего, скажем о самом слове «антиномия». По единогласному определению новых греческих лексикографов слово «αντινομία» означает противоречие закона другому, закону же, или — самому себе; αντινομία есть внутренияя самопротиворечивость закона, но простое нарушение закона — παρανομία — или отсутствие закона — ανομία — еще нисколько не будет антиномией. Так, по Софоклу [1014], это есть «conflict of laws»; Скарлат [1015] говорит, что αντινομία есть «έναντίοτης (άντίφασις) νόμου τινός πρός άλλον ή προς εαυτόν». Анфим Газис [1016] определяет слово «αντινομία» как «έναντίωσις του νόμου, όταν δηλαδή καθ' εαυτόν άντιφάσκη, διορίζων τά αυτά και εις τον ένάγοντα και εις τον εναγόμενον». В ново–греческом языке смысл слова «αντινομία» несколько расплывается, так что оно означает уже «Ge{стр. 583}setzwidrigkeit», «Widerspruch», т. е. беззаконие, a άντινομικός — «gesetzwidrig, einander widersprechend», т. е. беззаконный, взаимно противоречащий [1017].
Едва ли не с полной уверенностью можно утверждать, что это слово, с самого же начала, было юридическим термином; во всяком случае, весьма рано оно было захвачено правоведами. М. Фабий Квинтилиан, в конце I–го века по Р. Х., пользуется им, как всем известным: «proximum est de legibus contrariis dicere, quia inter omnes artium scriptores constitit in antinomia duos esse scripti et voluntatis status» [1018]. —
Далее, блаженный Августин [1019], тоже юрист по образованию, в одном из сочинений конца IV–го века определяет термин «antinomia» чрез «contentio legum contrariarum». — В Кодексе Юстиниана [1020], вышедшем в 534–м году и содержащем узаконения от Адриана до 534–го года, равно как и у писателей, вроде Гермогена (173 г. по Р. Х.), Иерокла (431 г. по Р. Х.), Плутарха (120 г. по Р. Х.) и Юлия Виктора (IV–й в. по Р. Х.?) [1021] содержится все то́ же пользование термином «антиномия» в смысле само–противоречия закона себе самому. Понятно, что и производные вроде «άντινομικώς» и «άντινομικός» имеют значение все то же [1022].
Но, обще–употребительный в праве, термин «антиномия» очень долго не употреблялся в философии. Ни у Платона, ни у Аристотеля он не встречается вовсе [1023].
Термином «antinomia» пользуется автор «Философского словаря» Р. Гоклен (1547–1628 г.) «pro pugnantia seu contrarietate quarumlibet sententiarum seu propositionum» [1024].
Схоластическая философия едва ли знала его, по крайней мере в словарях её терминов слова «антиномия» не находится [1025].
В обширном философском словаре Шовена (1640–1725 г.) [1026], вышедшем двумя изданиями, в конце XVII–го (1692) и в начале XVIII–го века (1713 г.), тоже нет слова «антиномия».
{стр. 584}
Едва ли не впервые вводит его в естественную теологию Ш. Бонне (1720–1793 гг.) [1027], причем тут «антиномия» означает противоречие между двумя одинаково правильными законами [1028].
Собственно в философию, этот термин, по всем вероятиям, занесен Кантом и тут впервые является в «Критике Чистого разума» [1029]. 1781–ый год, — так датируется первое издание этой книги, — есть, вместе с тем, год рождения нашего термина.
Как известно, Кант преподавал все науки, кроме права. Но склад его мышления и всей натуры был насквозь правовой и даже законнический. В частности, «Критика чистого разума», по замыслу своему, есть перенесение в философию идеи тяжбы и даже частностей её ведения. Нетрудно догадаться, что к Канту и термин «антиномия» попал непосредственно из римского права, так что это соображение еще раз обеспечивает за Кантом право первенства на интересующий нас термин.
С Канта положение «антиномии», как термина, сразу же настолько упрочилось, и пользование им настолько распространилось, что обсуждать дальнейшую историю термина было бы слишком копотливо [1030].
{стр. 585}
В тексте книги столь многократно повторялась мысль о верховенстве красоты и о своеобразном художестве, составляющем суть православия, что, быть может, не лишним будет разграничение этого религиозного эстетизма от религиозного же эстетизма, развиваемого и с жаром защищаемого † К. Н. Леонтьевым [1031]. Смею утверждать, что эти два эстетизма, в существе своем, не имеют ничего общего, несмотря на внешнее их сходство. В самом деле, воззрения по этому вопросу К. Н. Леонтьева вкратце могут быть представлены его же собственной схемой, а именно [1032]:
| Мистика (особенно положительная религия). | Критерий только для единоверцев; ибо нельзя христианина судить и ценитЬ по–мусульмански и наоборот. |
| Этика и политика. | Только для человека. |
| Биология (физиология человека, животных и растений, медицина и т. д.) | Для всего органического мира. |
| Физика (то есть, химия, механика и т. д.) и эстетиика. Для всего. | |
Таким образом, для К. Н. Леонтьева «эстетичность» есть самый общий признак; но, для автора этой книги, он — самый глубокий. Там красота — лишь оболочка, наиболее внешний из различных «продоль{стр. 586}ных» слоев бытия; а тут — она не один из многих продольных слоев, а сила, пронизывающая все слои поперек. Там красота далее всего от религии, а тут она более всего выражается в религии. Там жизнепонимание афеистическое или почти афеистическое; тут же — Бог и есть Высшая Красота, чрез причастие к Которой все делается прекрасным.
У Леонтьева Бог есть геометрический центр системы, почти абстракция, но — нисколько не Живое Единящее Начало; тут же Он — Ens realissimum. Поэтому, в безблагодатном жизнепонимании Леонтьева личность механически складывается из разного рода слоев бытия, а, согласно жизнепониманию автора этой книги, личность, при помощи благодати Божией, жизненно и органически усваивает себе все слои бытия. Все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога. И, тогда как у Леонтьева красота почти отождествляется с геенной, с небытием, со смертью, в этой книге красота есть Красота и понимается как Жизнь, как Творчество, как реальность. Если условно согласиться на терминологию Леонтьева, то вот в каких схемах должен быть изображен безблагодатный и без–божный эстетизм Леонтьева (— проф. В. Завитневич отождествляет его даже с материализмом [1033]) и духовный и феоцентрический эстетизм настоящей книги.
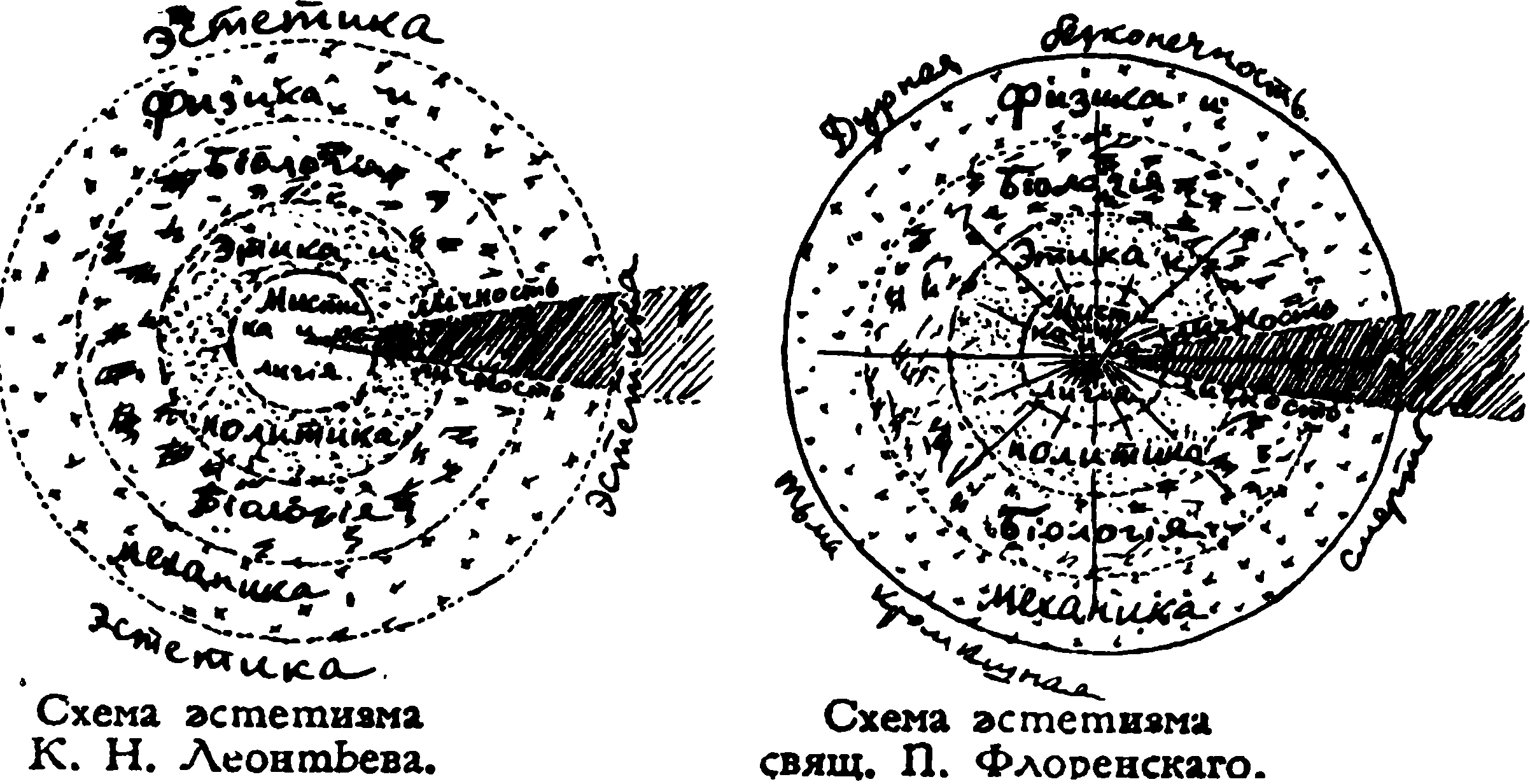
{стр. 587}
Сделанное в тексте замечание о гомотипии в устройстве человеческого тела мы разъясним здесь при помощи нижеследующих семи таблиц, из коих пять первых составлены по д–ру Адриану Пеладану [1034], а две последние — по Бёрт Дж. Уайльдеру [1035]; кроме того можно было бы дать целый ряд весьма подробно расчлененных таблиц по д–ру Фольцу [1036], но недостаток места заставляет ограничиться одним только упоминанием его имени. Поучительны также суждения по интересующему нас вопросу, высказанныя Океном, Спиксом и др. [1037].
Добавлю кстати что, по убеждению А. Пеладана, древние египтяне знали уже этот основной закон полярной двойственности человеческого тела: Богиня Нейе изображалась у них именно в такой позе, которая наглядно демонстрируете гомотипическое соответствие органов того и другого полюса [1038].
{стр. 588}
Таблица I–я ГОМОТИПИЯ ОРГАНОВ.
| Гомотипические пары органов. | Нижний полюс. | Верхний полюс. |
| 1 | Желчный пузырь [? Heon]. | Тонкая кишка. |
| 2 | Печень. | Селезенка и поджелудочная железа. |
| 3 | Слепая кишка. | Желудок. |
| 4 | Толстая кишка. | Пищевод. |
| 5 | Почки. | Легкие. |
| 6 | Надпочечные сумки. | Грудная железа. |
| 7 | Мочеточники. | Бронхи. |
| 8 | Мочевой пузырь и мочевой канал. | Дыхательное горло. |
| 9 | Матка и предстательная железа. | Гортань. |
| 10 | Железистая часть маточной шейки и простаты. | Миндалевидные железы. |
| 11 | Железы mucipares половых органов. | Слюнные железы. |
| 12 | Яичники или testes. | Щитовидное тело. |
| 13 | Лобок (pili). | Подбородок (борода). |
| 14 Моче–половое отверстие. | Рот. | |
| 15 | Clitoris или glans. | Язык. |
| 16 | Задне–проходная промежность. | Верхняя губа. |
| 17 | Задний проход. | Носовое отверстие. |
{стр. 589}
Таблица 2–я: ГОМОТИПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СКЕЛЕТА.
| Гомологические пары позвонков | нижний полюс. | ΒΕРΧΗИЙ ПОЛЮС. | ||
| 1 | 5–ый хвостцовый позвонок. | 1–ая черепная кость (носовая). | ||
| 2 | 4–ый — | — | 2–ая | — (лобная). |
| 3 | 3–ий | — | 3–ья | — (теменная). |
| 4 | 2–ой — | — | 4–ая | — (затылочная). |
| 5 | 1–ый — | — | 1–й | шейный позвонок, атлант, носильщик. |
| 6 | 5–ая крестцовая кость. | 2–ой | —, — ось, зубчатый. | |
| 7 | 4–ая — | — | 3–й | — — |
| 8 | 3–ья — | — | 4–ый | — — |
| 9 | 2–ая — | — | 5–ый | — — |
| 10 | 1–ая — | — | 6–ой | — — |
| 11 | 5–ый поясничный позвонок. | 7–ой | — — | |
| 12 | 4–ый. — | — | 1–ый | грудной — |
| 13 | 3–ий — | — | 2–ой | — — |
| 14 | 2–ой — | — | 3–ий | — — |
| 1S | 1–ый — | — | 4–ый | — — |
| 16 | 12–ый грудной | — | 5–ый | — — |
| 17 | 11–ый — | — | 6–ой | — — |
| 18 | 10–ый — | — | 7–ой | — — |
| !9 | 9–ый — | — | 8–ой | — — |
{стр. 590}
Таблица 3–я: полярная двойственность МУСКУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
| Пары гомологических мышц. | нижний полюс. | ВЕРХНИЙ ПОЛЮС. |
| Верхний слой: | ||
| 1 | Большая спинная мышца. | Трапецевидная мышца. |
| 2 | Малая зубчатая нижняя мышца. | Малая зубчатая верхняя мышца. |
| Глубокий слой: | ||
| 3 | Крестцово–поясничн. мышца. | Шейная нисходящая мышца. |
| 4 | Длинная спинная — | Шейная поперечная — |
| 5 | Поперечная остистая — | Полуостистая шейная — |
| Передняя сторона: | ||
| 6 | Большая косая мышца. | Большая зубчатая мышца. |
| 7 | Малая косая — | Наружные межрёберные мышцы. |
| 8 | Поперечная — | Внутренние межрёберные мышцы. |
| 9 | Большая прямая мышца. | Аномальная грудная мышца. |
{стр. 591}
Таблица 4–я: ПОЛЯРНАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ СОСУДИСТЫХ СИСТЕМ.
| Гомотипические пары сосудистых систем. | НИЖНИЙ ПОЛЮС. | ВЕРХНИЙ ПОЛЮС. |
| 1 | Сосудистая система сверх–диафрагматическая. | Сосудистая система под–диафрагматическая. |
| 2 | Ствол плечево–головной артерии. | Первоначальная подвздошная артерия. |
| 3 | Первоначальный ствол сонной артерии. | Внутренияя подвздошная артерия. |
| 4 | Ствол подключичной артерии. | Наружная подвздошная артерия. |
Таблица 5–я: ПОЛЯРНАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ НЕРВНЫХ СИСТЕМ.
| Гомотипические пары нервных систем. | НИЖНИЙ ПОЛЮС. | ВЕРХНИЙ ПОЛЮС. | |
| 1 | Крестцовое сплетение: 9–ая спинная пара. | Плечевое сплетете: 8–ая спинная пара. | |
| 2 | 10–ая — — | 7–ая — — | |
| 3 | 11–ая — — | 6–ая — — | |
| 4 | 12–ая — — | 5–ая — — | |
| 5 | 1–ая поясничная пара. | 4–ая спинная — , | |
| 6 | 2–ая — — | 3–ья — — | |
| 7 | 3–ья — — | 2–ая — — | |
| 8 | 4–ая — — | 1–ая | — — |
| 9 | 5–ая — — | 8–ая шейная — | |
| 10 | 1–я крестцовая — | 7–ая — — | |
| 11 | 2–ая — — | 6–ая — — | |
| 12 | 3–ья — — | 5–ая — — | |
| 13 | 4- ая — — | 4 последние крестцовые пары соответствуют | |
| 14 | 5- ая — — | ||
| 15 | 6–ая — — | 5–ти первым шейным и 12–ти черепным |
{стр. 592}
Таблица 6–я ПОЛЯРНОСТЬ В ПАТОЛОГИИ, ИЛИ СИММЕТРИЯ В БОЛЕЗНЯХ.
| Пары соответствующих друг другу болезней | НИЖНИЙ ПОЛЮС. | ВЕРХНИЙ ПОЛЮС. |
| 1 | Кровотечение из кишок. | Кровотечение ртом. |
| 2 | Воспаление кишок. Воспалительное органическое сужение кишок и прямой. | Воспаление пищевода. Воспалительное органическое сужение пищевода. |
| 3 | ||
| 4 | Рак кишок. | Рак пищевода. |
| и т. д. | и т. д. | и т. д. |
Таблица 7–я: ПОЛЯРНОСТЬ В ТЕРАПЕВТИКЕ.
| Пары органов терапевтически соответственных: | Всякий медикамент действует аналогично на гомологические органы. | |
| 1 | Полюса копчикового. | Полюса черепного. |
| 2 | Стороны левой. | Стороны правой. |
| 3 | Поверхности спинной. | Поверхности лицевой. |
{стр. 593}
Вопрос о троичности несколько раз был затрагиваем в тексте, но — вскользь, ибо основательное обсуждение его потребовало бы особого трактата. Отлагая таковое до времени более благоприятного, мы наметим несколько мысленных ходов, имеющих разрыхлить для понимания идею троичности.
1.
Было говорено ранее о существенной невозможности дедуцировать троичное число Божественных Ипостасей; но, вместе с тем, была сделана как бы некая попытка на эту дедукцию. Как же должно разуметь такую попытку? — Прежде всего, не как дедукцию в строгом смысле слова. Мы вовсе не намеревались доказывать, что Ипостасей может быть только три, — ни больше, ни меньше. Это число — «бесконечный факт», постигаемый в присно–сущем умном свете, но не выводимый логически, ибо Бог — выше логики. Надо твердо помнить, что число «три» есть не следствие нашего понятия о Божестве, выводимое оттуда приемами умозаключения, а содержание самого переживания Божества, в Его превыше–разумной действительности. Из понятия о Божестве нельзя вывести числа «три»; в переживании же сердцем нашим Божества это число просто дается, как момент, как сторона бесконечного факта. Но, т. к. этот факт — не просто факт, а факт бесконечный, {стр. 594} то и данность его — не просто данность, не слепая данность, а данность с бесконечно–углубленною разумностью, данность беспредельной умной дали [1039].
Пока бесконечный факт не дан, не может быть безусловно никакой антиципации его, кроме формальной, а именно, что он — факт и что он бесконечен; а priori мы ничего не можем сказать о нем. Но, когда он уже дан, то мы можем уразумевать его содержание и открывать его бесконечную разумность. Мы стараемся тогда вглядеться в смысле его, углубить свое понимание его. А так как смысл его бесконечен, то и понимание наше этого бесконечного смысла само может развертываться беспредельно [1040], — однако, пребывая в каждом своем моменте тоже бесконечным. В том–то и разумность бесконечности, что в ней все разумно и все бесконечно.
Усмотреть несотворенный Свет — вот первая ступень уразумения; усмотреть в нем множественное единство и единичную множественность — это вторая ступень; усмотреть в этой единичной множественности множественность, как троичность — такова третья ступень; понять смысл числа «три», значение его, его духовное отличие от чисел «два» и «четыре» и т. д. — это еще последующая ступень и .т. д.
Но, опять, нельзя думать, будто каждая новая ступень — отвлеченно выводится, логически–рассудочно дедуцируется откуда–то совне, нежели самое созерцание Света. Каждая ступень есть лишь конкретное расчленение, разборка, дифференцировка того, что implicite содержится в созерцании [1041] неприступного Света Триипостасного Божества. Итак, наша «дедукция» есть лишь новый способ выразить то, что уже было выражено, — ничуть не более. Так, с высокой вершины вглядываясь в синеющую даль, мы открываем в ней все новые и новые подробности и тогда выражаем их восклицаниями радости и удивления; но можно ли назвать ряд этих восклицаний «дедукцией» этой голубой воздушной бездны?
{стр. 595}
2.
Числа вообще оказываются невыводимыми ни из чего другого, и все попытки на такую дедукцию терпят pешительное крушение, а, в лучшем случае, когда по–видимому к чему–то приводят, страдают petitio principii. Число выводимо лишь из числа же, — не иначе. А т. к. глубочайшая характеристика сущностей связана именно с числами [1042], то сам собою напрашивается пифагоровско–платоновский вывод, что числа — основные, за–эмпирические корни вещей, — своего рода вещи в себе. В этом смысл опять таки напрашивается вывод, что вещи, в известном смысле, суть явления абсолютных, трансцендентных чисел. Но, не вдаваясь в эти сложные и тонкие вопросы, мы скажем только, что число три, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, свойственно всему тому, что обладает относительной само–заключенностью, — присуще заключенным в себе видам бытия. Положительно, число три являет себя всюду, как какая–то основная категория жизни и мышления.
В пространстве, заключающем в себе все внешнее, и потому все внешнее своей природе подчиняющем, мы различаем три измерения. Отвлеченно–логически допустимо, конечно, говорить сколько угодно о пространствах n–мерных и изучать их [1043], а потом применять найденные теоремы к механике, физике и др. областям науки [1044]. Но, тем не менее, проектируемое n–мерное пространство, понятие, и реальное трех–мерное пространство, данность, несравнимы между собою, и никак нельзя говорит о них, как о чем–то однородном. Пусть даже вырабатываются или будут выработаны восприятия n–мерного пространства [1045]; все равно останется глубокая пропасть между этою естественною и общею для всех трех–мерною средою жизни и ухищренным, по–моментным, единичным восприятием тех пространств. Пространственная реальность, с которою имеем мы дело, трех–мерна, и все, что в {стр. 596} пространстве, — тоже трex–мерно. Но, добавим, все попытки, — попытки многочисленные и упорные [1046], — дедуцировать трех–мерность нашего пространства, ни к чему не привели и, даже при беглом их обзоре, нетрудно убедиться, что они доказывают трех–мерность пространства не иначе, как в предположении этой трех–мерности.
То же самое — и о времени. Прошедшее, настоящее, будущее — вот опять выявление троичной природы времени. И эта троичность для времени настолько существенна, что даже отвлеченно–логически никто не пытался придумывать времени с бо́льшим или каким–либо иным числом подразделений, подобно тому, как это сделано для пространства. Однако и тут, для времени, попытки на дедукцию [1047] его троичной природы, не достигают своей цели, и троичность времени остается простой данностью. Во всяком случае она имеет первостепенное значение. Не только мир физический, а и мир психический содержится в форм времени и, следовательно, как тот, так и другой получает от времени его троичность. Если — так, то, чрез пространство и время, все ознаменовано числом «три», и троичность есть наиболее общая характеристика бытия.
Но не одно только общее назнаменование троичностью свойственно бытию. Каждый слой его, каждый род его имеет еще свою особливую троичность. Не входя тут в подробности, отметим лишь то, что представляется нам наиболее глубоким онтологически. Три грамматических лица [1048], не более и не менее, — явление общее языкам разнороднейшим, и оно служит выражением основного факта социологии. Может быть, в основе его лежит факт биологический, ибо троичной представляется всякая простейшая семья: отец, мать, ребенок. В самом деле, поскольку центром и смыслом семьи служит именно ребенок, постольку, при другом ребенке, или при другой жене, мы имеем дело, собственно с иною триадою, с иной семьей. А, в чистей{стр. 597}шем своем виде, семья ограничена лицами отца, матери и ребенка. И язык и общество, таким образом, в корнях своих носят начало троичности
Отдельная личность опять–таки построена троично, ибо у неё три, а не иное какое число, направлений жизнедеятельности, — телесная, душевная и духовная, — и каждое психическое её движение трояко по качеству, так что содержит отношение к уму, к воле и к чувству. Что бы ни говорили психологи против теории трех психических способностей или трех сил, бесспорным остается тот факт, что всеми усматривается существенная разница между умом, волею к чувством и несводимость их друг на друга. Вероятно, наиболее подходящим к делу пониманием их будет понимание, как трех координат процессов психики, при чем каждый реальный процесс непременно имеет характеристику во всех трех направлениях. Но, если бы было и не так, то все–таки остается в устроении психической жизни что–то троякое; и этот коренной факт троякости психики, хотя и не подлежит, несмотря на все старания, дедуцированию, остается, однако, непременным и непререкаемым [1049].
Вникая глубже в устроение человека мы всюду находим, опять таки, троичное начало, — как в устройстве его тела, так и в жизни его души. Жизнь разума, в своем диалектическом движении, пульсирует ритмом тезиса, антитезиса и синтезиса, и закон трех моментов диалектического развития относится не только к разуму, но и к чувству и к воле [1050]. Отсюда понятно, что всякое произведение разума, чувства и воли человеческой, в котором не изглажен искусственно диалектический ритм его возникновения, само неизбежно запечатлено троичным делением. Трихотомия, как прием аргументации, как манера классификации, как начало системы — слишком распространена [1051], чтобы можно было считать ее за нечто случайное; нужно пола{стр. 598}гать, что в ней мы имеем пред собою опять таки выявление какой–то присущей душе троичности, хотя и тут мы не способны дедуцировать эту троичность. Но наиболее существенно число «три» в религии как в догме, так и в культе и даже в суеверных обрядах быта. Трудно найти достаточно сильные выражения, чтобы достойно выразить широту распространения начала троичности в мире древней религии. «Мне хотелось бы, — пишет Узенер в своей статье, посвященной вопросу о Божественных триадах, — попробовать дать более ясное представление о широком распространении и важности этой формы воззрения. Здесь не имеется в виду сказать что–либо новое. Фил. Бутман с совершенной ясностью судил об этом явлении, и Эд. Гергард называл божественную триаду средоточием почти всех религий [1052]. Но мне представляется своевременным — путем собрания рассеянных следов дать доказательство того, что божественная триада была такою формою воззрения древности, которая твердо укоренилась и потому обладает могуществом движущих сил природы» [1053].
Материал, собранный Узенером, а также Нейдгартoм, с необыкновенною наглядностью доказывает всеобщность представления о божествах–триадах [1054]. Узенер даже признает, что широко распространенное, «у большей части может быть у всех народов древности», стремление представлять божество в виде триады, действовало с силою закона природы [1055].
Точно также, весь культ древнего мира проникнут началом троекратного повторения обрядов, троекратное возглашений призываний; троичное число, в прямом, или в усиленном виде, т. е. как 9, и 12, 27 и т. п., наиболее характерно для всех литургических действ. Но, при всей бесспорной доказанности и при всем подавляющем количестве фактов, утверждающих всечеловеческое религиозное значение числа «три», «самого любимого, — по выражению Люттиха, — из всех знаменательных чисел», попытки дедуцировать это значение из {стр. 599} общих начал познания, или хотя бы объяснить их культурно–исторически ни к чему решительному не приводят [1056].
Весьма правильно А. И. Садов настаивает на первичности этой склонности к триадам и видит в ней врожденное человеку неясное тяготение к сверх–чувственному миру, смутное стремление к Триединому [1057]. Но, это «объяснение» есть не иное что, как именно сознательный отказ от объяснения, ибо приводит объясняемый факт человеческой культуры к факту Божественной Троичности, уже безусловно не подлежащему дедукции.
Итак, никто не сказал, почему Божественных Ипостасей Три, а не иное число. Не–случайность этого числа, внутренняя разумность его чувствуется в душе, но нет слов, чтобы выразить свое чувство. Во всяком случае, бесчисленные попытки дедуцировать Три–ипостасность Божества [1058] мы не можем признать удачными. Утешением и назиданием философам да послужит же то, что даже числа́ измерений пространства, подразделений времени, лиц грамматики, членов первичной семы, слоев жизнедеятельности человеческой, координат психики и т. д., и т. д., они не дедуцировали и даже не объяснили его смысла. Мало того. Чувствуется, что есть какая–то глубокая связь между всеми этими троичностями, но какая — это вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь почти найденную связь пригвоздить словом.
Подавляющее большинство философов и тех из свв. отцов, которые, вроде бл. Августина [1059], были причастны к философскому мышлению, занимались этим вопросом. Но что́ дали они все? — Аналогии, — за которыми опять–таки лишь чувствуется более глубокое сродство, — лишь подобие, — одним словом, вместо объяснения того, что хотели объяснить, многократы увеличили объясняемое, ибо показали, что та же трудность содержится еще в бесчисленном множестве предметов мысли.
{стр. 600}
Знаки:
· : знаки, заменяющие скобки (в алгебре).
р, q, r,… знаки суждения (предложения).
а, b, с,… знаки понятия (классы).
х, у, z,… знаки индивидуума.
Ɔ знак включения (импликации при предложениях и инклюзии при классах).
= знак эквивалентности.
ᴖ знак логического умножения или совместности.
ᴗ знак логического сложения или альтернативности.
V знак истины.
Ʌ знак лжи.
⌐ — знак отрицания, «не».
϶ знак оператора, который устанавливаете соответствие класса некоторому предложению.
ϵ знак оператора, устанавливающего принадлежность индивида к классу (έστι).
ɩ знак единичного класса.
ɿ знак индивида, принадлежащего к единичному классу.
≡ знак нумерического тождества.
Ǝ знак реального существования.
R знак двоичного отношения (между двумя членами).
'R знак отношения R обращенного.
* знак относительного умножения отношений.
ᴖ знак логического умножения отношений.
φχ, ψχ,… знаки логической функции.
{стр. 601}
Формулы:
pƆq
aƆb, — все равно, что:
⌐qƆ⌐p
⌐аƆ⌐b,
Или
Ʌ.ᴖ.pᴖ⌐q
Ʌ.ᴖ.аᴖ⌐b,
Или
⌐pᴗq (I')
⌐aᴗq (I'')·
| (закон упрощения или симплификации): |
| pᴖq.Ɔ.p (II) |
| aᴖb.Ɔ.a (II") |
| (закон составления или композиции): |
| pƆq.ᴖ.pƆr : Ɔ : p.Ɔ qᴖr (III) |
| aƆb.ᴖ.aƆc : Ɔ : a.Ɔ.bᴖc (III') |
| (закон силлогизма): |
| pƆq.ᴖ.qƆr : Ɔ : pƆr (IV') |
| аƆb.ᴖ.bƆс : Ɔ : aƆc (IV'') |
| (определение эквивалентности): |
| p=q : Ɔ : pƆq.ᴖ.qƆp (V') |
| а=b : Ɔ : aƆb.ᴖ.bƆa (V") |
| (переместительность логического умножения): |
| pᴖq.=.qᴖp (VI') |
| aᴖb.=.bᴖa (VI'') |
| (переместительность логического сложения): |
| pᴗq.=.qᴗp (VII') |
| aᴗb.=.bᴗa (VII") |
«Если верно включение pƆq и если верна гипотеза р, то верно также положение q, и его можно утверждать в отдельности» (VIII). (Принцип дедукции).
«В общей формуле всегда можно, вместо общего или неопределенного члена, подставить член частный или индивидуальный» (IX). (Принцип подстановки).
| (сочетательность логического умножения): |
| pᴖ(qᴖr).=.(pᴖq)ᴖr (X) |
| аᴖ(bᴖc).=.(aᴖb)ᴖc (X') |
| (сочетательность логического сложения). |
| pᴗ(qᴗr).=.(pᴗq)ᴗr (XI) |
| aᴗ(bᴗc).=.(aᴗb)ᴗc (ХI') |
| ɅƆх | при всяком х | (XII) | (определение ложного: «ложное включает все»), (определение истинного: «истинное включается всем»). |
| xƆV | (ΧΙΠ) |
| (принцип противоречия). | |
| рᴖ⌐р=Ʌ (XIV) | |
| аᴖ⌐а=Ʌ (XIV') |
{стр. 602}
(принцип исключенного третьего):
pᴗ⌐p=V (XV)
aᴗ⌐a=V (XV')
Формулы (XIV) и (XV) вместе определяют «негатив, т. е. ⌐р, ⌐а, так что можно написать (определение негатива):
pᴖx=Ʌ.pᴗx=V.Ɔ.x=⌐p (XVI)
аᴖх=Ʌ.аᴗх=V.Ɔ.х=⌐а (XVI')
(принцип контрапозиции):
pƆq.Ɔ.⌐qƆ⌐p (XVII),
aƆb.Ɔ.⌐bƆ⌐а (XVII')
(закон двойного отрицания):
⌐(⌐р)=р (XVIII)
⌐(⌐а)=а (XVIII')
(принцип утверждения):
p=(p=V) ⌐p=(⌐p=Ʌ) (XIX)
a=(a=V) ⌐а=(⌐а=Ʌ) (XIX')
(принцип внесения; если же переставить правую и левую стороны этих равенств, то получается принцип вынесения):
p.Ɔ.qƆr : =.рᴖqƆr (XX)
а.Ɔ.bƆс : =.аᴖbƆс (XX)
(приведение включения к альтернативе):
pƆq.=.⌐pᴖq (XXI)
аƆb.=.⌐аᴖb (ХХI')
(класс индивидов х удовлетворяющих логической функции φχ, т. е. обращающих ее в предложение):
х϶φх (XXII)
[аксиома: «если две логические функции φх и ψх эквивалентны, т. е. соответственные классы равны (тождественны)»]:
φх=ψх.Ɔ : х϶φх.=.х϶ψх (ХХIII)
(индивид k принадлежит к классу а, «есть а»):
kϵa (XXIV)
кϵ(х϶φх)=φк (XXV).
х϶(хϵа)=а (XXVI).
{стр. 603}
(«сказать, что класс а содержится в классе b, это, по определению, значит сказать, что "х есть а" включает "х есть b"»):
aƆb.= : xϵa.Ɔ.xϵb (XXVII)
а=b.= : хϵа.=.хϵb (XXVIII)
а=b.=.аƆb.bƆа (XXIX)
{стр. 604}
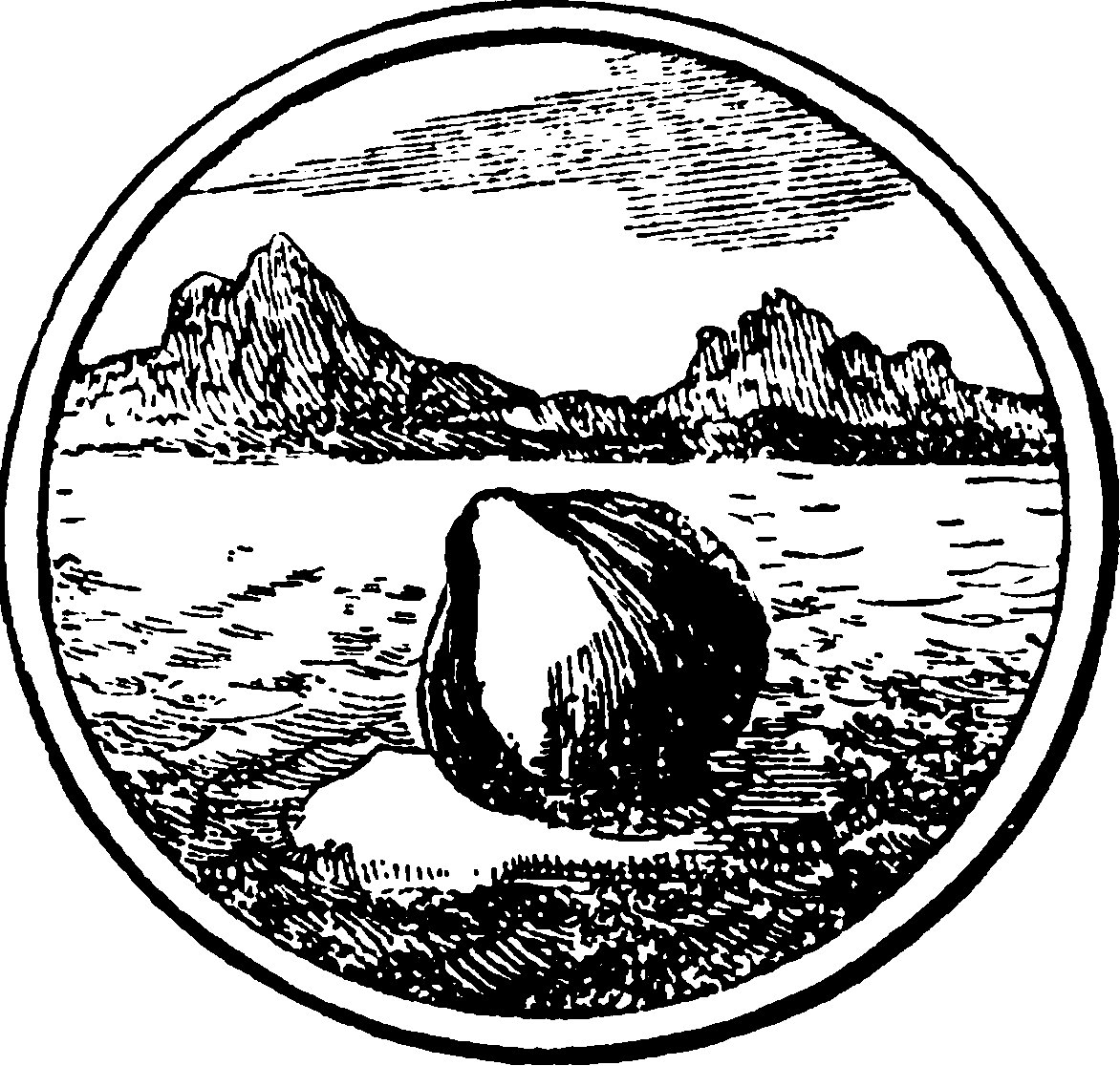
Ne te quaesiveris extra. Не ищи себя извне.
{стр. 605}
Троякие примечания содержатся в этом отделе.
Одни из них дают точные координаты выдержек, помещенных в самом тексте. Другие имеют задачею восполнить, разъяснить или обогатить побочными частностями положения книги. Наконец, примечания третьего рода служат библиографическим подспорьем читателю, который пожелал бы самостоятельно рассмотреть тот или иной вопрос, обсуждаемый в настоящем сочинении. Памятуя об общедоступном характере всей книги, я всегда старался в этих, так сказать, «расширительных» примечаниях приводить указания на литературу русскую, — во–первых, потому, что русская библиография вообще разработана сравнительно слабо, тогда как для иностранной имеются многочисленные справочники, а, во–вторых, — потому что указываемые мною книги и по языку и по месту издания более доступны среднему читателю. Однако, у меня при этом и в мыслях не было гоняться за исчерпывающей полнотой указаний: упоминаются лишь кое–какие книги, для ближайшего ознакомления с литературою вопроса.
Но, в отношении писаний отеческих и классических философов, приведя название сочинения их по–русски, я считал себя в праве довольствоваться ссылкою на подлинник, тем более, что, по сделанным указаниям, не стоит никакого труда найти соответствующее место в русском переводе их.
(Все примечания со стр. 605–806 в электронном издании приведены к постраничному виду)
{стр 807}
Краски, которыми напечатана обложка, подобраны по основным цветам древних Софийных икон новгородского извода. — Фронтиспис книги заимствован из книги: Amoris Divini Emblemata, studio et aere Othonis Vaeni concinnata. Antverpiae, ex officina plantiniana Balthasaris Moreti. M. DC. LX. p. 125. — Виньетки воспроизведены из книги: [Амбодик], — Symbola et Emblemata selecta [1–е изд.]. — Три прориси Софийных икон на стр. 373, 377, 380 заимствую из статьи Филимонова [702].
Изображение Софийной иконы Третьяковской картинной галереи между стр. 374–й и 375–й воспроизведено по изданию: Η. П. Лихачев, — Материалы для Истории русского Иконописания. Атлас снимков, ч. II, СПБ., 1906, табл. CCLXIII, № 487. См. ниже «краткое описание», № 54. — Кажется, символический смысл большинства виньеток не нуждается в объяснении. Лишь изображение, помещенное на стр. 143, может оказаться не совсем понятным. Оно представляет военный метательный снаряд, известный еще в древности и называвшийся у римлян murex ferreus, у немцев — Fussangel, у нас на руси — рогульки железные, подмeтные или пометные каракули, а, в частности, в Сергиевом Посад — «Tроицкий чеснок». В простейшем виде, это — железный четырехлапник, лапы которого направлены в углы правильного тетраэдра и снабжены на концах остриями с зазубринами, какие делаются у рыболовных крючков. Каждый из стерженьков имел около 3/4 вершка длины, а взаимный наклон их бывал в 120°. Рогулька, представленная на рисунке, имеет, впрочем, некоторое осложнение в виде дополнительных лап. — Остаток таких рогулек от запасов бывшей оружейной палаты Троицко–Сергиевой Лавры хранится в ризнице сего монастыря. — Ясно, что как ни бросить такую рогульку, она всегда расположится устойчиво на трех лапах, тогда как четвертая острием будет торчать вверх. Поэтому, подметные каракули были издавна употребляемы с тою целью, чтобы преграждать дорогу неприятельской коннице: напарываясь на щедро разбросанные снаряды, лошади портили себе ноги и падали, а нападение осаждаемых довершало поражение. (Valer. Мах. III, 7, 2; Curt. IV, 17). Употреблялся такой снаряд и при осаде Троицкой Лавры поляками (о каракулях см.: Antony Rich, — Illustrirtes Wörterbuch der römischen Alterthümer, — aus dem Englischen übersetz von C. Müller. Paris et Leipzig, 1862, S. 407. — E. [E.] Голубинский, — Преподобный Сергий радонежский и созданная им Троицкая Лавра, изд. 2–е, М. 1909 г., стр. 266, — Н. В. Султанов, — Памятник Имп. Александру II в Кремле Московском. СПБ., 1898 г., стр. 606–609). — Такая рогулька представляется естественным символом для антиномического догмата, который всегда говорит «да», устанавливаясь плотно любою гранью своею, но всегда при этом выставляет вверх острие, имеющее ранить того, кто вообразит, что этим «да» догмат обессилен и уничтожен. С подобными–то каракулями в своих твердынях, для Церкви нет нужды выходить в поле и сражаться с врагом — его холодным оружием, рационализмом: достаточно и того, что вражеская конница перепортит ноги лошадям, так и не подступив к осаждаемым стенам. Огнестрельное же оружие — поражающая издали сила Духа — это прямое достояние Церкви.
КОНЕЦ,
И Богу СЛАВА!
{стр. 817}
Епископу Антонию (Флоренсову) — с сыновнею почтительностию.
Ваши Преосвященства и глубокочтимое Собрание!
На эту кафедру чаще всего всходят в ожидании суда над своею работою. Нет ничего удивительного поэтому, если попавшему сюда хочется, предупредив приговор, дать свои разъяснения по подлежащей разбору книге и тем предотвратить часть обвинений. Естественно и то, что пунктов, по которым требуется такое разъяснение, оказывается много, — гораздо больше, чем то допустил бы объем вступительного слова. Ведь всякая книга есть часть души ее автора, или, по крайней мере, должна таковою быть, и следовательно, как ни старательно отпрепарирована она, однако же она имеет у себя тысячи все еще живых нервов и кровеносных сосудов, связующих высказанное с оставшимся недосказанным; для авторского сознания всегда мучительно, что орган его души может быть принят за самостоятельное целое и, что еще хуже, противопоставлен другим его же органам, без которых и в данном — нет жизни. И вот, обозревая мысленно все то, что теснилось в моем сознании, когда я думал о предстоящем диспуте, я увидел, что вынужден был бы вдаваться в трудные и сложные вопросы о методах философии и богословия, о задачах современных наук о духе и т. д. А при малейшей попытке высказаться и быть доказательным тут уже требуется особое сочинение. Разумеется, эти темы — не для вступительного слова…
К тому же припоминаю и свои настроения — слушателя чужих диспутов. В ожидании «дела», самого обсуждения предлежащей работы, речь невольно выслушивается кое–как. Поэтому, следуя «золотому правилу» нравственности, <о>граничу свой язык и дозволю себе лишь необходимый минимум разъяснений. Уклонился бы и от него, но предчувствую, что Вам все равно пришлось бы выслушать его, — если не во вступительном слове, то в течение самых прений.
Начну с подзаголовка своей работы — «Опыт православной теодицеи», т. е. с содержания работы, чтобы сделать затем несколько замечаний о методе.
{стр. 818}
В каком же смысле можно считать обсуждаемую книгу именно теодицеей?
Чтобы разъяснить этот вопрос, необходимо напомнить несколько весьма элементарных соображений о сущности религии.
Религия есть, — или по крайней мере притязает быть художницей спасения, и дело ее — спасать. От чего же спасает нас религия, — Она спасает нас от нас, — спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает геенну, которая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она поражает гадов «великого и пространного» моря подсознательной жизни, «им же несть числа», и ранит гнездящегося там змея. Она улаживает душу. А водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу.
Таково дело религии, взятое преднамеренно в самых суженных и скромных границах, — то основное ее дело, которое едва ли кто станет оспаривать.
Так, хотя и внешний мир не оставлен религией, однако настоящее место ее — душа. И поэтому, если онтологически религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то феноменалистически — религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение. Другими словами, спасение, в том наиболее широком, психологическом смысле слова, есть равновесие душевной жизни.
Отвлеченно говоря, может быть несколько типов относительного равновесия; одни из них, так сказать, полнозвучны, другие — бедны; одни прочны, другие — неустойчивы; одни имеют потенциал высокий, другие — низкий. Известный тип равновесия может быть весьма недостаточным, как не безусловною может быть и дающая его религия. Отвлеченно же говоря, должен быть тип совершенного равновесия и наивысшего потенциала, соответствующий человеческой природе. Этот–то тип и исследуется в обсуждаемой книге.
Из сказанного ранее — понятно, что при изучении религии, по описании ее, возникают два вопроса: во–первых, насколько спасительна данная система переживаний и действований и почему она спасительна, т. е. что в ней такого, что обеспечивает спасение? и, во–вторых, как делается эта система переживаний и действований спасительною именно для меня, поскольку я убедился в ее спасительности вообще.
Другими словами, спрашивается: во–первых, какие ходы мысли должен пройти мой разум, чтобы признать спасительность данной религии? и, во–вторых, в какой реальной среде должен я вращаться и в какую связь с нею должен вступить, чтобы усвоить себе спасение?
Это — в терминах феноменологии. Если же теперь перейти к терминам онтологии, то надо пересказать наши вопросы примерно так: во–первых, какими путями человек убеждается, что Бог есть именно {стр. 819} Бог, а не узурпатор святого имени, т. е. действительно обладающий спасением и действительно дающий его людям? Во–вторых, какими путями человек принимает Божие спасение в себя и спасается своим Спасителем?..
Или еще, другими словами, при первом вопросе мы разумом своим испытываем Бога и находим, что воистину Он — Бог, Сущая Правда, Спаситель. При втором же вопросе мы, испытывая себя, обретаем себя «ложью» и нечистотою, усматриваем свое несоответствие правде Божией и, следовательно, необходимость очищения.
Вот два пути религии. Но первый путь, оправдания Божия, или теодицея, возможен не иначе, как благодатною силою Божиею, и второй путь, путь оправдания человека, или антроподицея, опять–таки возможен не иначе, как силою Божиею. И верим в Бога, и живем в Боге мы Богом же, — не сами. И потому, первый путь есть как бы восхождение благодати в нас к Богу, а второй — нисхождение благодати в наши недра.
Однако и теодицея, как οδός άνω[1060], как восхождение нас к Богу, и антроподицея, как οδός κάτω[1061], как нисхождение Бога к нам, — совершается энергиею Божиею в человеческой среде. Как возможно это? Как «немощный человеческий лик» может соприкасаться с «Божией правдой»? Как Божественная энергия не испепеляет ничтожества твари? Эти и другие подобные вопросы требуют онтологического вскрытия. Переводя на грубый и бедный язык земных сравнений, скажем: как может быть, чтобы св. чаша не таяла как воск, и чтобы очи наши не слепли от нестерпимой лучезарности Того, Что в ней? Что было бы, если бы в потир опустить частицу солнца? Но там То, пред Чем солнце — мрак, и… чаша невредима.
Не кажется ли мгновениями, что священник держит в руке грозовую тучу: одно неосторожное движение, — и удар молнии поразит его. Это — образы. Но никакие образы не передадут силы контраста между Богом и тварью, — контраста, который необходимо должен быть осуществлен, чтобы было возможно оправдание твари. Выяснить онтологию этого осуществленного контраста между всем и ничем должна антроподицея.
Разумеется, ни путь теодицеи, ни путь антроподицеи не может быть строго изолирован один от другого. Всякое движение в области религии антиномически сочетает путь восхождения с путем нисхождения. Убеждаясь в правде Божией, мы тем самым открываем сердце свое для схождения в него благодати. И наоборот, отверзая[1062] сердце навстречу благодати, мы осветляем свое сознание и яснее видим правду Божию. Как нельзя разделить полюсов магнита, так нельзя обособить и путей религии.
{стр. 820}
'Οδός άνω и όδός κάτω совмещаются в религиозной жизни и лишь методологически могут быть рассматриваемы до известной степени порознь. Однако этому разъединению способствует, что известным полосам в личном развитии и в развитии общественного сознания по преимуществу свойственен либо тот, либо другой путь.
Путь горе́ — это по преимуществу путь вступающего на духовный подвиг, а путь долу — путь продвинувшегося по нему. Вот почему я счел целесообразным в настоящем сочинении выделить именно теодицею, оставляя более трудную антроподицею до лет более зрелых и опытности более испытанной. Но, на возможный вопрос о содержании антроподицеи, может быть, следует ответить: «Разные виды и степени Богонисхождения должны составить основную тему ее». Другими словами, речь должна идти там о категориях духовного сознания и об откровении Божием в Священном Писании; о священных обрядах и о святых таинствах; о Церкви и ее природе; о церковном искусстве и церковной науке и т. д. И т. д. А это все должно быть обрамлением центрального вопроса антроподицеи, — христологического.
Однако от того, что должно еще сделать, т. е. от антроподицеи, как пути по преимуществу практического, вернемся к обсуждению того, что сделано, — к теодицее, как пути по преимуществу теоретическому. Этот путь начинается в разуме и затем за пределы разума, к корням его, выходит.
Как же построяется теодицея?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним тот «Столп Злобы Богопротивные», на котором почивает антирелигиозная мысль нашего времени и оттолкнуться от которого ей необходимо, чтобы утвердиться на «Столпе Истины». Конечно, Вы догадываетесь, что имеется в виду Кант.
«Как возможна Истина?» — спрашивает Кант, и ответ его гласит:
— Истина возможна как методическое познавание, т. е. как вечно строящаяся, но никогда не заканчиваемая система знания — вавилонская башня Нового времени.
«Но как же, в свой черед, возможно методическое познавание?»
— Оно возможно, — как синтетические суждения а priori, — спешит успокоить Кант.
«Но, в таком случае, как же возможны синтетические суждения а priori?» — снова шевелится беспокойство у Канта.
— Как функции организации разума, — с довольным видом открывает он. И замолкает совсем. Но дальнейшая история мысли этим ответом опять не удовлетворена.
«А организация разума со всеми его функциями, она как возможна?» — спрашивают у Канта. Но на этот вопрос Кант уже не желает давать ответа, и ряд вопрошаний должен прерваться. В организации разума критическая мысль увязает, как в трясине. А между тем неизвестно еще, есть ли, в самом деле, эта организация разума, да и есть ли самый разум.
{стр. 821}
Кант пытается доказать, что есть: и то, и другое. Как же именно, — Наличностью разумных функций. Но где же они, — В науке. Почему же мы знаем их общегодность (всеобщность и необходимость)? — Потому–де, что наука вселенска. Итак, последней опорой у Канта оказывается факт науки или, точнее, математического естествознания. Разум есть, а стало быть, есть и Истина, ибо Кант верит в вавилонскую башню механистического естествознания.
Наши рассуждения начинаются с той точки, на которой кончает Кант.
«Есть ли разум?» — спрашиваем мы себя.
— Нет, такой определенной величины мы не знаем. Разум — нечто подвижное. Это — понятие динамическое, а не статическое. Разум имеет нижним пределом своим, поскольку он — разум трансцендентальный. — разложение, полное ничтожество, геенну; а верхним, — как разум трансцендентный, — полноту и непоколебимость.
«Но, — спрашивается тогда, — как возможен разум?»
Разум жаждет спасения, т. е., другими словами, он погибает в своей сущей форме, в форме рассудка. «Человеческий ум, — говорит гдето Мартин Лютер, — подобен пьянице верхом; поддержите его с одной стороны — он свалится с другой». Таково образное выражение антиномичности разума. Разлагаясь в антиномиях и мертвый в своем рассудочном бытии, разум ищет начала жизни и крепости. Спасение, в сфере теоретической, мыслится прежде всего как устойчивость ума, т. е. именно как ответ на вопрос: «Как возможен разум?» и если религия обещает эту устойчивость, то дело теодицеи — показать, что действительно эта устойчивость может быть дана, и как именно. Но понятно, что если разум будет пониматься как пустая форма, в которую можно вкладывать разное содержание, не нарушая свойств этой формы, то присущая ему неустойчивость или антиномичность будет неустойчивостью абсолютною, и теодицея загодя обречена на неудачу. Отсюда понятно, что из признания религии — уже a priori, «трансцендентально», вытекает и иной взгляд на разум. Разум — не коробка или иное какое геометрическое вместилище своего содержания, в которое можно вложить что угодно; он — и не мельница, которая размелет как зерно, так и мусор, т. е. не система механических, всегда себе равных осуществлений, применимых одинаково к любому материалу и при любых условиях. Нет, он есть нечто живое и целестремительное, — орган живого существа, modus взаимоотношения познающего и познаваемого, т. е. вид связи бытия. Понятно, что он не может функционировать всегда одинаково, ибо сам он, его «как» определяется его предметом, его «что». Свойства разума — свойства гибкие и пластические, осуществляемые так или иначе в зависимости от τόνος’a жизнедеятельности его. Следовательно, задача гносеолога — не в том, чтобы открыть природу разума вне его отношения к какому бы то ни было объекту знания, — вне функционирования, ибо задача эта по существу неопределенная, а в том, чтобы {стр. 822} узнать: когда, при каких условиях разум делается воистину разумом, когда он имеет высшее свое проявление,— когда он цветет и благоухает. Эта гносеологическая работа подразумевается проделанной при построении теодицеи. А ответ на поставленный вопрос возможен тут только один, — такой: разум перестает быть болезненным, т. е. быть рассудком, когда он познаёт Истину: ибо Истина делает разум разумным, т. е. умом, а не разум делает Истину истинною. Следовательно, ответ на основной вопрос о разуме, а именно на вопрос: «Как возможен разум?» должен гласить: «Разум возможен чрез Истину». Но, в таком случае, что же делает Истину истинною? — Она сама.
Показать, что Истина сама себя делает Истиною — и есть задача теодицеи. Эта самоистинность Истины выражается, — как вскрывает исследование, — словом όμοουσία, единосущие. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой.
Таково содержание книги. Обратимся теперь к методу ее.
Для перелиставшего книгу — вероятно, бесспорно, что метод этот —диалектика, разумея слово диалектика в его широком значении — жизненного и живого непосредственного мышления, в противоположность мышлению школьному, т. е. рассудочному, анализирующему и классифицирующему. Это — не речь о процессе мысли, а самый процесс мысли в его непосредственности — трепещущая мысль, демонстрируемая ad oculos[1063]. Простейший случай диалектики — т. е. мысли в ее движении — всякий разговор. Диалектичным будет, вероятно, и то, что за этим словом последует, т. е. самый диспут. Высочайший же образец диалектики применительно к вере дал св. апостол Павел в своих Посланиях: не о духовной жизни учит нас св. апостол, но сама жизнь в словах его переливается и течет живым потоком. Тут нет раздвоения на действительность и слово о ней, но сама действительность является в словах апостола нашему духу.
Однако дело не в том, что пишет апостол. Апостольство сказывается в природе открываемой им жизни, в ее духовности, а не в самом факте наличности некоторой жизненности. Ведь диалектике как методу принадлежит и явление жизни в слове, хотя в том или другом случае самая жизнь может быть и ничтожной и неценной. Диалектик хочет не рассказывать о своем касании к реальности, но показывать его: слушатели же пусть сами усматривают, не опускает ли он в своем осознании этой реальности чего–нибудь существенного.
То, что сказано о духовной жизни, — оно же относится и к сфере философии. Там, где не признается права на самодеятельность, — нет места и диалектике: но где свобода, — там непременно — и диалектика. Философия, как дело творчества (но не как предмет преподавания), фи{стр. 823}лософия совершенно неотделима от диалектики, т. е. от процесса вглядывания и, следовательно, мысленного углубления и вживания в реальность. Величайшие образцы философского творчества — лучшие достижения диалектики.
В чем же смысл диалектики, — В целостности. Тут нет отдельных определений, как нет и отдельных доказательств. Что же есть, — Есть все нарастающий клубок нити созерцания, сгусток проникновений, все уплотняющийся, все глубже внедряющийся в сущность исследуемого предмета; диалектика — совокупность процессов мысли, «взаимно друг друга укрепляющих и оправдывающих». Это — как бы луковица, в которой каждая оболочка есть слой живой. Если бы речь шла не диалектическая, а дидактическая, — не о реальности, а о моих или чьих–нибудь мыслях о реальности, то я мог бы дать определение и сказать: «Вот что именно, а не другое что, я мыслю об этой вещи». Но если предметом речи должна быть сама реальность, то откуда же я заранее знаю, что́ есть она, эта реальность. А если бы знал — то для чего же нужно было бы исследование? Определить — это значит очертить вокруг предмета исследования некоторый предел, окружить его пределом, изолировать его. Для чего предел? чему положить предел, — Мысли, конечно. Определить — это значит лишить мысль свободы двигаться так, как это может оказаться нужным в течение исследования, и искусственно заключить ее в границы. Но диалектика, как мысль нарастающая, в том–то и заключается, что она движется к все более и более ценным достижениям, восходя по лествице постижения, так что постепенным уплотнением мысли намечаются естественные пределы реальности. Живая мысль по необходимости диалектична: в том–то и жизнь ее; мертвые же мысли или, точнее, замороженные мысли, мысли в состоянии анабиоза — недиалектичны, т. е. неподвижны, и могут быть расположены в виде учебника, как некая сумма определений и тезисов. Но и тут, лишь только мы захотим привести эту кучу или этот склад высохшего и замороженного материала во внутреннее единство, т. е. понять его, — мы должны внести начало движения от определения к определению и от тезиса к тезису. И тогда, под ласкою созерцающего взора, лед тает, плотины сорваны, определения потекли, и тезисы хлынули живым потоком, переливаясь один в другой.
«Omnis definitio in jure civili periculosa est» [1064], — значится в Дигестах [1065], и тут же дается объяснение, почему periculosa est: «parum est enim, ut non subverti possit» [1066]. Так — не только в области права.
Omnis definitio тем periculosior est [1067], чем более внутреннего движения в определяемом; а там, где жизнь бьет ключом, в жизни по преиму{стр. 824}ществу или религии, оно maxime periculosa est [1068]. Тут Павлов меч разрубает всякое определение, и, сорвав оковы, огненной струей стремится мысль в Павловой диалектике.
Теперь уже не мы определяем предмет, а самый предмет определяет нам себя. Мы — вглядываемся и вглядываемся в него, и каждое новое постижение его служит новым определением. Каждое новое откровение реальности о себе прибавляет новое звено к цепи проникновений. Вращаясь пред нашим взором, реальность кажет все новые и новые стороны в себе. И если теперь Вы спросите у диалектика, где его определения, он ответит Вам: «Везде, если я написал что–нибудь осмысленное, и нигде — если книга не удалась». Самая книга есть определение того предмета, который она рассматривает, т. е. Духовной Истины, или, если хотите, церковности. И если я начинаю с того, что церковность неопределима, то далее, за этим заявлением, я же посвящаю целую книгу, чтобы показать церковность в разных сферах ее и на разных глубинах. — Ведь даже в математике нет критерия, чтобы сразу узнать, просто ли данное число. Лишь последовательно просеивая сквозь «Эратосфеново решето» все числа непростые, мы убеждаемся в его простоте или непростоте. Так и в Церкви нет одного критерия, который бы гарантировал церковность данного человека; но сама жизнь, рядом испытаний, отсеивает верных от неверных.
Довольно философствовали над религией и о религии: тогда можно было давать определения, — и их дано слишком много. Неужели мне прибавлять к ряду неудачных определений еще одно? Надо философствовать в религии, окунувшись в ее среду.
Довольно было опровержений, возражений, сопротивлений и уступок скрепя сердце; надо начать наступление. Лучше понять хоть одну живую религию, нежели изрезать и умертвить все, где–либо и когда–либо существовавшие. Если терпимость и либеральность к вере других заключается только в том, что ради справедливости («Чтоб никого не обидеть!») люди стараются обойтись вовсе без религии, — тогда долой такое уважение и такую либеральность. Да к тому же, для всякой религии большим уважением к ней будет борьба с нею, нежели терпимость, уравнивающая все религии в общем к ним презрении. — Этот призыв, высказанный здесь мною в словах столь торопливых и несвязных, — он и был призывом к подлежащей обсуждению книге. Но, вняв ему, необходимо было сделать шаг самый трудный — уразуметь, что исследование должно быть опытом конкретной религиозной гносеологии, ибо только конкретная мысль может быть мыслью диалектическою.
Что же, однако, значит развить конкретную религиозную мысль? Не рискует ли она впасть в субъективизм и психологизм? Не рискует ли стремление к конкретности подменить диалектику, как методическое вглядывание, простою игрою случайных мыслей, имеющих лишь био{стр. 825}графическое значение и интересных лишь для друзей автора? Не рискует ли вглядывание в реальность выродиться в голый рассказ о психологических иллюзиях?
Не смею утомлять Вашего внимания подробным ответом на поставленный здесь вопрос; скажу лишь в двух словах суть дела.
Несомненно, что конкретная мысль есть личная мысль, мысль не «вообще», вне субъекта своего притязающая существовать, но мысль характерно соотносящая данный объект с данным же субъектом. Мышление есть непрестанный синтез познаваемого с познающим и, следовательно, глубоко и насквозь пронизано энергиями познающей личности. Но кто же субъект диалектики? Таковым не может быть абстрактное, бесцветное и безличное, «сознание вообще», ибо я знаю, что это я вглядываюсь в реальность. Таковым не должно быть и никому не интересное Я автора, ибо если какой–то Павел во что–то вглядывается, то, конечно, это не может и не должно быть значимым в философии. Вглядывающееся Я должно быть личным и, скажу даже, более личным, нежели недоразвитое Я автора. Но оно же должно быть и целостным и характерным. Это — конкретно–общее, символически–личное — Я есть очевидно Я типическое, и если искать ему параллелей, то ближе всего оно подходит к типу в художественном произведении. Его диалектическое вглядывание лично, но оно не психологистично. Оно конкретно, но его своеобразие — не случайно. Назовем его Я «методологическим». И т. к. диалектика непременно предполагает тех, кто δια–λέγονται, кто пере–говаривается, кто раз–говаривает, то методологическому Я соответствует методологическое же мы и другие методологические personae dramatis dialecticae [1069]. Ими–то и осуществляется некое διά-, пере-, раз-, т. е. методологическая среда, — которая сливает с объектом свои личные энергии.
Понятно, что эта среда, чтобы быть методологическою, должна быть совершеннейшим органом данной диалектики, т. е. должна быть не какой–нибудь, а наиболее сродной именно данному познанию. Каждому объекту диалектики соответствует и некоторый определенный субъект, определенный тип. Если, по Библии, брак есть познание, а познание есть своего рода брак, то нельзя данную реальность бракосочетать с кем угодно, но необходимо — с суженым. Таким образом, философское творчество истины — в ближайшем родстве с творчеством художественным, не как «поэзия понятий», а как ваяние типических субъектов диалектики. И пока философ не нашел типа данной диалектики — он еще не приступал к диалектике. Как поэт, обособляя аспект свой, объективирует его и делает типом (вспомним хотя бы Вертера и Гете), так и философ вовсе не о себе разглагольствует найденным им субъектом диалектики, а типически формует из имеющегося у него запаса переживаний субъекта наиболее дружного данному предмету. Так именно написаны диалоги Платона: это видит всякий; но, может быть, {стр. 826} не всякий примечал, что так же написаны и «Критики» Канта и «Размышления» Декарта и т. д. И т. д. Разница — лишь в том, что методологическое Я вводится обычно несколько прикровенно и бедно. В разбираемой же книге, по следам Платона, методологическое Я откровенно выведено не как Я «вообще», а как Я конкретное. Не смею утверждать, что выполнил удачно поставленную задачу; однако самым решительным образом стою за занятую позицию как принцип.
Но, если этот принцип Вами принимается, то отсюда делается понятною одна особенность предлагаемой диалектики. Конкретная личность, этот типический субъект диалектики, не есть линейный ряд каких–либо душевных процессов, и внутренияя жизнь ее устроена вовсе не так, как бусы нанизаны на нить в ожерелье. Следовательно, и диалектическое развитие мысли не может быть представлено простою одногол осою мелодией раскрытий. Душевная жизнь, а в особенности религиозно–упорядоченная жизнь, — есть несравненно более связное целое, напоминающее, скорее, ткань или кружево, где нити сплетаются многообразными и сложными узорами. Сообразно с этим и диалектика есть развитие не одной темы, а многих, сплетающихся друг с другом и переходящих друг в друга, и снова выступающих. И как в жизни лишь многообразие функций образует единое целое, а не отдельные абстрактные начала, так же и в диалектике лишь контрапунктическая разработка основных мелодий дает жизненно углубиться в предмет изу чения.
Таков, в основных чертах, метод разбираемой книги. Я знаю, что я недостаточно выполнил те задания, которые себе поставил, а насколько недостаточно — об этом мы сейчас услышим. Допускаю и то, что самые задания были поставлены неправильно. Но вот в чем я не сомневаюсь и, Богу содействующу, не усумнюсь ни во время диспута, ни после него. Философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во Христе. и пройденный путь — делается уже ненужным. Мои глубокоуважаемые суды могут лишить меня книги, но не того, что теперь, пережив ее, я уже имею, помимо нее.
Вот почему, в глубине души, уже готов ответ, — один на все их возражения:
«Мне же еже прилеплятися Богови блого есть, полагати о Господе упование спасения моего».
Священник Павел Флоренский
1914 г. V. 19.
Сергиев Посад.
{стр. 827}
Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского» («Путь», Москва, 1914)
Термин «теодицея» (от греч. Θεός — Бог и δίκη — справедливость) — «оправдание Бога» обозначает религиозно–философские учения, стремящиеся согласовать идею благого и разумного Божественного управления миром с наличием мирового зла, «оправдать» это управление вопреки существованию темных сторон бытия [1070].
«Человек хочет поклоняться Богу не как факту только, — писал о. Павел Флоренский, — не как все–ломящей силе, ни даже как своему Покровителю или Хозяину; — объектом поклонения Эта Сила, Этот Покровитель может быть только в своей Истине, в правде Своей, как Отец. Прежде оправдания человека ищется оправдание Бога: прежде антроподицеи ищется теодицея» [1071].
В ряду различных исторически сложившихся типов теодицей (политеистическая, дуалистическая, теистическая) «Столп» — теодицея христианского теизма, построенная на концепции свободы воли человека. К специфическим чертам «Столпа» следует отнести то, что Флоренский развертывает оправдание Бога как Истины, а не как Блага. Поэтому все обычные вопросы теодицеи рассматриваются не в плоскости «нравственности», а в плоскости «рассудка» и «разума».
«Задача гносеолога, — писал Флоренский, — не в том, чтобы открыть природу разума вне его отношения к какому бы то ни было объекту знания, — вне функционирования, ибо задача эта по существу неопределенная, а в том, чтобы узнать: когда, при каких условиях разум делается воИстину разумом, когда он имеет высшее свое проявление, — когда он цветет и благоухает. Эта гносеологическая работа подразумевается проделанной при построении теодицеи. А ответ на поставленный вопрос возможен тут только один, — такой разум перестает быть болезненным, т. е. Быть рассудком, когда он познает Истину: ибо Истина делает разум разумным, т. е. Умом, а не разум делает Истину истинною. Следователь{стр. 828}но, ответ на основной вопрос о разуме, а именно, на вопрос: «Как возможен разум?» — должен гласить: «Разум возможен чрез Истину». Но в таком случае, что же делает Истину истинною? — Она сама.
Показать, что Истина сама себя делает Истиною, — и есть задача теодицеи. Эта самоистинность Истины выражается, — как вскрывает исследование, — словом όμοούσια, единосущие. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой. Таково содержание книги» [1072].
Какие же духовные переживания, какой духовный опыт лег в основу теодицеи Флоренского? В письме к В. А. Кожевникову 27 июля 1912 г. Флоренский писал по поводу «Столпа»: «Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович! <…> Те мужественные звуки, которых Вам, — а мне самому еще более, нежели Вам, — хотелось бы слышать от меня, звучат пока лишь в тайниках сердца моего, и ни субъективно, по ступени моего развития, ни объективно, по задачам, мною ставимым, им звучать пока невозможно. Κάθαρσις [1073], Μάθησις [1074], Πράξις [1075]! Писать можно о том, что пережито, а я лишь подхожу (—да и подойду ли, — это вопрос —) к Πράξις. Мои научные статьи, из коих большая часть не напечатана или даже слегка набросана, «тетради» мои и т. д., <1 нрзбр.> математическая работа и математические заметки — это все, как я мысленно называл всегда, — та καθαρτικά, — расчистка души моей от современности. «Поэма» (написанная) [1076] — завершение катартического периода. «Столп», разрабатываемый, хотя тема его явилась около 9—10 лет тому назад — μάθησις первой половины, т. е. теодицея (только!), и все иные темы из него сознательно исключены. Вот почему и лирика «Столпа» опять не то, чего вы хотите, — нечто хрупкое и интимно–личное, уединенное. Предполагаемая и отчасти набросанная 2–я часть «Столпа», под иным названием, — 2–я половина μάθησις, т. е. антроподицея, о тайнах и таинствах, о благодати и боговоплощении во всех видах и образах. В ней слегка намечается πράξις, но я надеюсь, что художественная сторона, «фон», сознательно антиципирующий дальнейшее, уже не будет ни свирелью, ни жалобою покинутого (потому–то и возникает проблема Теодицеи; иначе оставался бы праздник обручения и пастораль), а «драмой», в современном смысле слова, и намеком на трагедию. Мне чудятся в дальнейшем πράξις и тоны трагедии — мистерии. Но это только чудится, и я еще почти не представляю, как это будет и будет ли {стр. 829} как–нибудь. Надо очень, очень расти, чтобы превзойти μάθησις, и очень много страдать, чтобы дорасти до мистерии, до πράξις. Ведь пока единственный зародыш у меня этого —цикл переживаний, благодаря которым и из которых сложилась моя семейная жизнь» [1077].
Это свидетельство подкрепляется дарственной надписью Флоренского П. А. Алферову на книге «Столп» 9 февраля 1914 г.: «Есть ли это в моем сознании моя единственная книга? Конечно, нет, ибо есть еще многое другое, что еще могу и хочу сказать. Но к тому, другому, надо перейти через эту книгу, которая является перевалом. Книга эта есть изображение жизни в тот момент, когда решен был у меня переход в Академию, т. е. моего состояния внутреннего на 4–м курсе Университета» [1078].
Итак, по словам самого Флоренского: «Столп» прежде всего отражает его духовную жизнь 1904 г. — время перехода из Московского университета в Московскую Духовную Академию, время сознательного вхождения в Православную Церковь. Именно поэтому Флоренский, учитывая новоначальность своей церковной жизни, писал, что если придает «некоторое значение своим письмам, то исключительно подготовительное, для оглашенных, пока у них не будет прямого питания из рук Матери,— значение, как бы огласительных слов во дворе церковном» [1079].
Но ограничивать подоснову «Столпа» только 1904 г. было бы неправильно. В «Столп» вошли переживания тьмы кромешной, мук сомнения, которые Флоренский испытал еще в 1899 г. [1080], целый ряд тем 1902–1903 гг., когда определилось отрицательное отношение Флоренского к представителям «нового религиозного сознания», и, наконец, период учебы в МДА в 1904–1908 гг., когда Флоренский духовно сблизился со Старцем — иеромонахом Гефсиманского скита аввой Исидором (+4 февраля 1908) [1081] и с Другом —С. С. Троицким (+2 ноября 1910) [1082]. Попытки отождествить Друга с В. Ф. Эрном, С. Н. Булгаковым или кем–либо еще неправильны. В 1905–1907 гг. Флоренский жил с Троицким в одной академической келье, вместе с ним ездил в Зосимову пустынь, в Толпыгино Костромской губернии, отдыхал летом на Кавказе. {стр. 830} После окончания МДА в 1907 г. Троицкий переехал в Тифлис и в 1909 г. женился на сестре Флоренского Ольге (Вале). Архивные материалы, а также семейное предание с несомненностью свидетельствуют о том, что Старец и Друг книги «Столп» — это авва Исидор и С. С. Троицкий. Конечно, не следует при этом забывать, что Я автора является в книге не только конкретным, но и типическим, и что Старец и Друг, будучи также конкретными людьми, выражают не только личное, но и типическое, общее.
Поскольку Флоренский продолжал работать над книгой после 1908 г. (первая редакция) до 1914 г. (четвертая редакция), то в «Столпе» должен был как–то отразиться опыт и этих лет, хотя Флоренский сознательно продолжал ограничивать тематику «Столпа» ранним периодом. Именно в эти годы у Флоренского, после вступления в брак (1910) и принятия священства (1911), начался новый этап духовной жизни и отход от тем теодицеи. Глубокие духовные переживания и непрекращавшиеся научно–богословские споры и поиски поставили Флоренского перед вопросом о том, надо ли издавать «Столп», и сам он писал В. А. Кожевникову 2 марта 1912 г.: «Мой Столп» до такой степени опротивел мне, что я часто думаю про себя: да не есть ли выпускание его в свет — акт нахальства, ибо что же, на самом–то деле, понимаю я в духовной жизни? И, б<ыть> м<ожет>, с духовной точки зрения, он весь окажется гнилым» [1083].
Как литературно–художественное и философское произведение, книга «Столп и утверждение Истины» прошла четыре редакции. Первая редакция — кандидатское сочинение «О религиозной истине» (1908) состояло из двенадцати частей: I. К читателю. II. Письмо первое: два мира. III. Письмо второе: сомнение. IV. Письмо третье: триединство. V. Письмо четвертое: Свет Истины. VI. Письмо пятое: Утешитель. VII. Письмо шестое: противоречие. VIII. Письмо седьмое: геенна [1084]. IX. Письмо восьмое: тварь [1085]. X. Письмо девятое: София. XI. Письмо десятое: дружба. XII. Послесловие. Разделы I–IX были представлены Флоренским напечатанными, разделы X–XII — в виде рукописи [1086]. Цельные записи разде{стр. 831}лов восходят к 1906 г., когда у Флоренского, вероятно, сложился законченный замысел теодицеи, но отдельные черновики и выписки относятся и к более ранним годам. Отметим, что еще в 1905 г. Флоренский писал А. Белому, что он собирает материал по Софии. Рукописи разделов несколько раз переписывались и дорабатывались Флоренским за 1906—1908 гг. Именно это сочинение профессор МДА С. Глаголев оценил на пять с плюсом, завершив отзыв такими словами: «Сочинение автора нуждается в развитии, в обосновании многих положений, в изменении деталей, но то, что автор уже сделал, является в высшей степени ценным вкладом в православную богословскую литературу» [1087].
17 сентября 1908 г. Флоренский прочитал в МДА две пробные лекции по истории философии. Обе лекции были признаны удовлетворительными, и 23 сентября 1908 года Флоренский был утвержден исполняющим должность доцента МДА по кафедре истории философии. Первоначальная тема магистерской диссертации Флоренского была утверждена 19 декабря 1908 г. Она была сформулирована так: перевод на русский язык богословско–философских творений неоплатоника Ямвлиха, сопровожденный вступительной статьей о философии мыслителя, подстрочными примечаниями и рядом экзегетических и историко–философских экскурсов, а также приложением параллельных мест из других мыслителей той же школы. Однако к началу 1909—1910 учебного года выявились трудности в подготовке утвержденной темы магистерской диссертации. Профессор А. И. Введенский советовал для защиты на степень магистра богословия переработать кандидатское сочинение «О религиозной Истине». 10 мая 1910 г. Совет МДА утвердил прошение Флоренского о продлении ему срока для получения степени магистра на один год, т. е. до 23 сентября 1911 г. Тогда же, вероятно, была изменена и тема диссертации.
Действительно, до сентября 1911 г. Флоренский издал в «Богословском вестнике» главы «София» [1088], «Дружба» [1089], которые ранее уже были известны по кандидатскому сочинению, а также впервые появился как приложение к главе «Дружба» «Экскурс о ревности». 5 апреля 1912 г. Флоренский представил в Совет МДА книгу «О Духовной Истине» [1090] с {стр. 832} просьбой допустить ее к защите на степень магистра богословия. Эта книга, состоявшая из двух выпусков, является второй редакцией «Столпа». Основные отличия этой редакции от первой состоят в следующем: 1) предисловие «К читателю» и письмо первое «Два мира» были объединены; 2) была написана новая глава «Грех»; 3) была изъята глава «Геенна»; 4) была написана глава «Ревность»; 5) было написано «Разъяснение некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными» (разделы XIII–XXVIII, которые вошли в четвертую редакцию как разделы XV–XXX); 6) были составлены примечания и заметки; 7) была проведена текстологическая правка, касавшаяся как содержания, так и развития лирических вступлений.
Диссертация была передана для рассмотрения профессору С. С. Глаголеву. В качестве второго рецензента по его собственной просьбе был утвержден ректор МДА епископ Феодор. Фактически же Владыка Феодор стал не только рецензентом, но и руководителем работы отца Павла после кончины профессора А. И. Введенского (1913). Руководство Владыки Феодора заключалось не только в научно–богословской проверке сочинения, но и в понимании того, какие требования учебного характера могут быть предъявлены и кем, в умении убедить не выставлять на защиту магистерской диссертации вопросов, не получивших решения в святоотеческом богословии. При этом Владыка Феодор считал своим долгом сохранить свободу творчества отца Павла и не хотел, чтобы он поступал против совести, изменяя в книге то, с чем сам был не согласен. С какой остротой стоял вопрос, показывают редкие письма отца Павла и Владыки Феодора, которые, естественно, лишь дополняли их близкое общение в стенах Академии.
«1913.XI.7 Серг<иев> Пос<ад>.
Дорогой Владыко, благословите и дозвольте написать Вам не как к Ректору Академии и не как к знакомому, но как к своему Епископу, к которому не только имеешь право, но — и долг обращаться в серьезных обстоятельствах жизни <…>
Внешне мое письмо — по поводу моей диссертации, но внутренне — по причинам давно, уже 10 лет, таящимся и гораздо более глубоким, чем настоящий повод. Я хорошо понимаю и чувствую, что своей диссертацией поставил Вас, дорогой Владыко, в положение неловкое, и весьма смущался и смущаюсь этим. Вы не знаете, что же, собственно, надо делать со мною, и это вовсе не по недоброжелательному отношению, а — несмотря на прямое желание сделать все наилучшим образом. Но есть силы, с которыми бороться трудно и, б<ыть> м<ожет>, даже невозможно. Я, по крайней мере, устал за 10 лет и от борьбы отказываюсь.
Дело в том, что Церковь конкретно раскрывается в разных общественных средах. А т. к. каждой среде естественно переоценивать себя, то она склонна и все свои особенности, бытовые и временные, считать за {стр. 833} атрибуты Церкви. Духовенство, как владеющее властью в Церкви, отчасти законною, отчасти захваченною, более чем какая другая среда, имеет склонность поповский быт, поповские манеры, поповские интересы выдавать за Христову Церковь и ее атрибуты. Я не берусь судить или даже осуждать «поповства»; однако самым решительным образом скажу, что оно мне не только чуждо, но я вовсе и не вижу надобности усваивать его себе [1091]. Но на этой–то почве и происходит ужасная, непонятная для человека, выросшего в этом быте, тяжесть мелких требований, которые предъявляются якобы от Имени Церкви.
Скажу примерно: в моей диссертации большинство смущается и будет смущаться вовсе не действительным смыслом книги, а
1) шрифтом,
2) языком,
3) терминами философскими.
Между тем почему я должен печататься именно таким–то шрифтом, говорить таким–то языком, употреблять термины такие–то, а не такие–то. Ни Господь, ни св. каноны церковные не требуют от меня ни шрифта, ни языка, ни терминологии философской. И вот я вижу (не в осуждение кому бы то ни было говорю), что люди, отрицающие не только положения православия, но и Самого Христа, прямо или косвенно, но соблюдающие при этом известный семинарский этикет, благополучны; а другие, нарушившие этикет или, точнее, живущие по этикету иной среды, хотя и искренно признают церковность, на каком–то подозрении.
Скажу о себе. Я имел возможность быть профессором по любимой мною математике; имел и другую возможность — заниматься богословием за границей (мой отец почти требовал этого и обиделся на меня за Академию). Если я отказался от всего этого и, избрав Академию, потратил на нее 10 лучших лет своей жизни и упорного труда — значит, я хотел именно православия и именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном Церкви и, кроме того, всегда, и по характеру, и по убеждению, старался искренно почитать всякую законную власть, даже когда она бывала не на высоте положения, — подчиняясь ей для Бога. Но если другие не понимают, то Вы–то, Владыко, понимаете разницу между послушанием и подхалимством. Конечно, ради общецерковной жизни иногда нельзя обо всем говорить, но нельзя же бессовестно лгать, потакая произволу отдельных лиц!» [1092].
{стр. 834}
Решающим в том, что из написанного следует подавать в качестве магистерской диссертации, послужило, вероятно, письмо Владыки Феодора от 28 января 1914 года, в котором он предлагал снять главу «София» и внести ряд поправок в главу «Дружба».
«Дорогой о. Павел!
С тяжелым сознанием причиняемого Вам затруднения, но руководствуясь исключительно желанием довести бессоблазненно дело до желаемого конца, должен, наконец, сказать Вам, что после многократного и внимательного прочтения нахожу необходимым выпустить из Вашего сочинения всю главу о Софии, тем более, что она вошла в полное издание Вашей книги и Вы еще хотите работать по этому вопросу. Скажу откровенно, что я имею некоторое основание думать, что даже пресвещеннейшие иерархи — члены Синода,— от которых можно было ожидать беспристрастия и широты воззрений, смотрят на вашу книгу косо. Нужно быть оч. осторожным. Безусловно нужно замазать типографской краской слова стр. 350 «имя Христово есть мистическая Церковь!» [1093]. На той же стр. Имя с большой буквы, а греч. текст <с> малой, лучше поставить с малой. Считаю неудобными места, вернее выражение: стр. 446 в приложении к Евангелию «безумно–ясно» и стихи: стр. 324. 362 [1094]. Могут смущаться наверно и таблицей 518, где касается половых органов, но и это еще не особенно важно. Вполне понимаю и технические трудности и не знаю, как облегчить; б<ыть> м<ожет>, прорыв страницы объяснить как опечатку, тем более что в продажу эта книга в исправленном виде не пойдет, а для нас это неважно. За исключением всего этого я вполне приемлю все, и мне хочется к мартовскому Совету дело окончить. Прошу сказать откровенно, если Вам это затруднительно, то я лучше устранюсь от рецензирования Вашей книги и передам дело другому, хотя бы Ф. К. Андрееву. С любовью Е< пископ > Феодор. 28.1.1914» [1095].
Отец Павел сначала принял все замечания Владыки Феодора, а затем сделал даже больше: из первоначально готовившейся к защите магистерской диссертации книги 1912—1913 годов были исключены главы: «София», «Дружба», «Ревность», а также все разъяснительные разделы (письмо «Геенна» не предполагалось для магистерской работы с самого начала). Таким образом возникла третья редакция книги «Столп и утверждение Истины», которая состояла из следующих частей: I. К читателю; II. Глава первая: Сомнение; III. Глава вторая: Триединство; IV. Глава третья: Свет Истины; V. Глава четвертая: Утешитель. VI. Глава пятая: Противоречие. VII. Глава шестая: Грех. VIII. Глава седьмая: {стр. 835} Тварь. Примечания и заметки. Экземпляры третьей редакции чрезвычайно редки (мне известен только один), но протоиерей Георгий Флоровский подтверждает, что «кроме общедоступного издания этой книги <т. е. «Столпа»>, было еще другое, сокращенное (только первые 8 глав, т. е. без глав о Софии) и под другим заголовком («О Духовной Истине»), не поступившее в продажу и приспособленное для представления в качестве диссертации» [1096].
28 марта 1914 года на Совете МДА были выслушаны отзывы епископа Феодора и проф. С. С. Глаголева о сочинении священника Павла Флоренского, представленном на соискание степени магистра богословия, и назначены официальные оппоненты.
Защита магистерской диссертации священника Павла Флоренского на собрании Совета МДА состоялась 19 мая 1914 года.
Официальными оппонентами были: ординарный профессор по кафедре основного богословия С. С. Глаголев и и. д. доцента Академии по кафедре систематической философии и логики Ф. К. Андреев. Третьим и последним оппонентом выступил Преосвященный Ректор Академии епископ Феодор. По окончании коллоквиума Преосвященный Ректор Академии, собрав голоса, объявил, что Совет единогласно признал защиту удовлетворительною, а магистрата — достойным утверждения в степени магистра богословия и должности доцента Академии [1097].
Магистерский диспут священника Павла Флоренского вызвал громадный интерес среди церковных кругов и общественности. Сообщение о диспуте было помещено даже в разделе «Провинциальная жизнь» газеты «Московские ведомости» [1098].
22 мая 1914 года было принято предложение ректора МДА епископа Феодора об избрании священника Павла Флоренского экстраординарным профессором со дня утверждения его Святейшим Синодом в ученой степени магистра богословия. 9 августа 1914 года архиепископ Антоний (Храповицкий), которому было поручено сделать отзыв о магистерской работе отца Павла для Святейшего Синода, направил из Петербурга телеграмму епископу Феодору: «Прочитал 136 страниц книги Флоренского. Можно дать одобрительный отзыв». Само утверждение Святейшего Синода последовало указом № 14292 27 августа того же года. 16 декабря 1914 года Совет МДА наградил священника Павла Флоренского премией митрополита Московского Филарета, а 10 марта 1915 года премией митрополита Московского Макария за магистерскую диссертацию «О Духовной Истине».
{стр. 836}
Пока решалась судьба магистерской диссертации Флоренского, в самом начале в 1914 г. в издательстве «Путь» был издан полный вариант книги «Столп и утверждение Истины», который является четвертой редакцией [1099]. В полную и наиболее известную редакцию книги вошло все то, что было разбросано по предыдущим трем редакциям: 1) письма «Два мира», «Грех», «Геенна», «София», «Дружба», «Ревность»; 2) «Разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными» (разделы XV–XXX); 3) «Примечания и мелкие заметки»; 4) «Разъяснение некоторых символов и рисунков». Кроме того, весь текст был расширен, особенно за счет лирических вступлений, и вновь отредактирован. Именно эта четвертая редакция, которая ныне публикуется, была принята самим Флоренским за окончательный вариант. Так, в ответном письме редактору «Богословской энциклопедии» H. Н. Глубоковскому Флоренский писал 20 октября 1917 г.: «О диссертации своей «О Духовной Истине» я хотел бы сказать лишь то, что ни в ней, ни где бы то ни было я, в угоду кому бы то ни было, не писал ни одной запятой. Но кое–чем существенно входящим в ткань книги моей пришлось поступиться, не потому чтобы я боялся Св. Синода, а потому, что я не был в нравственном праве требовать Синодальной санкции тем строкам своей книги, которые <ка>зались моему рецензенту недостойными таковой, и это пишу по чистой совести: я не позволю стеснять своей совести и своей мысли никому, но потому не хочу насиловать чужой совести и чужого разумения, хотя бы они и казались мне карикатурными. Итак, что же опущено в «О Духовной Истине» сравнительно со «Столпом и утверждением Истины»? Во–первых, лирические места. {стр. 837} В моем понимании эти места были не украшением, не виньетками в книге, а методологическими прологами соответственных глав. Удачны ли эти места, судить не мне. Но хотел я именно таких вступлений, подготовляющих читателя к пониманию догматических и философских построений. Далее опущен ряд глав–писем, представляющих собою философски–богословский τέλος [1100] книги. И это сделано не без боли. Что же касается до примечаний, то их сокращение обусловлено исключительно экономическими соображениями — ради дешевизны вторичного набора, и следовательно, эти сокращения, м<ожет> б<ыть>, и ущербны для материальной полноты книги, с стороны идейной не представляют важности и должны рассматриваться как άδιάφερον [1101].
Итак, если Вам угодно сделать мне честь изложением моих методов и воззрений, то желательно, чтобы таковое было на основании «Столпа», а не «О Духовной Истине». Но к сожалению у меня нет ни одного экземпляра «Столпа» и служить Вам таковым я не могу, а достанете ли Вы где его — не знаю».
Выход «Столпа» вызвал обширную полемику, не прекратившуюся даже ныне. Наиболее глубокая оценка его принадлежит, на наш взгляд, епископу Феодору, ректору Московской Духовной Академии, назвавшему «Столп» «православной теодицеей для людей рассудка» [1102].
Книга была встречена как явление исключительное, она символизировала начало обращения русской интеллигенции к Церкви в преддверии революции.
Игумен Андроник (Трубачев).
Так назывались в старину на Руси миллионы, при «малом числе», т. е. при первой системе счисления, или биллионы миллионов, т. е. 1018, при «великом числе», т. е. при второй системе счисления, употреблявшейся «коли прилучался великий счет и перечень».
См: В. В. Бобынин. — Очерки истории развития физико–математических знаний в России. Очерк третий («Физико–математические науки в настоящем и прошлом»), Т. I, 1885 г., № 3, стр. 229.
См. также: П. [А.] Флоренский, — О символах бесконечности («Новый Путь», 1904 г., сентябрь, стр. 191–192).
«Из старинных книг, хранящихся в Библиотеке Соловецкого монастыря, видно, что первая тьма означала количество, равняющееся 100 тысячам, 2 же тьмы — 200 тысячам и т. д.; первый легеон = миллиону, первый леард -= биллиону. Ворон когда–то означал триллион на Руси». П. Шейн. — Дополнения и заметки к Толковому Словарю Даля, стр. 45, Спб. 1873, «тьма» («Сборн. Отд. Рус. яз. и слов. Имп Акад. Наук», Т. X, № 8) со ссылкою на: Ф. Лехнер, — Беломорская вера («Вестн. Естествозн. Наук», 1855 г., № 12, стр. 807).
Что жизнь недоступна рассудку, — об этом рассуждали многие, особенно же настаивали на этом пункте у нас славянофилы, преимущественно A.C. Xомяков и И. В. Киреевсий, а из позднейших славянофилов — Д. A. Xомяков. Читатель, вероятно, не преминет заметить значительного сродства теоретических идей славянофильства с идеями предлагаемой книги. Но сверх–рассудочность духовной жизни, ζωή, о которой говорили славянофилы и на которой утверждается настоящая работа, не должна быть смешиваема с иррациональностью естественной жизни, как биологического явления, βίος. О недоступности такой жизни — βίος — формулам рассудка, т. е. о том, что «la vie deborde l'intelligence» в свое время настойчиво твердил Гёте, а в настоящее время особенно сильно и подробно говорят Анри Бергсон и Вильям Штерн. — См.:
Анри Бергсон. Материя и память. Исследование об отношении тела к духу. Пер. с франц. А. Баулер. Спб., 1911 г.
Анри Бергсон. Время и свобода воли (Essai sur les donnees immediates de la conscience). Перевод C. И. Гессена. С приложением статьи «Введение в метафизику». Перевод Маргариты Грюнвальд. Изд. журн. «Русская Мысль». М., 1910.
Henry Bergson. — L'evolution creatrice. Paris, 1907. — русский перевод этой книги:
Анри Бергсон. — Творческая эволюция. Перевод с 3–го французского издания М. Булгакова. М., 1909 (перевод далеко не удовлетворителен). — О Бергсоне см.:
Ю. Кронер, — Философия творческой эволюции (А. Бергсон), (в ежегоднике «Логос», русское издание, книга первая, М., 1910, стр. 86–117).
Б. Н. Бобынин. — Философия Бергсона. («Вопросы филос. и психол.», т. XXII (1911), кн. 108 (III) май–июнь, и кн. 109 (IV).
H. Prager. — Henri Bergsons metaphysische Grundanschauung («Archiv für systematische Philosophie», Bd. 16, Hit. 3, 1911).
Ле–Дантек, — Познание и сознание. Пер. Базарова. СПб., 1911.
William Stern, — Person und Sache. Bd. I. Lpz., 1906.
B. Штерн, — О психологии индивидуальных различий. Сущность, задачи и методы дифференциальной психологии. («Вестник Психологии, Криминологии, Антропологии и Гипнотизма», 1905, № 7, стр. 217–241). — О Штерне см.:
C. А. Франк, — Личность и вещь. (Философское обоснование витализма)· (В сборнике: С. А. Франк. — Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. Спб. 1910, стр. 164–217).
Для ознакомления со взглядами Гёте, кроме собраний его сочинений (особенно Штутгардтско–Тюбингенское издание 1840–го года), см.:
Мах Heynacher, — Goethes Philosophie aus seinen Werken, Lpz., 428 SS. (Тут, во второй части, на стр. 111–417, собраны наиболее важные отрывки из прозаических сочинений Гёте характеризующие Гетевское жизнепонимание).
H. Siebеck. — Goethe als Denker, 2–te Auflage, 1905. 247 SS.
Ch. Sсhrempf, — Goethes Lebensanschauung in ihrer geschiehtliehen Entwicklung, l–te Theil, 1905; 2–te Theil, 1906.
Бельтовский, — Гёте, его жизнь и произведения, под ред. Вейнберга; 2 тома, 1904–1908 г.
Льюис, — Жизнь Вольфг. Гёте, пер. под ред. Неведомского. 1867. 2 части.
Еврипид, — Медея. Действие III, явление 10–е, в словах корифея («Театр Еврипида», перев. И. Ф. Анненского, Т. I, Спб. [1907], стр. 177). — Истина. — по определению Николая Кузанского — «intelligibilitas omnis intelligibilis», т. e. «постижимость всего постижимого», «умность всего умного», «разум всего разумного» (Nicolaus de Cusa, — Opera, Basil., 1565, Т. I, р. 89b). — А, по бл. Августину, Бог есть перво–истина, «stabilis Veritas — устойчивая, недвижимая Истина» (бл. Августин, — исповед, 11, 10. — Migne, — Patrol. ser. lat. prima, T. 37; ср. О Троичности, 8. — Migne, — id., Т. 42 coll. 948–950).
В Μф. 11 представлен контраст между познанием, так сказать, трудовым и познанием духовным. Иоанн Креститель сопоставляется с народом; он, величайший из людей, всеми своими подвигами не может занять в Царстве Небесном даже наинизшего места; а народу даются знамения, которые не только указуют путь в Царство, но чуть ни понуждают идти по нему. И, если, несмотря на неблагоприятные условия, Иоанн Креститель все же верит в Иисуса Христа, а народ остается в неверии, т. е. если, другими словами, у Иоанна Крестителя все–таки есть духовное прозрение, а народ слепотствует, то это служит к вящшему осуждению слепцов духовных. Схематически эту параллель можно представить так:
Иоанн Креститель:
Народ (города апостолов):
Только услыхал о делах Христовых,
Самолично видел много силы,
И уже почувствовал что–то, спешит осведомиться.
но остается безчувственным и не кается.
Лишь вопрошает, готовый к вере.
Прямо не верит, несмотря на очевидность.
Иоанн — воздержанник, живет в пустыне, не колеблется, куда его склоняют страсти, ходит не в мягких одеждах.
Народ — во всем получает удовлетворение, и ничем не доволен.
Он — величайший из людей.
Он набаловался и ничем не доволен.
И все же, он — менее того, чем может быть каждый из народа, самый ничтожный.
И все же каждый из этих слепцов, если прозреет, будет более Иоанна, величайшего.
Так трудно было до Христа.
Так легко стало со Христом.
Вл. С. Соловьев. — Критика отвлеченных начал [1878–1880], XLII (Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева Т. II, Спб. стр., 282). — «На вопрос Что есть истина, мы отвечаем: 1) Истина есть сущее или то, что есть; но мы говорим «есть» обо многих вещах; но многие вещи сами по себе не могут быть истиной, потому что… Итак, сущее 2) как истина не есть многое, а есть единое…. Единое как истина не может иметь многое вне себя, т. е оно не может быть чисто отрицательным единством, а должно быть единством положительным, т. е. оно должно иметь многое не вне себя, а в себе или быть единством многого; а так как многое содержимое единством или многое в одном есть все, то, следовательно, положительное или истинное единое есть единое, содержащее в себе всё или существующее как единство всего. Итак, 3) истинно сущее, будучи единым вместе с тем и тем самым есть и всё, точнее содержит в себе всё, или истинно сущее есть всеединое. — Таким образом полное определение истины выражается в трех предикатах: сущее, единое, всё….
Истина есть сущее всеединое. Иначе мы не можем мыслить истину; если бы мы отняли один из этих трех предикатов, мы уничтожили бы тем самое понятие истины. Мы можем мыслить Истину только как сущее всеединое, и когда говорим об истине, то мы говорим именно об этом, о сущем всеедином …» и т. д., и т. д. (id., id. стр. 281–282). — «Всеединая идея должна быть собственным определением единичного центрального существа» (Вл. С. Соловьев, — Чтение о Богочеловечестве [1877–1881], Чтение V. Собрание сочинении Т. III, Спб., стр. 64). — «Истина очевидно в том, что Божественное начало не есть только единое, но и всё, не есть только индивидуальное, но и всеобъемлющее существо, не только сущий, но и сущность» (id., id. стр. 67). — «Сущее как такое или абсолютное первоначало есть то, что имеет в себе положительную силу бытия, а так как обладающий первее или выше обладаемого, то абсолютное первоначало точнее должно быть названо сверхсущим или даже сверхмогущим. — Очевидно, что это первоначало само по себе совершенное единично; оно не может представлять ни частной множественности ни единичной общности» (Вл. С. С оловьев, — Философские начала цельного знания [1877 г.], III. — Собрание сочинений, T. I, Спб., стр. 307). «По смыслу слова, абсолютное (absolutum от absolvere) значит во 1–х отрешенное от чего–нибудь, освобожденное, и во–вторых — завершенное, законченное, полное, всецелое…. В первом [значении] оно определяется как свободное от всего, как безусловно единое; во втором значении оно определяется… как обладающее всем… Оба значения вместе определяют абсолютное, как έν και παν» (id., IV, id. стр. 318). — «Единство единству рознь. Есть единство отрицательное отъединенное и бесплодное, ограничивающееся исключением всякой множественности. Оно представляет простое отрицание [и] может быть обозначено, как дурное единство.
Но есть единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее её, но, в спокойном обладании присущим ему превосходством, господствующее над своей противоположностью и подчиняющее ее своим законам. Дурное единство есть пустота и небытие: истинное есть бытие единое, все в себе заключающее. Это положительное и плодотворное единство, возвышаясь над всякой ограниченной и множественной действительностью, непрестанно пребывает тем, что оно есть, и содержит в себе, определяет и, обнаруживает живые силы, единообразные причины и многообразные качества всего существующего. Исповеданием этого совершенного единства, производящего и обнимающего все, и начинается символ веры христианской: во единого Бога Отца Вседержителя (παντοκράτορα)… Истина едина и одна в том смысл, что не может быть двух истин безусловно независимых одна от другой, а тем более противоположенных одна другой. Но именно в силу этого единства, единая существующая истина, не допуская в себе никакого ограничения, произвола и исключительности, не может быть частичной и односторонней, а потому должна заключать основания всего существующего в логической систем, должна довлеть для объяснения всего». (Владимир Соловьев, — Россия и вселенская Церковь [1889]. Перевод с французского Г. А. Рачинского. Книга третья, глава первая. Издание «Путь», М., 1911, стр. 303–305).
Эти, почти наудачу приведенные, выдержки, из разных сочинений Вл. С. Соловьева, показывают, сколь прочно было в нем понимание истины, как «всеединого сущего». Несомненно, что бо́льшая часть его произведений посвящена ничему иному, как всестороннему раскрытию этого понятия о всеединстве. Но мы, употребив в текст и определение Соловьева, должны оговориться, что берем его лишь формально, вовсе не вкладывая в него Соловьевского истолкования; доказательство тому — все наше сочинение, стоящее по духу антиномичности против примирительной философии Вл. Соловьева.
Часть библиографических указаний относительно Вл. С. Соловьева читатель может найти в сборнике «О Влад. Соловьеве», «Путь», М., 1911.
Дополнения и поправки к этому указателю см. в библиографической заметке:
Г. В. Флоровский, — Новые книги о Владимире Соловьеве («известия Одесского Библиографического Общества», вып. 7–й = отд. оттиск, Одесса, 1912 г.). — Но, в свою очередь, эти дополнения нуждаются в новых дополнениях. Так, например, среди них отсутствует книга:
Michel d'Hеrbignу, — Un Newman Russe. Vladimir Soloviev. Paris, 1911. Publication de la Bibliotheque Slave de Bruxelles. Serie A). Ha pp. XIV–XVI интересная для русских библиография, по преимуществу иностранных трудов, о Вл. С. Соловьеве.
«Ego autem dico, quod — potest accipi veritas non pro illa adaеquatione aut conformitate, quam importat actus intelligendi ad rem in esse cognito vel cognoscibili ibi praecise sistendo, sed pro illa adaеquatione, quam ipsa res insuo esse cognito importat ad se ipsum in sua reali existentia extra, — sic intelligendo, quod veritas formaliter est ipsa rectitudo aut conformitas, quam ipsa res ut intellecta importat ad se ipsam in rerum natura extra».
(Commentaria Gratidei Esculiani ordinis praedicatoi um in totam artem veterem Aristotilem [sic]. Venet. 1493, 1, Dist. 19, qu. 1 f. CXXVII r. В. [Цитата — из: Carl Prantl, — Geschichte der Logik im Abend· lande, Dritter Bd., Lpz 1867, S. 318, прим. 691]).
H. В. Горяев, — Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896. Стр. 124.
Вл. И. Даль, — Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3–е, под ред. И. A. Бодуэна–де–Куртена, СПб. и М., 1904, Т. II, столб. 140 (в 1–м изд. стр. 673).
Franz Мiк1оsiсh, — Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, S. 105.
[Стан. Пав.] Микуцки й, — Материалы для корневого и объяснительного словаря русского языка и всех славянских наречий. Вып. I. Варшава, 1880, стр. 47, 13.
Феодор Шимкевич, — Корнеслов русского языка. сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранньми языками. Часть первая.СПО. 1842, стр. 91.
Купец Архангелогородский А. Фомин, — Роспись слов и речений, из остатков древнего российского языка в Двинской стране собранных и по нынешнему образованию изъясненных («Новые Ежемесячные Сочинения», 1787 г., XI, май, стр. 83–84. — Перепечатано в «Живой Старине», год 10, вып. III, 1900, Смесь, стр. 448). — См. также Мiк1оsiсh, — id., S. 105, «jes-», ist, istov, istovbn — qui verus est, verus.
Georg Curtiгs, — Grundzüge der griechischen Etymologie. Vierter Auflage, Lpz., 1873, S. 373, № 564.
Walther Pre11witz, — Wörterbuch der Griechischen Sprache. Göttingen, 1892, S. 85.
Е. Воisасq. — Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Heidelberg–Paris, 1909, pp. 226–227.
Н. В. Горяев, — id., [6] стр. 104.
Georg Curtius, — Grundzüge der griechischen Etymologie [12], SS. 378–379, № 564.
Также — и Д. Н. Овсяннико–Куликовский, — Очерки науки о языке («Русская Мысль», 1896, XII, отд. 2–е, стр. 21).
E. Rеnаn — l'Origine du language, 4–те ed., р. 129; рус. перев., Ренан, — Происхождение языка (в «Собрании сочинений» его. под ред. Михайлова, Т. VI), стр. 43.
Такое же объяснеше давал этим словам уже Гезений (Gv. Cesenius. — Thesaurus philologicus criticus lingvae hebraeae et chaldaeae veteris Testamenti. Lipsiae 1835, T. 12, p. 370: ﬣךﬣ; pp. 372–375: ﬣךﬣ; и 362–363 הול). — Гезений полагает, что начальнье звуки глагола הול, равно, как и הול., а именно אב ,חב ,או ,הו ,הב заключают звуко–подражание дыханию, почему и можно установить параллелизм семитских корней с некоторыми индо–европейскими (подробности см. У Гезения, — id., р. 303). Замечательно, что этот корень дыхания получает также значение воздыхания, желания и любви.
Об этом общем характере русской философии см.:
И. В. Киреевский, — Полное собрание сочинений, под ред. М. Гершензона. Изд. "Путь". М., 1911.
А–ей И. Введенский, — О задачах современной философии, в связи с вопросом о возможности и направлении философии самобытно–русской. («Вопросы фил. и психол.», XX, стр. 125–157).
Вл. Ф. Эрн, — Нечто о Логосе, русской философии и научности. (Вл. Эрн, — борьба за Логос. М. 1911. Стр. 72–119).
Мысль о возможности и необходимости в России самобытной философии была высказана впервые едва ли не В. Н. Карповым, в его «Введении в философию» (1840 г., стр. 117–120). (Цит. заимствую).
Впрочем, не входя в подробности, достаточно припомнить имена хотя бы Гр. С. Сковороды, гр. М. М. Сперанского, Η. Ф. Федорова, Вл. С. Соловьева, архим. Серапиона Машкина, кн. С. Н. Трубецкого, А. А. Козлова, и. В. Кирьевского, А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, прот. Ф. А. Голубинского, В. Д. Кудрявцева, архиеп. Иннокентия Борисова, С. С. Гогоцкого, О. М. Новицкого, В. Н. Карпова, гр. Л. H. Толстого, П. Д. Юркевича, архиеп. Никанора, H. Н. Страхова, и т. д., и т. д., чтобы убедиться в коренном онтологизме русской философии, и притом, у большинства, в онтологизме теистическом.
На почве этой особенности, онтологизма, возникает у русских мыслителей тяготение к реализации своих идей, жажда осуществления высшей правды. Эта характерная черта подмечалась даже людьми весьма нечуткими к религиозному духу нашей философии. Так, по и. Мечникову, перенесение западных идей на русскую почву совершается с неизбежным субъективным оттенком, «выражающимся главным образом в стремлении провести теоретические принципы на практике» («Вестник Европы», 1891, сентября стр 928).
О русской философии, из числа сочинений общего содержания, упомянем. (см. также [2] к стр. 5):
Архим. Гавриил, — История философии, Казань, 1839, Т. 6.
Ибервег–Гейнце. — История новой философии, пер. Я. Колубовского. СПб., 1890.
А–р. Введенский, — Философские очерки, СПб., 1901. «Судьба русской философии». (= «Вопр. филос. и псих.» XLII).
Е. Бобров, — Философия в России. Материалы, исследования и заметки. Казань, 1900.
Е. Бобров, — Литература и просвещение России XIX в. Казань, 1902.
Я. Н. Колубовский, — Материалы для истории философии в России. («Вопр. филос. и псих.», кнн. IV, V, VI, VII, VIII, XLIV).
М. [М.] Филиппов, — Судьба русской философии («Русское Богатство», 1894, январь).
В. В. Розанов, — Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии. («Вопр. филос. и псих.», III, стр. 1–36.» В. Розанов, — Природа и история. Изд. 2–е, СПб., 1902.
Ossip–Lourie. — La philosophie russe contemporaine. 2–е ed., Paris, 1905. (Bibliotheque de philosophie contemporaine).
А. В. Даниловский, — история преподавания философских наук в духовно–учебных заведениях России. 1912 (рукописный труд, хранящийся в Архив Моск. Дух. Акад.).
Э. А. Радлов, — Bericht über die Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie in Russland (Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. III, 1890).
Э. A. Радлов, — Очерк истории русской философии (в «Общая история философии», Т. II, СПб., 1912).
W. Prellwitz, — Etymologisches Wörterbuch der Griechisehen Sprache. Göttingen, 1892, S. 181: λήθω, λήθαργος: S. 14 αληθής.
E. Boisacq. — Dictionnaire etymologique de la langue Grecque. Heidelberg–Paris, 1907, 1–e livraison, p. 43: αληθής.
H. Cremer. — Biblisch–theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität, 8–te Auflage, Gotha 1895, SS. 109 ff.
Rud. Hirzel, — Rede gehalten zur Feier der akademischen Preisverteilung am 24. Juni 1905. Jena. 1905. Тема её — «Was die Wahrheit war für die Griechen?». 24 SS. Особенно см. §§, 8, 15.
Сurtius, — id., [12] S. 574. — По этимологии vereor см.:
Alois Vаnicеk. — Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. Lpz., 1874, pp. 153–154.
А–др Суворов, — Vocabularium etymologicum linguae Latinae. Латинско–русский словарь, расположенный по корням. Варшава, 1908, стр. 663–664.
Curtius, — id. [12]. SS. 99, 349, 574.
Al. Wald e, — Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2–e umgearbeitete Auflage. Heidelberg, 1910. (Indogermanische Bibliothek, 1, и, 1), S. 820.
R. Hirzei, — id. [17], SS. 57–58.
Относительно того, что слово понималось в древности и понимается по сию пору народом как некоторая мистическая реальность, и, в частности, что смысл речения «είς όνομα» в Священном Писании — мистический и метафизический, а вовсе я е номиналистический, не вербальный, — доказательства см. в исследованиях:
Julius Воеhmer, — Das biblische «Im Namen». Eine sprachwissen–schaftliche Untersuchung über das hebräische und seine griechisehe Äquivalente (in besonderen Hinblick auf den Taufbefehl. Math. 28, 19). Giessen, 1898.
Wilh. Heitmuller, — «Im Namen Jesu». Eine sprach- und religion–geschichtliche Untersuchung zum Neuen Testament, speziell zur altchristlishen Taufe. Göttingen, 1903.
W. Brandt, — 'Ονομα en de doopsformule in het nieuwe testаment, Theolog. Tijdschrift, 1891, pp. 565–610. — Мне известно лишь в изложении.
В. Jacob (Babbiner), — Im Namen Gottes. Eine sprachliche und religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten und Neuen Testament. Berlin, 1903.
Fr. Giesebrecht, — Die alttestamentliche Schätzung des Gottes–namens und ihre religionsgeschichtliche Grundlage. Königsberg, 1901. Тут же даются извлечения из работ Ниропа, Адриана и Кpелля, практически почти недоступных для читателя вследствие того, что он помещены в мало–распространенных изданиях; кроме того, на стр. 45–54 вкратце излагаются (с указанием источников) ономатологические теории Густава (Заура, Герм. Шульца, Рима, Дилльмана, Кремера, Штаде, Сменда, Виттихена и Бёмера.
J. Buxtorfius. — Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum… Denuo edidit et annotatis auxit Bernardus Fischerus. Lipsiae 1859. 2 vols. שם, pp. 1204–1214, особенно примеч. Фишера.
Em. Ferriere. — Paganisme des Hebreux jusqu’a la captivite de Babylone. Paris, 1884, pp. 133–161.
П. Флоpeнский, — Священное переименование. 1907 (суммирующая работа; готовится к печати).
П. Флоренский. — Общечеловеческие корни идеализма. Сергиев Посад, 1909 (= «Богословский Вестник», 1909, №№ 2 и 3).
Остальной, более дробной литературы, как указываемой в уже упомянутой работ о «священном переименовании», приводить не стану. (См. также [746]).
Теренций, — Девушка с о–ва Андроса (Andria), I, 1, v. 41: «Obsequium amicos, veritas odium parit». (P. Terentii Afri Соmoediae ex rec. Bentleii, nova editio stereotipa, Lipsiae 1829, p. 29) в издании с примечаниями Иоанна Минеллия, Lpz, 1738, р. 64, интересующий нас стих — 40–й). — Комедия Теренция была поставлена на римской сцене в период времени с 166 по 160 гг. до Р. Х., умер же Теренций в 159 году. Похвалу Теренцию читаем у Цицерона и потому весьма вероятным должно признать, что он заимствовал слово «veritas» именно от названного автора.
См: Н. Merguet, — Lexicon zu den Reden des Cicero mit Angange sämmtlicher Stellen. Bd. IV, Jena: 1884. SS. 856–857. Тут приводится приблизительно всего 64 случая словоупотребления veritas.
Carolus du Fresne, Dominus du Cange. — Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis. Editio nova. Т. VI, Parisiis, 1736, coli. 1492–1493.
Guilielmus Gesenius, — Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteris Testamenti. Editio altera. Lipsiae, 1829. Т. I 1, pp. 113–114, 114–118.
Wilhelm Gesenius, — Hebräisches und Aramäisches Handwörter–buch über das Alte Testament, in Verbindung mit A. Socin und H. Zimmern bearbeitet von Frants Buhl. 12–te Aufl. Lpz. 1895. S. 51, 55.
Подробности относительно употребления слова «аминь» в Ветхом и Новом Завет, в богослужении, в надписях и в папирусах и о таинственном сигле см. в стать Ф. Каброля «Amen» (Dictionnaire d’Archeologie chretienne et de Liturgie publie par Le R. P. dom Fernand Сabrо1, T. I, 1, Paris, 1907, coll. 1554–1573). Тут же (coll. 1573) даются и библиографические сведения. — По мнению, высказанному Луи Г инзбергом, слово «аминь», — быть может, наиболее распространенное в человечестве, ибо оно принадлежит одновременно евреям, христианам и мусульманам (id. col. 1554). Сигл же есть ничто иное, как число 99, т. е. число слова «αμην» или amen. В самом деле (id. coll. 1571–1572):
аμηv = 1+40+8+50=99,
amen = 1+40+8+50=99.
Слово «аминь», употребяемое как утверждение известного, только что высказанного содержания мысли, указывает на веру в силу слова, в творчество словом, в реальность слова [20]. Подобное же «аминь» значение обнаруживают заключительные формулы заговоров, с тою только разницею, что здесь непреложность словесного творчества характеризуются образно и во многих словах. Вот несколько примеров этого заговорного «аминя»: «Слово мое крепко!»; «Слово мое не прейдет во век!»; «Будете слова мои крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча–самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!»; «Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и замыкается.., и ничем — ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкается». «Тем моим словам губы да зубы — замок, язык мой — ключ; и брошу я ключ в море, останься замок мой в рот»; «Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине — на рыбе–ките, и никому эту кит–рыбу не добыть и замок не отпереть окроме меня; а кто эту рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое молнией» и т. п. (А. Афанасьев, — Поэтические воззрения славян на природу, М., 1865, Т. I., стр. 420–423). О заговорах наиболее подробные, друг друга дополняющие исследования: А. Н. Майков, — Великорусские заклинания. (Сборник). («Записки импер. Русс, географич. об–ства — по определению этнографии», T. II, СПб., 1869)
А. [В.] Ветухов, — Заговоры, заклинания, о́береги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова. (из истории мысли). Варшава, 1907. Вып. I–II, 522+VII стр. — Тут же — обширный библиографический указатель о заговорах, впрочем, нуждающийся в кое–каких дополнениях.
Моисей Базилевский, — Влияние монотеизма на развитие знаний. Киев, 1883, ч. III, гл. I, стр. 168, прим. 2.
Не могу не выразить своей радости, что бо́льшую часть мыслей письма второго и, отчасти, третьего с четвертым я могу опереть на авторитет † архимандрита Серапиона (Машкина́). В излагаемом тут виде очень многие идеи взяты из его рукописей, но какие именно — пусть читатель, интересующийся вопросами идейной собственности, сам определит, когда появятся в свет подлинные сочинения о. Серапиона. Что же до меня, то мысли покойного философа и мои оказались настолько сродными и срастающимися друг с другом, что я уже не знаю, где кончается «серапионовское», где начинается «мое», тем более, что общность наших отправных точек и знаний неизбежно вызывала однородность и дальнейших выводов.
Интерес к системе, которая начиналась бы с абсолютного скепсиса и, охватив все основные вопросы человечества, заканчивалась бы программой общественной деятельности, до самой смерти о. Серапиона властно сковал его внимание. В результате упорной и смелой работы мысли явилась в высокой степени оригинальная система, которую покойный философ несколько раз брался изложить письменно. Где–то в своих бумагах он поминает, как, еще в детстве, его влекли основные вопросы о происхождении мира, о Боге и т. п., и что тогда уже он пытался выразить на бумаге свои решения их. Первою серьёзною попыткою можно считать кандидатское сочинение о. Серапиона, относящееся к 1890–92 годам; тогда о. Серапиону было 39–41 год. Второю грандиозною попыткою было сочинение, поданное на магистра и помеченное 1900–м годом, — временем настоятельства о. Серапиона в Знаменском монастыре. Эта редакция в разных местах носит разные заглавия. На обкладке её значится:
«Архимандрит Серапион (Машкин). Опыт системы Христианской Философии».
Это заглавие зачеркнуто, и над ним надписано:
«Опыт системы учения и Дела Иисуса Христа (Христианская Философия)».
Первоначальное заглавие повторяется и на первой страниц с эпиграфом: «измерил он город тростью, — мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр. 21 16, 17).
Как сказано, сочинение в этой редакции было подано на степень магистра в Московскую Духовную Академию. Проф Алексей Ив. Введенский, просматривавший его, вернул обратно с предложением внести поправки, — исправить частью чисто внешние недочеты изложения, как–то длинноты, повторения, неясности, частью же — и по существу. О. Серапион начал перерабатывать свое сочинение и многочисленными перечеркиваниями, надписаниями, восстановлениями старого текста, приписками и вставками целых тетрадей чрезвычайно затруднил чтение рукописи. Но он почему–то так и не подал снова этой редакции на степень магистра, а стал излагать свою систему совсем заново, по новому плану и под новым заглавием;
«(монах) Завулон Машкин. Система Философии. 1904». И, на следующей странице,
«Архимандрит Серапион Машкин. Система Философии: Опыт научного синтеза. В двух частях, 1903–1904». Эта последняя редакция отличается большою сжатостью и, порою, даже изяществом изложения — тем своеобразным изяществом строгости, с каким написаны «Этика» Спинозы или три «Критики» Канта. Изложенная more geometrico, гораздо более отвлеченная, чем предыдущая редакция, эта последняя редакция требует от читателя непрестанной напряженности мысли, и эта напряженность повышается от множества символических формул, подобных математическим, концентрированно воплощающих в себе целые метафизические теории и образующих базис для дальнейших умозрений. К сожалению, однако, эта 2–я редакция окончательно написана не вся, и 2–я часть её осталась в виде отдельных фрагментов или даже просто едва читаемых, по неразборчивости почерка, набросков. Таким образом, является большое сомнение, возможно ли восстановить эту 2–ую часть 2–й редакции.
Оптиной пустыни достались после смерти о. Серапиона все его бумаги, среди которых имеются два последних изложения его системы, черновики писем и кое–какие отдельные заметки но в очень небольшом числе. Имеются также многочисленные предварительные наброски, заметки и фрагменты окончательно отделанного сочинения у родственников покойного о. Архимандрита, Машкины́х. Наиболее ценное автор настоящей книги имеет в виду опубликовать, но и внешние условия издательства, и обработка текста для печати представляют не малые затруднения. До того же времени я надеюсь выпустить в свет монографию об о. Серапионе, т. е. систематическое изложение его воззрений и его биографию. Впрочем, такая монография и необходима, потому что непосредственное чтение сочинений о. Серапиона едва ли окажется под силу многим из тех, кто мог бы живо заинтересоваться его взглядами.
В заключение мне хотелось бы указать что–нибудь из литературы об о. Серапионе, но вся она, к сожалению, ограничивается небольшой статьей моей «К почести вышнего звания», помещенной в 1–м выпуске «Вопросов pелигии» (М, 1906 г, стр. 143–173). Должен, однако, предупредить читателя, что она написана до того времени, когда автор мог более основательно вникнуть в жизнь и личность о. Серапиона, и потому многое в характеристике о. Серапиона теперь было бы представлено иначе.
Формальная логика, основанная Аристотелем, начинает, как известно, с понятий, и из них построены, далее, суждения. Напротив, гносеологическая логика, особенно в трудах Г. Риккерта, начинает с суждений и, при помощи них, устанавливает понятия (Г. Риккeрт, — Введение в трансцендентальную философию. Предметы познания. Пер. Шпетта. 1904. Г. Риккерт, — Границы естественно–научного образования понятий. Пер. Водена. СПб., 1903). В первом случае понятия — первичные элементы, а суждения — вторичные; во втором — наоборот, но и та и другая логика сходятся между собою в монистическом понимании логических элементов. Символическая же логика, основываясь на соотносительности и неразделимости суждений и понятий, существенно дуалистична. Как дается понятие? — Чрез суждение. Как дается суждение? — из понятий. Следовательно, не бывает ни суждений без понятий, ни понятий — без суждений; те и другие полярно–сопряжены. Понятия и суждения суть такие элементы мышления, которые, будучи всегда вместе, различаются не безотносительно, а лишь соотносительно, и, вне своего соотношения, они не могут быть рассматриваемы как различные. Отсюда вытекает весьма интересное следствие: Когда мы устанавливаем то или иное формальное соотношение понятий и суждений, то, подставляя в соотношении на место первых последние и на место последних — первые, мы опять получим истинное соотношение, которое будет теоремою, двойственно–сопряженною с первою. И, значит, при алгорифмических выкладках нам нет ни малейшей надобности знать, имеем ли мы дело с суждениями, или с понятиями; полученная формула будет равно справедлива и при той, и при другой интерпретации, так что каждая формула представляет собою две теоремы, — одну из исчисления классов, а другую — из исчисления предложений. Об этом см.:
L. Conturat, — L’Algebre de la Logique, 1905, § 2, pp. 3–4 и рус. пер.: A. Кутюра, — Алгебра Логики, пер. с добавлением проф. П. Слешинского, Одесса, 1909, § 2, стр. 2–3, и приложение I–е, стр. I–IV. — Дальнейшие указания — в [211].
Ввиду сказанного, наиболее основательно было бы не ограничивать себя выбором того или другого основного термина, как это сделано нами в текст, но писать просто символ, без интерпретации его. Однако, эта, самая безопасная позиция, сделала бы язык нашего сочинения столь варварским и чтение книги столь затруднительным, что мы оказались бы вынужденными выйти из равновесия и отдать предпочтение либо той, либо другой интерпретации. На логико–алгебраический алгорифм мы посмотрели под углом зрения именно гносеологической логики, т. е. сочли, — по крайней мере на словах, — основным актом познания — суждения. Но, хотя этим размах мысли и сужен вдвое, однако мысль от того не делается неверною и всегда может быть восполнена «переводом» текста на язык формальной логики. В сущности говоря, текст следовало бы печатать сразу на языках обеих логик, в два столбца, но это хлопотливое новшество было бы и утомительным и мало целесообразным, хотя иногда и применяется в алгебре логики.
Этот принцип познания, в различных формулировках, единодушно высказывался мистиками всех времен и всех стран, при чем мною имеется в виду, конечно, мистика естественная, без- или вне–благодатная. Индусская философия вообще и, в особенности, система йоги; неоплатонизм; персидская мистика; современная теософия и другие оккультические течения; бесчисленные мистические течения на почве христианства; наконец, философия разных направлений, и, в частности, новейшая, например, мистический интуитивизм и т. д., и т. д. — все они, более или менее ясно, высказываются именно в таком смысле.
Укажем кое–какие книги для ознакомления с общим характером мистического познавания; впрочем, литературы по суфизму, по неоплатонизму и др. течениям, кроме индусской мистики, приводить не будем, как по её специальности, так и имея в виду кое–что из неё указать в других местах.
В. Джемс, — Многообразие религиозного Опыта. Пер. с англ. Вып. V. Малахиевой–Мирович и М. В. Шике под ред. С. В. Лурье. М., 1900.
Г. Геффдинг, — Философия религии. СПб., 1903.
Вл. С. Соловьев, — Критика отвлеченных начал, XL–XLVI. («Собрание сочинений», Т. 2); Философские начала цельного знания (id., Т. I), многие статьи из «Энциклопедического Словаря» Брокгауза и Эфрона, (id., Т. 9) и др.
П. Д. Успенский, — Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. СПб., 1911.
М. В. Лодыженский, — Сверхсознание и пути к его достижению. Индусская раджа–иога и христианское подвижничество. СПб., 1911.
П. М. Минин, — Мистицизм и его природа («Богословский Вестник», г. 20–й, 1911 г., апрель, стр. 795–817 и май — стр. 85–112).
П. М. Минин, — Главные направления церковной мистики (id., г. 20, 1911, декабрь, стр. 823–838 и далее).
И. Лапшин, — Мистическое познание и вселенское чувство («Сборн. статей, посвящ. почитателями акад. И засл. проф. В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности, СПб., 1907, Т. I, стр. 549–641, и отд. Изд.).
Ф. Степпун, — Трагедия мистического сознания («Логос», 1911–12, кнн. 2–3, стр. 115–140).
Delacroix, — Etudes d’histoire et de psychologie du mysticisme, Les grands mystiques chretiens. Paris, 1908
Leuba, — Les tendences fondamentales des mystiques chretiens («Revue Philosophique», T. 44, 1902).
Recejас, — Essai sur les fondaments de la connaissance mystique, Paris, 1897.
Murisier, — Les maladies du sentiment religieux, Paris, 1901.
Ekstatische Konfessionen gesammelt von Martin Buber. Jena, 1909.
А. Godfernaux, — Sur la psychologie du mysticisme («Revue Philosophique», 1902, Fervier).
Воutrоux, — Le mysticisme («Bulletin de l’Institut general psycho–logique», 1902, Janvier–Fivrier).
J. v. Görres, — Die christliche Mystik. Regensburg, 1836–1842 Bde.
Garо, — Essai sur le Mysticisme au XVII siecle.
Pаulhan. — Le nouveau mysticisme («Revue Philosophique, 1890 № 11).
А. A. Козлов, — Очерки из истории философии. Понятие философии и истории философии. Философия восточная. Киев, 1887.
М. Мюллер, — Шесть систем индейской философии. Пер. с англ. И. Николаева, М., 1901.
Архим. Хрисанф (Ретивцев), — Религии древнего мира в их отношении к христианству. СПб., 1873–1876. 3 Т. Pамачарака, — Хатха–Йога. Пер. под ред. В. Силина. СПб., 1909.
«Свет на пути». Пер. И. Батюшкова. («Свободная Совесть», кн. I–ая, М., 1906, стр. 140–152); тоже — пер. Е. П., изд. «Посредннкь».
Е. П. Блаватская, — Голос безмолвия. Пер. с англ. Е. П. Калуга.
Брамана Чаттерджи, — Сокровенная религиозная философия Индии. Пер. с 3–го фр. изд. Е. П. Калуга, 1906.
«Основы упанишад» (Дух упанишад). Изд. «Магнитизм Личности».
Ал–ей [И.] Введенский, — религиозное сознание язычества. Т. I, М., 1902.
Седир, — Факиризм в Индии или школа упражнений для развития психических способностей. Пер. А. В. Трояновского. СПб. 1908.
Беттани и Дуглас, — Великие религии Востока. Пер с англ. Л. Б. Хавкиной. М., 1899, приложены библиограф. и предметн. указатели.
Rieh. Sсhmidt, — Fakire und Fakirtum in alten und modernen Indien. Berlin., 1908, с 87 цветными рис., представляющими различные положения тела при мистическом созерцании.
H. Campbell Oman, — The Mystics, Ascetics and Saints of India. London, 1905. XV+291 pp. — Отчет об этой книге см. в «Revue de l'histoire des religions», 1906, № 3 (159), p. 425.
Paul Deussen, — Allgemeine Geschichte der Philosophie. Bd. I. Lpz., 1824.
C. J. H. Windischmann, — Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte. Erster Theil. Die Grundlagen der Philosophie im Morgenland. Bonn, 1827.
A. Барт, — религии Индии. M., 1397. — Тут же указана литература.
Суоми Вивеканда, — Философия Йога. Лекции читанные в Нью–Йорке зимою 1895–1896 г. о Раджа Йоге. Пер. с англ. Попова, Сосница, 1096.
Журнал «Вестник Теософии»; сборники«Вопросы Теософии».
А. Безант, — Древняя мудрость. Пер. Е. П.
А. Безант, — Теософия и Новая Психология. Пер. Е. П. Руд. Штейнер, — ФΕΟΣΟΦΙΑ. Пер. со 2–го нем. изд. Минцловой. СПб., 1910.
См. также [148].
По Платону, есть три вида бытия. Первый из них «тождественный, нерождающийся и неразрушающийся, не принимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входяицй в иное», — одним словом, безусловно подчиняющийся закону тожества; — он — достояние «мышления». Второй — вид «рожденный, всегда подвижный, являющийся в каком–либо месте и опять оттуда исчезающий»; воспринимается он «мнением в связи с чувством». Третий же род представляет всегда род пространства, не принимающий разрушения, дающий место всему, что имеет рождение, сам же уловляемый без посредства чувства, путем некоторого поддельного суждения, — род, едва вероятный. Взирая на него, мы точно грезим… αυτό δέ μετ’ αναισθησίας απτόν λογισμω τινϊ νόθω, μόγις πιστόν πρός ό δή και όνειροπολούμεν βλέποντες …» (Платон, — Тимей 52a, b. Plаtonis Opera ex rec. Schneideri. Vol. II, Parisiis, 1846, p. 219).
Подобная же мысль развивается и в другом творении «τρία δέ όντα, τρισι γνωρίζεσθαι τάν μεν είδέαν, νόω κατ' έπιστάμαν τάν ό ύ λαν, λογισμω νόθω τω μήπη κατ' ενθυωρίαν νοεΐσθαι, αλλά κατ' αναλογίαν τά ό άπογεννάματα αϊσθήσει καί δόξα. — duum haec tria sint, tribus quoque modis cognoscendi: Formam quidem, mente et scientia: Materiam adulterina quadam ratiocinatione (quod videlicet non recta quadam et aequam rei animadversione sed ex proportione quadam et collatione intelligitur) Foetus vero qui ex illis nascuntur, sensu et opinione» (псевдо–Тимей Локрский, — О душе мира, 94b. — Divini Platonis Opera omnia quae exstant. Marsilio Ficino interprete. Lvgdv., 1590, p. 553 В.). — Хотя старинные издатели и помещали это произведение среди Платоновских, как первоисточник «Тимея», но в настоящее время подлинность его безусловно отвергается и его вовсе не печатают в «Творениях» Платона. Но Мейнерс, Тидеман, Теннеман и др. признали его за компиляцию из Платона; вот в этом то смысл представляет для нас некоторый интерес, как своего рода перифраз какого–то из позднейших платоников.
Доказать — это значит диалектически породить доказываемое (см. Herm. Cohen, — Logik der reinen Erkenntniss. Berlin, 1902). Рационализм и есть выражение этого стремления, — будь то рационализм Фихте, Шеллинга, Гегеля, современных марбуржцев или, наконец, логистиков; в сущности, все они заняты одною задачею, — изгнать из области мысли все то, что не воспостроено чисто–логически, т. е. рационализировать все мышление. Но все же наиболее последовательно и строго эта «логизация» науки, чрез посредствующее звено «арифметизации», проводится в области основ математики. Однако, нельзя не видеть, что интуиция, изгоняемая дверью, у всех их, а в том числе и у математиков, неизбежно влетает в окна. Но, как мужественная попытка, как опыт наглядного приведения к абсурду самого принципа рационалистического, все эти течения в высокой степени интересны и поучительны.
«Для объяснения данных явлений можно приводить только такие другие вещи и основания объяснения, которые связаны с данными явлениями согласно известным уже законам явлений. Поэтому трансцендентальная гипотеза, в которой была бы применена чистая идея разума для объяснения вещей природы, не служила бы объяснением, так как в таком случае то, чего мы не понимаем в достаточной степени из знакомых нам эмпирических принципов, было бы объясняемо посредством того, что вовсе непонятно нам. Принцип такой гипотезы собственно служил бы только для удовлетворения разума, а не для содействия применению рассудка к предметам. Порядок и целесообразность в природе должны в свою очередь объясняться из естественных оснований и законов природы, и здесь даже самые дикие гипотезы, если только они имеют физический характер, более выносимы, чем гиперфизические, т. е. чем ссылка на Божественного Творца, предполагаемого для этой цели — hier sind selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher, ab eine hyperphysische, d. i. die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Behuf voraussetzt. В самом деле, проходить сразу мимо всех причин, объективная реальность которых, по крайней мере в возможности, доступна нашему познанию путем продолжения опыта, и успокаиваться на чистой идее, весьма удобной для разума, это — принцип ленивого разума (ignava ratio) …» (Кант, — Критика чистого разума, учение о методе, гл. I, секц. 3 [изд. В., SS. 800–801]. — Пер. Н. О. Лосского, СПб., 1907, стр. 426–427. — Kritik der reinen Vernunft, von Im. Kant, herausgegeben von K. Kehrbach, 2–te Aufl., Lpz., SS. 588–589).
Термины, употребляемые здесь и далее, разъяснены в:
П. Флоренский. — О символах бесконечности («Новый Путь», 1904, № 9).
П. Флоренский. — О типах возрастания («богословский Вестник», 1906, № 7).
Платон — Пир, 202 А (гл. XXII). — Opera Platonis ex rec. R. В. Hirschigii. Parisiis, 1856, Vol. I, p. 680):
«Разве ты не знаешь, что правильное мнение, которое ты не можешь подтвердить доказательством, не есть ни знание (ибо дело недоказанное как могло бы быть знанием?), ни незнание (потому что дело, касающееся существенности как могло бы быть незнанием?). Это–то именно правильное мнение, вероятно, и есть средина между невежеством и разумностью. — То όρθά δοξάζειν και άνευ του εχειν λόγον δουναι ου οίσθ', έφη, ότι ουτ έπίστασθαί έστιν — άλογον γάρ πραγμα πώς αν εΐη έπιστήμη; — ουτ άμαθία τό γάρ του οντος τυγχάνον πώς αν είη άμαθία; εστι δε δήπου τοιοϋτόν (τι) ή όρθή δόξα, μεταξυ φρονήεως και άμαθίας».
Аристотель, — Эфика к Никомаху, VI (Z), 3 (Aristotelis Opera, ed. Acad. Borussica, vol. 2, p. 1139 b 31): μεν άρα έπιστήμη έστιν έξις αποδεικτική». Слово έξις происходит от глагола έχω — имею — и означает обладание, владение. — Понятие аподиктического суждения весьма определенно содержится у Аристотеля в его Первой Аналитике I, 1, 24 а 30, ср. De gener. II 6, 333 b 25.
Слово απορία образовано из α privativum и √πορ; происходящие от этого последнего слова: πορεΐν — доставлять, давать; πορίζω — доставлять, изготовлять и т. д.; πέπρωται — дано, решено, назначено судьбою; πεπρομένος — назначенный: ή πεπρομένη — участь, судьба, — эти слова определяют и значение нашего корня. Однако, сродство его с латинским √par, входящим в слова parаrе — приготовлять и pаrerе — рождать (W. Рre11witz, — Etymologisches Wörterbuch, SS. 259–260, πορεΐν — Бензелер, — Греческо–русский словарь, Киев, 1881, стр. 626–627) заставляет думать, что первоначально в √πορ содержалось понятие доставления именно чрез рождение, но рождение, как деятельность, производящую некий плод. Отсюда понятно, что у Платона идея полноты производительной силы, полноты Божественного творчества идеального мира представлена под видом Божества Πόρος (Платон, — Пир, 203, В, С, ΧΧΙII. — Platоnis Opera ex rec. R. B. Hirschigii, Parisiis 1856, vol. I, p. 681). Поэтому, далее, άπορεω — быть без средств, находиться в безвыходном, беспомощном состоянии, терпеть нужду, недостаток — и απορία — безвыходное положение, недоумение, уныние, недостаток, нужда и т. п. (Бензелер, — id., стр. 93), в сущности выражают идею бесплодия, производительного слабо- и без–силия, отсутствие мощи рождения. Философские же термины «άπоρειν и «άπορια», при сравнительно внешнем их понимании, означают затруднительное положение ума, умственное недоумение, интеллектуальную безвыходность, а, для более глубокого разумения, должны означать бессилие творческой мысли, неспособность рождать мысли, умственное бесплодие. Это обнаруживается в неспособности ума употреблять внешние органы интеллектуального рождения, — голосовые, т. е. в невозможности высказать суждение, в άφασία. В истории мысли неотъемлемо от Сократа и Платона у них повторяющееся бесчисленное множество раз сравнение философствования с деторождением; однако, оно не есть простая аналогия. Нет, органы рождения и органы речи — гомотипичны друг другу (стр. 588), и плоды их деятелености, ребенок и воплощенная мысль, — эти завершения полюсов нижняго и верхнего, — находятся в каком–то трудно–показуемом, но несомненном, глубоком соответствии между собою. Вот почему, древние скептики, для обозначения философской неспособности производить мысли, опять–таки выбрали слово столь специфического оттенка.
Слово έποχή происходит от глагола έπ–έχω — имею что над чем, держу что над чем, держу что пред чем, имею кого против себя, стою против кого, направляюсь, устремляюсь на кого; а затем еще: удерживаю, сдерживаю, останавливаю, сдерживаюсь, медлю, жду и т. д. (Бензелер, — id., стр. 270). Позднейшее слово έπоχή означает остановку, задержку (id., стр. 293). В философии, по определению Пиррона, «έποχή εστι στάσις διανοίας δι ήν ούτε αϊρομέν τι ούτε τίθεμεν — 'εποχή есть остановка мышления, вследствие которой мы ни отбрасываем что–нибудь, ни устанавливаем его» (Секст Эмпирик, — Пирроновские основоположения, 1, 10. — Sextus Empiricus, ex recensione Imm. Bekkeri, Berolini, 1842, p. 5, 1–2). По мнению Эд. Целлера (Ed. Zeller, — Die Philosophie der Griеchen, 4–te Aufl. herausg. von. Ed. Weibmann, T. 3, Abth. l, Lpz., 1909, S. 505, Anm. 1) этот термин έποχή выражает совершенно то же, что и άφασία, ακαταληψία и еще, присоединенные сюда впоследствии, άρρεψία, άγνωσία τής αλήθειας и т. д. Но едва ли основательно уничтожать те оттенки мысли, которые связываются с различиями этих терминов. Однако, для нас, в настоящую минуту, историческая сторона дела мало занимательна, и мы смело можем пренебречь тонкостями, разъяснение которых читатель найдет в специальной литературе по греческому скептицизму.
Библиографию по древнему и отчасти новому скептицизму см. в:
Fr. Uebervegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Achte… Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Max Heinze. Berlin, 894. Erster Theil, das Alterthum. §§ 60, 61, SS. 291–299.
J. [М]. Baldwin, — Dictionary of Philosoph у and Psychology. New York, London, 1905. Vol. III, Part. I, pp. 431–432: Pyrrho; 475–476: Sextus Empiricus; 63: Aenesidemus и m. д.
Rud. Кlussmann, — Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum. Die Literatur von 1878 bis 1896 einschliesslich umassend, Erster Band: scriptores graeci. Lpz 1909 u. f. См. соответствующие имена в указателе.
Состав термина αταραξία (a privativum и ταράσσω — потрясаю, волную, смущаю, расстраиваю, беспокою и т. д.) понятен. По определению Пиррона «αταραξία έστι ψυχής άοχλησία καί γαληνοτης — αταραξία есть беспокойность души и затишье» или «нестесненность души и ясность, веселость» (Секст Эмпирик, — Пирроновские основоположения, 1, 10. — Sexti Empirici Opera, id., р. 52–3).
«Пиррон был основателем греческого скептицизма. Он не только высказал основные принципы этого учения, но и всю свою жизнь, представляющую высокий образец чистоты и благородства, построил согласно этим принципам; это один из возвышеннейших представителей типа греческого мыслителя: сверхчеловек, поскольку никакие человеческие тревоги и заботы не имели над ним власти. Это обстоятельство привело к тому, что скептики всех времен видели в Пирроне как бы своего святого, что он стал патроном скептической секты…. Он… сопровождал Анаксарха, когда тот отправился в азиатский поход в войске Александра… В Азии Пиррон встретился с индийскими гимнософистами — отрекшимися от мира мудрецами, которые, голые, жили в лесах — с индийскими магами, аскетами и святыми; эти бездеятельные и равнодушные, отвергающие жизнь люди должны были произвести впечатление чарующей загадки на нашего грека, сына жаждущей избавления эпохи. «Мы, греки, изнемогаем в погоне за счастьем, — а здесь, по эту сторону моря, оно осуществляется на деле; только умерев для жизни, только отринув беспокойную волю, может человек наслаждаться миром. Какой же путь должна избрать наша душа, чтобы достигнуть своего идеала?». В форме такого рода вопросов должны были обрисоваться пред погруженым в раздумье Пирроном основные черты скепсиса, как решения мировой и человеческой загадки. По окончании азиатского похода Пиррон возвратился на родину, в Элиду; он вел здесь очень скромную жизнь, и пользовался всеобщим уважением. Ради него философы были освобождены от налогов Афиняне предподнесли ему право гражданства. На рыночной площади родного города была воздвигнута его статуя; он был назначен верховным жрецом…. Новый нравственный идеал жизни, полной резиньяции, был движущим мотивом всего его учения…. Все, что мы знаем о характере и образе жизни Пиррона, доказывает, что он был всецело проникнут глубоко, изнутри обоснованным равнодушием к жизни и миpy. Ни следа фанатизма в этом человеке; он не отчаивается, хотя чужд всяких определенных чаяний, сего ничто не поддерживает, и тем не менее он стоит непоколебимо» (Вrосhаrd. — Les sceptique Grecs, Paris, 1887, p. 73); он pелигиозный скептик и в то же время верховный жрец. Сомнение его не есть скептицизм ярого просветителя, который еще полон надежд; это скептицизм консерватора, утратившего всякую надежду. Тихо и одиноко жил он со своей сестрой, акушеркой Филистой; он избегал всяких почестей, никогда не забывая слов одного индийца, что Анаксарх не может учить истине, т. к. вращается во дворцах королей. Во время опасной бури на море, в момент всеобщей паники, он указал на свинью, спокойно пожиравшую свой корм, как на достойный подражания образчик наивной атараксии. Если во время его речи собеседник внезапно покидал его, он, нисколько не сердясь и не обращая внимания на ушедшего, спокойно договаривал до конца свою мысль. Мучительнейшие операции выносил он без малейшей гримасы» (Р. Рихтер. — Скептицизм в философии. Пер. с нем. В. Базарова и Б. Столпнера, Т. I, 1910, стр. 62–65. Кн. 1, гл. 1, II, 1). — Такова, для примера, новейшая попытка реконструировать «житие» скептика. (Еще характеристики личности Пиррона см. у Брошара и у Фр. Ницше). Не смея отрицать этого светлого образа, хотя историческая достоверность его и весьма невелика, мы, однако, не можем не припомнить иные образы, свидетельствующие о внутреннем неспокойствии и смуте духовной на почв έποχή. Таков жадный до насмешек и, в то же время, любящий вкусно поесть, хорошо выпить, копить деньги и язвить врагов своих многописавший Тимон (Рихтер, — id., стр. 68). Таков же и вечнозанятый Карнeад, громогласные речи которого производили впечатление почти демоническое (Диод. IV, 62 — Рихтер. — id., стр. 81). Оба они обосновали скептическое εποχή лучше Пиррона, но это ничуть не помогло им стяжать истинное «затишье — γαλήνη» духа. Не значит ли это, что Пирронову умиренность, — если только она достоверна, — что ее объясняет тоже вовсе не έποχή, а что–то иное?
Положение, высказанное в тексте, можно обосновывать множеством данных. Но для меня лично эта мысль стала очевидною после одного сновидения. Позволю себе привести современную ему запись, от 9–го сентября 1902 года.
«Я видел, — читаю я в старой своей тетради, — видел во сне, как схожу сума. Что–то чуждое моему «Я», какая–то чужая воля закрадывается в психический организм. По временам он раздваивается на два активных «Я». Мое «Я», настоящее, тогда пытается сопротивляться «Я» чуждому и иногда достигает своей цели. Но это — редкими мгновениями, — когда, как молния, как вспышка, появляется мысль: «Ведь я схожу с ума!». А, в общем, настоящее «Я» как–то бездеятельно, безразлично созерцает другое «Я» (пример раздвоения сознания во сне, не объективируемого на иную личность). Меня во сне лечил, скорее присматривал за мною, доктор К*.
Даже органы перестают повиноваться моему желанию. Я иду и как–то странно размахиваю руками, как будто в плечах они были на вращающихся, весьма ослабших шарнирах. Ноги дрыгают во все стороны, и все тело напоминает развинтившийся механизм.
Наконец, я чувствую, что сейчас потухнет последняя вспышка самосознания настоящего «Я», последний проблеск сознания о начинающемся психическом расстройстве.
Тут я просыпаюсь, и сперва механически, потом, начиная сознавать и понимать смысл, говорю стих Бальмонта:
«Я видел ныне сон — не все в нем было сном»….
(Стих Бальмонта, на деле, читается так:
«Я видел сон, не все в нем было сном,
воскликнул Байрон в черное мгновенье».
Архимандрит, [ныне епископ] Серафим (Чичагов), — Летопись Серафимо–Дивеевского монастыря, Спб., 1903, стр. 114.
Подобный сему ответ о праве выхождения из границ опыта дает Гербарт: Herbart. — Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 5–te Aufl.. § 157, S. 192.
См. стр. 493–499. — Различные определения бесконечности, расположенные в хронологическом порядке, можно обозреть в: Rud. Eis1er, — Wörterbuch der Philosophischen Begriffe. 3–te Aufl., Berlin, 1910, Bd. 3, SS. 1566–1583, 1973; — история понятия о бесконечности в древней философии представлена в книге:
H. Guyоt, — L’infiniti divine depuis Philon le Juif jusqu’a Plotin. Tese. Paris, 1906. XII+260 pp.
См. также:
Д. Н. Овсянников–Куликовский, — Идея бесконечности в положительной науке и в реальном искусстве) («Вопросы теории и психологии творчества». Издатель–составитель Б. А. Лезинов. Харьков, 1907, стр. 50–78).
Д. Н. Овсянников–Куликовский, — Несколько мыслей о происхождении и развитии чувства бесконечности в чистой лирике) (id., стр. 83–117).
H. F. Th. Веуdа. — Das Unendliche, was es den Philosophen und was es den Mathematikern bisher gewesen und wie es sich mathemаtische dargestellt nach einer neuen Erfindung. Bonn, 1880.
Alex. Verοnnet, — L'Infini. Categorie et realite. Paris. 1903.
Намек на III Esdrae 3, 10–12: «Unus scripsit, Forte est vinum. Alius scripsit, Fortior est rex. Tertius scripsit, Fortiores sunt mulieres, super omnia autem vincit veritas».
Развиваемая в тексте мысль о преодолении абсолютного сомнения бесконечностью истины находит себе подтверждение у о. Иоанна Сергиева: «Бог, — говорит он, — есть Дух бесконечный. В чем эта бесконечность заключается?… Везде и во всем Бог, сущий превыше всего, не содержимый никакою тварию, и ни одна мысль, как бы быстра и смела она ни была, ни в чем опередить Его не может, всегда кружась только в Нем» (о. Иоанн Кронштадтский, — Моя жизнь во Христе. Приложение к журналу «Русский Паломник» за 1903 г., кн. III, стр. 692–693).
Im. Kant, — Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen continet Monadologiam physicam (Supplement–Band zu Kant’s Werken Abth. II. Herausg von J. H. v. Kirchman, Lpz, 1878, p. 25. — Philosophische Bibliothek von Kirchmann., Bd. 76, Abth. II.
И. Кант. — Физическая монадология. Предварительные замечания. Пер. П. Флоренского, Сергиев Посад, 1905, стр. 7 (= «Богословский Вестник», 1905 г. № 9).
Ансельм Кентерберийский, — Monol. I. Он же указывает и на идеальную самообосновываемость Бога: Бог — «summa veritas per se subsistens».
Georgius Reeb, S. J., — Thesaurus Philosophicus seu Distinctiones et axiomata philosophica, — proposita a J. — M. Соrnо1di Ed. nova, Parisiis, 1891, p. 111. n° 53 VII, cf. cetera.
Spinoza. — Ethices pars prima, Defin. IIΙ (Benedicti de Spinoza Opera — recognoverunt Van Vlоtenet J. P. N. Land. Vol. I, — Hagae Comitum, 1882, p. 39).
Ради графического упрощения в дальнейшем мы пишем нередко эту и аналогичные формулы с малых букв. Но читатель, вникший в суть дела, и сам увидит, где требовались бы прописные литеры.
Преп. Фалассий Ливийский и Африканский, — О любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу четвертое сто глав, 81, 84, 91, 93, 95, 97, 98 («Творения», 2–е изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, М., 1894, стр. 64–67.
А. А. Спасский, — История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Т. 1, Сергиев Посад, 1906 г.
А. П. Лебедев, — История вселенских соборов, ч.ч. I и II («Собрание церковно–исторических сочинений», ТТ. III и IV, СПб., 1904 г.).
В. [В.] Болотов, — учение Оригена о Св. Троице. СПБ., 1879.
В. П. Виноградов. — О литературных памятниках «полуарианства». Сергиев Посад, 1912. (= «Богословский Вестник», 1911 г.).
L’Abbe Н. Соuget, — La Sainte Trinite et les doctrines antitrinitaires. Paris, 1905, 2 vol. (из cepии «Science et Religion»).
Ф. Терновский, — Греко–восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 1883.
Εп. Иоанн, — История вселенских соборов, 1896 г.
Наrnаck, — Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4–te Aufl.
В. Самуилов, — История арианства на латинском западе. СПБ., 1890.
E. Revillout. — Le concile de Nicee d’apres les textes coptes et les diverses collections canoniques. Paris, 1881 et 1899. 2 volumes.
Бл. Иероним Стридонский, — Письмо 15–е, к папе Дамасу, 4 (Migne, — Patrol. ser. lat., Т. 22, col. 457 А): «Tota saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasim, nisi usian novit». Письмо это написано около конца 376–го года. Все это письмо бл. Иеронима в высшей степени поучительно. Даже для православного учителя Церкви сверх–рассудочность формулы трех ипостасей при единстве сущности была слишком остра; невероятная во всей истории мысли смелость этой формулы кружила головы и привычным к сверх–рассудочности умам. «Теперь же, о беда! — жалуется бл. Иероним. — После никейского символа, после александрийского определения,… кампенсы, отрасль ариан, требуют от меня нового имени: трех ипостасeй. Какие, спрашивают, апостолы предали так? Какой новый Павел, учитель языков, научил сему? Спрашиваю: как, по их мнению, можно разуметь ипостаси? Отвечают: три соприсущих лица — tres personas subsistentes. Я говорю в ответ, что мы так и веруем, но для них недостаточно единства в смысле, они требуют единства в самом имени: не знаю, что́ за яд может заключаться в звуках. Мы провозглашаемы: Кто не верует в три ипостаси, как tria enhypostata, т. е. три соприсущих лица — tres subsistentes personas, — да будет анафема. Но так как мы не привыкли употреблять эти термины, то нас осуждают как еретиков. Но если кто под словом ипостась разумеет сущность — usian, не признает в трех лицах одной ипостаси, тот отлучен от Христа: в таком случае мы вместе с вами будем отмечены клеймом савеллианства — Unionis. — Сделайте, умоляю вас, — если признаете нужным, — определение, и тогда я не убоюсь именовать трех ипостасей. Если прикажете, пусть будет сложено после никейского новое вероучение; пусть мы, православные, будем произносить то же исповедание, как и ариане. Школа светских наук не знает иного значения слева: ипостась — hypostasin, как только сущность — usian. Кто же, спрашиваю я, святотатственными устами будет говорить о трех субстанциях — substantias? В Боге есть единая и единственная природа, именно та, которая существует действительно — una est Dei et sola natura, quae vere est. — Но поелику одна Божеская природа и поелику в трех лицах соприсуще одно Божество — in tribus personis Deitas una subsistit, которое существует истинно и есть одна природа; то всякий под видом благочестия именующий три, т. е. три ипостаси, как три сущности, — покушается ввести три природы — quisquis tria esse, hoc est, tres esse hypostases, id est usias, dicit, sub nomine pietatis, tres naturas conatur asserere. Если это так, то зачем же мы отделяемся стенами от Ария, будучи связаны собственною неверностию?… Достаточно нам именовать одну субстанцию и три лица, соприсущих, совершенных, совечных. Пусть, если угодно, умалчивается о трех ипостасях и удерживается одна…. Достаточно да будет для нас вышеупомянутое верование. Если же вы признаете правильным с нашей стороны именовать три ипостаси с своим истолкованием, — то мы не отказываемся. Но поверьте мне, под медом скрывается яд; ангел сатанин превращается в ангела света (2 Кор 11, 14). Кампенсы хорошо толкуют слово: ипостась, но когда я говорю, что я содержу догмат согласно с их объяснением, то меня осуждают как еретика. Зачем они так болезненно держатся за одно слово? Что они скрывают под двусмысленною речью? Если они веруют так, как толкуют, то я их не осуждаю. Если я так верую, как они (быть может притворно) исповедуют себя мудрствующими, то пусть они позволят мне выражать мою мысль моими словами. Посему я распятым Спасением мира, Троичным единосущием заклинаю твое блаженство дать мне многозначительный по твоему авторитету письменный ответ о том, должно ли умалчивать об ипостасях, или именовать их….». (id., 3–4 — Мigne, — Patr. ser. lat., T. 22, coli. 356–358. — Творения иеронима Стридонского. Ч. I, Киев, 1879, стр. 45–47).
Огромною заслугою Канта было указание, что могут быть объекты ничем не различающиеся между собою в понятии, для рассудка, но тем не менее различные, — так что разница постигается между ними лишь при их наглядном сравнении. Такими объектами оказываются, например, правая и левая рука, или правая и левая перчатка, симметричные относительно центра и равные между собою сферические треугольники и т. п. См.:
H. Каnt, — Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden- im Raum [1768]. (Imm. Kants Kleine Schriften zur Logik und Metaphysik, herausgegeben von Кirсhmann, Bd. 33 (5), 3–te Abth., SS. 124–130).
H. Kant, — De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis [1770], § 15 с (= И. Кант, — О форме и началах мира чувствен. и умопостигаемого, пер. Н. Лосского, СПб., 1910, Труды С. — Пет. фил. о–ва, Вып. VI, стр. 20–21).
Im. Kants Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können [1783]. 4–te Auflage. Herausgegeben… von Karl Vorländer. Lpz., 1905 (Philosophische Bibliothek, Bd. 40), § 13, SS. 39–41. Это издание «Пролегомен», критически проверенное, — лучшее.
Иммануил Кант, — Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. Перевод Влад. Соловьева. Изд. 3–ье, М. 1905. § 3, стр. 46–48. Перевод прекрасный, но издание очень небрежно, и в нем повторены даже опечатки первых изданий.
H. Kant. — Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. [1786], Cap. L, I, Def. II, Scholia III. Правда, Кант из этого факта сперва делал тот вывод, что пространство — не понятие, а реальность, независимая от рассудка; а потом, — что пространство — не понятие, а форма созерцания. Но, так или иначе, а наличность фактов, открытых Кантом, доказывает, что могут быть объекты, заведомо различные, но такие, что разница между ними решителено не формулируема рассудком, т. е. различающиеся один от другого не тем или иным признаком, a ipsa re, непосредственно. Не в признаках бытия, а в самых недрах его содержится начало различия, и, — для рассудка, — объекты могут быть различными лишь друг чрез друга. — Как известно, это Кантовское открытие, примененное к химии впервые Пастером (см.: Пастер, — Винная кислота и её значение для учения о строении материи. Об ассиметрии органических соединений. СПб., 1894), сделалось основою всей стереохимии, а вместе с тем распространилось во множество других научных дисциплин.
Известное изречение протопопа Аввакума.
Вот, для образчика, одно из умствований прот. Аввакума, в его послании к диакону Игнатию : «Зри, Игнатий Соловеянин, и веруй трисущную Троицу. Существо едино на трое равно разделяй: на трое течет источник Божества. По Арию не рцы три существа неравные, а равные три существа добре, или естества. Не шевели больше того. Несекомую секи, небось, по равенству, едино на три существа, или естества. Комуждо особно седение: Отцу и Сыну и Святому Духу. Не спрятався сидят три царя небесные: яко Петр и Павел и Иоанн Богослов, трое расстоящи, тому же прилично и Божественное трое раздельшеся» (П. Смирнов. — Догматические споры в раскол старообрядчества. «Православная Энциклопедия», под редакцией А. П. Лопухина. Петроград, 1893, Т. 4, столб. 1154. — См. также столб. 1050, слл.). — Едва ли в подобных чудовищных лжеучениях можно видеть одну только словесную погрешность недостаточно образованного расколоучителя. Трифеизм его есть бессознательное выражение общего рационалистического духа, вообще свойственного расколу. —
Епископ же [тогда архимандрит] Порфирий Успенский склонен видеть в этом арианстве даже историческое влияние. Описывая церковь во имя успения Пресвятыя Богородицы в палестинском монастыре св. Иакова Персианина, он видел там картину семи вселенских соборов. «В самом низу картины, посреди, изображены ересиархи: Арий, Македоний и пр. И подле них группа монахов. Замечательно, что все еретические монахи нарисованы в таких клобуках, кои носят наши старообрядческие монахи. (Не заражены ли были древле русские арианскою ересью? А у православных клобуки греческие, низкие, по форме приближающиеся к нашим». (Епископ Порфирий Успенский. — Книга бытия моего. 29 ноября 1843 г. Т. I, под ред. П. А. Сырку. СПб., 1894 г. Стр. 307).
«… βαπίζοντες… εις το όνομα τού Πατρος καί τού Υιού καί τού 'Αγιού Πνεύματος» (Μф. 28, 19), — с этим ср. в литургии Иоанна Златоустого: «и даждь нам… славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа — δοξάζειν καί άνυμνειν το πάντιμον και μεγαλόπρεπες όνομά σου του Πατρος κτλ».
Точно также, св. Амвросий Медиоланский, рассуждая относительно Мф. 28, 19, говорит: «указывают на то, что Он [Спаситель] сказал: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но при этом не принимают в соображение того, что Он предпослал этому, сказав во имя. Он указал на три Лица — tres personas, но привел одно имя Троицы». «Итак, един Бог, едино имя, едино Божество, едино величие …»
(Амвросий Медиоланский, — О воспитании девы 10, 67, 68 — Мigne, — Patrol ser. lat. pr., Т. 16, col. 322).
Η. Ч. Чельцов, — Древние формы Символа веры православной церкви или так называемые апостольские символы. СПб., 1869.
А. А. Спасский, — Цит. соч. Т. I, стр. 500.
О том, что Василий Великий гордился своею ученостью см. id., стр. 484. — «Он, — свидетельствует о Василии В. его младший брат, Григорий Нисский, — он чрезвычайно много думал о своем красноречии, презирая все достоинства и превозносился своим значением выше вельмож именитых». (Григорий Нисский, — О жизни Макрины. — Мigne, — Patrol. ser. gr. T. 46, col. 965).
Григopий Hисский, — большое катехизическое поучение, 3 (Migne, — Patrolog. ser. gr. T. 45, col. 17 C–D.)
Является вопрос, как же именно возникает идея авторитета Христова, — как происходить таинственное возрождение души. Не выходя из границ своей работы, — имеющей предметом своим Феодицею, а не анфвроподицею, — я не мог бы заниматься этим вопросом. Но я считаю долгом своим подчеркнуть, что тут — пробел, который я предполагаю восполнить в давно задуманной работ «О возрастании типов». Не принимая же во внимание этого существенного пробела, читатель подверг бы автора риску быть названным христианином без Христа. Нетрудно заметить также, что в своем схематическом изложении я опускаю и обсуждение пути аскезы.
Феофраст, — Phys. opin. fr. 6 a (Laert Diog. IX 21, 22) (Diels, — Doxogr. graeci, 483).
Приводится у Григория Нис., против Евном., кн. 5 (Migne, Patrol. ser. gr., Т. 45, col. 688 А).
Последние слова — из Великого Канона Андрея Критского (Четверток 1–ой Седмицы Вел. Поста, повечерие, песнь 8–я, троичен).
Знаменитое «Credo, quia absurdum» схематически передает собственно лишь мысль Тертуллиана. Подлинное же изречение гласит: «Mortuus est Dei filius, credibile est, quia inseptum est; et sepultus revixit, certum est quia impossibile est — что умер Сын Божий, это достоверно, потому что нелепо; что Он, погребенный, воскрес, несомненно, потому что это невозможно». Teртуллиан, — О плоти Христовой (Migne, — Patr. ser. lat. pr. Т. 2).
ВЕДОМОМУ БОГУ — таково надписание на фронтоне западного входа в успенский Собор Свято–Троицкой Сергиевой Лавры. Так как это крыльцо устроено, вместо бывшей тут паперти, в 1781 г. (см. E. [E.] Голубинский, — Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра, изд. 2–е, М. 1909, стр. 207), то надо полагать, что интересующее нас глубокомысленное надписание сделано по распоряжению бывшего тогда архиепископом Московским Платона Левшина. Очевидно, оно выражает его внутреннее понимание тех отношений, в которых находятся вера и знание. — Другой, не менее авторитетный святитель, архиепископ Херсонский Иннокентий Борисов замечает остроумно: «Близорукая философия прошедшего [т. е. 18–го] столетия возмечтала было на время расторгнуть сей священный союз и заставила знание копать гроб для веры, но что вышло из сего матере–убийственного покушения? Святая вера, чтимая самозабывающимся рассудком, сокрылась в недоступную для него глубину сердца, и лжеименное познание осталось само в ископанном от него гробе с своими софизмами» (Иннокентий, apxиеп. Херсонск., — Сочинения, изд. Вольфа, Т. 4, стр. 275). «Истинная философия может существовать только в союзе с небом, ибо истинное знание живет и питается не землею, а небом» (id., Т. 10). «Мы привыкли говорить: круг наук, круг знания и отделять его от круга веры; но собственно говоря: нет и не может быть круга наук, а существуешь один беспредельный круг веры, внутренность коего разделяется между науками. Знание без веры есть средина без начала и конца, посему кто ищет не бездушных отрывков, а живого разумного целого, тот необходимо должен соединить знание с верою» (id., Т. 4, стр. 274). «Знание истинное, что оно такое вообще, как не природная дщерь веры? Вера Истинная, что она такое, как не естественный конец и венец всякого основательного познания» (id., Т. 4, стр. 156).
Перевод, данный в текст, разнится от обычного и исправлен согласно исследованию моего уважаемого учителя проф. М. Д. Муретова, см.:
М. Д. Муретов, — Знание отчасти и самопознание («Богословский Вестник»).
Л. Н. Толстой, — исповедь. М., 1907, изд. «Посредника», стр. 74. — Полную противоположность этому толстовскому своеволию рассудка представляет начало послушания и распинания рассудка, выдвигаемое Κ. Η. Леонтьевым. «Я православию подчиняюсь — вполне, — говорит он. Я признаю не только то, что в нем убедительно для моего разума и сердца, но и то, что мне претит… Credo, quia absurdum — Я выражусь иначе: я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд… Однако я верую и слушаюсь. — Это лучший может быть род веры. — Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняться ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это есть настоящая вера» (К. Н. Леонтьев, — Отец Климент Зедергольм, 2–е изд., М., 1882 г., стр. 99).
О Паскалевском «пари на Бога», — где ставкою служат призрачные наслаждения земной жизни, а выигрышем — вечное блаженство, — см.:
В. Pascal, — Pensees, X, 1 (очень много изданий подлинного текста и переводов на всех языках).
Анализ такого пари и критику паскалевской идеи можно прочесть, — помимо общих сочинений о Паскале, — в специальных статьях:
Sully Prudhommе, — Le sens et la portee du pari de Pascal. («Revue des deux Mondes», 15 nov. 1890, pp. 285–304).
L. Dugas et Ch. Riquier, — Le pari de Pascal ("«Revue Philosophique», 25–me an., T. 50, 1900, septembre, pp. 224–245).
Ch. Riquier, — A propos du paris de Pascal (id., decembre, pp. 650–651).
J. Lасhe1ier, — Sur le pari de Pascal (id., 26–me an., T. 51, 1901, juin).
P. S. de Laplace, — Essai philosophique sur les probabilitas. — В виде вступления в его Theorie analytique des probabilites, Paris 1812 (1814, 1820) = Oeuvres, T. 7, Paris 1886. — русский перевод:
Лаплас, — Опыт Философии теории вероятностей. Перевод A. И. В. под редакцией А. К. Власова. М., 1908, стр. 117, 122.·— Тут дается собственно критика математической формы паскалевского пари, придуманная английским математиком Крэгом. Рассуждения Лапласа и, вероятно, Крэга грешат грубым непониманием идеи вечности.
Идея вроде паскалевской была высказываема до Паскаля (1623–1662 г.) Арнобием († 304 г.), который рассуждает следующим образоме:
«Non credimus, inquitis, vera esse quae (Christus) dicit. Quid enim, quae vos negatis vera esse, apud vos liquent, cum imminentia, et nondum cassa, nullis possint rationibus refutari? Sed et ipse quae pollicetur, non probat. Ita est. Nulla enim, ut dixi, luturorum potest existere comprobatio. Cum ergo haec sit conditio futurorum, ut teneri et comprehendi nullius possint anticipationis attactu: nonne purior ratio est, ex ducibus incertis et in ambigua expectatione pendentibus, id potius credere, quod aliquas spes ferat, quam omnino quod nullas? In illo enim periculi nihil est, si quod dicitur imminere, cassum flat et vacuum: in hoc damnum est maximum, id est salutis amissio, si cum tempus advenerit, aperiatur non fuisse mendacium». (Apнобий, — Против язычников, II 4 (Migne. — Patrol. ser. lat., T. 5, coll. 815 В – 816 А) и Раймондом Сабундским (кон. XIV в. — 1437 г.) в его «Theologia naturalis sive liber creaturarum. (1487). (См. V. Droz, — Le scepticisme de Pascal, p. 71, note), Рehувьe (Renouvier, — Philosophie analytique de l’histoire Т. IV, p. 65 et suiv.) видел в этой идее резюме или даже исходную точку глубокой философии. Действительно, она была использована, — в видоизмененной и удешевленной редакции —, В. Джемсом, — сперва в его лекции «Воля к вере — Will to Believe» (Вильям Джемс, — Зависимость веры от воли и другие опыты популярной философии. Перевод с английского С. И. Церетели. СПб., 1904), а затем положена в основу философского течения, известного под именем «прагматизма». Нетрудно увидать известное сродство этого последнего с тутиоризмом янсенитов; но модный ныне прагматизм, вызвавший в литературе многочисленный pro и contra, лишен величия трагизма и подвига и настолько комфортабелен, что уже успел закрасться в сердце публики, спрашивающей лишь удобных доктрин.
Привожу краткие библиографические указания касательно работ на русском языке, в которых рассматривается прагматизм:
Карл Пирсон, — Грамматика науки. Пер. со 2–го англ. Изд. В. Базарова и П. Юшкевича. СПб., [1911], изд. «Шиповник».
В. Джемс, — Прагматизм. Перевод П. Юшкевича. СПб., 1910, изд. «Шиповника».
Л. М. Лопатин, — Настоящее и будущее философии. (А. М. Лопатин, — Философские характеристики и речи. М., 1911, изд. «Путь» = «Вопросы филос. И психол.», кн. 103).
В. Ф. Эрн. — Размышления о прагматизм (Владимир Эрн, — Борьба за Логос. М., 1911, стр. 1–25 = «Московский Еженедельник», 1910 г., №№ 17–18).
Ал. Балабан, — «Прагматизм» («Вопр. фил. и псих.», 1909, кн. 99 (IV), сентябрь–октябрь, стр. 574–018). Тут же, на стр. 574–575 и 598 приводятся и справки по литературе прагматизма.
С. С. Глаголев, — Новый тип философии. (Прагматизм или мелиоризм). («Богословский Вестник», г. XVIII, 1909, декабрь, стр. 578–616).
П. С. Страхов, — Прагматизм в науке и религии (по поводу книги В. Джемса: «Многообразие религиозного опыта»). («Богословский Вестник», г. XIX, 1910, май, стр. 112–131; id., июнь, стр. 295–314).
Лазарев, — Прагматизм («русская Мысль», 1909, октябрь).
М. Эбер. — Прагматизм. Исследование его различных форм. Пер. З. А. Введенской под ред. М. А. Лихарева, с пред. проф. Ал–дра Ив. Введенского. СПб., 1911.
Я. А. Берман, — Сущность прагматизма. Новые течения в науке о мышлении. М., 1911. XII+240 стр.
Что касается до весьма обширной иностранной литературы по прагматизму, то указания на нее можно найти в уже упомянутой книге Джемса, в статье Ал. Балабана и т. д. Упомянем отдельно еще:
Andre Lalande, — Pragmatisme et pragmaticisme («Revue Philosophique» 31–me an., T. 61, 1906, Fevrier, pp. 121–56). (Свод главнейших учений прагматизма).
J. Воurdеаu, — Pragmatisme et Modernisme, Paris, 1909 («Bibliotheque de philosophie contemporaine», F. Alcan).
P. Hermant et A. Van de Waele, — Les principales theories de la logique contemporaine. Paris, 1909 («Bibi, de phiios. cont.», F. Alcan), pp. 207–230 — о прагматизме.
Fr. Pаulаn. — Antipragmatisme et Hyperpragmatisme. («Revue Philosophique», 34–me an., T. 67, pp. 611–625).
A. Schinz, — Antipragmatisme. Examen des droits respectifs de l’aristocratie intellectuelle et de la democratie («Bibliotheque de philos. contempor.», F. Alcan), Paris, 1909.
Cp. восклицание одной девушки, на пути её к Богу: «Господи! Если Ты существуешь, укажи мне, что́ есть истина, и дай мне возможность узнать ее» (см.: П. Флоренский, — Вопросы религиозного самопознания, Сергиев Посад, 1907, письмо II, стр. 17 = «Христианин», 1907 г.). — Еще: «или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой! предвари скоро, скоро погибох» (8–я утренняя молитва, ко Господу нашему Иисусу Христу).
Herzog und Hauсk, — Realencyclopädie für protestantliche Theologie. 3–te Auflage, Bd. 6, Lpz., 1899, SS. 674 und ff., Artikel «Glaube».
Лингвистические и филологические соображения относительно слова «вера», «верить» см. еще в книг: А. [И.] Струнников. — Вера как уверенность по учению православия, Самара. 1887 г., стр. 35–58, но имея при этом в виду наклонность автора её приближать понятие «вера», «верить» к понятиям «знание», «знать». —
Ср.: по блаж. Августину, «Бог–Троица есть единый, единственный, великий, истинный, правдивый, Истина — est Trinitas Deus unus, solus, magnus, verus, verax, veritas» (Augustinus, — De Trinitate, VIII 3 [II]. — S. Augustini Opera omnia, Editio Parisina altera, T. VIII2, Parisiis, 1837, col. 1322). Бог, говорит он, «есть та недвижная Истина, которая правильно называется законом всех наук и наукою всемогущего Художника — est illa incommutabilis veritas, quae lex omnium artium recte dicitur, et ars omnipotentis artificis» (Augustinus. — De vera religione, 57. — S. Aurelii Augustini Opera, Т. I, secunda editio Veneta, Venetiis, 1756, col. 976).
По Г. Когену, — Бог есть «Средоточие всех идей, идея Истины — Zentrum aller Ideen, die Idee der Wahrheit» (G. Соhen, — System der Philosophie, Bd. II, Ethik des reinen Willens, 1904, S. 417 ff.)
Ту же идею о Боге, как существенном носителе и источнике всякой правды, находим и в народном жизне–понимании. Так, например, в репертуаре галичанских странствующих лирников входит «вояницкая писня»; ее же поют в латинском обряде в Галиции в «день задушый» или просто «задушки», — 1–го ноября нового стиля, когда поминаются все умершие. В этом гимн, между прочим, поется:
«Хвалим Бога едыного
«Суса Хрыста правдываго,
«Що, все небо й земля ёго!…»
(Мироп, — «Вояницкая писня», — «Киевская Старина», 1888 г., декабрь, № 12, Т. 23, стр. 146), Иисуса Христа правдивого, т. е. того, в котором по преимуществу правда живет, в котором вся правда, Логос, истинное Слово Божье воплощено; Ииcyca Христа правдивого — норму и прави́ло и источник всякого делания правды.
Архиеп. Антоний [Храповицкий], — беседа христианина с магометанином об Истине Пресвятой Троицы (Полное собрание сочинений, Почаев, 1906, Т. 4), стр. 204–214.
Архиеп. Антоний [Храповицкий], — Нравственная идея догмата Пресвятой Троицы (id., Казань, Т. 2, стр. 5–30 = «Религиозно–филос. Библ.», вып. XI, Вышний–Волочек, 1906).
Разбор этой речи см. в:
Η. Ф. Федоров, — Философия общего дела (статьи, мысли и письма, изданные под ред. А. А. Кожевникова и Η. П. Петерсона). Верный, 1906, Т. I, стр. 33–37, прим. 5.
М. М. Тарев, — Евангелие («Основы христианства», Т. 2, 2–е изд., Сергиев Посад, 1908).
Н. И. Сагарда, — Первое Соборное послание святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Исагогическо–экзегетическое исследование. Полтава, 1903.
Н. И. Сагарда, — Характерные особенности в раскрытии и изложении св. Ап. Иоанном христианского учения («Христианское чтение», 1904, Т. I, № 6, июнь).
Б. М. Мелиоранский, — О троичности. (разбор критики Л. Н. Толстого). (Отд. оттиски из журнала «Церковный Голос» за 1907 г. СПб., 1907).
Бог, — говорит бл. Августин, — «non bonus animus aut bonus angelus, aut bonum coelum; sed bonum bonum». Он — «nonalio bono bonum, sed bonum omnis boni». Он — «non hoc et illum bonum, sed ipsum bonum» (бл. Августин, — О Троичности VIII. 4 [III] S. Augustini Opera omnia. Editio Parisina altera, Parisiis 1837. T. VIII2, col. 1323).
Мысль, развиваемая и с жаром защищаемая в книге:
Вл. [Ф.] Эрн, — Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М., 1911. Изд. «Путь».
На понятии «выхождения из себя» познающего субъекта настойчиво останавливался в русской литературе † кн. С. Н. Трубецкой («Метафизика древней Греции», М., 1890. = «Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого», Т. 3, М., 1910.
Над понятием «вхождения» объекта познания в познающего субъекта более других потрудился Η. О. Лосский в книге: «Обоснование интуитивизма». СПб., 1906 (а также в «Записках ист. — фил. фак. Императорск. С. — Пет. Университета», Ч. LXXVIII). Изложение тех же взглядов см. в книге его же: «Введение в философию», Часть I. Введете в теорию знания. СПб.. 1911, стр. 231–269.
Книга Η. О. Лосского вызвала довольно оживленную полемику, значительно разъяснившую некоторые недоуменные вопросы. Из статей, относящихся к этой полемике, упомянем:
А. Аскольдов, — Новая гносеологическая теория Н. О. Лосского. («Ж. М. Н. П.», н. с., V (1906) № 10, отд. 2, стр. 413–441).
А. Аскольдов, — К вопросу о гносеологическом интуитивизме («Вопросы филос. и псих.» XCVI, стр. 561–570).
А. И. Введенский, — Новое и легкое доказательство философского критицизма. СПб., 1909.
Η. О. Лосский. — Основательно ли новое и легкое доказательство философского критицизма? («Ж. М. Н. П.», 1909, № 7) [Антикритика Введенского].
А. И. Введенский, — Логика, как часть теории познания. Изд. 2–е, СПб. 1912, стр. 207–214, 252–253, 275–287, 356–358 [ре–критика Лосского].
Л. М. Лопатин, — Новая теория познания. («Вопросы филос. и псих.», кн. XXXVII, стр. 185–206.
Η. О. Лосский, — В защиту интуитивизма. По поводу статьи С. Аскольдова «Новая гносеологическая теория» Н. О. Лосского и статьи проф. Л. Лопатина «Новая теория познания». («Вопросы филос. и психол.», кн. XCIII, стр. 449–462).
Н. [А]. Бердяев, — Философия свободы, М., 1911, гл. IV, стр. 97–127.
С. И. Поварнин, — Об «интуитивизме» Н. О. Лосского, СПб., 1911.
Η. Лосский, — Ответ С. И. Поварнину на критику интуитивизма. СПб., 1911. И др.
Таких же взглядов держалась и славная Киевская школа историков мысли, примыкавшая к платонизму и к немецкому идеализму. Сюда должно отнести ректора Киевской Духовнои Академии архимандрита Иннокентия Борисова, впоследствии Архиепископа Херсонского, по воззрению которого «только вера уничтожает ту непроходимую бездну, которая лежит между нами и предметами нашего познания, только она разрывает ту непроницаемую завесу, которая скрывает бытие вещей» (Иннокентий, Архиеписк. Херсонский, — Сочинения, изд. Вольфа, Т. 10, стр.).
— Подобно ему думали и друзья его, О. М. Новицкий, В. С. Карпов, С. С. Гогоцкий, и. М. Скворцов, Михневич, Авсенев, Амфитеатров. Из более поздних представителей той же школы нужно в особенности упомянуть П. Д. Юркевича и, близкого к О. Новицкому по духу, хотя и не киевлянина, М. А. Остроумова.
Впрочем, как ни различны пути подступа к этим понятиям «выхождения» и «вхождения», — конечный пункт их — один и тот же. Та и другая метафора означает один и тот же акт внутреннего объединения познающего с познаваемым.
J. Вöhmе. — Aurora, S. 37 (Schriften, herausgegeb. von U. W. Schiebler, 1831–1847. 2–te Aufl., 1861 ff.)
Так же выражается и другой мистик XVII–го века Джон Пордедж. «Сие Второе Число Сей Три–Единицы — может назваться и Сердцем Божиим; понеже Оно есть центральное или всевнутреннейшее Его рождение, средоточие и седалище Любви Его, откуду сия Любовь паки проистекает, и изливает себе в целое Божественное Существо, и во всё, что кроме Его быть может» («Божественная и истинная метафизика» [1 25], часть первая, кн. I, гл. V, § 101, стр. 113).
«Нет средств объяснить, как может монада претерпеть изменение в своем внутреннем существ от какого–либо творения, так как в ней ничего нельзя переместить и нельзя представить в ней какое–либо внутpеннeе движение, которое могло бы быть вызвано, направляемо, увеличиваемо или уменьшаемо внутри монады, как это возможно в сложных субстанциях, где существуют изменения в отношениях между частями. Монады вовсе не имеют окон, чрез которые что–либо могло бы войти туда, или оттуда выйти — les monades n’ont point de fenetres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Акциденции не могут отделяться или двигаться вне субстанций, как это некогда у схоластиков делали чувственные виды (species sensibiles). Итак, ни субстанция, ни акциденция не могут извне проникнуть в монаду» (G. W. Leibniz, — Monadologie, 7 — Opera philosophica, ed. J. E. Erdmann, 1840, p. 705).
Доказательства см. в книге:
Louis Соuturat — La Logique de Leibniz d’aprecs des documents inedits, Paris; 1901. Note X, sur la definition de Pamour, pp. 567–573.
G. W. Leibniz, — Opera pholosophica, ed. J. E. Erdmann, 1840, p. 118; cp. Nouveaux Essais, II, ch. 20. § 4.
Chr. Wolf, — Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftl. Leben des Menschen, 1721, I, § 449.
M. Mendelssohn, — Abhandlung über die Evidenz in dem metaphisischen Wissenschaften, 1764, 2–te Aufl. 1786, I, 2, 48. Ссылки [92, 93, 94] — из Rud. Eis1er, — Wörterbuch der philosophischen Begriffe 3–te Auilage, Bd. II, Berlin, 1910, S. 712 Art. «Liebe».
Интеллектуализм Спинозы проходит чрез всю его «Этику» и особенно наглядно выражен во 2–ой части её. «Душа, — говорит Спиноза, — есть вещь мыслящая, res cogitans» (Ben. de Spinoza, — Ethices. Pars II, Def. 3. Benedicti de Spinoza Opera quotquot reperta sunt. Recognoverunt J. Van Vloten et. S. P. N. Land. Vol. I. Hagae Comitum, 1882).
Шеллинг, — Философские исследования о сущности человеческой свободы (пер. Л. Мееровича). СПб., издание Д. Е. Жуковского, 1908, стр. 19. — В самом деле, «Этика» пестрит излюбленным словом Спинозы, — «вещь, res». Постоянно говорит он о ненавидимой или о любимой вещи, и даже сам Бог называется «вещью мыслящей». Приводить цитаты было бы бесполезно, ибо пришлось бы ссылаться чуть ни на каждую третью страницу «Этики». Однако, нельзя считать этого пристрастия к слову «вещь» одною только литературною манерою философа: во–первых, и самая манера такая весьма много выражает, а во–вторых, Спиноза всегда говорил обобщенно о «любви» и «ненависти» к людям, предметам, состояниям, объединяя их под словом «вещь».
Терминология, введенная Аристотелем (Aristoteles,— Metaphysica, X 3, 1054а 32; X 8, 1058а 18; VII 11, 1037b 7101).
Destutt de Trасу. — Elements d’ideologie. 1803–1815. Part. III, ch. I, p. 160 (Цитую по Eis1er, — Wörterbuch. Bd. I, S. 543)
M. Pа1agуi, Die Logik auf dem Scheidewege, 1903, S. 167. (Цитую по Eisler,… Wörterbuch. Bd I, S. 44): «Dieselbe Wahrheit ist es, — die sich in unendlich vielen gleichlautenden Urteilsakten dargesteilen kann».
Аристотель, — Метафизика, V (Δ), 9. (Aristotelis Opera edidit Academia Regia Borussica, Berolini, 1831, volum II., p. 1018a, 7–10. — Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Kommentar von Albert Schwegler. Tübingen, 1847. Bd. I, S. 107). Французский переводчик Ж. Бартелеми–Сент–Илeр передает это место так:
«Il s’ensuit qu’evidemment l’identite est une sorte d'unite d’existence, soit qu’il s'agisse de plusieurs etres distincts, soit qu’il s’agisse d'un etre unique, qu’on regarde comme plusieurs. C’est ainsi qu’on dit par exemple qu'un seul et meme est identique a lui–meme; et alors on conisidere cet etre unique comme s’il etait deux etres au lieu d'un» (Metaphysique d'Aristote traduite en francais — par J. Barthelemy–Saint Hilaire. Т. II. Paris 1879, p. 135. livre V, chap. IX, § 6).
У русских переводчиков П. Первова и В. Розанова занимающее нас определение тождества читается так:
«Отсюда очевидно, что тожество есть некоторого рода единство бытия, когда [предметов] много или когда [единым] пользуются как многими, например когда говорят, что то–то само себе тожественно, ибо в этом случае им пользуются как двумя предметами» (Аристотеля Метафизика. Перев. с греч. подлинника и объяснения П. Первова и В. Розанова. Выпуск первый. Книги Ι–V. СПб., 1895, стр. 160. Кн. V, IX, 3). Наконец, в немецком переводе Швеглера читаем: «Woraus sich ergibt, dass die Einerleiht eine gewisse Einheit ist, entweder von Mehreres dem Seyn nach, oder von Einem, das man aber als ein Mehreres behandelt, wie wenn man z. B. sagt, etwas sey mit sich selbst einerlei man behandelt in diesem Fall das Eine als wäre es eine Zweiheit …» (Albert Schwеg 1 e r, — id. Bd. 2, Tübingen, 1847, Fünftes Buch, cap. 96, § 82).
«Bcе возможные явления, — говорит Кант, — принадлежать, как представления, к целому возможному самосознанию. Но это самосознание, как трансцендентальное представление, необходимо и с априорною достоверностью обладает численным тождеством, так как без посредства этой первоначальной апперцепции ничто не может вступить в область знания. Так как это тождество необходимо должно входить в синтез всего многообразия явлений, поскольку они должны стать эмпирическим знанием, то явления подчинены априорным условиям, с которыми их синтез (аппрегензии) всегда должен сообразоваться. — Alle möglichen Erscheinungen gehören, als Vorstellungen, zu dem ganzen möglichen Selbstbewusstsein. Von diesem aber, als einer transscendentalen Vorstellung, ist die numerische Identität unzertrennlich und a priori gewiss; weil nichts in das Erkenntniss kommen kann, ohne vermittelst dieser ursprünglichen Apperception. Da nun diese Identität unzertrennlieh und a priori gewiss, weil nichts in das Erkenntniss kommen kann, ohne vermittelst dieser ursprünglichen Apperception. Da nun diese Identität notwendig in der Synthesis alles Mannigfaltigen der Erscheinungen, sofern sie empirische Erkenntniss werden soll, hinein kommen muss, so sind die Erscheinungen Bedingungen a priori unterworfen, welchen ihre Synthesis (der Apprehension) durchgängig gemäss sein muss» (I. Kant, — Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe 1781 [A]. Elementarlehre. II. Th., 1 Abth., 1. Buch, II Hauptst. 2 Absch., § 113. — Herausgegeben von K. Kehrbach, Verlag von Ph. Reclam 2–te Aufl., Lpz., §. 125. — По переводу H. О. Лосского, СПб., 1907 г., стр. 93, под строкой). — Это «тождество моего сознания в различные времена есть только формальное условие моих мыслей и связи между ними, но оно вовсе не доказывает численного тождества моего субъекта — es ist also die Identität des Bewusstseins meiner selbst in verschiedenen Zeiten nur eine formale Bedingung meiner Gedanken und ihres Zusammenhanges, beweiset aber gar nicht die numerische Identität, meines Subjects» (id., Elementarlehre. II, Th., II Abth., II Buch, I Hauptsch. Ausg. 1781 [A], S. 363. Reclam, S. 308; nep. H. О. Лосского, стр. 232, под строкою). — «Если я хочу познать посредством опыта численное тождество внешнего предмета, то я должен обратить внимание на устойчивую сторону явления, к которой, как субъекту, относится все прочее, как определение, и заметить тождество этой стороны явления в то время, как все остальное в нем меняется. Но я составляю предмет внутреннего чувства, и всякое время есть только форма внутреннего чувства. Следовательно, всякое последовательное определение своей души я отношу к численно тождественному я во всяком времени, т. е. к форме внутреннего наглядного представления обо мне. В виду этого мысль о том, что душа есть личность, должна была бы рассматриваться не как полученная путем вывода, а как вполне тождественное суждение самосознания во времени, и в этом причина того, что оно имеет значение а priori. В самом деле, смысл этого положения сводится, собственно, лишь к тому, что во все время, когда я сознаю себя, я сознаю это время, как принадлежащее к единству моего я, и совершенно все равно, скажу ли я, что все это время находится во мне, как индивидуальном единстве, или что я, со своим численным тождеством, нахожусь во всем этом времени. — Wenn ich die numerische Identität eines äusseren Gegenstandes durch Erfahrung erkennen will, so werde ich auf das Beharrliche derjenigen Erscheinung, worauf, als Subject, sich alles Uebrige als Bestimmung bezieht, acht haben und die Identität von jenem in der Zeit, da dieses wechselt bemerken. Nun aber bin ich ein Gegenstand des innern Sinnes und alle Zeit ist bloss die Form des Sinnern innes. Folglich beziehe ich alle und jede meiner successiven Bestimmungen auf das numerischidentische Selbst in aller Zeit, d. i in der Form der inneren Anschauung meiner Selbst — es ist einerlei, ob ich sage: diese ganze Zeit ist in Mir als individueller Einheit, oder ich bin, mit numerischer identität, in allerdieser Zeit befindlich» (id., Ausg. 1781 [A], S. 362; Beclam SS. 307–308; пер. Лосского, стр. 231–232, под строкою).
По выражению Штаудингера, Коген — «старшина — der Altmeister — неокантианства» (F. Staudinger, — Cohens Logic d. reinen Erkenntis und d. Logik d. Wahrnehmung. — «Kanstudien», 1903, VIII, 1).
Идея противоположности живого творчества во времени и механической законченности в пространстве, или, что почти то же, идея противоположности вещи и личности положена в основу новейших философем Анри Бергсона и Виллиама Штерна. Но ни в первой своей редакции, ни во второй мысль не имеет силы пробиться сквозь, правда, хотя и не механический, но однако и не личный витализм. Упомянутые нами философемы — не более как виталистический онтологизм, и доказательством этому может служить хотя бы одно то, что даже в более персоналистической из них, в системе В. Штерна, делается попытка опрeделить личность. Этого одного достаточно, чтобы убедиться в безличности этой философии. Почему же так вышло? — Мне думается, — потому, что оба философа, хотя и тяготясь вещностью, неразрывно связанной с рационализмом, однако не решаются открыто порвать с этим последним, т. е., другими словами, не осмеливаются на подвиг веры. Недовольные рассудком, они все же хотят как–то незаметно и без скандала ускользнуть из его царства, делая вид, что продолжают его дело. И тому и другому чужд трагический момент; ну, а с благодушием, «по хорошему», рассудка не преодолеешь. И вот оказывается на деле, что Бергсон почти не говорит о личности, — и это наиболее благоразумная позиция!, — а Штерн, испестривший свою книгу словом «Person», определяет личность, т. е., значит, считает ее за что–то уловимое рассудком, и понятие «вещь», этот рассудок в рассудке, объясняет чрез противоположение понятия личности. — Впрочем, вот определение личности, данное В. Штерном: «Личность есть такое сущее, которое, несмотря на множественность своих частей образует реальное, своеобразное и самоценное единство и, в качестве такового, несмотря на множественность своих частичных функций, осуществляет единую целестремительную самодеятельность. — Вещь есть контрадикторная противоположность личности. Она есть такое сущее, которое, состоя из многих частей, не обладает реальным, своеобразным и цельным единством и, выполняя многие частичные функции, не осуществляет никакой единой целестремительной самодеятельности. — Eine Person ist ein solche Existierendes, das, trotz der Vielheit der Theile, eine reale, eigenartige und eigen- wertige Einheit bildet, und als solche, trotz der Vielheit der Teilfunctionen, eine einheitliche, zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt. — Eine Sache ist das contradictorische Gegenteil zur Person. Sie ist ein solches Existierendes, das, aus vielen Teilen bestehend, keine reale, eigenartige und eigenwertige Einheit bildet, und das, in vielen Teilfunctionen functionierend, keine einheitliche zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt». (L. William Stern, — Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung. Erster Band: Ableitung und Grundlehre. Lpz., 1909, Einführung, S. 16. — Перевод определения — по Франку [см, 2 к стр. 5], стр. 172). — Далее у В. Штерна (SS. 19–19) идут «разъяснения» этих определений).
H. H. Сагарда, — Первое соборное послание св. Aп. и Ев. Иоанна Богослова, Полтава, 1903 [82].
См.: С. [И]. Соболевский, — О значении слов «Премудростью вонмем». («Странник», 1906 г., октябрь, отд. II, стр· 586–588).
А. Алмазов, — История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, 1884, гл. X, стр. 219–240.
Н. [Ч]. Чельцов, — Древние формы Символа веры православной церкви или так называемые апостольские символы, СПб., 1869.
Впрочем, не должно понимать это приравнение как метафорическое: тут — указание на мистический неизреченный свет Истины, о чем см. ниже [127].
Григорий Нисский, — О душе и воскресении. (Migne, — Patrol. ser. gr., Т. 46, col. 96, с).
Приводим полностью, в переводе М. Д. Муретова.
ГИМН ЛЮБВИ
апостола Павла.
I. Пролог.
Ревнуйте о дарах наибольших, —
и еще превосходнейший путь покажу вам.
II. Первая строфа.
Если я языками
Людей глаголю
И (даже) Ангелов, —
Любви же не имею;
Являюсь медью я звенящей,
иль кимвалом звучащим.
И если я пророчество имею,
и знаю тайны все я,
и всю науку, —
и если веру всю имею,
Чтоб горы преставлять, —
Любви же не имею:
Ничтожность — я
(Нет пользы мне)
И если все раздам имущество свое
И если тело я предам свое,
Чтоб быть сожженным мне, —
Любви же не имею:
Нет пользь мне.
III. Вторая строфа.
Любовь долготерпит:
Милосердствует любовь,
Не завидует любовь,
Не превозносится,
Не надмевается,
Не знает безобразия,
Не ищет своего,
Не прогневляется,
Не мыслит зла,
Не радуется о неправде.
А сорадуется истине,
Все покрывает,
Всему верует,
Всего надеется,
Все переносит.
IV. Третья строфа.
Любовь отнюдь не престает,
Хотя пророчества исчезнут,
Языки прекратятся
И знание упразднится
Отчасти ведь мы знаем,
Отчасти и пророчим:
Когда–ж настанет совершенство
Сие «отчасти» упразднится.
Когда я был младенец, —
Глаголал как младенец,
и думал как младенец:
и мыслил как младенец:
Когда же стал мужем я,
То упразднил младенчествие свое.
Теперь ведь видим мы чрез зеркало в загадке,
Тогда ж — лицом к лицу;
Теперь отчасти знаю,
Тогда ж познаю как и познан (я).
Так — пребывает
Вера — Надежда — Любовь, —
Троица эта:
Но большая из них — Любовь:
V. Эпилог.
Достигайте Любви.
[И ревнуйте о духовных (дарах),
Наипаче ж, да пророчите].
(М. Д. Муретов, — Новозаветная Песнь любви сравнительно с «Пиром» Платона и «Песнею Песней» (из «Богослов. Вестн.» за 1903 г. № 11 и № 12 и отд. оттиски).
На тему о различии альтруизма и христианской любви написано много, особенно у свв. оо.; из новой литературы назову почти наудачу: К. Н. Леонтьев, — Наши новые христиане («Собрание сочинений», изд. В. М. Саблина, М., 1912, Т. 8).
Л. [А.] Тихомиров, — Альтруизм и христианская любовь. Вышний Волочек, 1905 («религиозно–философская библ.», вып. IX).
[М. А. Новоселов], — Гуманизм. Его смысл и значение в новой истории человечества. М., 1912 (id., вып. XXVII).
М. [А.] Новоселов, — Психологическое оправдание христианства. М., 1912. (id., вып. XXVIII).
[Д–р медицины] А. А. Соколовский, — Религия любви и эгоизм. Часть первая, М., 1891.
Прот. А. М. Иванцов–Платонов, — Христианское учение о любви к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистических. М., 1884 (отдельное издание, и в собрании слов и речей прот. Иванцова–Платонова, под заглавием «За двадцать лет священства»).
О понятии «уничижения», в специально–богословском смысле, применительно к Иисусу Христу, см.:
М. [М.] Тареев, — уничижение Господа нашего Иисуса Христа, М., 1901. IX+192+II стр. (тут же указана библиография вопроса).
М. М. Тареев, — уничижение Христа («Основы Христианства», Т. I, изд. 2–е, Сергиев Посад, 1908, стр. 7–134). То же, что и предыдущее, но в отчасти упрощенной, отчасти дополненной переработка.
А. Чекановский, — К уяснению учения о самоуничижении Господа нашего Иисуса Христа (изложение и критический разбор кенотических теорий о лиц Иисуса Христа.) Киев, 1910 г. IV+220 стр.
Мысль о «несправедливости» индивидуального существования и о смерти, как о процесс возвращения в первичное общее бытие, в более или менее расчлененном виде высказывалась многими греческими философами или, точнее сказать, почти всеми ими подразумевалась. По–видимому, она была основною в том сложном идейном целом, которое отражало и возбуждало переживания мистерии. Весьма вероятно, что мысль эта — восточного происхождения, хотя она могла бы быть и вполне автохфонной, ибо снятие личной отграниченности и хмелевой восторг слияния со всем бытием, производимый мистериями, сам по себе достаточен, чтобы дать родиться мысли о греховности индивидуального существования и о блаженстве, а потому и первобытной святости бытия вне себя.
Эту мысль особенно определенно выражает Анаксимандр. По сообщению Феофраста, сохраненному Симпликием, «Анаксимандр, сын Праксиада из Милета, ученик и последователь Фалеса, утверждает, что бесконечное есть начало — αρχή — и материальная причина — στοιχεϊον — всего. Он первый ввел слово «начало», высказал предположение, что оно не вода, ни что–либо другое из так называемых элементов, но некоторая другая бесконечная природа, из которой образуются все небеса и все в них миры. От этого начала все вещи получают рождение и, согласно необходимости, уничтожение, ибо в определенное время он претерпевают наказание и несут возмездие за взаимную несправедливость: так выражается он, пользуясь слишком поэтическими оборотами — έξ ών δέ ή γενεσίς έστι τοίς ούσι, καί τήν φθοράν εϊς ταϋτα γίνεσθαι κατά τό χρεών, διδόναι γάρ αύτά δίκην και τίσιν άλλήλοις τής αδικίας κατά τήν του χρόνου τάξινι ποιητικωτέροις όυτως όνόμασιν αύτά λεγων (Teophrasti physic. opinionum, fr. 2, приводится в Simplicii in Aristot. Physic., f. 6r 36–54. — Hermannus Diels, — Doxographi graeci, Berolini 1879 p. 475). Однако, Феофраст, в своем глубоком сообщении, далеко не прав, видя в словах Анаксимандра «слишком поэтические выражения», хотя едва ли совсем прав и слишком онтологизирующий историк философии, утверждающий, на основании изучения египетских верований, что и «у древних греческих философов словами νόμος, δίκη обозначается первопространство» и что «оттого и здесь αδικία вещей есть не иное что, как уклонение их от первопространства и τίσις, возмездие, есть не иное что, как обращение их в беспредельное пространство» (Ор. [М.]. Новицкий, — Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Киев, 1860. Ч. II, стр. 93, прим. 81. — Ср. о религии египтян, id.,Ч. I, прим. 5). Общая мысль Анаксимандра проста, а именно: «Неправда есть обособление, взаимное противоположение, отделение; правда торжествует в уничтожении всего обособившегося, отдельные вещи возвращаются к своим элементам. Но эти последние поглощаются беспредельным, в недрах которого рождаются и уничтожаются бесчисленные миры» (Кн. С. Н. Трубецкой, — история древней философии Часть первая, М., 1906, стр. 66. — Ср. Т. Гомперц. — Греческие мыслители. Пер. со второго нем. Изд. Е. Герцык и Д. Жуковского, СПб., 1911, Т. I, стр. 50), но, как и все положения первоначальной метафизики, эта мысль есть отражение конкретной мистической психологии и даже, определеннее, орфических представлений о душе, возникающих на почве мистерий, а не построения отвлеченного рассудка. См.:
Гомперц, — id., гл. 5–ая: орфико–пифагорейское учение о душе, стр. 108 сл.
С. [С.] Глаголев, — Греческая религия. Ч. 1–я, Верования. Сергиев Посад, 1909. гл. 5–я: Богословие орфиков, стр. 216 сл.
Руд. Штейнер, — Мистерии древности и христианство. Разрешенный автором перевод книги: Rud. Steiner, — Das Christentum als mystische Tatsache, Lpz., 2 Aufl., 1910· M., 1912.
R. Hamerling. — Die Atomistik des Willens, 1891, Bd. II, S. 164 (цитирую по: Rud. Eis1er, — Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 3–te Aufl., Berlin, 1910. Bd. 2, S. 713).
Мысль о полной обособленности ценностей и данностей, долженствования и наличности, норм и фактов — едва ли не характернейшая для всего нео–кантианского движения философии, как в узком, так и в расширительном значении термина нео–кантианство.
Ф. М. Достоевский. — Братья Карамазовы. «из бесед и поучений старца Зосимы» («Собрание сочинений», Т. 12, стр. 337).
Joh. Scotus Erigenа. — De divisione naturae; I, 74.
(Migne, — Patrolog. ser. latina, T. 122, col. 519 В). Тут же дается и другое определение любви: «Amor est naturalis motus omnium rerum, quae in motu sunt, finis quietaque statio, ultra quam nullus creaturae progreditur motus» (id.).
«Священное Писание называет Бога светом. Название сие, по обыкновенному разумению, выражает следующее свойство Божие: его чистоту. Но не выражает ли оно и существа Божия? Не есть ли Бог в самом деле свет, и Существо Его не имеет ли чего похожего на свет …?» (Иннокентий, Архиеп. Херсонский и Таврический, — О Боге вообще; как учредителе царства нравственного или небесного. Сочинения, изд. М. О. Вольфа, СПб. И М., 1877, Т. 10, стр. 255–265). — Учение о Боге, как неизреченном свете, содержится чуть ли не у всех мистиков; систематически изложенным находим его у англичанина Джона Пордеджа (John Pordadge), жившего в XVII–м веке (1625–1698 гг.), в его основном труде: Meta physica vera et divina, переведенном на язык немецкий и русский над заглавиями:
Pordädschen’s göttliche und wahre Metaphysik, übersetzt von Loth. Vischer, 1725.
Божественная и истинная метафизика, или дивное и опытом приобретенное ведение невидимых и вечных вещей, открытое чрез Д. И. П. [Москва, в тайной типографии, около 1784–1786 годов]. 3 тома, 547+600+639 страниц in–quarto. Книга эта была конфискована и, по Сопикову, определяется как редчайшая.
Вот как учит Иоанн Пордeдж: «Бог есть Свет, (l Ин. 15) следовательно, и имеет Существо Его Пространство, глубину, высоту, долготу и широту. Ибо не можно представить себе Света, который бы не имел пространства, коего блеск не распространялся бы около себя, который бы совсем никакого места не освещал, и ясностию своею не занимал. Не можно напротив того возражать, что Бог только сравнительным образом называется Светом, понеже без всякого основания сказывается, что Писание сравнительным только образом называет Бога Светом. Паче же Бог всесобственнейше имеет сие имя; и ежели мы рассматриваем и возвышенность Его, тонкость и ясность блеска Его, то не можно сего внешнего света, который называют телесным, именовать сим именем иначе, как весьма не собственно: ибо непостижимо далеко превосходит его Божественный блеском и славою; как то многие свидетельствуют, кои сие дознали. — и в сем смысле, то есть в рассуждении Его Всевысочайшей Ясности и Светлости, и Его всесубтильнейшего Существа, истинно то, что Духовный и Божественный Свет совсем разнствует от телесного или внешнего, и есть особого рода. Впрочем же оба имеют, в сем рассматривании света, одинакую натуру и свойства; и никто никогда не докажет противного. — Я хотел бы, однако, слышать, что они разумеют под именем Духовного света, ежели хотят показать чрез то не что иное, нежели возвьныенность блеска его и тонкость существа его. Ибо одно Познание само по себе не можно называть Светом. Понеже все диаволы и осужденные имеют знание многих вещей, не только одно образное, которое у них осталося еще и о Божественных вещах, но и существенное и опытное о своем Темном Мире, и о находящихся в нем вещах; кои однако все купно ни малейшей искры света не имеют. — Потому духовный Свет есть истинный и собственный свет, по общему понятию, которое все человеки об нем имеют, то есть ясносияющая ясность. И такого света, который все должны признавать за нечто вещественное и за существенное совершенство, не можно отрицать Богу, не касался Славы Его. О сем тем менее можно сомневаться, что в Откровении Иоаннове о Вечной Жизни точно сказывается: «и нощи не будет тамо, и не истребуют светильника или света солнечного; понеже Бог Господь будет освещать их» (Откр. 22, 5). Сие можно разуметь не иначе, как об истинном Чувствительном Свете, которым очи блаженных освещаемы будут…. Непристойно также, ежели сказывают, что сей внешний свет есть телесное существо, ежели чрез то разумеют такую вещь, которая ничего в себе не имеет, кроме что простирается в высоту, глубину длину и широту, что в себе самом без всякой жизни, и совсем страждущее есть. — Понеже Свет есть Жизнь (Ин 1, 4, 5). Притом купно действует он из своего собственного внутреннего основания, и от самой собственной силы своей Следовательно, он есть Дух, а не тело. И как охотно уважать сие заключение о божественном Свете, так должно и о внешнем столь долго признавать его за правильное, пока твердыми доказательствами докажется, что сей есть совсем другой и оному противуположенной натуры». Далее опровергаются некоторые возможные возражения против сего; но мы не будем входить в подробности. Затем, автор говорит:
«… Как Бог есть бесконечное Существо, так есть Он и бесконечный Свет, и бесконечное пространство. — и подобно как в день сей внешний Свет все окружает, все вмещает в себе, и все вещи в нем живут, движутся и суть; так и Божественный. ночью и днем [ибо нет тмы в Боге, но непрерывный (2 Ин. 5; Пс. 138, 12) день] все наполняет, все проницает, все объемлет, и в Нем мы живем, движемся и есмы. Он во внутренности всех вещей есть основание, которое все носит и держит; нет ничего, что бы могло скрыто быть от Него. Хотя Он Сам по причине все превосходящей тонкости или субтильности существа своего не может открыт быть мощию твари, но должно в глубочайшем смирении испрашивать и ожидать свободно–вольного и милостивого откровения и сообщения Его. Святое Писание, сокровище Божественной Истины, почти на всех страницах преподает и внушает оное. — и сие рассматривание Света открывает также слабость следующего возражения, когда сказывается, что ежели приписывают Богу Пространство, то следует оттуду, что Он может и разделен быть. — Ибо раздели же только, ежели можешь, сей внешний солнечный Свет на существенные части, и покажи нам частицу, которая бы отделена была от целого: заключи её в стекло, и сохрани для употребления; то будешь иметь изрядный светильник. — Ежели же ты не можешь сего сделать, то признай, что части, которые воображаешь себе стоящими одну близ другой в Пространстве, находятся только в воображении твоем, и назидаемая тобою на них делимость есть ничто иное, как единственное дело разума твоего (merum ens rationis). — Посмотри на стекло, сколь плотное оно тело, так что и вселетучейшие духи не могут проницать его, но задерживаются в нем; и однако сколь легко проходит сквозь него Свет? и как пребывает Свет всегда цело неразделим в своей объятности?». Значит, тем более должен проницать беспрепятственно все тела Свет Божественный. «Но скажешь, ежели же свет не может так делим быть, чтоб одна часть его особо заключалася, то однако может Он быть из многих мест исключен, и купно пространство его умалено и умножено; что в самом деле столько же значит, как ежели бы он разделен был. — По моему же мнению сие не может почтено быть равно с делением. Пачеже сие исключение приносит с собою концентрирацию, или соточнение, и вящшее соединение его самого. И что сие не противоборствует натуре сотворенного духа, чтоб он стягивался, также и расширялся; даже не противно и не сотворенному, сколько принадлежит до второго существа его; о том явственно свидетельствует автор из многого дознания своего». ([И. Пордедж], — Божественная и истинная метафизика, Часть первая, кн. I, гл. XII, §§ 1–23, стр. 262–269. И см. далее).
Канон воскресный 6–го гласа, ирмос 5–й.
Заметим кстати, что это почитание света, выразившееся столь наглядно в гимне «Свете тихий», — происхождения весьма древнего. По крайней мере св. Василий Великий именно о сем гимне свидетельствует в 375–м году: «Отцам нашим заблагорассудилось не в молчании принимать благодать вечернего света — χάριν τοϋ έ́σπερίνου φωτός, — но при явлении его немедленно благодарить. И не можем сказать, кто виновник сих речений светильничного благодарения; по крайней мере народ возглашает древнюю песнь» (Св. Василий Великий, — О Святом Духе, к св. Амфилохию, еп. Иконийскому, 29, 73. — Mignе, — Patrol. ser. gr., Т. 32, col. 205 А).
Но и ныне кто не переживал умиряющей благодати «света вечернего», какой–то непонятной кротости и потусторонности лучей заходящего солнца. Это, всем известное чувство, — одна из музыкальных тем Ф. М. Достоевского, и она вступает у него всегда в образе лучей заходящего солнца. Так, неземною музыкою звучат предсмертные слова старца Зосимы:
«Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по–прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие кроткие умиленные воспоминания, милые образы из всей долгой и благословенной жизни …» и т. д. Длинные косые лучи заходящего солнца — вот символ тихого умирания, перехода в другой мир. — Приговоренному к смертной казни, по словам кн. Мышкина, бросались в глаза лучи, сверкавшие от позолоченной крыши Собора. Он упорно смотрел на эти лучи, оторваться от них не мог, ему начинало казаться, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как–нибудь сольется с ними. — Арестант Михайлов умирает вечером ясного морозного дня; крепкие, косые лучи заходящего солнца пронизывали зеленые стекла больнично–арестантской палаты. — Нелли за три дня до своей смерти, как бы предчуствуя ее, с тоской смотрит на заходящее солнце. — Лиза в «Вечном муже» умирает в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца. — Раскольников задумывается о смерти, смотря на последний розовый отблеск заката. — В «Идиоте» полу–сумасшедший старик–генерал рассказывает о смерти своей жены в тихий, летний вечер, с закатом солнца. — В «Подростке» Крафт, прежде чем застрелиться, таинственно заявляет, что он любит закаты солнца. — Алеше запомнились косые лучи заходящего солнца, когда ему пришлось увидеть свою бьющуюся в истерике мать. — Зосима рассказывает о смерти своего брата в вечерний, ясный час, когда солнце закатывалось. Ему, как и Алеше, врезалась в память картина из раннего детства. Вспоминая ее, он точно видит, как возносится фимиам, а сверху через куполы, так и льются в Церковь Божию, лучи, и, восходя к ним волнами, тает фимиам. Этот закатный луч солнца — символ нашей связи с другим миром. — Макар Иванович рассказывает об одном купце, сильно сокрушавшемся о том, что из–за него маленький мальчик бросился в реку и погиб; этот купец заказал художнику картину, воспроизводящую это событие. Художник картину нарисовал и на ней навстречу мальчику пустил с неба луч, «один светлый луч».
«На небо очи пущаю моего сердца к Тебе Спасе, спаси мя Твоим осиянием» (1–й антифон утрени недели 2–го гласа). — Термин осияние, ελλαμψις, равно как и другие, ему подобные, указывают, вне всякого сомнения, на несозданный Фаворский Свет — энергию Триединого Божества и, прямо или косвенно, связывается с учением о сем предмете, наиболее отчетливо и последовательно выраженном афонскими исихастами. В высокой степени важные и поучительные споры о Фаворском Свете выяснили основы православной гносеологии и весьма существенные стороны онтологии. Вот почему я считаю своим долгом указать, хотя и скудную, литературу по этому вопросу. Вот она:
Игумен Модест, — Святый Григорий Палама, Митрополит Солунский, поборник православного учения о Фаворском свете и о действиях Божиих, Киев, 1860.
Епископ Порфирий Успенский, — Восток христианский. Афон. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1845 г. Киев, 1877. Ч. I., отд. 1–е, стр. 229–262.
Он же, — id., история Афона. Часть III, отд. 1. Киев, 1877. § 32, стр. 134–144; учение исихастов.
Он же, — id., id., Часть III, отд. 21. СПб., 1892. Изд. Имп. Акад. Наук, под ред. П. А. Сырку. Глава 18–я, §§ 97–99: веровое и нравственное состояние святогорцев; учение исихастов; толк афонских исихастов, судьба его и литература.
Он же, — id., id., Часть III, отд. 211: Оправдания истории Афона. №№ 25–50, стр. 682–861: подлинные тексты и документы.
Ф. И. Успенский. — Синодик в неделю православия. Одесса, 1890. — Он же, — Очерки по истории византийской образованности. СПб. 1892.
Епископ Алексий, — Византийские церковные мистики 14–го века. Казань, 1906 г.
И. Соколов, — Варлаам и варлаамиты («Православная Богословская Энциклопедия», изд. под ред. А. П. Лопухина. Петроград, 1902, т. 3, столб. 149–157). — Он же, — Григорий Акиндин (id., 1904, т. 4, ст. 680–682). Он же. — Григорий Синаит (id., т. 4, а также см. др. Имена).
Г. Нeдетовский, — Варлаамитская ересь («Труды Киевской Духовной Академии», 1873, февраль).
П. А. Сырку, — К истории исправления книг в Болгарии в XIV век. СПб., 1899.
Karl Krumbacher, — Geschichte der byzantinische Litteratur. München, 1897.
Γρ. Παπαμιχαηλ, — 0׳ άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Έν’ Αλεξανδρία, 1911. Рец. в «Echos d'Orient», 15–e an., № 97, 1912 nov. — dec., pp. 528–531. — Он же, — Отчет о книге Ставра, Νέα Σιών. Т. 4 (1896), σ. 565. — Он же, — Χριστανισμος καί πνευματισμός, 1912.
Св. Григорий Палама, — Православное исповедание («Воскресное Чтение», 1841 г., № 3, стр. 17–21). —
Главнейшими защитниками православного учения о Фаворском Свете были: св. Григорий Палама, вселенский патриарх Филофей, царица Анна, сын её цaрь Иоанн Палеолог, соцарствовавший с ним Иоанн Кантакузин и монах Исидор Вухирас, впоследствии вселенский патриарх. Противниками сего учения были: калабрийский монах Варлаам, ученый Григорий Акиндин, вселенский патриарх Иоанн Калекас и ученый Григара́с. Произведения их собраны в последних 11–ти томах второй греческой серии Патрологии Миня.
Св. Симеон Новый Богослов, — Молитва от Божественных вопрошений святого причащения (молитва ко святому причащению 7–я).
Относительно трудного для объяснения речения «ό πατήρ των φώτων» (Иак. 1, 17) многие экзегеты думают, что тут Бог называется «источником духовного света»; таково мнение Фромонда, Баумгартена, Штарке. Но Гофман понял, что под именем «τα φώτα» можно разуметь только светила небесные. Эту последнюю мысль развивает и представляет в усовершенствованном виде Еп. Георгий. «Нет ничего странного, — добавляет он, — что Бог называется отцом светил: известно, что подобное же выражение употреблено в Книге Иова 38, 28: «кто есть отец дождю?» — Такое понимание наименее искусственно и принимается большинством экзегетов», как–то Розенмюллером, Визингером, Гутером, Шеггом. (иеромонах [ныне Епископ) Георгий [Ярошевский], — Соборное послание св. Апостола Иакова. Опыт историческо–экзегетического исследования. Киев, 1901, стр. 129–131).
«Нужно полагать, что в звуках, то, что просто, не имеет красоты. Однако, в прекрасном созвучии, каждый звук, даже отдельный, имеет свою собственную красоту» (Плотин, — Эннеады, I, 6, 1. — Plotini Enneades edidit Ric. Volkmann, Lipsiae. 1883, Vol. I, p. 85. — По переводу Bouillet, Т. I, pp. 99–100). «изолированный тон, воспринятый нашим ухом, бесследно исчезает для нашей психики почти непосредственно за прекращением вибраций; мы не в состоянии распознать его, определить его высоту, сравнить с изолированным тоном, который слышали 1/4 часа назад, как не можем воспроизвести его десять минут спустя; лишь крайне редкие личности, одаренные исключительным музыкальным дарованием, обладают способностью приблизительной оценки изолированного тона, да и они, для такого определения, предварительно воспроизводят услышанный тон голосом» (А. Бeрнштейн, — Мир звуков как объект восприятия и мысли. «Вопросы философии и психологии», кн. II (32) 1896, март–апрель, отд. II. стр. 111) — «Неопределимые в отдельности элементы её [мелодии] приобретают при своем сочетании новые качества, способствующие их совокупной оценке; очевидно, та квалификация, которая отсутствует у отдельного тона, присуща совокупности их; и не определяя каждого члена, она определяет их последовательный ряд» (id., стр. 112). — Хотя наше ухо способно воспринимать тоны с любым количеством колебаний, но распознавание и различение их ограничено пределами определенных отношений. — итак, для слухового восприятия не столько важно абсолютное количество числа колебаний воздушной среды, сколько отношение величин последовательно изменяющейся быстроты колебаний. В каждом ряде последовательных звуков наше восприятие либо выделяет только те, которые относятся друг к другу, как ряд определенных отношений между некоторыми целыми числами, либо искусственно и приблизительно сводит остальные к тому же законному ряду» (id., стр. 116). — «Тоны запоминаются не сами по себе, а в своих взаимных отношениях быстроты колебаний; мысль запечатлевает не абсолютную высоту каждого тона, а их последовательность, соответствующую последовательности отношений определенных целых чисел. Старая мелодия в новой тональности распознается безошибочно, благодаря тому, что её памятный образ состоял не из ряда тонов определенной высоты, а из ряда отношений, не изменяющихся при изменении тональностей. Пределы такого отожествления в памяти не ограничиваются никакими факторами; в границах возможного восприятия физической гаммы от самых низких до самых высоких тонов, переходя пополутонно из тональности в тональность, изменяя свой тембр до бесконечности в различных инструментах, мелодия остается тем не менее строго тождественной со своим памятным образом, так как она остается математически верной себе самой, т. е. последовательности своих элементов. Мы помним мелодию, хотя не можем подчас определить, от какого инструмента мы его восприняли.» и т. д. (id., стр. 116–117).
«Музыка доставляет нам удовольствие, хотя красота её состоит только в соотношениях чисел и счете ударов и колебаний звучащих тел, повторяющихся через известные промежутки, счете, который мы не замечаем и который душа наша непрестанно совершает» (Лейбниц, — Начала природы и благодати, основанные на разуме, 17. — Г. В. Лейбниц, — избранные философские сочинения. Перевод членов Психологического общества под ред. В. П. Преображенского. М., 1890, стр. 336).
«Музыка доставляет нам удовольствие, хотя красота её состоит только в соотношениях чисел и счете ударов и колебаний звучащих тел, повторяющихся через известные промежутки, счете, который мы не замечаем и который душа наша непрестанно совершает» (Лейбниц, — Начала природы и благодати, основанные на разуме, 17. — Г. В. Лейбниц, — избранные философские сочинения. Перевод членов Психологпческого общества под ред. В. П. Преображенского. М., 1890, стр. 336).
Один из новейших исследователей характеризует подвижничество как «искусство святости» (Gordon Mi1burn, — А Study of Modern Anglicanisme, London, 1901, pp. 19–23. — Цитата из: Вл. [A.] Кожевников, — О значении христианского подвижничества в прошлом и в настоящем. Часть первая, М., 1910, стр. 14–15, прим. 27 на стр. 91).
Но эта характеристика — вовсе не новость, и у древних подвижников, например у Иоанна Кассиана Римлянина, у иноков Игнатия и Каллиста Ксанфопулов и др., часто встречается наименование духовного делания «художеством» и даже «художеством художеств».
Это — не метафора, ибо, если всякое художество есть преобразование того или другого вещества, вложение в него нового образа высшего порядка, то в чем ином состоит духовное делание, как ни в преобразовании всего существа человеческого? — Мысли в таком направлении, кроме, так сказать, классических трудов по подвижничеству, собранных в «Добротолюбии», весьма отчетливо и настойчиво проводятся в книгах подвижников нового времени:
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу, изд. 3–е, Казань, 1884 (автор неизвестен).
Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой. Сергиев Посад, 1911. — (Книга эта написана как продолжение предыдущей, но в самом ли деле писал ее автор предыдущей — неизвестно. Есть некоторые основания думать, что она принадлежит Оптинскому Старцу иеросхимонаху Амвросию, но и это не удостоверено).
Схимонах Иларион, — На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынников о внутреннем единении с Господом наших сердец, чрез молитву Иисус Христову, или духовная деятельность современных пустынников. 2–е изд., исправленное и много доп. Баталпаш. Куб. обл., 1910. 3–е — Киев, 1912.
Из глубокой древности ведется обычай называть сборники аскетических творений Филокалиями. Известно, что уже св. Василий Великий, в IV–м веке, так озаглавил катены из Оригена. Среди других сборников такого рода должно упомянуть наиболее полный из них — «Φιλοκαλία των ιερών νηπικών», — изданный в 1782–м году в Венеции Иоанном Маврокордатом. Имеются, — под заглавием «Добротолюбие», — пяти–томные филокалии и в русском перевод, — Еп. Феофана Затворника, — выдержавшем 4 издания. «Словом Добротолюбие переведено, — говорит переводчик во Вступлении к своему переводу сего собрания словес отеческих, — греческое название его φιλοκαλία, которое означает: «любовь к прекрасному», «возвышенному», «доброму», (Добротолюбие в русском переводе, дополненное, изд. 4–ое, Т. 1, М., 1905, стр. III). Уже из этого замечания явствует, ка́к недостаточно и неправильно толкование слова «добротолюбие», данное свящ. Григорием Дьяченко (свящ. Григорий Дьяченко, — Полный церковно–славянский Словарь. М., 1900, стр. 148). Вот оно, полностью: «Добротолюбие = склонность к деланью добра, любовь к добродетели». Несомненно, что в понятии «добротолюбия», как и в греческом «φίλοκαλία», основной момент — художественный, эстетический, но не моральный. По объяснению Анфима Газиса ή φιλοκαλία означает «αγάπη πρός το καλόν, ή τοϋ καλόν καί ωραίου ή τιμίου αγάπη — любовь к красоте, или любовь к прекрасному и красивому или драгоценному» (Ανθιμου Γαζη Λεξικόν Ελληνικόν, Εκδοδις πρώτη. 'Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Τομος τρίτος' 'Εν Βενετία, 1816, στ. 1036). А по объяснению Генр. Стефана (Henricus Stephanus, — Thesaurus Graecae Linguae. Post editionem anglicam… tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius et Ludovicus Dindorfius. Parisiis, 1865. Vol. 8, coll. 845–847). φιλοκαλία — «Studium pulchritudinis, quo quis pulcras aut pulcros amat: quo sensu objecta fuit Socrati φιλοκαλία, perinde ac si dictum fuisse παιδεραστίας Studium honestasis, rerum honestatum»· Отсюда, по Газису, происходят τό φιλοκάλιον, φοκάλιον, φροκάλιον и φροκαλία. Слово родственное, φιλόκαλος, объясняется Газисом как «любитель красоты», как «любящий прекрасное, — красивое, драгоценное и приличное» и даже как «φιλόκоσμος — любитель украшений»; по крайней мере, у Ксенофонта (Киропедия, 1, 3, 3) встречается такое разъяснение: «παϊς ών φιλόκαλος ήδετο τη στολή; мальчик, будучи любителем украшений, радовался одежде». Φιλόκαλος может, далее, означать «честолюбивый», «добродетельный», «благородный», «мужественный», «великодушный», затем «приличный» в смысле «светский» и даже «распутный» (Газис, — id.). Однако, едва ли нужно указывать особо, что эти значения — побочные и что в основе их всегда лежит коренное представление о склонности к красоте, к изяществу. Многочисленные примеры такого словоупотребления φιλοκαλία собраны в вышеупомянутом словаре Стефана (id.).
Приблизительно те же значения имеет и глагол φιλοκаλέω, а именно, по Газису: «φίλος τού καλού είμί», «φιλοτιμέομαι», «φιλοκοσμέω» и m. g. (id.). А по Стефану (id.) φιλοκαλέω — «Pulchritudinem amo, Honestatis sum studiosus aut rerum honestatum». В одной из своих речей, сохраненных Фукидидом (II, 40), Перикл свидетельствует, что любовь к прекрасному, — филокалия, красото- или доброто–любие, — наряду с любовью к мудрости, — философией, мудро–любием или любо–мудрием, — была основным стремлением афинян. «Φιλοκαλοϋμεν μετ' εύτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας», — говорит Перикл; или, как передает эти его слова немецкий переводчик Фукидида Осиандер, «мы любим прекрасное, но с умеренной роскошью; мы любим науки, однако не делаясь из за них расслабленными». Эти–то основные и нераздельные направления древней души, философия и филокалия, продолжаются, в преображенном виде, и восточным православием, сохранив даже свои древние термины. Философией, как известно, стало тут называться Богомысленное житие подвижников и то учение, коим оно оправдывалось, т. е. догматика вообще и догмат Троичности — в особенности; а филокалией — Богоукрасительное их художество.
Вот еще несколько примеров словоупотребления φιλοκαλέω, заимствуемых мною из словаря Стефана:
«Φιλοκαλούσа και χαίρουσα τη ποικιλία» (Plutarch. Moral., р. 1044 С). — «Тα περι την έκφοράν βασιλικώς έφιλοκάλησε» (Diodor. 20, 37. — с оттенком осуждения). — «Μάλιστа δε πάντων περϊ παιδοτροφίαν φιλοκαλούμεν — Honestatum colimus circa educationem liberorum» (Joseph, с. Apion. I, 12). — «Οι νέοι φιλοκαλούσι μάλστα περι τάς ενταύθα εύωχίας λαμπρυνόμενοι» (Strabo 14, ρ. 640) — т. е. быть щедрыми относительно пирушек. «Φιλοκαλούσι περι τήν των λόγων έμπειρίαν» (Dio Chr., р. 253 D). С инфинитивной формой φιλοκαλεϊν означает «contendo», «стремлюсь». Так, «φιλοκαλών 'Ελληνικαΐς φυτείαις διαχοσμήσαι τά βασιλεία» (Plutarch. Alex., с. 35) и т. д. Далее, этот глагол означает «выглаживаю», «шлифую», «чищу», «мету», «роскошно украшаю». Примеры такого словоупотребления собраны Стефаном. Приведем только два: «φιλοκαλήσας τά τετράπυλα μαρμάροις» (Ioann. Mal., р. 232, 20); «φιλόκαλουμένου τού τρούλλου τής έκκλησίας» (id., 489, 19). — Весьма характерный пример приводит фан Гервepден (Henricus van Herverden, — Lexicon Graecum supplеtorium et dialecticum, Lugduni Batavorum, 1902, р. 874, φιλοκαλίσαι) из папируса 616–го года: «και οΐκεϊν και διοικεΐν και ενποιεΐν και μεταποιεΐν και φιλοκαλεσαι (поместье) καθ' όν άν βουληθείη τρόπον και πάσαν φιλοκαλίαν εν άυταΐς ποιήσασθαι την αυτω δοκουσαν, και άμπελον εν αυταϊς άνάξαι και λάκκους ενορυξαι (Kenyon, — Late Byzantine Papyri, nё. 483, 1); эти слова можно сопоставить (H. C. Müller, — Arch. f. Papyrusf. I 3, р. 439) с латинскою формулою у Купация: «Ea lege ut inserendo, plantando, arando, poliendo, colendo, meliorem eum et fructuosiorem faciat etc.» Вот это–то самое и делали филокалы–подвижники, но не над помещичьми мызами, а над поместьем своих личностей.
ДОБРО́ТА (τό κάλλος, decor, forma, pulchritudo, ή καλλονή, species, excellentia, gloria, — краса, красота. «Подаждь добро́те моей силу» (Пс. 29, 8); «красе́н добро́тою» (Пс. 44, 8), или, по переводу Псалтири Амвросия Зертис–Каменского, М., 1878, «краснейший», по переводу Тремеллия, Hannoveriae, 1624 (= Berlin, 1878) — «multo pulchrior», по Синодскому переводу — «Ты прекраснее»; «возжелает царь добро́ты (а по Синодскому переводу — красоты) твоея» (Пс. 44, 12); «добро́ту (καλλονήν, по Синод, пер. — красу) Иаковлю» (Пс. 46, 5); «и добро́ту (по Тремеллию — gloriam, по Синод. пер. — славу) их» (Пс. 77, 61)» (Петр Гильтебрандт (Рязанский). — Справочный и объяснительный словарь к Псалтири СПб., 1898, стр. 115).
Подобно сему, по Невоструеву, «Доброта́ [?!] — (κάλλος) = привлекательная наружность, красота, изящество, блеск, великолепие (Быт. 49, 21; Втор. 33, 17; Пс. 29, 8; Прит. 6, 25; 31, 31; Пpем. 5, 16; Сир. 3, 8, 9, 26, 21, 22 и др.); внутреннее совершенство, доброта, καλλόνη; цена, достоинство, слава; добродушие, благость, милосердие (Сир. 31, 97); красота, украшение (Пс. 46, 5); красота, искусство (I, 24 n. 6. 27, n. 1, 2. М. 10 и 8, 2)». (Свящ. Григ. Дьяченко, — Полный церковнославянский словарь, М., 1900, стр. 147–148, подробности по тому же вопросу см. У Сpезневского, Т. I, см. ниже).
Но, каковы бы ни были вторичные значения слова ДОБРО́ТА, несомненно, что первоначально оно означает именно красоту, и это первичное значение его определенно выражается во множеств фактов. Так, в житии Февронии читаем: «сие возмощи живописцу написати цветущую лицю её доброту (ζωγραφεΐν)» (И. И. Срезневский, — Материалы для словаря древне–русского языка по письменным памятникам. СПб., 1890, Т. I, столб. 866, со ссылкою на Мин. Чет., июнь).
В анонимной 3–й молитве «на сон грядущим», ко Пресвятому Духу, среди прочих сокрушений о дневных грехах упоминается и такое: «или добрόту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем»; очевидно, что эта уязвляющая сердце «добрόта» — красота, а не нравственное совершенство, ибо «видеть» его нельзя, да и уязвление им сердца не только не предосудительно, но и прямо похвально.
Несомненно, что понятие красоты в слов «доброта» — основное: со–коренные ему слова имеют тот же, преимущественно эстетический, — а не этический, — уклон своего значения. Так «добр — καλός, bonus, ήδύς, suavis, amoenus…; добpό — καλώς; добр — καλώς, как напр. в Пс. 32, 3: «добр (а по Синод. пер. — «стройно») поите» (И. Гильтебрандт. — id., стр. 115). Поэтому, как указывает Невоструев, слово «добротворение = первозданная красота (в нед. всех св. кан. 4 n. 3 uр. 2)», «добротво́рец, добротворительный — καλλοποιός, делающий прекрасное, сообщающий красоту (Ию. 8 n. 1, 1. С. 26 Бог. кан. 1 n. 1)» (Г. Дьяченко, — id., стр. 148). Точно так же, слово «доброписец» означает каллиграфа (Срезневский. — id., Т. I, стлб. 678, со ссылкою на Геор. Ам. 283); «добропобыдьныи», «добродныи», «доброзрачьныи», «доброличьныи», «добропесньныи», и т. д., и т. д. (id. стлб. 474–684) имеют опять тоже значение красоты, но не этического совершенства, не благостности.
«Добро́та» соответствует греческому «τό καλόν»; но ни то, ни другое слово не следует, однако, понимать как обозначение чувственно–приятного: грекам чуждо было это современное понятие о материальной, гедонической красоте, и, как подметил Грот, древний термин «τό καλόν» заключает в себе, кроме обычного современного значения «прекрасное», также и смысл утонченного, уважаемого, высокого (А. Бэн, — Психология. Пер. с англ. В. Н. Ивановского. М. 1906, Т. 2).
Игнатий Богоносец, — Послание к Магнезийцам, 7, 1 (Funk, — Apost. Väter, 2–te Aufl., Tübingen, 1906, S. 88 11–16). — Выдержка в тексте сделана по памяти. Справившись теперь с текстом, я вижу, что сделанный перевод, хотя и наиболее вероятен, но не обязателен. Место, обсуждаемое нами, гласит: «Одна молитва, один ум, одна надежда в любви, в непостигаемой радости, — т. е. Иисус Христос, ού άμεινоν, ούθέν εστιν». Слово άμεινον может получать специальные значения καλλίτερος, ώφελιμώτερος, δυνατώτερος, επιτηδειότερος и даже заменять недостающую сравнительную степень от αγαθός (см. Ανθιμος ό Γάζης, Λεξικόν Ελληνικόν [134], στ. 240).
Но, в сущности, оно не означает не только «лучше», но даже и «прекраснее», а имеет смысл более неопределенный, — «любезнее», «милее» и т. п. Происходит оно не от, *άμενιων а от темы *άμει·νο — (см. Е. Воisaq, — Dict. Etymolog. [12], р. 52); таково же значение со–коренного ему латинского amoenus (A. Walde, — Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2–te Aufl., Heidelberg, 1010, § 36), что значит «anmutig, lieblich, gefällig». Поэтому, точная передача места из Послания Игнатия должна бы быть такая: «… одна радость, т. е. Иисус Христос, милее которого ничего нет». Понятно, что это понятие άμεινον во всяком случае ближе к «прекраснее», чем к «добрее»: тут речь идет совсем не о морали, а о непосредственном, радующем душу впечатлении от Иисуса Христа. — Этот перевод слов св. Игнатия подтверждается и самосвидетельством Господа, рекшего: «Аз есмь Пастырь добрый» (Ин. 10, 14), где церковнославянское слово «добрый» опять–таки означает красоту [135], а не благость, каковую Господь утверждает как собственное свойство Отца (Μф. 19, 16–17 = Лк. 18, 18–19). Если же ссылка на славянский текст кажется недостаточной, то да потрудится читатель взглянут на греческий текст, где эта же мысль выступает еще осязательнее: «Εγώ είμι ο ποιμήν ό καλός» (Ин. 10, 14) — говорит Господь о Себе; «Τί με λέγεις άγαθόν; ουδεις αγαθός εί μή είς ό θεός» (Лк. 18, 19) или «Τι με έρωτας ηερϊ του αγαθού; εϊς έστιν ό αγαθός» (Μф. 19, 17) — утверждает Он об Отце.
О Боге, как первоисточной красоте, говорит также св. Дионисий Ареопагит. Получив бытие от Истинной Красоты, природа во всех своих частях носит отблеск этой Красоты: «αύτη ή ύλη περι τού όντως καλού τον Θεού ύποστασα, κατά πάσαν αυτής διακόσμησιν την κατ' είδος, άπηχήματά τινα τής νοεράς εύπρεπείας έχει, ώς έστι τού φωτός, τό φωτίζειν… ήλιος γάρ αισθητούς οφθαλμούς φωτίζει, και των χρωμάτων άντιλαμβάνεσθαι δίδωσι Θεός δέ ψνχην και τοΐς έκεϊσε καλοϊς έπεντρανίζειν παρέχει» (св. Дионисий Ареопагит, — О небесной Иерархии, II, 4 — Migne, — Patrol. ser. gr., col. 160 A, B). — Ср.. «Освободившиеся из темницы этой жизни, если бы было вполне возможно слезами высказать сострадание к злоидущим, рыдали бы и плакали о тех, кто удерживается во скорбях сей жизни, о том, что они не видят (нрзб.) и невещественных красот, ότι μή όρώσι τα ϋπερ(нрзб.) τε καί άϋλα κάλλη — престолов и начал, властей и господств, и воинств ангельских, и собраний, и горнего града и небесного торжества «написанных» (Евр. 12, 23). А превы — (нрзб.) и все сие Красота — τό γάρ ύπερκείμενον τούτων (нрзб.) — которую, как указало неложное слово Божие, «узрят чистии сердцем» (Мф. 5, 8), превосходнее всего, чего бы ни на — (нрзб.)с, и выше всего, что́ бы ни представили себе гадательно» (св. Григорий Нисский, — Слово к скорбящим о преставившихся от настоящей жизни в вечную. — Migne, — ser. gr., Т. 46, col. 508 А, В. — Творения, М., 1868, ч. 7, стр. (нрзб.)8). Так св. Отец повторяет Платоновский миф о пе — (нрзб.) Ср.: «Все вожделение таковаго (т. е. безмолствующего), вся сердечная и восторженная любовь, и всецелое расположение устремлено к преестественной красоте Божеской, блажен — (нрзб.)ей, которая названа отцами верховнейшего из желаемых (нрзб.)етов» (Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий Ксанфопулы [XIV в.], — Наставление безмолвствую — (нрзб.), 84. — Добротолюбие, М., 1900, изд. 2–е, Т. 5, стр. 401). И (нрзб.) ср.:
Приблизившийся к пределам бесстрастия правые о Боге (нрзб.)ествах вещей творит умозрения, и от красоты (нрзб.)ей, соразмерно с своею чистотою, востекая к Творцу, (нрзб.)лет светолитие Духа. Благие о всех имея мнения, о (нрзб.) думает он хорошо, всех видит святыми и непорочными и правое о вещах Божеских и человеческих произносит (нрзб.)ение… и зря Божескую Красоту, любит боголепно (нрзб.)вать в Божественных местах блаженной славы Божией, (нрзб.)еизреченном молчании и радовании, и, изменившись всеми (нрзб.)твами, как Ангел в вещественном теле невещественно (нрзб.)ащается с людьми» (преп. Никита Стифат, — (нрзб.)ая деятельная глав сотница, 90 — Добротолюбие, изд. 2–е, (нрзб.)00, Т. 5, стр. 107).
Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. Пер. с греческого. СПб., 1871, стр. 320, 1.
«Дух Божий явно почивший на отце Серафиме Саровском в беседе его о цели христианской жизни с симбирским помещиком и совестным судьей Николаем Александровичем Мотовиловым» (из рукописного воспоминания Н. А. Мотовилова, гл. VI.) рукопись эта, открытая С. Нилусом, напечатана в книге: Сергей Нилус, — Великое в малом. Изд. 2–е, Царское Село, 1905, стр. 197–199. (Есть нов. изд.)
О венчике в его различных видоизменениях, его значении и происхождении, а также и сами изображения его см.: De Wаа1, — Nimbus (Kraus, — Real. Encyklopädie der christlichen Alterthümer. Freiburg in Breisgau, Bd. 2, §§ 496–499). — Довольно много изображений нимба рассеяно в Vigourouх, — Dictionnaire de la Bible (напр. см. livraison XXXIII. col. 849 Fig. 189, col. 852 Fig. 192). — M. Didron, — Histoire de Dieu. Paris, 1843, pp. 1–146: «De la gloire». Тут же указываются и примеры венчика вне и до христианства. — Специально о венчике в античной иконографии см.:
Johannis Nicolai, — In nomine Jesu Disquisitio de Nimbis Antiquorum, Imaginibus Deorum, imperatorum olim., et nunc Mariae Cаpitibus adpictis. Anno 1699. 139 pp. — Л. Стефани, — Нимб и лучезарный венец в произведениях античного искусства. СПб., 1863. (Приложение к IV тому Записок имп. Академии Наук, № 1). С рисунками.
О происхождении венчика, как обозначающего несомненно свет, возможны, отвлеченно говоря, только два предположения: либо это изображение света внешнего, физического, либо — таинственного, «внутреннего», душевного или духовного, смотря по благодатности или безблагодатности лица, свет этот видящего или издающего. В первом случае, пришлось бы считать венчик за атрибут солнечных или вообще астральных Божеств; во втором, — за графическую стилизацию действительных восприятий. Иначе, если венчик есть только украшение или только атрибут, было бы решительно непонятно, почему же именно украшение или атрибут, столь странные, появились в иконографии. Но оказывается, что венчик присущ Богам не только солнечным, лунным или звездным, а и всем Божествам. Следовательно, он выражает собою свет не внешний, не физический, а свет «внутренний». Вот что говорит, после тщательного изучения изображений с венчиком, о распространенности их, исследователь: «После всего сказанного остается несомненным, что, с самых древнейших времен до самых позднейших, существенным свойством всякого Божественного тела считалось то, что оно было окружено неестественным, ослепительным блеском; следовательно этот блеск никоим образом не мог быть исключительным атрибутом какого–нибудь особенного класса Божеств. После всего этого, как могли бы художники, даже на минуту, представить существенное свойство Божества вообще, вопреки народному представлению, исключительным свойством звездных Божеств? Они этого никогда не делали: это ясно из того, что с тех пор, как начали обозначать посредством нимба, лучезарного венца и лучезарного круга, свет, окружающий Богов, они делали это при изображении как звездных Божеств, так и незвездных. Таким образом, экзегетика в этих атрибутах не должна видеть ничего другого, кроме указания на сияние, свойственное Божественной природ вообще; если же, кроме того, еще особенное свойство изображаемого Божества заставляет придать особенный вес этому сиянию, то, конечно, экзегетика не должна упускать из виду и этого обстоятельства…. В нимбе и лучезарном венце изображенного Божества никоим образом нельзя видеть указания на отношение его к небесному светилу даже и в том случае, если первоначальное его значение было звездное, но в то время, к которому относится произведение искусства, уже исчезло в народном представлении, или, если звездное значение изображенному Божеству было придано в позднейшее время вследствие каких–нибудь философских или мифологических соображений, а самый памятник возник очевидно из другого круга представлений …» (Л. Стефани id., стр. 12–13). — Не будем далее обосновывать высказанного взгляда, что нимб вообще есть не условный значок, а символ, подлинное изображение действительных явлений мира духовного или, в других случаях, — мира астрального. Здесь это было бы неуместно, тем более, что мы можем сослаться на четырехтомное исследование мистических явлений (особенно см. Т. 2–й): J. Görres. — Die christliche Mystik. Regensburg, 1837. Bd. 2, §§ 308–396). — Но, может быть, не будет излишне отметить, что, кроме общей идеи нимба, даже и различные особенности в изображении его глубоко–реалистичны: нимбы разных типов изображают мистический или благодатный, — т. е. пресуществленный благодатью мистический же, — феномен настолько точно, насколько вообще изобразительность присуща живописи. Обдумавши, что такое нимб, легко увериться, что он только и может быть изображен так, как изображается В самом деле, золотой диск около головы или овал около всего тела есть точнейшая живописная передача сплошной однородной шаровой или эллипсоидальной массы света, и иначе, ни по краске, ни по форме, эта масса света не может быть изображена. Нимб с постепенным ослаблением к голове есть изображение сферы света, расположенной на некотором расстоянии от головы. Нимб кольцевой — изображение тонкого сферического слоя. Нимб католический, в вид эллипсиса над головою. — хотя и наименее точен, — есть изображение световой короны над головою, — короны подобной полярному сиянию. Нимб из радиальных полос — это лучи света, выбрасывающиеся во всех направлениях из головы или из всего тела. Соединение двух нимбов в один, над ликами Пречистой и Младенца — превосходное изображение слияния двух световых сфер, полых или сплошных. Концентрические волнообразные окружения Христа — это непрестанно исходящие из Него в пространство волны, идущие вдогонку одна за другой. И т. д., и т. д. Одним словом, каждый нимб есть образ, а не схема, — символ, а не аллегория, и иначе изобразить его было бы никак нельзя, ибо ясно, что, проектируясь на самое лицо, эти световые явления почти невидимы и потому неизобразимы, а по краям видны гораздо отчетливее и, следовательно, представляются нам не в перспективе, а в разрезе.
Лучшее издание «Эннеад» Плотина сделано Фолькманном: Plotini Enneades praemisso Porphyrii De Vita Plotini deque ordine librorum eius libello edidit Ricardus Volkmann. Lipsiae, Т. I, 1883; Т. II, 1884. — Полный перевод — французский (М. N. Bouillet) и латинский (М. Ficinus, F. Creuzer). Избранные трактаты имеются в переводе русском (Малеванский), немецком (F. Сrеuzer, J. G. v. Engelhardt, H. F. Mu11еr, Kiefer) английском (Т. Тау1оr, Т. М. Johnson), италианском (A. М. Salvini). Заметим, кстати, что «избранные трактаты Плотина» в перевод проф. Малеванского печатались в «Вере и Разуме» за 1898, 1899, 1900 года, в отделе философском.
Язычество нельзя рассматривать как явление, ни в каком отношении к истинной вере не находящееся. Оно — не безразлично; оно не вне–религиозно я не вне–духовно, а лже–религиозно и лже–духовно. Оно — искажение, извращение, растление истинной веры, присущей человечеству изначала, и, вместе, мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так сказать «духовное барахтанье». Язычество —·это прелесть. Но как всякий искаженный образ есть всё же отображение подлинника, соответствующее своему подлиннику в каждой, даже частной, даже мельчайшей своей черте, так же точно и язычество, даже в тончайших линиях своего очертания, есть искаженное отражение истинной веры. Плотский, греховный и нечистый разум, как кривое зеркало, перекосил духовную действительность; но, при всем том, зная из Слова Божия и писаний отеческих о духовном мире, исследователь может убедиться, что каждая из сторон истинной веры, имеется, хотя и почти неузнаваемо обессмысленная, в язычестве. Сохраняя приблизительно наружность истинной веры, по крайней мере доходя почти вплотную до этого наружного облика мыслями лучших своих представителей, язычество вкладывает туда плотское содержание. Языческие верования, — говоря языком минералогии, «псевдоморфоза» истины. — «и не только полет отдельных философий, — говорит католический апологет христианства, иезуит М. Моравский, — не только первоначальные религии человечества, …, но даже и тот низменный политеизм, в который впало позже большинство народов, стоит в такого рода отношениях к христианству. Даже самая мысль умножить число Богов по–видимому вытекает из трудности постичь Бога, как одинокое, бесплодное существо. Это как будто глухое предчувствие Тайны Божественной Троицы, долженствовавшей быть возвещенной христианством и разрешать эту трудность. Антропоморфизм, теофания на земле, все это — выражение тоски и мольба человечества, чтобы Бог приблизился, снизошел к нему, другими словами — жажда воплощения Слова. Почитание умерших при всем своем суеверии и нелепости содержит все–таки возвышенное начало, и оно тоже есть осколок нашего дивного догмата о загробной жизни. Даже кровавые, даже человеческие жертвы показывают, что человечество в глухом чувстве или смутном воспоминании первоначальных преданий подозревало о своем падении и о необходимости искупления» (религиозно–философские вечера. Вечера Ι–IV …). Издание «Религиозно–философской Библиотеки». Сергиев Посад, 1911, стр. 81–82. Вообще см. стр. 66–88. «Четвертый вечер. Христианство среди других религий». Есть и 2–е изд., М., 1912. — Цитуемая книга представляет собою первый выпуск целой серии апологетических диалогов и составлена из первых пяти диалогов, входящих в сочинение: М. Моrawsкi. — Die Abende am Leman. — Есть и полный перевод этой книги, но сделанный невыносимо ломаным русским языком, а именно: «Вечера над Леманом». Сочинения М. Моравского, проф. ягелонского ун–та. Со 2–го изд. перевел Б. Горд. Leipzig–Краков, 1889, стр. 102–138 «разговор четвертый».
Итак, даже святейший догмат Пресвятой Троицы преломилcя в язычествующем сознании, — в идеи «совместного» (множественность ипостасей) и «последовательного» (самообоснованность Абсолютного бесконечным рядом актов) полифеизма. Мало того, самое тройственное число ипостасей — и то оставило свой след в вид Божественных триад. Но, при всем внешнем сходстве этих триад с Троицею, мы в них решительно не находим именно того, что делает учение о Троичности догматом. — решительно не найдем в них и признака содержания духовного, сверх–рассудочного. Стоит хотя бы бегло обозреть эти языческие триады, чтобы убедиться, что, если и выдвигало их искания Триединого Бога Живого, то все–таки в них, кроме числа «3», ничего нет от Троицы Единосущной и Нераздельной. И это приходится высказать, даже оставляя в стороне возможность чисто–исторического, случайного сочетания Богов в триады. После этого нечего удивляться, что разве лишь какой–нибудь Геккель, классифицирующий религии по числу признаваемых Богов (см. «Мировые загадки») признает возможным приравнивать идею о Триедином Боге языческим триадам. — В своей схоластически расчлененной и подразделенной книге Рауль де ла Гpaccpи (Raul de la Grasserie; — Des religions comparées au point de vue sociologique, Paris 1899, p. 205) различает три вида «религиозных сообществ», а именно: «1° la societe particuliere entre dieux ou interdivine; 2° celle entre les diverses parties de l’esprit humain ou intrahumaine et 3° celle entre les diverses fractions de la divinite ou intradivine»; он указывает, далее, что триады относятся именно к типу «societe interdivine» и приводит целую серию таких триад, построенных одновременно по схеме семьи и аспектов солнца, т. е. состоящих из:
I, Бога–отца, солнца живущего или уже умершего;
II, Богини–матери, которая представляет небо, — пространство или умершее солнце, и обычно бывает зараз супругою и матерью первого;
III, Бога–сына, молодого Бога восходящего солнца.
Он приводит несколько примеров такой триады:
1° в Фивах: Аммон или Аммон–Ра, восходящее солнце, называемое Тум, когда оно становится заходящим, — Маут, его супруга, Богиня неба, Кхон, восходящее солнце и правитель луны; 2° в Абидосе: Озирис, Изида, его супруга и сестра, Гор — их сын, — с тем же значением; 3° в Мемфисе: Фта, ночное солнце и Бог мертвых, Секкет — его супруга, богиня с головою львицы, олицетворяющая солнечный свет, или Баст, богиня с кошачьей головой, и Нофра–тум или Ин–хотеп, их сын, восходящее солнце; 4° в Коноссо: Менту, Сати и Кхем; 5° в Эснехе: Нун, Небуонт и Гика, — Далее, де ла Грассри указывает триады аномальные, составленные из Бога и двух Богинь: 6° Ра с Некхеб, Богинею Юга, и Уадж, Богинею Севера; 7° Озирис или Гор с Изидою и Нефтис; 8° Нун с Сати и Анонкэ, — полусферами Севера и Юга. Оставляя на ученой ответственности де ла Грассри приведенный выше список, как в смысле точности и истолкования Богов, так и в смысле полноты, мы отметим лишь, что несмотря на весь свой внешний и нивеллирующий метод изучения религии и скрывающееся под ним, если не прямо враждебное, то по меньшей мере глубоко равнодушное отношение к христианству, да даже и ко всякой религии несмотря на свою удивительную нечуткость к конкретной религиозной жизни и её особенностям, де ла Грассри указывает (id., р. 220), что хотя слияние Богов и производит триады, «однако отсюда получается не один единственный Бог в трех лицах, как у христиан, но три Бога, связанных вместе договором — solidarises — и распределяющих между собою функции высших Божеств. Это, следовательно, не есть еще троица — trinite — собственно говоря, но скорее триадa — triade — если под троицей разуметь внутренюю тройственность — trip1icite, — а под триадою — тройственность внешнюю», как например у Брамы, Вишну и Шивы. — Этот внешний характер языческих триад нашел себе подходящее выражение в многочисленных пластических и графических памятниках древнего мира. Собрание многочисленных изображений такого рода см. в книге: Николай Ив. Троицкий, — Триединство Божества, Историко–археологическое исследование по памятникам всеобщей истории искусства. Сообщено на XI Всероссийском Археолог. съезде в г. Чернигов. Изд. 2–е, испр. и доп., с 65 рис. Тула, 1909 — О существенном различии христианского учения о Пресв. Троице и языческими и на почве язычества выросшими философскими учениями о Богах–триадах см.: С. С. Глаголев, — Сверхъестественное откровение и естественное Богопознание. Харьков. 1900. Стр. 331–336. — Его же — Очерки по истории религий. Ч. 1–я. Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1902· Стр. 35–36, прим. 1: возражения против взглядов Циммерна о халдейских Божествах, изложенных им в брошюре Vater, Sohn und Fürsprecher, Lpz., 1896; стр. 42–49: триады великих халдейских Богов; стр. 103–106: египетские триады и эннеады. — Алексей [Ив.] Введенский. — Религиозное сознание язычества. Очерк философской истории естественных религии Т. I, М. 1902, стр. 698–702: «Тримутри». Автор этого исследования, указав на внешне–эклектический и механический способ, посредством которого составилось представление об индуистской Тримутри, решительно настаивает затем на следующих двух тезисах: «Bo–первых, в индуистской Тримутри, в радикальную и принципиальную противоположность христианской Св. Троице, различие трех Божеств не реальное, но чисто номинальное, — Тримутри есть не что иное, как двойной призрак, двойной обман и двойная ложь наивного сознания (стр. 700) — Во–вторых, в индуистской Тримутри отношения между отдельными Божествами не представляют никакого, даже отдаленнейшего, намека на отношения между Лицами Св. Троицы по учению христианскому, т. е. на отношения отечества, сыновства и исхождения» (стр. 752).
«Herrschende Apperzeptionsmasse», — т. е. «господствующими апперцепирующими массами» В. Иерузалем «называет апперцепируемые группы представлений, вызываемые легче всего». (W. Jеrusа1еm, — Lehrbuch der Psychologie, 1903, 3–te Aufl, S. 87). Вот, в этом–то смысле архим. Серапион Машкин и называет формулу догмата, как легче всего достижимое представление для апперципирования духовной Истины, «апперципирующей массою». Но нельзя не упомянуть, что термин, «апперципирующая» или «апперцептивная масса» употребляется и в ином, весьма расширенном, смысле, а именно для обозначения всей совокупности непосредственно связанных с организацией явлений и процессов, которые способствуют религиозному переживанию и так или иначе определяют характер его. «Совокупность побочных явлений, болезненных или нормальных, в связи с которыми должны изучаться религиозные явления для более совершенного их понимания, составляет то, что на педагогическом языке обозначают термином «апперцептивная масса» (Вильям Джемс, — Многообразие религиозного Опыта. Пер. с англ. В. Г. Малахиевой–Мирович и М. В Шик. Под ред. С. В. Лурье. М., 1910, лекция I, стр. 21–22 и см. примеч. перев. на стр. 22). — В нашей книге термин «апперципирующая масса» употребляется в первом, более узком значении и, следовательно, почти синонимичен Кантовскому термину «схема». Догматы, Крест, имя Иисусово и Крестное Знамение суть именно схемы человеческого духа, в коих открывается высшая реальность и, по мере очищения сердца нашего, схематический характер сих символов все более уплотняется в реалистический. Поэтому, греховный разум стремится к нижнему пределу этих символов, — к чистой и призрачной феноменальности, а разум духовный — к пределу верхнему, к безусловной и всереальнейшей ноуменальности. Чрез эти схемы, в зависимости от нашего внутреннего устроения, мы видим или Nihil Absolutum или Ens Realissimum. В промежутке же, сообразно ступени восхождения духовного, располагается весь путь а геаlibus ad realiora. Но ход на эту лествицу открывается не иначе, как чрез «схему».
«Τόν άγιωτατον τής οικουμένης όφθαλμόν» (св. Григорий Богослов, — Слово 25–е, в похвалу философа Ирона, 11. — Mignе, — Patrol. ser. gr., Т. 35, col. 1213 А).
«Во обручение будущего живота и царствия — είς άρραβώνα τής μελλουσης ζωής καί βασιλείας» (Св. Иоанн Дамаскин. — Молитва ко Святому Причащению, 5–я, а по греческому Συνέκδημος — 6–я).
«Прелесть есть страстное или пристрастное уклонение души ко лжи на основании гордости» (Архимандрит, впоследствии Епископ, Игнатий Брянчанинов, — О молитве Иисусовой — Сочинения Еп. Игнатия, СПб., 1865, Т. I, стр. 130). — В своих творениях сей Святитель неоднократно дает изображение и анализ пре́лестного состояния. Особенно см. в Т. I, «О молитве Иисусовой». — См. стр. 334–335.
В оригинальном издании Флоренского 1914 г. примечание [155] отсутствует: за [154] следует [156]. — (Прим. редактора электронного издания).
Тертуллиан, — Против Праксея, 26. — Migne, — Patrol. ser, lat., T. 2. — Вот для примера цитата: «Hic Spiritus Dei eri. Sermo. Sicut enim Johanno dicente (Joh. 1, 14): Sermo caro factus estt spiritum quoque intelligimus in mentione sermonis… nam spiritus substantia est sermonis et sermo operatio spiritus» и т. п. Тертуллиан учит, что Дух Святый становится самостоятельною, отдельною от Слова Ипостасию лишь с момента Пятидесятницы (De orat. 25) и, противополагая Божество Христа Его Человечеству, плоти Его, называет Божество Духом, творившим чудеса, тогда как плоть терпела голод, жажду и злострадания (De Carne Christi).
Св. Иустин Философ, — I–я Апология, 60 — Migne. — Patrol. ser. gr., T. 6, col. 418–420. — Иустин ссылается на псевдо–Платоновское письмо 2–е, приводимое также и Климентом Александрийским в Строматах, V, Порфирием у Кирилла Александрийского в 1–ой книг против Юлиана, Оригеном в 6–ой кн. против Кельса, Евсевием во 2–ой кн. Евангельских Приготовлений и др. Прокл, во 2–й кн., 11–ой глав своего Платоновского Богословия, читает это место так же, как и Иустин Философ.
Василий [Вас.] Болотов. — учение Оригена о Св. Троице. СПб., 1879 г., стр. 364. — Или, еще: В систем Оригена «философски значение Его [Духа] в Троице не выяснено, да — пожалуй — и не могло быть выяснено до тех пор, пока отношение между Лицами Божества пытались понять не под формою личной жизни духа, процесса самосознания, а с точки зрения отношения между сущностью и её определениями. Таким образом, действительное посредство между Богом и миром у Оригена представлено только в Сыне» (В. В. Болотов, — Лекции по истории древней Церкви. Т. 2., СПб., 1910, стр. 340).
«Ωριγένην… άνδρα ούδέ πάνυ τι υγιείς περί τοϋ Πνεύμα τος τάς ύπολήψεις έν πάσιν εχοντα …» (Св. Василий Великий, — О Св. Духе, 29, 73. — Migne, — Patrol. ser. gr., T. 32, col. 204 B).
M. J. Denis, — De la philosophie d’Origene. Paris, 1884, pp. 117 et suiv. — В. [В.] Болотов, — учение Оригена о Св. Троице. СПб., 1879, стр. 365, сл. 374. — Еще о догматической системе Оригена см.: F. Böhringer, — Die Griechischen Väter… I. Hälfte. Klemens und Origenes. Zürich, 1869. — L’abbe Freppel. — Origene. Paris, 1863. — F. Prat (s. j.), — Origene le theologien et l'exegete. 2–e ed., Paris, 1907 (из серии: La pensee cretienne. Textes et Etudes). — «Origenes» und «Origenismus» («Allgemeine׳ Encyklopädie der Wissenschaften und Künste herausgegeben von Ersh und Gruber, 1834, III, 5, SS. 251–262). — Aug. Zöllig, — Die Inspirаtionslehre des Origenes. Line Beitrag zur Dogmengeschichte. Freiburg im Br., 1902 (Strassburger theologische Studien. Bd. V, Hft. 1). — «Ориген» (Статья в «Философск. Лексиконе» С. С. [Гогоцкого], Т. 3, стр. 623–628). — Вл. С. Соловьев, — Ориген («Энцикл. Словарь» Брокгауза и Эфрона, Т. 22, стр. 141–145= — Ив. В. Попов, — Конспекты лекций по патрологии, 1907–8 г. стр. 122–139. — id., 1911–12 г., Москва, стр. 125–182. — А. А. Спасский, — История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Сергиев Посад, 1906, Т. I, стр. 85–127. — Ф. Елеонский, — учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об отношении их к Богу Отцу. СПб., 1879. — Свящ. Г. Малеванский, — Догматическая система Оригена. Киев, 1870.
Указываемое в текст общее впечатление неразвитости учения о Духе Св. мы неизбежно составляем себе, — и притом способом беспристрастнейшим, — если рассмотрим хотя бы бегло богословскую лит. о Духе Св. — Вот некоторые из относящихся сюда сочин.: Архим. [впосл. Епископ] Сильвестр, — Опыт прав. догм. богосл. — Н. Богородский, — учение Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа, изложенное в связи с тезисами Боннской конференции 1875 года. СПб., 1873. — С. В. Кохомский — учение древней Церкви об исхожд. Св. Духа, СПб., 1875. — H. М. Богородский, — Дух Св. Истор. — догмат. очерк, Гродно, 1904. — Серг. Асташков, — Исхожд. Св. Духа и вселенское первосвященство, Фрейбург в Бризгаве, 1886. — Адам Зерников, — Православно–богословские исследования об исхожд. Св. Духа от одного только Отца. Пер. с лат. Б. Давидовича. Т. 1; свято–отеч. свидтельство, Почаев, 1902 [капитальное старинное исследование]. — А. А. Некрасов, — учение Иоанна Дам. о личном отношении Духа Св. к Сыну Божию («Прав. Соб.», 1883, № 4). — K. F. Nösgen, — Das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes, Berlin, 1907.
Несмелов [68], стр. 266–295. — Как и многие другие, Григ. Нис. тоже ссылается на то, что мы «не научены Св. Писанием называть Духа Св. братом Сыну» (Григ. Нис., — Против Евномия II. — Mi gr, Т. 45, col. 559 D) и затем доказывает, что исхождение — не то, что рождение, но конечно не показывает, в чём же эта разница. Он, более других учивший о Духе Св., до такой степени не может выразить личной особенности Сей Ипостаси, что даже имя Её у него лишается обычно признаваемого за ним характера Ипостасной собственности. «Я дознал, — гов. он, — что то же самое имя в богодухновен. Писании есть общее Отца и Сына и Духа Св. Ибо Сын равно и себя и Духа Св. именует Уте́шителем. Отец же тем самым, что производит утешение, присвояет, без сомнения, Себе имя Уте́шителя: ибо, совершая дела Уте́шителя, не отвергает и имени, принадлежащего делу» (id., II, 14, — id., col. 552 А).
Поразительно то обстоятельство, что даже полемизируя с Евномием и указывая характернейшую особенность христианства, т. е. веру в едино–сущие. Вас. В. забывает (!) поименовать в числе Ипостасей Духа Св.: «Хотя и многое отделяет христианство от языческого заблуждения и иудейского неведения, однако же в благовестии нашего спасения нет догмата важнее веры в Отца и Сына» (Василий Великий Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия II — Mi gr., T. 29, col. 620 b, с).
Большой Требник Дополнительный, гл. [78]: Последование Святой Пентикостии. Изд. Киево–Печ. Лавры, 1875 г., гл. 215, № 218, 219. — На эту несимметричность службы обратил мое внимание проф. Ив. В. Попов.
«Образ исхождения остается неизъяснимыме — τού δέ τρόπου τής υπάρξεως άρρητου φνλασσομένου» (Вас. В., — О Духе Св., 1846. — Mi gr, Т. 32, col. 152 В). Впрочем, некоторый намек на действительную «дедукцию» исхождения, сделанный уже Афан. В., определеннее его повторяет св. Вас. В. в след. словах: «Почему и Дух Св. не Сын Сыну? — Не потому, что Он от Бога не чрез Сына; но чтобы Троицу не почли бесконечным множеством, остановясь на той мысли, что Она имеет сынов от сынов, как бывает у людей. — Сказать о сыне от Сына значило бы — людей, услышавших об этом, навести на мысль о множестве в Троичности Божества. Ибо легко было бы сделать заключение, что как от Сына родился другой, а от другого — еще другой, и так далее, до множества [т. е. до неопределенного множества] …» (Вас. В., — Опровержение на защит. речь нечестив. Евномия, V. — Mi gr, Т. 29, col. 732 В, 734 В).
Не изданные сочинения Марка Ефесского.
Перевел с рукописи Парижск. Имп. библ. Авраам Ηоров. СПб., 1860, стр. 27. (= «Христ. Чт.», 1861 г.).
Григ. Нис., — Слово огласительное, 3. — Mi gr, Т. 45, col. 171, — Ср. У Григ. Бог., на вопрос: «Что есть исхождение?» решительное заявление: «Мы не можем видеть, что у нас под ногами не только что вдаваться в глубины и судить о природе неизглаголанной и неизъяснимой» (Григ. Бог., — Слово богословск., 5. — Mi gr, Т. 36, col. 141).
174 Коpдeрий, издатель творений Дион. Ареоп., называет мистику «Sapientia experimentalis — опытной мудростью».
Напр.: Григ. Нис., — Пр. Евн. II [166], col. 559. — Его же, — О молитве Господней, III. — Mi gr., Т. 44, col. 1157–1160.
Эта идея о пронизанности древнего миро- и жизне–понимания категорией родительства особенно ярко и настойчиво разрабатывалась во многих книгах В. В. Розановым.
«Логизм», как производное от Λόγος, употребляю по следам Эрна [16]. Упомянутый автор, наряду с нек. мыслями Вл. С. Соловьева [4], кн. С. Н. Трубецкого и Н. А. Бердяева, выясняет положит, сторону логизма. Напротив, книги В. В. Розанова со всею силою обрушиваются на манихейско–монашеские отрицательные течения, паразитирующие на логизме, и обличают абстрактность, безжизненность и пустоту словесности, подменившей во многих умах и сердцах общение со Словом. Хотя сам В. В. не хочет различить abusus от usus, но, сделав это различение, читатель может вынести много полезного из критики В. В–ча.
[Д. С.] Милль (и Тэн). — Наведение, как метод исследования природы, пер. Н. Хмелевой, СПб., 1866. — Д. С. Милль — «по природе софист, опутывающий читателя и самого себя блестящею смесью фактов, цитат и остроумных оборотов» (В. Я. Цингер, — Точные науки и позитивизм. «Универс. Отч.», М., 1874, стр. 65). — О коренной софистичности Милля см.: Т. Ф. — Бpентано, — Древние и современные софисты. С фр. пер. Я. Новицкий, СПб., 1886, кн. 2–я, стр. 124–187. — Тонкий анализ Миллевскнх софизмов см. в: Л. [М.] Лопатин, — Положит. задачи философии, M, Т. 1, 1886, Т. 2, 1891 (есть 2–е изд.). — Его же, — Филос. хар. [76].
Для идейного и истор. Углубления идеи Логоса см.: М. [Д.] Муpeтов, — Философия Филона Алекс. в отн. к учению Иоанна Богослова о Логосе, М., 1885. — Его же, — учение о Логосе у Филона Ал. и Иоанна Бог. в связи с предшествовавшим истор. развитием идеи Логоса в греч. филос. и иуд. теософии. («изд. Твор. свв. оо.», 1881 г., кн. 2 и отд. стт.). — Его же, — Бог–Слово и Воскресение Христово (Ин. 1, 1–12)» М., 1903. — Вл. Соловьев, — Дух. осн. жизни, Ч. 2–я («Собр. соч.», Т. 3, стр. 319 сл). — О том же во множ. др. соч. — Кн. С. Н. Трубецкой, — Осн. идеализма. В защ. ид. и др. («Собр. соч.», Т. 2). — Его же, — Учение о Логосе (id., Т. 4). — М. Heinzе, — Die Lehre vom Logos in griechischer Philosophie, 1872· — A. Ааll, — Gesch. d. Logosidee d. griech. Philosophie, 1896. — A. Harnack [53].
Эти работы наиболее продвинуты вперед в области формальн. исследования идеи прерывности, — в математ. и в логистике. Число их столь велико, что приводить здесь лит. нет никакой возможности, тем более, что эта лит. в знач. мере перечислена в специальн. работе моей «Идея прерывности, как элемент миросозерцания» (находящейся пока в рукописи). — Из соч. обще–дост. характ. отметим труды «московской школы» математиков или так или иначе к ней примыкающих: Н. В. Бугаев, — Введ. в теорию чисел (перепеч. в «Математ. сборнике изд. Моск. Мат. О–вом», Т. 25, вып. 2, стр. 334–348). — Его же, — Математика и научно–философск. миросозерцание (id., стр. 349–369 = «Воп. ф. и пс.», 1898, кн. 45). — Его же, — Замеч. по поводу статьи Л. М. Лопатина «О подв. ас. созн.» («Воп. ф. и пс.», кн. 40). — В. А. Алексеев,— Die Mathematik als Grundl. d. Kritik Wissensch. — philos. Weltansch. («Уч. Зап. Юрьев. Ун.», 1903 г.). — Его же, — Ueb. die Entwickel. d. Begriffes d. höheren arithmologischen Gesetzmässigkeit in Natur- und Geistewissenschaften («Vierteljahrschrift f. wissensch. Philosophie u. Sociologie», Lpz., 1904. Hft. 1. — Резюме в «Уч. Зап. Юр. Ун.» 1904). — Его же, — Математика, как основание критики научно–филос. мировоззрения («Сборы. Учено–Лит. О–ва при им. Юр. Ун.», Т. 7, 1904 г). — П. А. Некрасов, — Московская филос. матем. школа и её основатели («Мат. Сб, изд. Моск. Мат. О–м», Т. 25, Вып. 1. М., 1904, и отд. изд.). — Л. М. Лопатин, — Филос. мировоззр. Н. В. Бугаева (id., Т. 25, Вып. 2). — П. Флоренский. — Об одной предпосылке мировоззрения («Весы», 1904, № 9). — В. Эрн, — идея катастрофического прогресса («Бор. за Лог.» [16], стр. 234–261). — См. также [234]. — Идея непрерывности делает быстрые завоевания и в области наук конкретных. Сюда относятся работы Таманна по термодинамике, приводящие к построению прерывной термодинамическ. поверхности, теория фаз Джиббса; идеи Tейхмюллера, теория гетерогенезиса Коржинского, опыты Гуго де Фриза, работы современных нео–ламаркистов, неовиталистов и т. д. в области биологии, открывающие широкие горизонты прерывной эволюции организмов, прерывного приспособления их и т. д.; психологические исследования подсознательной и сверх–сознат. душевн. жизни, обнаружив. прерывные изменения сознания, прерывность творчества, вдохновения и т. д.
Главн. представит. «нов. рел. созн.» — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и Д. Философов. В разн. смыслах и в разн. степенях сюда же примыкают или примыкали Андрей Белый [Б. Н. Бугаев], Н. А. Бердяев и др.
Л. Н. Толстой не стеснялся даже в Оптиной Пустыни говорить: «Мое евангелие». Колоритный рассказ в этом роде о его свидании с К. Н. Леонтьевым изображен в книге: Е.[раст] В.[ыторпский], — Историческ. описание Козельской Оптиной пустыни, вновь составленное. Тр.–Серг. Лавра, 1902, стр. 128.
Симон Волхв, Николаиты, гностики всевозможн. толков, монтанисты, тамплиеры, спиритуалисты и т. д., и т. д.
Учение Григ. Нис. о Царстве Отца и Помазании Сына излагаю по Несмелову [68], стр. 279–283.
Ср.: «Почиет на Нем Дух Господень» (Пс. 11, 2); «Дух Господа Бога на Мне» (Пс. 61, 1 = Лк. 41, 8).
Максим Исп., — Толкование на мол. Отче наш, — S. Maximi Confessoris Operum Т. I, Parisiis, 1675. pp. 350–590. — Есть славянск. пер., изд. Оптин. пуст., М., 1853. — Подобное, — хотя и не тождественное, — сему углубление находим у А. С. Хомякова, а именно в письме его к Ю. Ф. Самарину от 6–го авг. 1852 г. «Вы в мире богословов, — пиш. он в постскриптуме, — скажите им мою догадку, отчасти сходную, отчасти несходную с св. Максимом Исп. Я всегда предполагал в первой части «Отче Наш» особенный смысл, и вот, мне кажется, некоторое объяснение его. Павел говорит, что Дух называет Бога Отцом (Авва–отче); Ириней говорит: Дух кладет венец на Божество, называя Отца отцом и Сына сыном. В Символе, как и везде, Сыну приписывается царство. И так «да святится имя Твое, да приидет царствие Твое» и пр. значит: «да будешь прославлен, как начало Духа именующего, да будешь прославлен, как Отец Сына Царствующего и да будешь прославлен, как Самосущее и Самоначальное лицо, источник всего». Как вы думаете? Мне кажется, это дело» (А. С. Хомяков, — Полн. собр. соч., Т. 8, М., 1904, стр. 271, письмо 13–е к Ю. Ф. Самарину).
Симеон Н. Б., — Божественная любовь — Divinorum Amorum, 1. — Migne, Т. 120, coll. 507–510.
Хорошо известно убеждение философа Якоби в том, что пантеизм Спинозы есть единственная последовательная система рациональной философии и что, следов., всякая теистическая система неизбежно вынуждена внести момент иррациональный. — Так же высказывались и более поздниe исследователи. «Пантеизм, — гов. один из них, — так же существенно свойствен всякой последовательной рациональной философии как агностицизм — всякой последовательной философии эмпиризма. Строго рациональная ф–ия и пантеизм — понятия тожественные» (А–ей и. Введенский, — Вера в Бога, её происхождение и основание, М., 1891 г., стр. 209). — О пантеизме см.: Боголюбов, — Теизм и пантеизм и их логическое взаимоотношение, Нижний–Новгород, 1899 г. — Jaesсhе, — Der Pantheismus, nach seine Fauptformen, Berlin, 1826 3 Bde. — Sсhuler, — Der Pantheismus, Würzburg, 1884.
Викентий Лиpинский, — Напоминание первое, 2. — Mi lat pr, Т. 50, col. 640. — Творение Викентия Лиринского «Напоминания» в пер. с лат. яз. П. Пономарева, Казань, 1904, стр. 3–4. — Кантовская «всеобщность и необходимость суждений», как признак их объективной научной значимости, есть, вероятно, ничто иное, как «пережиток» церковного понимания о кафолическом, т. е. повсемственном, — по переводу Митр. Моск. Филарета. (См. «Бог. Вес.», 1912, дек., стр. 635, письмо 8–е к Еп. Игнатию Брянчанинову) — , — догмат.
Cohen [31], Urth. d. Ident., SS. 78–87. Alb. Görland, — Index zu H. Cohens Logik d. rein. Erkenntnis, Berlin, 1907.
Идея антиномизма совершенно определенно высказывается даже в специальных дисциплинах, — в лингвистике:
А. Потебня, — Мысль и язык, Харьков, 1892, 2–е изд.; v. Humbо1dt, — Ueb. die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbauens (Ges. Wer., Т. 6) = B. Гумбольдт, — О различии организмов чел–го языка и о влиянии этого разл. на умств. Разв. ч–го рода. Пер. П. Билярского, СПб., 1859; H. Steintha1, — Der Urs· prung d. Sprache, 2–te Ausg., Berlin, 1858; V. Henry, — Antinomies linguistiques, Paris, 1896 (Bibi, de la Fac. des lettres de Paris, 2); П. И. Жиmeцкий, — В. ф. Гумбольдт в истории философск. языкознания (Вопр. ф. и пс., 1900, кн. 51); в математике: Christian Cherfils, — Un essai de religion scientifique, introduction a Wronski, Pаris, 1898. pp. 49–60; A. Пуанкарe, — Наука и Метод, пер. Б. Кореня под ред. Н. А. Гезехуса, СПб., 1910, Ч. 2, гл. V, § 5, стр. 154–155, и § XII, стр. 161–163; Вступ. статья Ф. Ф.Линде к рус. пер. кн. Л. Кутюра, — Филос. принципы математики, пер. Б. Кореня, СПб., 1913; И. [И.] Жегалкин, — Трансфинитные числа, М., 1907, § 440, стр. 342–345; Gerhard Hessenberg, — Grundbegriffe d. Mengenlehre, Göttingen, 1906 (= «Abh. d. Fries’schen Schule» Bd. I, Hft. 4), Kap. XXIII–XXIV, § 93–99, SS. 621–635; Bern. Во1zаnо, — Paradoxien d. Unendlichen, Lpz., 1851 и. 2–te Aus., Berlin, 1889 = Б. Больцано, — Парадоксы бесконечного, пер. под ред. И. В. Слешинского, Одесса, 1911. Stolz, — Bern. Bolzano’s Bedeutung, in d. Gesch. d. Infinitesimalrechnung («Math. An.», Bd. 8, 1881); в богословии: антиномии христианства особенно подчеркивает Д. С. Мережковский («Собр. соч.»); см. также: Кант, — религия в пределах только разума, III 7; в физике и механике; в метафизике (особ. см. труды Ренувье); в социологии (кое–что собрано в трудах Кареева); в логике [27]; в этике: Кант, — Кр. пр. раз., V; в эстетике: Кант, — Кр. сп. сужд., §§ 55–57 и т. д., и т. д. См. [234, 237].
В основе своей, это «velle credendi» есть акт сверх–временный, ибо на нем зиждется общий тон всего характера личности. Но открывается ли во времени это сверх–временное velle в вид системы необходимо–возникающих хотений, или в них имеются прорывы в мир свободы, или, наконец, в каждый момент не исключается и новое, дополнительное самоопределение — эти вопросы для нас сейчас совсем не существенны, раз принято принципиально положение бл. Августина.
Примечательное различение понятий верить и веровать находим в: Д. [A.] X.[омяков], — Православие (как начало просветительное, бытовое, личное и общественное), М., 1907, стр. 95–96: «В русском языке есть два слова, происходящие из одного корня, выражающие одно понятие, но передающие два оттенка такового, которые узкользают во всех других (по крайней мере арийских) языках, и которые имеют громадное значение для точного выражения отношений человека к Церкви видимой и невидимой. Эти слова суть: *верю* и *верую*. Им соответствуют существительные вера и верование. Принадлежность к Церкви невидимой определяется обладанием веры; Церковь же видимая требует только «веровать». «Верую во единого Бога Отца» и т. д. Не говорится — верю, ибо, в сущности, человек про себя не может никогда сказать, что он верит». «Только по–русски выходит вполне понятно евангельское «верую, Господи, помози моему неверию!». Первое «отец» мог сказать о себе; тогда как о вере он мог лишь молить, чтобы она была ему дарована» (id., прим. 1–е). «Верой истинной обладает Церковь мистическая; Церковь же земная, видимая, имеет и требует лишь верование, потому, конечно, что она не имеет средств судить о вере, ведомой только одному Богу» (id., стр. 96).
По логистике: В. В. Бобынин, — Опыты математ. изложения логики. М., вып. I — 1886, вып. II — 1894. — М. Волков, — Логич. исчисление, СПб., 1888. — А. Лиар, — Современ. английск. логики. М., 1902. — П. Порцкий, — из области мат. логики. М., 1902. — Его же, — О способах решения логич. равенств и т. д., Казань, 1884. — Л. Кутюрá, — Алгебра логики, пер. И. Слешинского, Одесса, 1909. — И. И. Ягодинский, — Генетич. метод в логике, Казань, 1909, стр. 148–156, 264–282. — С. Джевонс), — Основы науки, пер. М, Антоновича, СПб., 1881 (на стр. I–XVII — очерк истории символич. методов в логике и некот. библиогр.). — Л. Пуанкарэ, — Наука и Метод [208]; тут — не лишен. интереса, но во многом несправедливая критика логистики. — E. Schröder, — Vorlesungen üb. die Algebra d. Logik, Lpz., Bd. I, 1890, SS. 709–715 — библиогр.; Bd. II — 1891. — A. N. Whitehead, — Universal Algebra, 1898 — Bert. Russel, — The principles of Mathematics, Vol. I, единствен. — A. N. Whitehead and В. Russel, — Principia mathematica, Vol. I, Cambridge, 1910. — B. Russel–Longmans, — Philosophical Essays, London, 1910. — Труды Шрёдера, Уайтхэда и Рёсселя — капитальные; при этом они расположены здесь в порядке возрастающей широты взгляда, — а именно как изложения логистики: на основах теории классов, теории отношений и теории пропозициональных функций. — более простое изложение названных книг в: L. Соuturat — Les principes des mathematiques, Paris, 1905. Есть рус. пер. — H. Dufumier, — La Philosophie des Mathеmatiques de M. M. Rüssel et Whitehead («Rev. de Metaph. et de Morale», 20–e an., 1912, № 4, Juil., pp. 538–566). — Для ознакомления с италианской школою: Formulaire des Mathematiques, publie par G. Peano, T. 2, Torino, 1899; T. 3, Paris, 1901. — С. Burali–Forti, — Sur les differentes methodes logiques pour la definition du nombre reе1 («Bibl. du Congres intern. de philos.», Paris, 1901, T. 3, p. 289 s.). — Соuturat [89]. — Chide, — La logique avant les logiciens («Rev. Philos.», 31–me an., 1906, № 8, Aüt). — A. La1ande, — Le mouvement logique (id., 32–me an., 1907, № 3, Mars). G. H. Luquet, — Logique ration. et psycholog. (id., 31–me an., 1906, № 12, Dec.). — A. Rey, — Ce que devient la logique (id., 29–me an., 1904, № 6, Juin). — P. Hermant et A. van de Wae1e [76]. — Hugh Mac Coli, La Logique symbol. et ses applicat. («Bibl. du congr. intern. de philos.», 1901, T. 3, pp. 135–183). — W. E. Johnson, — Sur la theorie des equation log. (id., pp. 185–199). — P. Pоretskii, — Theorie des egalites a trois termes (id., pp. 201–233). — Его же, — Expose е1emеntaire de la theorie des egalites log. a deux termes («Rev. de Met. et de Моr.», T. 8, 1900, Mars., p. 169s.). — Его же, — Sерt lois fondаmentales de la theorie des egalites logiques, Kazan, 1899.
Эвклидовых начал три книги — пер. с греч. Ф. Петрушевского, СПб., 1835 г., стр. 103–105, кн. IX, предл. XII.
Секст Эмпирик, — Пир. осн., II, 185–192 и 130–133 (Sex. Em. [38], рр. 99–101, 930–31); Его же, — Против математиков VIII, 463–481 и 278 сл. (id., рр. 387–391 и 251). — Ср. Р. Рихтeр [40], стр. 127.
Систематически использовал этот прием Вл. Соловьев, пытаясь разбить скептицизм по всей линии: Кр. отвл. нач., примеч. 5–е («Собр. соч.», Т. 2, стр. 341–346).
Первое столкновение Пигасова с Рудиным. И. С. Тургенев, — Рудин, II. — «Соч.», М., 1880, Т. 3, стр. 28 и далее стр. 28–31.
G. Vailati, — Di un'ореrа dimenticata del Р. Girolamo Saccheri (Logica demonstrativa, 1697) («Rivista filosophica», 1903, sept. — oct.). — Eго же, — Sur une classe de raisonnements par l’absurde («Rev. de Met.», 1904, nov.). Ссылки по [212], р. 36, an. 1.
Т. Гомпepц, — Греческие мыслители, пер. со 2–го нем. Изд. Е. Герцык и Д. Жуковского, Т. 1. СПб, 1911 г., Ч. 3, I, стр. 239–240.
Пользуюсь переводом фрагментов, сделан. Г. Ф. Цеpeтели и приложен. к рус. пер. книги: П. Таннери, — Первые шаги древнегреческ. науки, СПб., 1902, прил., стр. 59–66. — Текст фрагм.: Fr. G. А. Mullасhius, — Fragmenta philosophorum graec. [Т. I], Parisiis, 1875, pp. 315–329. — H. Diels, — Doxographi graeci, Berolini, 1879. — Уже после того, как была написана наст. книга, вышло отд. изд. с перев. фрагм.: Гераклит Эфесский, — Фрагменты. Пер. Вл. Нилендера, изд. «Мусагет», М., 1910.
«Иногда он (Спиноза) позволял себе также в виде маленького развлечения выкурить трубку табаку или же, когда он желал дать своему уму более продолжительный отдых, он ловил и стравливал нескольких пауков или бросал в паутину мух; и наблюдение за борьбой насекомых доставляло ему такое удовольствие, что, глядя на это, он разражался громким смехом» (И. Колeрус, — Жизнь Б. де Спинозы. — Переписка Б. де Спинозы с приложением жизнеописания — Пер. с лат. А. Я. Гуревич, под ред. и с прим. А. А. Волынского, СПб., 1891, стр. 20).
Загадочное слово άγχιβασίη, переводимое Церетели [227] чрез «противоречие», Нилендер передает чрез «подхождение», очевидно производя его от άγχι = εγγύς, близ и βαίνω — иду. Древние лексикографы объясняют: άγχιβάτης ό πλησίον βαίνων и άγχιβατεϊν εγγύς βεβηκέναι. Новейший лексикограф уничтожает спор, объявляя слова άγχιβατεϊν и άγχι(σ)βασίη просто за поврежденные чтения, приписанные Свидою ионянам и Гераклиту вместо άμφιβατεΐν и άμφισβασίην. Причиною поврежденности было, по его словам, написание άνφι вм. άμφι (Henr. van Herverden, — Lexicon Graecum suppletorium et dialecticum. Lugduni Batavorum, 1902, р. 14). Но, как бы ни решился этот сложный вопрос о фрагменте «противоречие», — если бы такого фрагмента и не было, то «il faudrait l'inventer».
Nicolaus de Cusa [Nicolaus Chrypffs, т. е. Krebs], — Opera, Parisiis, 1514, или, др. изд., Basileae, 1565. — Это соч. отн. к 1453–му г.
У. Джемс, — Вселенная с плюралистической точки зрения. Пер. с англ. Б. Осипова и О. Гумера под ред. Г. Г. Шпетта, М., 1911. — А. Шестов, — Апофеоз беспочвенности, СПб., 1905. — J. — H. Boex–Borel (J. — H. Rosny aine), — Le pluralisme. Essai sur la discontinuite et l'eterogeneite des phenomеnes («Bibl. de philos. cont.»). Рец. в «Rev. Phil.», 34–me an., 1909, № 12 Dec.
Подробнее — в: П. Флоренский, — Космологические антиномии И. Канта. Сергиев Посад, 1909 (= «Бог. Вест.», 1909, № 4). Там же дается и Библиография, но ее надо восполнить: L. Соuturat, — De l'Infini Mathem., Paris, 1896, 2–me partie, liv. IV, Chp. IV, pp. 556–580, особ. см. pp. 556–580, §§ 10–20. F. Eve1lin, — Infini et quantite, Paris, 1880. — G. Lechalas. — Etüde sur l'espace et le temps, Paris, 1896, chp. V.
«Toute la foi consiste en Jesus Christ et en Adam; et toute la morale en la concupiscence et en la grace» (Pensees de Pascal, ed. variorum etc., Paris. 1858, p. 354, Chp. 24,1).
Плат., — Гиппий Больший 301 В; Vol. I [37], pp. 753–754. — Перевод почти по: А. Н. Гиляров, — Обзор трудов по ист. греч. филос. за 1892–1896 гг., Киев, 1896 г., стр. 11. — Менее выразителен перев. М. С. Соловьева (Твор. Плат., пер. Вл. Соловьева и др., Т. 2, М., 1903, стр. 132).
Симасиологию слова αΐρεοις и собрание соответств. цитат см. в: Н. Stephanus, — Tesaurus Graecae linguae, post. ed. anglicam novi G. R. L. de Sinner et T. Fix, Parisiis, 1831, Vol. I, coli. 1025–1027: αΐρεσις — electio vel optio, δοκιμασία, κρίσις; conditio (καλη αίρεσει — bonis conditionibus); γνώμη, animus, h. e. voluntas et propositum; de studio litterarum (‘Ελληνική αΐρεσις), consilium, ratio instituti, mores; studium; secta, dogma, quum de philosophis dicitur; opinio de aliquo dogmate firmatum; философская школа; — dogma pravum de iis, quae ad Christianorum religionem pertinent; dogma orthodoxae fidei non consonum. — О понятии αΐρεσις, см. также: В. В. Болотов, — Лекции по ист. древн. церкви. Посм. изд. под ред. А. Бриллиантова, СПб., 1910, стр. 348–349, 163.
В статье «Ересь» («Прав. Бог. Энц., изд. под ред. † А. Лопухина», Петроград, 1904, Т. 5, столб. 489–490) автор правильно подчеркивает в позднейшем словоупотреблении αιρεσις момент горделивого обособления; но едва ли прочна его попытка доказать, что этот момент всегда подразумевался в указан. слов. — Ср. Herzog’s Real–Encykl., Bd. 5, 2–te Au fl
A. Белый, — Символизм. M 1910, стр. 30. — Если слово «понимать» разуметь в его рациональном значении, как подчинение понимаемого — законам рассудка, — то Бог есть — нечто совсем непонятное. «Все наши понятия о Боге — ни что иное, как идолы и кумиры, запрещенные десятисловием» (Григ. Нис., — Сл. 7–е, Mi gr., Т. 44, col. 729В; рус. п. ч. 2, стр. 331). «Кто, увидев Бога, понял то, что видел, — это значит — не Его он видел» (id., О жизни Моисея, Т. 44, col. 377 В; рус. п., ч. I, стр. 317). «Слово о Бог тем совершеннее, чем непонятнее» (Григ. Бог., — Сл. Богосл. 11, 21. Mi gr., Т. 36, col. 53В. — рус. п., ч. 3, стр. 29). И т. д.
При составлении таблицы я использовал отчасти:
Ф. В. Фарpар, — Жизнь и труды св. ап. Павла, пер. с XIX англ. Изд. А. И. Лопухина, СПб., 1887, прил. XX, стр. 451–459. — J. Воvon, — Theologie du Nouveau Testament, Т. I, Lausanne, 1893, р. 514. — Вот неск. наудачу взятых отрывков из молитвосл., в которых довольно ясно видно антиномическое сложение: «… в неслитном соединении воплощаем» …(воскр. троп., гл. 4); «Радуйся девство и рождество сочетавшая» (Акаф. Б. М.); «Чужде матерем девство, и странно девам деторождение: на Тебе Богородице, обоя устроишася» (кан. Рожд. Богор., ирм. 9); «Стяжал еси смирением высокая, нищетою Богатая» (троп. Ник. Чуд.) и т. д. Придавать антитетический закал своим высказываниям склонны были наиболее глубокомысленные тайнозрители. Так, читаем у трех Богословов: «Tpиe суть свидетельствующие на небеси: Отец, Слово и Св. Дух, и сии три едино суть» (1 Ин. 57); «Бог разделяется, т. ск., неразделимо и сочетавается разделенно; потому что есть единое в трех, и едино суть три» (Григ. Бог., — Твор., Ч. III, стр. 215); «Три лица Божества един есть Бог, который разделяется нераздельно по ипостасям и единится неслиянно по единости единого естества, — весь единый в трех ипостасях, и весь троимый в тресущной единости» (Симеон Н. Б., — Слова, Вып. II, стр. 104).
Под «Орами» Куньи (Соugny, — De Prodico Ceio, Раris, 1857) понимает различные «возрасты», что, по мнению Гомпера ([226], стр. 476, прим. к стр. 365) «не лишено вероятия». Но, если так, то тогда Продик, очевидно, уподобляет жизнь человека годовому циклу, ибо ώραι значит, собственно, времена года. Это уподобление — мотив весьма распространенный в древности.
Ксенофонт, — Воспом. о Сокр., II, 1, 21–34 (Ксен., — Соч., в пер. Г. Янчевецкого, Киев, 1876–77, Bып. II, стр. 38 сл.). — О том, что Ксен. дает пересказ, и даже по памяти, см. там же, II, 1, 34.
Сюжет «двух путей», — главн. обр. в изобразительном искус., а им. в вазовой росписи, — исследован в: F. G. Wеlcker, — Hercule entre la Vertu et la Volupte (trad. d’Allemend). Extrait des An. de l’Inst. Archeol, T. 4, p. 379. — Тут же воспроизведение двух таких изображений.
Имеются переводы на русск. яз. К. Д. Попова («Тр. Киев. Дух. Ак.», 1884, Т. 3, стр. 347–343 и отд. изд. «Посредника», № LXX, изд. 2–е. М., 1906); свящ. Соловьева («Чт. Л. Д. пр.», 1886, янв. — окт.); гр. Л. Н. Толстого, изд. «Посредника», № 588, 1906 г. (недоброкачествен, и тенденциозный пер.). Лучшее русск. изд. текста «учения» с перев., введ., примеч., параллельн. текстами и библ. указат.: А. Карашев, — О новооткрытом памятнике «учение двенадцати Апостолов», М., 1896.
К явным вариантам «учения двен. Ап.» относятся: 1°, латинск. фрагм. Doctrina apostolorum; 2°, Посл. Варнавы, глл. 4, 18–20 XIX, XX; 3°, Церковн. каноны, гл. 1, 8; 4°, Постановл. Апостольские, кн. 7, гл. 1–32; 5°, нек. места у Ерма, у Клим. Алекс., в Сивил. Оракул., у Псевдо–Киприана и у Лактанция. Важнейшие из этих текстов и гипотетические схемы их исторической взаимо–зависимости собраны у Карашева [247], стр. 31–33 и XCV–XCVI.
«Οδοϊ δύο είσϊ, μία τής ζωής και μία τοϋ θανάτου, διαφορά δε πολλή μεταξύ των δύο όδών» (Учн 1, 1). С небольшими вариациями эта фраза повторяется в упомянут. выше памятниках, см.: Doctr. Ар. 1; Посл. Варн. 18, 1,2; Церк. кан. 4, 1, Пост. Aп. III, 12 и др. (Кар. [247], прил. стр. XIV, IV, XLVIII–XLIX, LII–LIII, LVIII–LIX). Вслед за этим общим указанием двойственности пути, в кажд. из памятн. идет подробное описание обоих путей, т. е. дается каталог добродетелей и пороков, везде приблизительно в одном и том же составе.
О произношении, значении, происхождении и т. д. тетраграммы יהרה см. весьма содержат. диссертацию: Архим. [ныне Еп. Астр.] Феофан, — Тетраграмма или ветхозаветное Божественное имя יהרה, СПБ., 1905. — На стр. IV–VII — Библиограф. Указ. вопроса. — Об ирреальности зла говорят многие авторитетные свидетели. Так: «Душа, сознавая свободу свою, видит в себе способность употреблять телесные члены на то и на другое, и на сущее и на не сущее. Сущее же — добро, а не сущее — зло. И сущее называю добром, поколику оно имеет для себя образцы в сущем Бог; а не сущее называю злом, поколику не сущее произведено человеческими промышлениями» (Афанасий В., — Слово на язычников, 4). — Вне — εξω — естества Божия «ныне ничего, кроме одного порока — ή κακία — который хотя это и странно, в небытии имеет Свое бытие, потому что происхождение порока не иное что, как лишение существующего; в собственном же смысле существующее есть естество — ήτις… εν τώ μή είναι το είναι εχει ού γάρ άλλη ούν εν τώ οντι ούκ εστιν, εν τώ μή είναι, πάντως εστίν» (Григ. Ηис., — О душе и воскр., — Mi gr, Т. 46, col. 93 В). — «Ничто не может пребывать в бытии, не пребывая в сущем; собственное же и первоначально сущее есть Божие естество, о котором по необходимости нужно верить, что Оно во всех существах есть самое пребывание их» (Григ. Нис., — Больш. кат. поуч., 32. — Мi gr., T. 45, col. 80D. — Рус. пер., ч. 4,стр. 82). — «Если же есть в человек или в демон (ибо просто в природе мы не знаем зла) какое–нибудь зло, т. е. грех, противный воле Божией: то это зло происходить или от человека, или от диавола» (Посл. вост. патр., гл. 4). — «Грех не имеет бытия по себе — сам, зане не есть здание Божие, сего ради не может сказатися что́ есть» (Петр Могила. — Православное исповедание, ч. 3, отв. на вопр. 16–й). — «Злое же мни точию грех, понеже ниедино свойственне зло есть в мире, точию грех, иже есть преступление божественнаго закона и божественнаго хотения. Прочее же имиже Бог мучит ны за грехи наша, яко моры, рати, немощи и подобная, глаголются зла яко к нам, зане нам приносят болезни и скорби, ими же обращаемся: но к Богу не суть зла, зане имеют силу благаго: понеже наказуя ны сими поущаемы ны на благое» (id., отв. на вопр. 26–й).
В Dialogus Miraculorum Цезаря Гейстербахского есть достопримечат. рассказ «о женщине–колдунье, которую носили демоны», символически обрисовывающий отношения к диаволу как противоестественность. «В Газельте, городе Утрехтской епархии, некая презренная женщина однажды, став на бочку и прыгнув с неё задом, так сказала: «Я прыгаю теперь из–под власти Божией под власть Сатаны!». Дьявол ее сейчас же подхватил, поднял на воздух и на глазах у многих как в город, так и за городом, понес выше лесов туда, откуда она и до сего дня не вернулась» (Н. Спeранский, — Ведьмы и ведовство, М., 1906, стр. 96). Знаменателен смысл этого кощунствен. прыжка: «Все прыгают вперед, таков порядок естества, учрежденный Богом, — так вероятно рассуждала скверная баба; — ну, а я нарушу естество, прыгну назад, противоестественно и, следоват., противо–Божески, т. е. по–сатанински, и тем отдамся Сатане!». Она хотела угодить диаволу и отречься от Бога, — и добилась своего: для всех трех, по легенде, этот простой символ оказался достаточным. — из сочинений более документ, характ., где описывается шабаш ведьм и черная месса, назовем: Bourneville et Teinturier, — Le Sabbat des Sorciers (Bibl. Diabol). — L. Figuier, — Hist, du Merveilleux dans les temps modernes. 2–me ed., T. 1, Paris, 186, introd. — H. Спeранский, — Ведьмы и ведовство, очерк по ист. церкви и школы в Зап. Евр.. М., 1906. — Генри Чарльс Ли, — история инквизиции в Средние века, перев. с фр. А. В. Башкирова под ред. С. Г. Лозинского, Т. 2. СПБ., 1912, Гл. XVI–XIII, стр. 417–528. — J. v. Görres. — Die christliche Mystik, Regensburg, Bd. 3, 1840 u. Bd. 4, 1842. — J. A. L1orente, — Hist. crit. de Tinquisition d’Espagne… , trad. de Tespagnol sur le manuscrit et sous les yeux de l'Auteur par A. Pellier, 4 ТТ., Paris, 1817–1818. Дон Хуан–Антонио Льоренте был каноником примасской церкви в Толедо и секретарем инквизиции в Мадриде; изучив её архивы, он выпустил. свою «историю» сперва во франц. перев., а затем, в 1822–м г., — на исп. яз. (Ли, — Ист. инквизиции в средн. века, Т. 1, стр. VIII). В Т. 3, chp. 37 Art. 8, pp. 431–461 описывается известн. дело нач. XVII в. в Логроньо. По словам одного писателя, «самое полное и цветистое из описаний шабаша», именно на основании этого дела, содержится в книг: Вaissас, — Les grands Jours de la Sorcellerie chp· VI. — M. A. Орлов, — Ист. сношений человека с дьяволом, Спб., 1904. — J. Воis, — Les Petites Religions de Paris, Paris, 1894. — Eго же, — Le Satanisme et la Magie. — Eго жe, — Le Monde Invisible. Есть рус· пер.: Ж. Буа, — Невидимый мир, 1912 г. — M–gr Leon Mеurin, S. J., cheveque–eveque de Port–Louis. — La Franc–Maconnerie Synagogue de Satan, Paris, 1893. — Domenico Margiotta, — Le Palladisme culte de Satan–Lucifer dans les Triangles maioniques, Grenoble, 1895. — Леман, — иллюстр. ист. суеверий и волшебства от древности до наших дней. Пер. с нем. изд. Петерсена, под ред. В. Н. Линд, М., 1900, стр. 101–128. Книга, не смотря на кажущуюся объективность, весьма тендециозно–позитивистическая, и пользоваться ею должно с большою осторожностью. Разбор её, сделан Чистяковым, см. в «Ребусе», 1900–1902 гг. — Г. Фреймарк, — Оккультизм и сексуальность, пер. с нем. С. Пресса [перев. очень небрежен и испещрен грубыми ошибками]. О колдовстве стр. 263–314. — Сognard, — Une sorciere au XVIII siecle: Marie Anne de la Ville (см. также «Весть. Ин Лит.», 1899 г., янв.–май). — Kiesеwetter, — Gesch. d. Occultismus, Bd. II: Die Geheimwissenschaften, 2–te Aufl., Lpz, 1909 — G. H. Berndt. — Buch der Wunder u. Gеleimwissenschaften, 2–te Aufl., Lpz, 2 Bde. — Charcotet Richer, — Les demoniaques dans l’art (рец. в «Rev. Philos», 1887, 5). — Bolin, — Demonomanie des sorciers, 1581. — Отвратит, кощунств. обряды шабаша и происшедшей из него «черной мессы» были неоднократно изображаемы в худ. лит.; в большинстве случаев писатели основывались на внимат. изучении первоисточников, так что их описания в значит. степени правдивы и фактически, — не только художественно. Назовем: Д. С. Мережковский, — Воскресшие Боги (Леон. да Винчи), Спб., 1902. — Ст. Пшибышевский, — Синагога сатаны («Собр. соч.»; есть отд. изд. «Универс. библ.», № 254). — Нuysmаns, — La bas. Есть два рус. пер., из коих один издан книгоизд. «Совр. Пробл.», «Полн. собр. соч.» Гюисманса, Т. I, М., 1912, но не полон; другой — прилож. к «Вестн. Ин. Лит.» — полнее.
Fr. Blass, — Gram. d. Neu. — Testamentl. Griechisch. Götting. 1896, § 464, 5, 7, S. 143 ff.
Lajаrd. — Rech. sur le Culte public et les Mysteres de Mithra, Paris, 1866, pp. 51, 59.
Тора, — букв. пер. Л. И. Мандельштама, 3–е изд. Берлин, 5632/1872. — «Dieu donc сrea l'hоmmе a son image; il 1e crea a l’image de Dieu; il 1es сreа male et femelle» (Bible, version de J. F. Osterwald, nouv. ed., Paris–Brux, 1900). — было бы, разумеется, наивностью представлять себе изначальный андрогинизм челов. существа в виде срощенности сиамских близнецов или еще как–ниб. внешне–анатомически. Речь идет о выделении жены именно из существа, из лица первого человека. Но несомненно и то, что онтологически и психологически с ним, во время таинственного сна его или экстаза, по некот. толков., произошел какой–то перелом и что не могло его самочувствие по создании из ребра его жены оставаться тождественным с самочувствием до этого создания, «Ребро или кость, — замечает аpxиeп. Иннокентий, — здесь не есть нечто простое; она должна обозначать целую половину существа, отделившуюся от Адама во время сна. Как это происходило, Моисей не говорит, и это тайна; явно только то, что прежде нужно было образоваться общему организму, кот. потом разделился на два вида, мужа и жену» (Арх. Иннокентий, — О человеке [125] стр. 78).
Этот термин пользовался большою распростран. в древн. мире; в разл. применениях сообщали его: Диодор, Автор Theologum. Arith., Плутарх, Ириней Лион., Афиногор, Ипполит и др.
Напр. Пордедж, Антуанетта Буриньон (XVII в.) и др.. — По Талмуду Бог сотворил первого человека андрогином, с двумя головами и хвостом (Д. П. Шестаков, — Иcследов–я в области греч. нар: сказ. о святых. Варш., 1910, стр. 237 и прим. 7). — Санхониафон у Евсевия, Еванг. приг., 21 и т. д.
Б. Сидис, — Психология внушения, пер. с англ. М. Колоколова, СПб., 1902, Ч. 1. XXV, стр. 281, 283, 292, 214. П. Жане́, — Неврозы, пер. с фр. С. С. Вермеля, М., 1911, Ч. 2–я, гл. III, § 5, стр. 274, 275. — Так же думают Брейер, Фрейд, Мортон Прайтс. См. [76].
«Душевно–живущие и потому называемые душевными суть какие–то полу–умные и как бы параличом разбитые» (Никита Стиват, — 2–ая сотница естественных психологических глав об очищении ума, 6. — Добротолюбие, изд. 2–е, М. 1900, Т. 5, стр. 11»). Святые, даже на взгляд специалиста психиатра, представляются типично–здоровыми людьми. Напротив, расстройство душевн. жизни, при сравнит· хорошей сохранности умствен. процессов, прежде всего выражается в разложении и даже уничтожении нравствен. области; по указанию психиатра В. Чижа эта нравственная порча доходит до «поразительной неспособности понять добро и зло», до «отсутствия нравственного закона в душе» (В. Чиж, — Психология наших праведников. «Воп. ф. и псих.» 1906, кн. IV (84) сентябрь–октябрь и кн. V (85) ноябрь–декабрь. Его же, Нравственность душевно больных. id., кн. 7, 1891 г., стр. 122–148). К сам. реш. утвержд. здоровости святых приходит и J. Расhen, — Psychologie des mystiques chretiens, Paris, 1911 (Perrin). Реф. в «An. de philos. chret.» 84–e an., 4–e ser., T. 15, № 2, 1912, Nov., pp. 192–193. Еще: M. В. Лодыженский, — Свет незримый, СПб, 1912. — Врач С. Апраксин. — Аскетизм и монашество. Евангельские, биологические и психологические их основания. Опыт популяризации святоотеч. воззр., Киев, 1907. См. [479].
А. Λ. Волынский, — Леонардо–да–Винчи («Сев. Вестн.» 1897–1898 гг.; 1–е изд. Маркса, СПб., 1900, 2–е изд., Киев, 1909) — Особ. см. Ч. III, «Демоническое искусство». Еще с бо́льшею определенностию настаивает на мысли о коренном извращении души Леонардо–да–Винчи и видит в его творчестве» «сублимацию» полового чувства, не нашедшего нормальных выходов и отравившего всю личность, Фpейд («Леонардо–да–Винчи», М., 1912).
«Когда умные чувства стоят в душе в своем естественном чине, и ум незаблудно шествует в понимании тварей, разумно объясняя существо и движения их, тогда в естественном чине видятся ей и вещи и лица, и всякое естество вещественных тел. — Когда же силы её действуют не по естеству своему, восставая одна против другой, тогда и это все видится ей, не как оно есть по естеству своему: оно естественною своею красотою не возводит уже ее к познанию Творца, но, по причине страстного её состояния, низводит в глубину погибели» (Никита Стиф.; 1–я сотн., 52 [64], стр. 95). — Достойно внимания, что самое название «сумасшествия», «исступления», «умоповреждения» показывает, что тут мыслится какое–то разложение личности: что–то, т. е. часть личности, «выходит из ума», «из–ступает из ума», «повреждает ум», т. е. раздробляет его целостное единство, — одним словом, делается чуждою другой своей части. Если наш язык представляет этот психолог. и метафиз. момент под образом пространственного раздробления, то языки романские пользуются для той же цели образом из более привычной для них области, — из области права. Лат.: alienatio, с подразумеваемым, а иногда и прямо у поминаемым, — напр., у Плиния, — «mentis», — сумасшествие, психическое расстройство, Geistesstörrung; alienare, опять таки с подразумеваемым, — напр., у Ливия, — «mentem alicujus», свести кого с ума, и франц.: аliénation mentale, aliener, аliene означают, собственно, на юридическ. языке «отчуждение», «отчуждать» каких–ниб. прав, напр. имущественных. Поэтому–то Рибо и говорит, что в случаях изменения личности, где основу составляет галлюцинация, «почти всегда все ограничивается алиенацией (в этимологич. смысле), т. е. отчуждением известных состояний сознания, которые Я перестает признавать своими, которые оно объективирует, ставит вне себя и которым в заключение приписывает особое, независимое от себя состояние» (Ш. Рибо, — болезни личности. СПб., [1886], гл. III, 2, стр. 159, ср. стр. 160); «мы здесь имеем дело с отчуждением или алиенацией личности, — гов. он в друг. мест, — потому что прежняя стала для новой aliena, чужою, вследствие чего индивидуум более не знает своей прежней жизни или же, если ему о ней напоминают, созерцает ее объективно, как нечто отдельное от себя». Так, одна Сальпетриерская больная называла себя не иначе, как «тою, которая есть моя особа — la personne de moi–memе» (id., гл. IV, 2, стр. 210–211). Это отчуждение части своей личности, будет ли к тому побуждать собственное любопытство или злая сила, может быть достигаемо и более или менее преднамеренно. Однако, оно весьма опасно и редко не кончается гибелью, примеры чему см. id., гл. III, 2 стр. 160–162. Едва ли есть надобность подробно объяснять, что болезненное состояние, вообще ослабляющее всякую активность, способствует вселению злой силы в обособившуюся часть Я. В других случаях таким неблагоприятным условием бывает глубокая тоска, кручина по уехавшем, умершем человеке, жажда чуда и т. д., опять–таки ослабляющие самооборону и побуждающие к рискованным опытам. Умерший муж, посещающий ночьми свою тоскующую вдову; сын или дочь, таинственно приходящие из далекой разлуки к родителям; жених, являющийся невесте, или наоборот; ангел света слетающий к запостившемуся и возгордившемуся подвижнику; — все эти случаи вампиризма и бесо–явления, по народным воззрениям и по церковному преданию, не обходятся даром, и доверившийся таинственному посетителю либо сходит с ума, либо умирает по непонятной причине, либо сам налагает на себя руки. Но везде тут можно усматривать как объективный момент — ослабление всего организма, — так и субъективный, — внутреннюю решимость на само–дробление, соизволение на вражеский прилог, приятие нечисти будь то по любопытству, по гордости или по несмирению пред волею Божиею. Это соизволение выражается в ответе на по–ту–стороннее заговаривание с искушаемым, в так или иначе высказанном согласии поддерживать разговор. Нечисть допускается нашим «Да». Вот почему народ настойчиво твердит, что никогда не должно откликаться на таинственный зов, иногда зовущий нас по имени где–нибудь в уединенном месте, особенно полуночною или полуденною порою, и не должно спрашивать «Кто там?», когда слышится таинственный стук в дверь или в окно. — Но если надо остерегаться даже разговора с явившейся незванно силою, то кольми паче опасно способствовать её явлению приемами чёрной магии, которые, в существе своем, сводятся к созданию условий, удобных для явления нездешней силы и, в частности, к ослаблению, к дезинтеграции, к произведению гипноидного состояния личности. Сюда же относится психология толпы: политический митинг весьма недалек от кухни ведьмы, и понятно, что на нем бесы вселяются в участников его. — В упрощенном и применяемом полусознательно виде эти магические приемы распространены среди спиритов, спиритуалистов, всевозможных лже–мистиков и т. п. И применяются ими на их сеансах, «вечерях любви» и радениях. Но как народные колдуны всегда кончают плохо, так же бывает и со всеми этими потребителями запретных наркозов. — О спиритизме, как духовном яде, высказывались многие, — напр.: Достоевский, — Дневн. пис.; Волкович, — Спиритизм, как яд интеллекта; J. Bois, — Le monde invisible (есть рус. пер.); Лаппони, — Гипн. и спирит.; Юм [псевд], — Как вызывать духов («Спиритуалист», 1906, стр. 7–8); П. Русков, — из области спиритич. тайнодействий, изд. 2–е, М., 1889 (= «Странник», 1885, № 12); игум. Марк, — Злые духи, 2–е изд., СПб., 1902; Л. Левенфельд, — Сомнамбулизм и спиритизм, М., 1913; свящ. Иоанн Дмитревский, — Спиритизм, Харьков, 1910 (= «Вера и Раз.», 1910); Дьяченко, — из мира таинственного; Филарет, Митр. Моск. и др. Leon Denis, — Dans l’Invisible — Spiritisme et Médiumnite. Paris, 1904, 3–me partie, pp. 379 suiv. В последнее время сделанs важные разоблачения известным Быковым, некогда участвовавшим в хлыстовских радениях, а затем деятельно распространявшим спиритуализм. Прочно засвидетельствованы также лживость и шарлатанство, развивающаяся на почве спиритизма особ. у медиумов.
Еще см.: 270 Жане [263], ч. 2, гл. IV, § 3, стр. 282–286, 289, 291, 307–309; П. Жане, — Неврозы и фиксированные идеи. Пер. с фр. М. П. Литвинова, СПб., 1903; Штёрринг, — Психопатология в применении к психологии, пер. А. А. Крогиуса, СПб., 1903, — на стр. 281–305 указ. лит.; А. Бинэ, — Изменения личности. Пер; под ред. Б. В. Томашевского, [1894] (редкость); Рибо, — болезни памяти, 1894; — Психология внимания, 1894; — Воля, 1894. Η. О. Лосский, — Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма, 2–е изд., СПб., 1911; И. Дежерин и Е. Гокле́р, — Функциональные проявления психоневрозов, их лечение психотерапиею, пер. Вл. Сербского, М., 1912; Н. Богданов, — Неврастения и внутренние болезни («Варш. Ун. Изв.», 1913, I и отд. изд.); П. Жане, — Психический автоматизм М., 1913.
Ср.: «Все должно быть благообразно и по чину — πάντα δε ενσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω (1 Кор. 14, 40). Этой общественной норме ап. Павла придано в тексте онтологическое значение: онтологический момент, конечно, лежит в основе всяких иных моментов, а в том числе — и общественном, ибо без онтологии нет и того, что м. б. лишь явлением области существенной. — Первая же половина нашего определения устроенности намекает на известное определение лорда Пальмерстона, сказавшего, что «грязь — это то, что не на своем месте», и на применение этих его слов к очистке электрометра у Вилльяма Томсона, лорда Кельвина: В. Томсон (л. Кельвин), — Строение материи, пер. с англ. Б. П. Вейнберга, СПб., 1895, стр. 316–317. — Само собою понятно, что и это понятие грязи в тексте онтологизировано. Личность д. б. чистой, т. е. не–грязной, т. е. в ней ничего не д. б. не на своем месте. «Навык к добродетели есть восстановление сил души в первобытное их благородство и сочетание во едино главнейших добродетелей для свойственного ей по естеству действования; а это не сo–вне привходит в нас, как нечто вводное, а прирождено нам от сотворения, и чрез это входим мы в царство небесное, которое, по слову Господа, внутрь нас есть …» (Никита Стиф., — 1–я сотн. деятельных глав, 72. — Добротолюбие [61] стр. 101). — Мысль, подобную той, что развивается в тексте, а именно о греховном мире как «перестановке известных существенных элементов, пребывающих субстанциально в мир Божественном» см. У Вл. С. Соловьева, — Чтения о Богочеловечестве, чт. 9–е («Собр. соч.», СПб., Т. 3, стр. 122).
Русское понятие слова «закон» онтологично, — не юридично и почти равносильно Платоновой идее. Закон — это норма не поведения, а бытия, и отсюда уже — и поведения, как явления существа. «Этот столарь сделает столь по–законнее, прочнее», говорила мне одна крестьянка; позаконнее, т. е. соответственнее его «идее». Преступление есть пре–ступление, т. е. выступление за что–то, за какую–то черту, за какую–то границу; это есть вступление», хождение за пределами нормы человеческого бытия, существенно присущей ему, как и пре–любодеяние есть половое деяние за границею, опричь черты должного. Чего? — Закона. Закон есть за–кон, т. е. граница, черта, предел. Это — естественное, истинное очертание явления, и вне сего очертания, преступая его, явление делается уже ходящим «путями своими», блудящим, а не Божиим, т. е. греховным и растленным. — В основе идеи мира лежит представление о согласованности частей, о гармонии, о единстве. Мiр есть связное целое, есть «мир» существ, вещей и явлений, в нем содержащихся. Мало того, самые слова «мiр» и «мир» этимологически тождественны, и различие написания их — происхождения позднего и условно (ср.: Срезневский — Материалы для Словаря др. — рус. яз. СПб., 1890 г. Т. 2, столб. 147–153). В понятии мipa, русский язык подчеркивает моменты стройности, согласованности. То же — и в греческом языке. Разница — та, что русский народ видит эту стройность в нравственном единстве вселенной, разумеемой наподобие человеческого общества, — как мир–общество, а греческий народ — в эстетическом строе её, причем вселенная воспринимается как совершенное художественное творение. В самом деле, греческое κόσμος происходит от корня, дающего, с другой стороны, глагол κοσμέω украшаю, попавшего в слова «косметический», «косметика» и т. д. Κόσμος значит, собственно, украшениe, произведение искусства и т. д. Подобно ему и латинское mundus — мир, породившее французское lе mоndе в смысле «мир», «вселенная», значит собственно украшение. Это видно из того, что в соединении с отрицательными частицами тот же корень обозначает грязь и т. п. понятия, прямо противоположные эстетическому совершенству, каковыми являются слова: immondices, immondicitе, immonde, émonder (cp. Lajard [258] pp. 38, 43 np. 1).
Cur. [1 2]. № 282, W. ιδ. (Aufl. 2 — S. 217 = Aufl. 3 — S. 227 = Aufl. 4 — S. 241). Crem. [17], S. 80; Бен. [37], стр. 10; W. H. Roscher, — Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Lpz., 1884–1890, Bd. I, col. 1778, Art. «Hades», тут же, col. 1779 другие этимологии, — ложные. — «и кажется мне, что именем ада — του άδου, — в кот., как говорят, находятся души, и у язычников и в Божеств. Писании не иное что́ означается, как преселение в темное и невидимое -εις το άειδες καί αφανές μείέχουσιν (а по друг. рукоп. μεταχώρησιν)», — говорит устами Макрины Григ. Нис., — О душе и воскресении — Mi gr, Т. 46, col. 68 В.
Гом., — Одиссея XI, 155. — Эти представления о состоянии греховном несомненно имеют какую–то связь с переживаниями некоторых неврозов. Так, — при неврозе, от д–ра Кризбахера получившем название «мозгово–сердечной невропатии — la nevropathie cerebro–cardiaque, — больным кажется, будто они «отделены от всего мира»; их тело точно окружено какой–то изолирующей средой, которая становится между ними и внешним миром. — «Вокруг меня, — говорит один из них, — как бы распространилась атмосфера тьмы. Я, однако, хорошо видел, что кругом меня был светлый день. Слово «тьма» не точно передает мою мысль. Для этого следовало бы употребить немецкое слово dumpf, которое вместе означает и нечто тяжелое, густое, мутное, угасшее. Ощущение это было не только зрительное, но и кожное. Атмосфера dumpf меня окружала со всех сторон; я ее видел, я ее чувствовал, то был словно какой–то слой, какой–то дурной проводник, отделявший меня от внешнего мира. Я не могу передать, насколько глубоко проникало меня это ощущение. Мне казалось, что я перенесен куда–то очень далеко от здешнего мира; и я машинально вслух произносил следующие слова: «Я где–то далеко, очень далеко». Однако я отлично знал, что никуда не был перенесен и отчетливо помнил все, со мною случившееся. Но между моментом, предшествовавшим моему припадку, и тем, который за ним следовал, существовал бесконечно долгий интервал; существовала пропасть, равная расстоянию земли от солнца» (Т. Рибо, — Болезни личности, перев. с французского. СПб., изд. А. Е. Рябченко [1886]. гл. III, 1, стр. 149 и 150. Рибо заимствует это замечательное сообщение, по–видимому, из книги: Кrisbahеr, — De la nevropathie cerebro–cardiaque, Paris, 1873). — Тут мы видим зачаточное переживание и тьмы, и отъединения и удаления от реальности, и пребывания «кроме́», и дурной бесконечности, в которую растягивается момент духовной агонии.
Д. С. Мeрежковский, — Судьба Гоголя; — Христос и Антихрист в русск. лит.; — Грядущий хам. С. [И.] Воинов [иером. Серапион], — Христианство и культура, М., 1911. Достоевский и др.
Наиболее ярким выразителем этого ощущения жизни, как глупости, является G. Flobert, — Buvard et Pecuche; Tent. де–S. Ant. Салтыков–Щедрин, непрестанно брызгавшийся ядовито–оглупляющей и грязно–опошляющей слюною на всю действительность, относится конечно сюда же, с тою только разницею от Флобера, что в нем мало художника, но много шипения и злобы. Но оглупление миpa,·жизни, истории распрастранено в качестве Богоборческого метода настолько, что не знаешь, на каком имени тут остановиться. Эволюционизм, историзм, механизм и т. д. — это лишь частные случаи общего метода обездушения, опошления и оглупления бытия. — из числа глупых сочинений о глупости назовем: Л. Лэвенфелед, — О глупости, Одесса, 1912. — Отчасти Токарский, — О глупости («Вокруг ф. и пс.», 1896, нояб.–дек.)
Фр. Паульсен, — Мефистофель. (Шопенгауэр, Гамлет, Мефистофель, пер. Зелинской, Киев, 1902). Коротко, но отчеканенно, Церковь выражает ту же мысль в словах «Ад всесмехливый» (Вел. пяток, вечер, 2–я стих. на стих.)
id.; И. И. Срезневский, — Материалы для Словаря древне–русского языка по письменным памятникам, СПб., 1890, Т. I, столб. 603–605: «грех» и производные. — Тут же многочисл. примеры употребления этих слов.
A. Doring, — Gesch. d. griech. Philos., Lpz., 1903, Bd. I, S. 391. Ср.: Ксенофонт, — Воспомин. I, 1, 16 и IV, 3, 1. — Целомудрие — «полная мудрость, сколько умственная, столько же и нравственная» (Η. Ф. Федоров, — Вопрос о братстве Ч. IV. — «Философия общего дела», под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, Верный, 1906, Т. I, стр. 314–315. — На стр. 314–318 множество поучительных мыслей о целомудрии и его космическом значении).
Вопреки этому, обще–человеческому пониманию стыда, гностические, манихейские, отчасти неоплатонические и т. п. течения пытаются видеть в стыде сознание недолжности той или другой функции, того или другого органа. Стыдимся мы, — рассуждают при этом, — того, что ниже нашего человеческого достоинства. Эти два самочувствия, издревле противопоставлявшаяся друг другу, в новейшее время противополагаются в жизнепониманиях В. В. Розанова (особ. см. «В мире неясн. и нереш.» и «Сем. вопр. в Рос.», т. I, стр. 169 и др.) и Вл. С. Соловьева (особ. см. «Оправд. Добра»). Мы стыдимся, — приблиз. так рассуждает Розанов, — вовсе не существования органа или функции, а деятельности и явления их вне тех рамок и границ, кои составляют закон для данного органа или функции. Подобно тому, как корням растения естественно быть во мраке земли, а цветам — в сиянии дня, так же одним органам естественно быть скрытыми, другим — явными, но отсюда ничего нельзя заключать о недолжности их функций, о низменности самых органов. — Несомненно, что весьма часто люди стыдятся вовсе не плохого, а явно хорошего, например своих добрых движений. Скромность, застенчивость, молчаливость, глубина внутренней жизни — все это охраняется от выворачивания, от обнажения именно стыдливостью. На таковое именно значение стыда указывает и корень слова. Несомненно, что русское стыд со–коренно словам: сты(д) — ну–ть, сты–ть, про–сты–вать, а также — студ, студить, простуда и т. п. (Гор. [?], стр. 351), т. е. стыд есть чувство духовного холодf возникающего от обнажения того, что должно быть покрыто и сокровенно. Если снять с себя одежду, то и телесное и духовное состояние будет требовать покрытия наготы: телу будет студно, а душе — стыдно. Но ни состояние тела, ни состояние души ничуть не содержат в себе ни малейшего указания на недолжность самого тела, на его низменную, животную природу, как во все века твердили гнушающиеся телом еретики; от них не отстает в данном вопросе и Вл. Соловьев. Напротив, именно потому, что тело священно, — нельзя обращаться с ним как попало, надо соблюдать законы его собственного бытия; ощущение этой священности и лежит в основ стыда. Ту же идею открывает нам этимон названий стыда в иных языках. Греческ. αϊδομαι (из *αίσδ–ομαι) — я застенчив, робок, стыжусь, αιδώς — стыд, αϊδιμος — стыдливый. со–коренно готфскому aistan — почитать, оказывать почтение, латинскому aestumare — ценить, санскритск. — ide — умоляю, почитаю. В еще более глубокой основt тут лежит санскр. корень yaj — приносить жертву, производящий и греч. άγιος. Происходящая отсюда же древ. — верхн. — нем. era — почесть, омбрск. erus, оскск. aisusis — sacrificiis, а равно и греч. αΐδοΐος — почтительный и почтенный (Bois. [12], livr. 1р. 22; Prel. [12], р. 7), явно доказывают, что в греческом понятии стыда содержался вовсе не признак предосудительности, а религиозный трепет пред известными явлениями и органами, священными и, б. м., табуированными. Вот почему греческ. τα αιδοία, равно как и латинск. verenda, — orum, или как русск. «стыдливые части» означает вовсе не органы предосудительные, низменные, позорные, а напротив, органы исполненные таинственной силы творить жизнь, окруженные мистической оградой из благоговения, благодарности и страха, — одним словом, органы, с которыми нельзя быть небрежным и непочтительным. Как и всему особенному, им нужно быть вне соприкосновения с обыкновенным. Стыд и есть та сила, которая ограждает мистические части человеческого тела от вторжения в их сферу неуместного там света дня. Таков взгляд народов.
Вот несколько примеров изображения Сатаны со вторым лицом, — на чреве, или же в области ниже: 1°, Ркп. Соловецк. старца Филарета иконника, XVI в., мин. 16, фиг. слева.
Библ., Каз. Д. А. № 58 (нов. № 158). Воспроизведено в: Феод. [И.] Буслаев, — Свод изображений из Лицевых Апокалипсисов по русским рукописям с ΧVΙ–го века по XIX, СПб., 1884, № 101. — 2°, id., мин. 63, фиг. слева. Воспроизв. id. № 109. — 3°, Чудовской Перевод 1638 г. мин. 63, фиг. слева. Воспр. id., № 117. — 4°, Ркп. М. Д. А. № 14, XVII в., мин. 64, фиг. снизу, справа, с высунутым языком. Воспр. id., № 173. — 5°, Ркп. М. Публ. Муз. № 3, XVIII в., мин. 65, диавол с женск. лицом и волосами. Воспр. id. № 211а. — 6°, Франц. Ркп. Корол. Библ. № 670, «Hist, du Saint.–Graal», XV в., мин. Изображ. «Троицу абсолютн. зла». Воспр. У Didrоn, — Hist. de Dieu, 1843, р. 521 fig. 135 = H. И. Троицкий, — Триединство Божества, изд. 2–е, Тула, 1909, стр. 75, рис. 58.
Дж. Ант. Но, — Двойник. (Вражья сила). Пер. с фр., СПб., 1904. В. [П]. — Свенцицкий, — Антихрист. Записки странного человека. СПб., 1908. — Вал. [Я.] Брюсов, — Огненный Ангел, М.
По народному выражению, бес зовется «тошнόю силою», т. е. такою, которая вызывает тошнотье, тошноту (Даль [7], Т. 4, ст. 816). Народное речение это ухватывает самую суть впечатления от нечисти: это не столько страх или ужас, сколько глубокое, непередаваемое и невообразимое ощущение тошноты. Всякое соприкосновение с явлениями магии, даже с теориями и книгами по оккультизму и т. п. течениями мысли, неминуемо оставляет в душе какую–то «грязнотну», какое–то нечистое чувство, — чувство нечистоты, отвращение, пресыщение и тошноту. Есть глубокая, хотя и непонятная, связь между органическим ощущением тошноты и тем, что оставляет после себя запретная область темного знания. Сюда же относятся и свидетельства старых экзорцистов, что «les demons sont рuants», т. e. что бесы вонючи, т. е., опять–таки, возбуждают тошноту. М. б., и физическая тошнота и тошнота бесовская коренятся в каком–то противоестественном раздражении одних и тех же центров симпатической нервной системы? М. б., мы сталкиваемся в магии c excessus a plexu solari, каковым является и распутство? Трудно сказать об этом что–ниб. решительное, но самый факт какого–то соотношения между восприятием нечисти, прелюбодеянием, тошнотою и зловонием безусловно верен (см. Фреймарк, — Оккульт. и сексуальность. [252] — П. Флоренский, — О суеверии и чуде, «Новый Путь», 1903, № 8, стр. 120 и др.). И, какова бы ни была физиологическая подкладка этой тошноты, метафизически она вполне понятна. Бес — и все, с ним связанное, — есть ходячее извращение естественного порядка твари, — сама противоестественность. Принять в себя, хотя бы и без соизволения воли, без соуслаждения чувства, нечто противо–естественное, это значит именно вызвать естественную реакцию всего существа к извержению принятого, — онтологическую рвоту, первый признак которой, после предостерегающего от принятия страха и ужаса соединения, есть именно тошнота, — стремление изблевать из себя нечисть и восстановить естественный ход духовной жизни.
Это значение слова «легион» станет совсем ясным, если мы вспомним, что во всех языках и у всех народов названия числовых единиц высших порядков первоначально употреблялись для обозначения неопределённого, беспредельного множества, — столь великого, что нет сил сосчитать его. Многочисленные примеры тому собраны в статьях: В. В. Бобынин, — Иссл. по ист. математ. («Физ. — мат. науки …», ТТ. 9 и 10). — А. В. Васильев, — Введение в анализ, изд. 3–е, Η. П. Иовлева. Казань, 1907, Вып. I, §§ 1–6, стр. 1–10. См. также в статьях П. Флоренского, стр. 185–195 и В. В. Бобынина, стр. 229 [1].
С психиатрич. точки зрения всякая одержимость или есть истерия, или связана с нею, истерия же есть раздробление личности. [263, 270, 268]. В истерич. раздробленности, с рел. точки зрения, открывается хаотическая, саморазлагающаяся природа нечисти. — известный по знаменитому делу Лудэнских урсулинок заклинатель о. Сюрэн, эксперт по распознанию бесовщины, после многих экзорцизмов, увидал в самом себе признаки одержимости. Вот его отчет о своем душевном состоянии в те часы, когда бес из тела одержимой переселялся в его тело: «Я не могу вам выразить, что́ в течение этого времени во мне происходит и ка́к этот дух сливается с моим, не лишая меня ни сознания, ни свободы души, но тем не менее становясь как бы вторым мною самим, — точно у меня две души, из которых одна лишена своего тела и употребления органов и держится в сторон зрительницею того, что там производит вторгнувшаяся туда вторая душа. Оба духа борятся в одном и том же пространств, которое есть тело, и душа является как бы разделенною: в одной части себя она подвергается бесовским наваждениям, в другой — испытывает ей свойственные и ниспосланные Богом движения. Когда я, движимый одной из этих душ, хочу крестным знамением осенить уста, другая душа быстро отстраняет мою руку, схватывает меня за палец и с яростью его кусает; когда я хочу говорить, меня лишают слов; за совершением обедни меня внезапно прерывают; за столом я не могу положить куска в рот; на исповеди я вдруг забываю все свои грехи и чувствую, как во мне, точно в собственном доме, распоряжается бес» (Hist, des Diables de Ludun, p. 217 s. Цит по Т. Рибо, — болезни личности, пер. с фр., СПб., [1886], стр. 190). — изображение внутр. мира одержимого см. [290]. — Народом русским дознано, что нечистая сила не имеет личности, а потому нет у неё и лица, ибо лицо–то и есть лик, явление личности. Нечисть безлична и безлика, и лишь обманывает люд, притворяясь личностью. По слову народному «у нежити своего обличия нет, она ходит в личинах» (Вл. Даль, — Пословицы русск. нар., изд. 3–е, Т. 8., СПб. и М., 1904, стр. 198). Отсюда — бесчисленные переверты всякого рода (см. С. В Максимов, — Нечистая, неведомая и крестная сила, СПб. 1903, стр. 11–12). По художествен. выраж. крестян Сарапульск. У., Вятск. г., бес «в лесу с лесом равен, в пол с травой, а в людях с человеком» (id., стр. 12, прим.); «равен», т. е. схож. То же — у немецкого народа (J. Grimm, — Deutsche Myth., Göttingen, 1854, 3–te Ausg., Bd. 2. § XXXIII, S. 944 ff.), особенно богатые сведения о бесовщине коего дает Цезарь Гейстербахский в «Dialogus Miracularum» (H. Спepанский, — Ведьмы и ведовство, М., 1906. стр. 95–96; П. Г. Виногpадов, — Ист. хрест. по Средн. Век., Ч. 2). Скидываясь чем угодно, диавол, однако, не имеет личности, хотя бессубстанциальность бесов немецкий народ, также по немецки, символически воспринимаешь как отсутствие спины (!). «Чем бы ни являлся диавол, — замечает по этому поводу Цезарь, — спины у него обыкновенно не бывает. Это известно твердо. Так говорила между прочим одна девушка, к которой повадился наведываться дьявол. Ей показалось странным, что он от неё всегда уходит пятясь задом [заметим, что так же отступаешь нечисть от креста], и она его спросила, ка́к это надо понимать. «Licet corpora humana nobis assumamus, dorsa tamen non habemus — хоть мы и принимаем человеческий вид, но спин у нас нет», — так объяснил свое поведение вежливый гость» (Н. Сперанский, — id., стр. 96). Обстоятельство примечательное! Но оказывается, что это не единичн. случай, и что внутренняя пустота, безличность, ирреальность, меоничность нечистой силы всегда немецким мистическим восприятием облекалась в образ без–спинности. Свою особенность строения Цезарев бес делит с германскими лешими, которые тоже внутри оказывались пусты «как дерево с дуплом или как квашня»» (id., стр. 96). Необыкновеннейшие же превращения свойственны греческой нечисти (Шестаков [262], стр. 226–238). — В народных воззрениях японцев» мы опять находим все то же представление об отсутствии лица у нечисти, по крайней мере у одной её разновидности, у Муджины. В одной легенде рассказывается как некий купец встретил такую Муджину, у которой «не было ни глаз, ни носа, ни рта» и лицо которого было гладко «как яйцо» (Лафкадио Xёрн, — Японские сказки Кваидан, пер. с англ. С. Лорие, «Универс. Библ», №№ 469–470, «Муджина», стр. 54–56).
Арист., — Эф. к Ник. VII 12 [36] р. 1252 b 7: «το μακάρων όνομάκασιν άπο του χαιρειν». В код. Μb стоит: «του μαλιστα χαιρειν».
По Плутарху (Ed. Oxoniensis, VII, 1) μακάριος dicitur a χαίρειν Arist. Nicom. VII. 1» (Dan. Wуttenbach, — Lexicon Plutarcheum, Lipsiae, 1843, Vol. II, p. 532).
Не имея основания высказаться за этимологическое сродство, я все же считаю небезынтересным указать на звуковое совпадение слова μάκαρ с туземным названием одного сорта варварийского (т. е. с берега Африки южнее Баб–эль–Мандэба) ладана, а именно с Makker или Makar, в ботанике называющегося Boswellia papyrifera. Возможно, что этот Makar тождествен с упоминаемым в Перипле (Peripli maris Erythraei, 8) и у Диоскорида (De mat. med. 1, 111) растением μάκερ или μάχειρ, вывозимом из Варварии (М. Хвостов, — Иссл. по ист. обмена в эпоху Эллинист. монархий и Римск. Имп., I Ист. вост. торговли греко–римск. Египта. Казань, 1907, стр. 99, прим. 4). Если допустимо гипотетическое построение, в предположении, что слово Makar индо–европ. происхожд., то мыслимо, что ладан назван «блаженным» за какие–ниб. наркотические свойства.
Fr. W. J. von Sсhelling, — Einleitung in die Philos. d. Mythologie (Sämtl. W., 2–te Abth., Bd. I, SS. 469–477, 2 Buch, 20 Vorles.).
Можно указать еще на то, что μά на элейском диалекте равносильно μή. Отсюда — слова μάτε и μαδέ (H. von Herwerden, — Lexicon Graecum suppletorium et dialecticum. Lugduni Batavorum, 1902, р. 510. — Тут же точн. ссылки).
Гомер, — Илиада II 120, 214; V 759;XIII 627; XV 40; XX 298; 348; Одиссея, III 138, XVI 111.
Пользуясь случаем выразить свою благодарность за сделанные мне указания из области осетинск. яз. моему товарищу П. Г. Ходзарагову, природному осетину.
Schelling [301], SS. 472–473. — Не знаю, откуда берет Шеллинг эту глоссу. В имеющемся у меня изд. Изихия (Hesychii Alexandrini Lexicon, curavit Alaur. Schmidt, ed. altera, Jenae, 1867, срв. 868, 35–36 значится лиш: «κηρ περισπώμενον και ούδετέρως λεγόμενον ή ψυχή».
Относительно различия частиц ού и μή см. напр. Добиаш, — Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греч. языка. Прага, 1897, VII, 7, стр. 471–488. Добиаш приходит к закл., что «ού говорящий произносит от себя и для себя, а μή — от постороннего лица и для постороннего лица» (стр. 482). «Ούκ есть отрицание, которое говорящий произносит от себя и для себя, а в μή он имеет в виду другое лицо, произнося его для него»; «оно есть отрицание, относящееся к постороннему лицу вообще» (стр. 478, ср. стр. 478 bis., 479). Отсюда понятно, что ού отрицает факт, а μή — уже не факт, а некоторое мненние о нем, понятие и, соединяясь с ним, образует «отрицательное понятие». Понятно, почему это последнее «требует именно частицы μή, а не ού. Ибо если я, говорящий, через какое–нибудь «города–нестолицы» определяю положительный объем логического понятия, то я, так сказать, обращаюсь к собеседнику, чтобы он сам раскрыл «положительное» содержание того, что я обрисовываю только с отрицательной стороны!» (стр. 484, ср. 475). Поэтому–то «отрицание факта» чувствуется как оборот, состоящий из двух слов, т. е. из частицы отрицания и глагольного имени, а «отрицательное понятие», хотя и состоит из частицы μή и глагольного имени, однако чувствуется как одно слово, причем μή «играет роль отрицательной представки вроде α privativum и др.» (стр. 485). Вот почему слово μάκαρ, если согласиться с Шеллингом относительно состава его, не обозначает простое отрицание известного факта, но — нечто новое, противоположное состояние, и в существе своем положительное. — Исторически–философское изъяснение различия между ού и μή делалось не раз, напр., см.: Н. Cohen, — Syst. d. Philos., Th. I; Logik der reinen Erkenntniss, Berlin, 1902, SS. 70 ff.; Sсhelling [301], Бeprcoн, — Анализ идеи «ничто» («Rev. philos.» 1906 Nov. = «Творческая эволюция» [2] к стр. 5). См. также у Гегеля. — родствен. вопрос о «не» и «ни» в славянских языках обсуждается в: Fr. Мiс1оsiсh, — Die Negation in den Slavischen Sprachen, Wien, 1869 (= «Denkschriften d. philos. — hist. Classe d. Keis. Akad. d. Wissenschaft, Bd. XVIII). Идеи «бытия» и «ничто» подробно исследуются в: Г. Тейхмюллер, — Действит. И кажущийся мир. Пер. с нем. Я. Красникова, Казань, 1913, особ., см. кн. 1–я, глл. 7–я и 8–я, стр. 172–212, об идее «ничто».
Различение libertas minor, т. е. posse non peccare, и libertas major, т. е. non posse peccare, было выдвинуто бл. Августином, в связи с его борьбою против пелагианства.
Впрочем, вопрос о существовании такого понятия о положительной нирване в буддизме остается открытым. См. А–ей И. Введенский и др. [28].
По Фику, от √mak — иметь силу, делать, быть способным происходят зендские: mac — могучий, великий, широкий; maс–anh — величина; maс–ita — большой, высокий, древне–персидское: math–ista — высочайший; греческие: μακ–ρό–ς — длинный, высокий; μήκ–ος = makas; μάκαρ — сильный, богатый, а затем уже счастливый, блаженный; литовские: mók–u, mok–éti — мочь, считать; mok–inti — учbться; maz–u, maz–it — учить (Aug. Fick, — Vergleichende Wörterbuch, der Indogerm. Sprachen. l–te Abth., 2–te Aufl., Göttingen, 1870, SS. 143–144). Сюда же относится родственный √magh, дающий, между прочим, латинское magnus, греческое μέγας и т. д. (id., S. 144. — см. также 4–te Anfl., Göttingen, 1891, 1–te Abth., 277, 508). — Того же мнения держится и Прелльвиц [17] (S. 189, Ваничек (Vanicek, — Griech. Lat. Etym. Wörterbuch, Lpz. 1877, S. 680) и др. Однако, наряду с этим, наиболее распространенным мнением, имеется и этимология Папе, производящаго μάκαρ от χαίρω (Pape, — Grich. — Deut. Wört., 2–te Aufl., Braunschweig, 1857). — Э. Буасак ([12], livr. 8–me, 1912, р. 601–602) воздерживается от суждения.
Климент Римский, — 2–е посл. к Коринф., V 5 (Die Apostolische Väter, herausgegeben von F. X. Funk. 2–te verbesserte Auflage. Tübingen, 1906, S. 71).
Молитва из древнейшего, — александрийского текста литургии Василия В.
(«Энц. Сл.», Т. 51, стр. 208).
У греков, после слов архиерея, при пении «Святый Боже» т. д. и тело усопшего прямо относится к могиле (id. σ. 220). — «После отпуста возглашается почившему вечная память, потому, что и об этом, то есть о целовании и возглашении, говорить св. Дионисий. О целовании он говорит, что оно означает единение во Христе нас — живых с отошедшими, а о возглашении, что они (отошедшие) сочетались со Святыми и достойны наследия их так же, как и веры, и мы веруем этому, и поем это; равным образом, оно есть как бы посвящение усопшего Богу и наша молитва за него. Наконец, молитва есть как бы дар и довершение всего; она отсылает (умершего) к наслаждению Богом и как бы передает Богу душу и тело отшедшего» (Симеон Фессалоникийский, — разговор о свят. священнодействиях и таинствах церковных, 333. — Писания свв. оо. и учч. Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения, Т. 2, стр. 534). — Имена умерших «вносятся в священные помянники не потому, будто бы Божия память по–человечески обнаруживалась в представлении того, о чем напоминают, но, как боголепно сказал бы кто–нибудь, в изображение того, что от Бога прославлены и (Богу) непреложно ведомы достигшие совершенства в богообразии. Ибо «позна, — говорит Слово Божие, — сущия своя» (2 Тим. 2, 19), и: — «честна пред Господем смерть преподобных Его» (Пс. 115, 6)». (Дионисий Ареоп., — Книга о церковной Иерархии, I, III, 9. id, Т. 1, СПБ., 1855, cтр. 83–84). Ср. Дион. Ар. id. VII, II (id. стр. 223): О поминов. усопших.
Платон, — Пир 206В-209, глл. XXV–XXVII [35], Тот же взгляд, общий всей древности, развивает с еще большей настойчивостью Платон в «Законах». «… Должно вступать в супружество от тридцати лет до тридцати пяти, принимая во уважение, что род человеческой от природы получил себе в удел бессмертие, к коему всякий стремится неограниченным желанием — έπιθυμίαν; ибо всякой желает быть славным и не желает лежать во гробе без имени — γενέσθαι κλεινον καί μη ανώνυμον κείσθαι τετελευτηκότα. род человеческий всех времен составляет одно семейство — γένος… έοτι τι ξυμφυές; он преемственно продолжается и будет продолжаться и таким образом бессмертен. Дети сменяются детьми, составляют продолжение одного и того же рода и сохраняют его бессмертие. Никогда не позволительно лишать самого себя бессмертного бытия, и тот умышленно изменяет ему, кто не печется о жене и детях …» (Плат., — Зак., IV, 721 b. с. — Платоновы разговоры о законах. Пер. В. Оболенского с греч. М., 1827, стр. 164–165. — Ор. [29], р. 330, 35, 38).
Aug. Соmtе, — Systeme de politique positive, Paris, 1852–1854; нов. изд. 1898. — В. [A.] Кожевников, — Религия человекобожия у Фейербаха и Конта, Изд. «Рел. — Фил. Библ.», Серг. Пос., 1913 (= «Бог. Вест.», 1913 г., 4 и 5).
«Asseruit Amalricus (sseruit Amalricus (i. e. Аmа1riсh von Bene), ideas, quae sunt in mente divina, et creare, et creari» (Цит. у Stockl, — Gesch. d. Philos. des Mittelalters, 1864, Bd. I, S. 290, cp. Ueberweg — Grundriss d. Gesch. d. Philos. II, S. 224). Господь Иисус Христос, Премирный разум, именуется «Памятью предвечною» (Акафист Иисусу Сладчайшему, ик. 8). sseruit Amalricus (i. e. Аmа1riсh von Bene), ideas, quae sunt in mente divina, et creare, et creari» (Цит. у Stockl, — Gesch. d. Philos. des Mittelalters, 1864, Bd. I, S. 290, cp. Ueberweg — Grundriss d. Gesch. d. Philos. II, S. 224). Господь Иисус Христос, Премирный разум, именуется «Памятью предвечною» (Акафист Иисусу Сладчайшему, ик. 8). Аmа1riсh von Bene), ideas, quae sunt in mente divina, et creare, et creari» (Цит. у Stockl, — Gesch. d. Philos. des Mittelalters, 1864, Bd. I, S. 290, cp. Ueberweg — Grundriss d. Gesch. d. Philos. II, S. 224). Господь Иисус Христос, Премирный разум, именуется «Памятью предвечною» (Акафист Иисусу Сладчайшему, ик. 8).
С. С. Глаголев, — Религия как предм. ист. и филос. изучения («Бог. Вес.» 1897, апр., отд. IV, стр. 300). Его же, — Греческая религия. Ч. 1–ая, верования. Серг. Посад, 1909, стр. 100–101.
С. И. Чацкина, — В Греции («Русск. М.», 1911, VII, июль, стр. 71–72). — Значительное число превосходных слепков с таких стел можно видеть в Московск. Музее Имп. Александра III, в зале X. — Рассказывая о своем посещении Кампаньи. П. Муратов спрашивает: «Не осталась ли и до сих пор Персефона истинным гением здешних мест, и не её ли влияния внушают здесь сердцу тонкую и певучую жалобу? Печаль мифа о Деметре и Персефоне, античная печаль есть самая глубокая и самая пронзающая душу из всех печалей. В ней нет утешительных слез, нет надежды христианской печали. В свeтлой волне её есть неотвратимая отрава. В ней есть нота безумия, звучащая как напев жалующейся флейты в шуме ветра, склоняющего дубы, в шелесте камыша, в безмолвии самого ясного, самого радостного дня».
(П. Муратов, — Образы Италии. Т. 2, М., 1912, стр. 86).
М. Метерлинк, — Синяя птица. Пер. В. Бинштока и З. Венгеровой, М., «Универ. Библ.», № 241.
А–др Пфендер, — Введение в психологию. Пер. с нем. И. А. Давыдова, СПб., 1909, ч. II, гл III, § 3, стр. 294. — Это определение памяти по смыслу почти тождественно с тем определением её, к которому приходит Ф. Рибо: «Память заключается в различных степенях процесса организации, заключенных между двумя крайними пределами: новым состоянием и органическим запечатлением (органическим прочным усвоением прежних состояний)». (Тh. Ribоt., — Память в её нормальном и болезненном состояниях. Пер. с фр. под ред. Аболенского, СПБ., 1894, 13, стр. 68 и II, 3, стр. 133).
Плат., — Лизис 275 D [35]. — Точно также: Прометей людям «дал творческую Память, великую родительницу Муз», как говорит сам он у Эсхила [323], «μνήμην θ'άπάντων μονσομήτορ' εργάτιν» (Aeschyli et Sophoclis Trag. et fragm., Parisiis, 1864, ed. Didot, p. 11, v. 461).
«oτι ημών ή μάθεσις ούκ άλλο τι ή άνάμνησις τυγχάνει ούσα» (Плат., — Федр 72 Ε, ср.: 73 D, E; 76 А; Федр 249 С). «’Ανάμνηαις δ'έστιν επιρροή φρονήσεως άπολιπούσης» (Зак. V, 732 В), «Τό… ζητεΐν… και το μανθάνειν άνάμνησις όλον έστιν» (Мен., 81, Ср. Ε, 98Α). Еще ср. Федр 92 D и т. д.
Сводку соображений о хронологии платонов. диалогов и, в особ., данных стилометрии см. в кн. Clodius Рiat, — Platon, Раris, 1906. Тут же и лит. — Также: Zeller, — Philos. d. Gr., 4–te Aufl. T. 2i, Lpz., 1889. Опыт истолкования Платонова άνάμνησις см. в [348]. — Реконструкция Платоновых религиозно–метаф. воззрений: L. Prat, — Le Mystere de Platon. Aglaophamos. Paris, 1901. — Об άνάμησις спец. см. Zeller, — id., SS. 835 ff.
Значение трансцендентальной памяти для всего знания изъясняется Кантом, как известно, в «Крит. ч. раз.», в главе «о дедукции чистых рассудочных понятий». — Но «трансцендентальное», по Канту, познается не чрез способность представления, а диалектически, или критически, и известно нам в самой своей сущности. Отсюда следует, что трансцендентальное, будучи таковым в отношении к опыту, им обусловленному, само в себе, хотя и известно нам, и даже — адекватно, однако не есть явление, но — нечто ничем не отличающееся от гонимых вещей в себе. «Трансцендентальное» почти сливается с «трансцендентным». С другой стороны и «трансцендентное», т. е. объекты метафизики, вещи в себе, в виде идей разума тоже суть необходимые для целокупного опыта условия его, пусть не конститутивные, а только регулятивные, — дело от того меняется весьма мало. Если формы опыта, сами в себе, оказываются чем–то трансцендентным, то нормы опыта, в отношении к опыту, приходится признать за нечто трансцендентальное. И опять, теперь уже со стороны метафизики, «трансцендентное» почти сливается с трансцендентальным. Для теории познания, как «трансцендентальное», так и «трансцендентное» означает не что иное, как то, что составляет априорное условие опыта. Для метафизики же и трансцендентное и трансцендентальное означает вещь в себе. Ни в той, ни в другой дисциплине нельзя провести принципиальной границы между обоими терминами; рассматривать же один термин — как достояние только теории знания, а другой — только метафизики, — это значит не понимать ни метафизики, ни теории знания. Все сказанное может быть наглядно представлено приводимой схемой (стр. 713). Из неё же видно, что последнее условие опыта, — Я, — есть корень условий опыта, как конститутивных, так и регулятивных, т. е. одновременно должно быть называемо и трансцендентальным и трансцендентным. В этом смысле, можно еще сказать, что предлагаемая схема, с точки зрения гносеологической, изображает строение опыта в его целокупности, т. е. Я трансцендентального, а, с точки зрения метафизической, строение личности в её сложности, т. е. Я трансцендентного. — В указанной слитности у Канта того и другого момента схемы, гносеологически–трансцендентального и метафизически трансцендентного, коренится: весьма естественное смешение этих терминов самим уже Кантом, столь кричавшим о необходимости их различения; возникновение немецкого идеализма, начиная с Фихте; употребление термина «трансцендентальный» в смысле «трансцендентный» Шопенгауером, Гелленбахом, дю Прелем, Цёлльнером и др. — Ср. Куно Фишер, — История новой философии, Т. V, Им. Кант и его учение, ч. 2–ая, пер. под ред. Д. Е. Жуковского, СПб, 1906, кн. 4–ая, стр. 545 слл. — H. Vaihinher, — Commentar zu Kants Kritik. d. reinen Vernunft. Stutt., 1887, Bd. I, SS. 467 ff.
Это перетолкование и производят марбуржцы, особ.: Р. Natоrр, — Platos Ideenlehre, 1903. См. излож. и разбор этой книги у В. Зеньковского, в «Воп. ф. и пс.». Впрочем, задолго до марбуржцев истолкование Платона в дух трансцендентализма дал П. Д. Юркевич в своей актовой речи: «разум по учению Платона и опыт по учению Канта» («Моск. Унив. Изв.», 1865, № 5, М., 1866, стр. 321–392). История нападок на эту речь изложена в иссл. Волынского, — Ист. русск. критики («Сев. В.» и отд. изд.)
Бергсон, — Материя и память, [5], стр. 259. Таким образом, по Бергсону проблема личности существенно связана с проблемою памяти. Но — так и не по одному только Бергсону. Ассоциационисты и гербартианцы рассматривают личность «как ряд идей, первая из которых, по свидетельству памяти, непрерывно связана с последней — Память и личность отожествляются». «Явления Я и памяти, — говорит Дж. Ст. Милль, — только те две стороны одного и того же факта… Я знаю длинную и непрерывную последовательность прошлых чувств, идущую назад, насколько достает памяти, и заканчивающуюся ощущениями, которые я испытываю в настоящий момент; все это соединено необъяснимою связью — Этот ряд чувств, который я называю моею памятью прошлого, есть то, чем я отличаю себя (личность)». О значении памяти для единства самосознания: Дж. Ст. Милль, — Обзор философии с. В. Гамильтона, пер. Н. Хмелевского, СПб., 1869. Подобным же образом и «теория волны» В. Джемса, при анализ её, обнаруживает, что в ней отождествлены личность и память. См. Б. Сидис [263], стр. 186–187, 190, вообще см. всю гл. XXIX; «Проблема личности».
Поучительные страницы, уясняющие значение памяти для всего строя внутренней жизни духа, — для познания, личности, гениальности и т. д., написаны О. Вейнингером, — Пол и характер, СПб., 1908, издание «Посев»; (= М., 1909, изд. «Сфинкс» — пер. хуже, но зато полный, и др.) — О связи между памятью и гениальностью высказывался также Шопенгауэр, — Nachlass, Neue Paralipomena, § 143.
Д. Юм, — Иcследования человеческого разумения. Пер. с англ. С. И. Церетели, СПб., 1902, отд. II.
Свящ. П. Флоренский, — Пределы гносеологии (Основная антиномия теории знания) («Богосл. Вест.». 1913, янв.)
«Mensch, wo du deinen Geist schwingst über Ort und Zeit, — So kannst du jeden Blick sein in der Ewigkeit» (Angelus Silesius, — Che rubinischen Wandersmann, I, 12. — Angelus Silesius in seinem Cherubinischen Wandersmann. Eine Auswahl — zusammengestellt von Herrn. Brunnhofer. Bern, 1910. S. 6.) — Эту же мысль высказывают едва ли не поголовно вс мистики. См. след. прим.
О соотношении времени и Вечности [28] глубокомысленнейшие рассуждения см. у Плотина, у бл. Августина («Исп.» и «Толк, на Кн. Быт.»); у Вас. Вел., обоих Григориев, Клим. Алекс., Оригена и. т. д. — Лапшин, — Мист. позн. [28], II, стр. 557–570. — А–ей [И.] Введенский, — Время и вечность. Акт. речь. Свято–Троицк. Серг. Лавра, 1900 (= «Богосл. Вест.», 1900 г. Т. 3, X, стр. 244–273). C. [C.] Глаголев, — бессмертие прошедшего. Серг. Пос., 1903 (= «Бог. В.», 1903 г., № 2). — Р. Эйкен, — Основн. пробл. современ. положения философии и религии. — H. Н. Страхов, — О времени, числе и пространстве («рус. Вестн.», 1897, янв). — Челпанов, — («Вопр. филос. и психолог.», кн. XIX). — Н. Я. Грот, — О времени (id., кн. XXIII–XXV). — Л. М. Лопатин, — Положительные задачи философии. М., 1891, Ч. 2–ая, стр. 308, 305–306 и др. Есть нов. изд. — А. А. Козлов, — «Свое Слово», вып. 3 (тут собраны и сгруппированы диалектическ. аргументы против реальности времени). — Г. Тейхмюллер, — Действ. и кажущ. мир, Казань, 1913 г., кн. 2–я. — О. Вейнингер [346]. — Его же, — Последние слова. М., изд. «Сфинкс». — Вл. [С.] Соловьев, — Первое начало теорет. филос. («Собр. соч», Т. 8). — Гюйо, — Происхождение идеи времени. Смоленск, 1891 и «Собр. соч.», (рец. А. А. Козлова, — «Вопр. филос. и псих.», кн. IX, стр. 88–99). — Его же, — Искусство с социологической, точки зрения. — М. [С]. Аксенов, — Трансцендентально–кинетическая теория времени. Харьков 1896. — П. Д. Успенский [28] — Его же. — Четвертое измерение СПБ., 1910 г. — Джемс [28]. — Remigius Stolzе, — K. E. von Baer und seine Weltansch., Regensburg, 1897. — C. A. Fetzer, — Philos. Zeitbegriffe, Tübingen, 1884. — Lazarus, — Ideale Frage, SS. 181–260. — H. Hubert, — La représentation du temps dans la religion et la magie (H. Hubert et M. Mauss, — Melanges d’histoire des religions. «Travaux de J'Annee sociologique»). Paris, 1909. — Döring, — Ueber Zeit und Raum, Berlin, 1894 (Philos. Vortr. 3, 1). — Сюда относится, отчасти, и «принцип относительности»: Гер. Минковский, — Пространство и время, пер. И. В. Яшунского, СПб. 1911 г. — Сюда же относится и вопрос об изменении меры времени во время сна, под влиянием наркоза и т. д. и, в особенности, в состоянии предсмертном. См. Н. Марин, — («Вопр. фил. и псих.» 1893, кн. XVIII и 1895, кн. XXIV). — Токарский, — О страхе смерти (id., 1897, кн. XL). К. Дюпрель, — Философия мистики, пер. с нем. М. С. Аксенова, изд. А. П. Аксакова, СПб., 1895. — J. Le Lоrrain, — De la duree du temps dans le reve («Rev. Philos.», 1894, № 9). — Foucault, — L’evolution du revependant le reveil (id. 1904, № 11 nov.). — H. Pieron, — La rapidité des processes psychiques (id., 1903 № 1 janv.). — P. Rоusseаu, — La memoire des reves dans le réve (id., 1903 № 4 avr.). — H. Pierοn, — Contribution a la psych. des mourants (id., 1902 12 dec.), — B–on Ch. Mourre, — La volonté dans le reve (id., 1903 №5 et 6 juin). — Поучительные наблюдения на тему о времени собраны в бесчисленных трудах, посвящен. изучению действия наркотиков. Де–Квинси, Бодлер, Достоевский и др. дали художествен. изображ. тех моментов, когда восприятие времени существенно меняется.
Горяев [6] стр. 274: память; стр. 211: мнить. — Cur. [12] SS. 312–313. № 429. — Prellwitz, [12] SS. 200, μιμνήσκω S. 194: μέμονα.
С. Нилус, — Служка Божией Матери и Серафимов (помещено в сборник: С. Нилус, — Великое в малом и Антихрист, как близкая политическая возможность. Записки православного. Изд. 2–е. Царское Село, 1905, стр. 151–153 и 162). Замеч. пример переживания «червя неусып.» см. в «Письмах Святогорца», ч. I, стр. 75. — Словом тартар «выражается место вечнаго, нестерпимаго хлада, куда будут посланы души грешных людей. Самое греческое τάρταρος лексикографы роднят с ταρταρίζω — дрожу от холода, и разумеют под тартаром подземную, солнцем никогда не освещаемую и не согреваемую пропасть, где свирепствует холод (Λεξικόν Βαρινου Φαβωρίνου, Λεξικόν Ανθ. Γάξη, Ben. Hederichs Lexicon Mythologicum). В слове Кирилла Александрийского об исходе души, помещаемом в Соборнике, в неделю мясопустную, в начале читается: боюся тартара (τάρταρον), зане непричастен есть теплоты. В апокрифическом сказании о явлении ангела преп. Макарию Египетскому — о том же говорится: а се червь неусыпаемый, а се есть глаголемый тартар — зима несогреваема и мраз лют. В притче Кирилла Туровского о человеке белоризце (Памятники XII в., стр. 130): да не раслабевше… плотскими похотьми в адстей станем пустыне… огнем мучима и скрежета зубного исполнена и тмы кромешняя и тартар несогреемый. В житии преп. Иосифа Волоколамского, изд. 1865, стр. 21, Савва Крутицкий говорит, что иноки Волоколамские в самые лютые морозы терпеливо стояли в холодной церкви своей у обедни, в одной ризе, без шуб, поминая кождо несъгреваемый тартар. Часто это же греческое τάρταρος переводилось словом «гроза», но и это слово употреблялось в смысле холода. Так, в древнерусском поучении об иночестве, отпечатанном в Духовном Вестнике 1862, июль, в Материалах, стр. 152: и ту (во аде) будет плачь неутешимый и скрежет, червь неусыпаем, гроза несгреемая. Подобным образом в житии преп. Никиты Столпника по Синд. ркп. № 885, XVI в., л. 416: и по суде — осуждены в огнь и в тму и скрежет зубный, в червь неусыпаяй и в грозу несгреемую». К. Невоструев, — Тартар (Материалы для археологического Словаря», помещенные в «Древности. Труды Московского Археологического Общества», Т. I, М. 1865, Отд. II, стр. 74–75).
«Если бы возможно было, — говорит Ипполит Денуар Ривэль, получивший после спиритического обращения имя Аллана Кардека, — заставить всех различных людей высказаться, на основании их сокровеннейших мыслей, относительно вечного наказания, то мы скоро увидели бы, в какую сторону склоняется большинство их. В самом деле, представление о вечной каре есть очевидное отрицание неисчерпаемого милосердия Божия» (Allan Каrdес, — Qu’est–ce–que le spiritisme. Paris, 1859).
Любовь ко злу есть наиболее выразительное проявление порчи человеческой природы, и никто не может сказать, что он вполне чист от этой извращенности. Даже невиннейшие из рода человеческого, дети, не чужды злой воли, проявления которой описывает, например, бл. Августин. Новейшие исследования не только подтвердили, но даже усилили свидетельство бл. Августина. Детская анкета вскрыла поразительную жестокость и кровожадность многих детей (см. Янжул, — Из психологии детей, «Вестник Европы», 1900 г., № 2), а многочисленные исследователи вопросов пола признают за детьми весьма нередкую испорченность и в чувственном отношении. Что же говорить после этого о взрослых? Возрастая гораздо быстрее числа лет, греховность имеет жалом своим любовь ко злу; но прячущаяся у большинства, эта любовь крепче и откровеннее у других. Художники врод Эдгара Пo, Ш. Бодлера, П. Верлена, Г. Флобера, Барбе д'Оревилльи, Вилье де Лиль Адана, Ж. Пеладана, Катюлль Мендеса, Гюисманса, Ф. Сологуба, В. Брюсова, Ф. Ропса, Одилон Редона, О. Уайльда, Ф. Достоевского, Пшибышевского и отчасти Гофмана и др., — упоминаю наудачу первые пришедшие на ум имена, — в своих творениях, словесных или графических, позволяют нам проникнуть в тайны этих устремлений. Другие, вроде Граафа, известного под титулом маркиза де Сада, Ричарда III, Александра VI, Цезаря Борджия и др. самою жизнью показывают наглядно то, что копошится на днe каждого. Но всех превосходит, кажется, богато–одаренный и блестящий маршал Франции Жиль де Лаваль барон де Рэсс или Рэ (Rais, Retz и Raiz), живший в первой половин XV–го века и принесший в жертву Велзевулу, Сатане, Белиалу, Баррону и Орианту несколько сот оскверненных, замученных и зверски убитых им детей. Однако, как ни невероятно ужасны преступления знаменитаго барона, искусство из искусств, а за ним и просто искусство, ясно показали, что в каждом живут семена тех же страстей. От жестокости невинного ребенка, с загадочным любопытством обрывающего крылья у бабочки, и до зверского надругательства над этим ребенком — путь непрерывен, и никто не может сказать, далее чего не зайдет он, что́ для него «решительно невозможно». Лишь только сняты препоны, положенные внешнею жизнью на зародыши зла, как эти последние произращают богатые пажити, если только нет истребляющей грех благодати. Власть, богатство, независимость от общественного мнения, изгоняя страх из души безблагодатного человека, дают развиться таким чертам, о которых, в другое время, он и думать ужаснулся бы. Так, культурнейшие народы, вдали от своей родины, проявляют хищную, жестокость и гнусное бесстыдство, бесцельные, превосходящие меру всякого воображения и среди которых поведение Жиля де Рэ вовсе не покажется чем–то необыкновенным. Не имея здесь места для приведения библиографических указаний, ограничусь ссылками на: Нuуsmans, — La bas (в этот роман включено наследование о Ж. де Рэ; есть два рус. пер.). — Петров, — Людовик ХI («Из всемирной истории»). — L’аbbe Мignе, — Encyclopedie Theoiogique, T. 49: Dictionnaire des Sciences occultes, T. 2, Paris, 1848, col. 364–365: Raiz. — Проницательный взор древних уже усмотрел в душе «гнездящегося там змея», по крайней мере старик — Платон, когда он отошел достаточно далеко от сократовского интеллектуализма, с полною определенностью говорит о том, что ныне называют «любовью ко злу». На вопрос: «Какое невежество — άμαθία — можно почитать опаснейшим?» — «Я почитаю, — отвечает он, — опаснейшим — если нет любви к тому, что мы почитаем добрым и прекрасным, но господствует к ним ненависть, если любим и боготворим то, что сами признаем порочным и несправедливым — όταν τω τι δόξαν καλόν ή άγαθόν είναι μή φιλή τοΰτο, άλλά μίση, το δε πονηρόν καϊ άδικον δοκούν είναι φιλή τε και — ταύτην την διαφωνίαν λύπης τε και ηδονής πρός τόν κατά λόγον δόξαν — άσπάζηται [ср. Рим. 7 15–19]. Сие противоречие горести и удовольствия с истиною я называю глубочайшим невежеством — глубочайшим потому, что сии страсти составляют чернь, — следовательно, бо́льшую часть души — горести и удовольствия для души то же, что многолюдная чернь в государстве. Всегдашнее противоречие познанию, мнениям, рассудку, сим властям, назначенным человеку самою природою, противоречие душе, чем назвать иначе, как невежеством …» (Платон, — Зак., III 689А, В. [29] рр. 307–808. рус. пер. [328], стр. 111).
Paulan, — L’amour du mal (id., 1887, № 6). — Саm. Воs, — Du plaisir de la douleur (id., 1902, № 7).
Эдг. По, — Демон извращенности («Собр. соч.» в перевод К. Бальмонта, М., Т. I, стр. 174 сл. и др.
Ф. М. Дост., — братья Карамазовы, «Из бесед и поучений старца Зосимы», «Об аде и адском огне рассужд. мистич.».
Ириней Лион., — Пять книг обличения лжеименного знания, V 27, 2 («Соч.», рус. пер. П. Преображенского, 1871 г., стр. 656).
Намек на «бунт» Ив. Карамазова [365]. — Различные ходы и выходы этого бунта во всевозможных разрезах изучены С. Н. Булгаковым, — От марксизма к идеализму, СПб., 1904; Два града, М., 1911; Философия хозяйства. Ч. I, М., 1912; Человекобог и человекозверь, М., 1913.
Так — у Канта, у Шопенгауэра; у Вейнингера [346] и «Последние слова», изд. «Сфинкс». — См. Daniel Greiner, — Der Begriff der Persönlichkeit bei Kant («Arch. f. Gesch. d. Philos.» Bd. 10, N. F. Bd. 3, 1897, S. 40–84).
Речение «тьма кромешная» есть перевод греческого «то σκότος το έξώτερον» (Мф. 25, 30). Древне–русское кромешныи или кромешьныи, равно как и кромьныи означает внешний, exterior. Так, напр., в Пандекте Антиоха по списку XI в. Воскресенской Ново–Иерусалимской Библ., М., 1880, 6 говорится: «паче же от кромешниих стран приходящиим на покланяние святых мест — από των εξω χωρών». Со–коренны сим: крома — окрух хлеба; в русском — кромка; кром — arx, кремль, вышегородец и т. д. Предлог кроме или кръме означает «extra, опричь, кроме»; затем «без», «έξω, вон», «вне», «против», а наречие кроме — «прочь, в сторону, κεχωρισμένως», «встороне, вдали, πόρρω», «странно, ξένου» (И. И. Срезневский, [235] СПб., 1893, Т. I, столб. 1327–1329. — Тут же многочисл. прим. словоупотребления).
Ср.: Бог — «stabilis Veritas», по бл. Августину, т. е. неподвижная, устойчивая, крепкая Истина. Чтобы не быть без–опорным, необходимо укрепить «ум» свой, душу свою в этой крепкой Истине; иначе — неизбежно геенское кружение помыслов. На это–то и указывает бл. Августин: «… per animam in Deo stabilitam. Quae rursus non per se stabilitur, ser per Deum quo fruitur… ipse [vigebit] per incommutabilem Veritatem, qui Filius Dei unicus est — душою укрепленною в Боге. Она же укрепляется не собою, но Богом, которым наслаждается …; сама она будет сильна недвижной Истиной, это — единый Сын Божий» (бл. Августин, — Об истинной религии, 25. — S. Augustini Opera omnia, ed. parisina altera, Parisiis, 1837, T. VIII, 2, col. 960).
Современные сатанизм и люциферианство уже в этой жизни создают такое отношение к богу [252]. — Кантовское и Шеллинговское учение о свободе воли, как о самосозидании личности, т. е. как об условном творчестве, у нас в литературе преобразовал и усиленно защищал Архим. Антоний [Храповицкий, ныне АрхИеп. Волынский] в своей диссертации: — «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной» («Полн. собр. соч.», Т. 3, Казань, 1900, стр. 489–942, особ. см. V, § 6, стр. 575, 577; IX, § 2, стр. 628–629 и стр. 633–634).
А. Папюс, — Философия оккультиста. Пер. В. В. Трояновского, СПб., 1908. — Его же, — Практическая магия, Ч. II, СПб., 1912· — Лидбитер, — Астральный план, СПб., 1909. — Ж. Г. Буржа, — Магия, СПб. 1911 и т. д.
Гр. М. В. Толстой, — Хранилище моей памяти. М, 1893, книжка вторая, стр. 52, «Редсток». Курсив мой.
[Ф. И.] Буслаев, — Изображение Суда по русским подлинникам «Очерки русской нар. слов. и искусства», Т. 2, СПБ, 1861, — здесь же и подлиннике. — Н. В. Покровский, — Страшный Суд в памятниках визант. и русск. иск., Одесса, 1887. — Его же, — Стенные росписи в древних храмах греч. и рус., М., 1890.
Архим. [ныне Архиеп.] Сергий, — Православн. учение о спасении, Сергиев Посад, 1895 (есть и более нов. изд.), стр. 171–172. — Точно также, на вопрос: «Когда человек узнает, что получил отпущение грехов своих?» преп. Исаак Сир. дает такой ответ: «Когда ощутит в душе своей, что совершенно, — от всего сердца, возненавидел грех, и когда явно дает себе направление, противоположное прежнему» (Исаак Сир., — Слово 18 по рус. пер., и по греч. изд. Феотоки — 84–е. «Творения» изд. 3–е, Сергиев Посад, 1911, стр. 76–77).
F. Gоdеt, — Commentaire sur 1а premiere Epitre aux Corinthiens, Т. I, Paris–Neuchatel, 1886, p. 172.
«Слово искра есть души… Дух мой, к вечности спеши», из стихов Георгия, затворника Задонского («Письма в Бозе почивающего затворника Задонск. Богородицк. монастыря Георгия», изд. Порфир. Григоровым, Воронеж, 1860, ч. 1, стр. 182 = Леонид Денисов, — Жизнь Георгия, затв. Задонск. Богород. мон., М., 1896, стр. 113). Эти два стиха любил повторять † старец Исидор [567] стр. 51. —
De l’Allegorie, ou traités sur cette matiére; par Winckelmann, Addison, Sulzer, etc. Paris. 1799, ТТ. 1 et 2. — A. Белый, — Символизм [242]; тут, в примечаниях, особенно на стр. 461–463, даются библиографические указания, но далеко, впрочем, не полные. — Rieh. Наmann, — Das Symbol (Dissert.). Gräfenhainichen, 1902. — Рибо, — Опыт исследования творческого воображения. Пер. с франц. СПБ. 1901. — Вrehier, — De l’image a l’idee. Essai sur le mecanisme psychologique de la methode allegorique («Rev. Philos.», 1908, mai, № 5). — L’Arreat, — Signes et Symboles (id., 1913, № 1 janv.). — R. Eucken, — Ueber Bilder und Gleichnisse in der Philosophie. 1880. — A, Chide, — La logique de l'analogie («Rev. Philos.», 1908, dec. № 12)…. S. Sageret, — L’analogie scientifique (id., 1909, Jan., № 1). — M. Schlesinger, — Die Gesch. der Symbolbegriff in d. Philosophie (Arch. f. Gesch. d. Philos., 1908, S. 49). — Fr. Th. Visсher, — Das Symbol, 1887 (в «Philosophische Aufsätzen, Ed. Zeller gewidmet, 1887»). — J. Vо1kelt, — Der Symbolbegriff in der neuesten Aestetik. 1876. — E. Le Roy et G. Vincent, — Sur l'idee du nombre («Rev. de Motaphysique et de Morale», 4 (1896), pp. 738–755). — Здесь развивается формальная теория символа, поскольку человек — только логик. — Ferrerо, — Les lois psychologiques du Symbolisme, 1895. — Max Schlesinger, — Gesch. des Symbols. Berlin, 1912, обширное исследование; тут же литер. —
E. Мi11еr, — Inscr. grecques decouv. en Egypte («Rev. Arch», III–me sér., Т. II, 1883, p. 177–180).
«… выражение какого–либо понятия или свойства прибавлением сын или дщерь — обозначает особенно глубокое усвоение этого свойства, как бы проникновение им. В частности выражение — Сын Человеческий в большинстве мест обозначаете человeчность по преимуществу» (Архиеп. Антоний [Xраповицкий], — Сын Человеческий. Опыты истолкования. «Полн. Собр. соч.», Почаев, 1906, Т. 4, стр. 217). «Господь называете Себя Сыном Человеческим, как выразителя и проповедника истинной человечности, т. е. личной святости, в противовес тем условным, политическим чаяниям, которые возлагались на Него современниками» (id., стр. 223). — Это понимание Сына Человеческого во многих местах раскрывал и Достоевский.
Эта идея, в искаженном виде, содержится в «Дух осн. жизни» Вл. Соловьева, — там, где рассуждается об образе Христа — как «поверке совести».
Как воспринимает Его протестантизм, в силу чего и возникает растворение Христа в моральную схему.
Как воспринимает его католицизм, откуда и возникает стремление к «Imitatio Christi», что, по существу дела, не может быть переведено иначе, как «Имитация Христа». Если протестант уничтожает Христа, то католик желает надеть на себя личину Христа. Отсюда, далее, чувственный характер богослужения, драматизм, открытый алтарь (алтарь — сцена, литург — актер), пластика, чувственная музыка, мистика не умная, а воображательная, ведущая к стигматизации (замечательно, что на Востоке стигматизации не было; но что и здесь были способны к ней, доказывают раны от бесов, полученные подвижниками: последних представляли живо, а не только умно), эротизм и истеричность и т. д. Отсюда же католические мистерии, процессии, вообще все действующее на воображение, — действо, позорище, а не созерцание, и не умная молитва. О ложности самой идеи «подражать Христу» определенно говорит Еп. Игнатий Брянчанинов; самую же книгу Фомы Кемпийского он называет «прелестною» и «кровяною», т. е. возникшею не от благодатного просвещения души, а от органических возбуждений тела. — Ср.: М. Д. Муретов, — Э. Ренан и его «Ж. И.», СПб., 1908 г.
Антоний В., — Наставления для нравственности человеков, наст. 161–е («Хр. Чт.», 1821, Ч. 1, стр. 295).
Лукиан, — Χάρων ή έπισκοπούντες (Lucianus ex rec. Car. Jacobitz, Lipsiae, 1836, Vol. 1, pp. 281–305. — Сочинения Лукиана. Разговоры богов. Разговоры мертвых. Подстр. пер. — сост. Г. В… Ф…, СПБ., 1884, стр. 97–103. Разг. № 10). — Ср. у Достоевского «Бобок» с его идеей «Обнажимся!».
Ориг., — О нач. II, 10, § 7 (Mi gr., Т. 11, col. 239В): «Separandus ab anima spiritus.» и т. д.
А. М. Миронов, — Картины загробной жизни в греческой живописи на вазах. М. («Уч. Зап.» Имп. Моск. Ун., Отд. Ист. — Фил.), стр. 215.
Еврип., — Мелеагр. fr. XX (537), Fragmenta Evripidis ed. Fr. Guil. Wagner, Parisiis 1846, p. 749.
Р. A. Торрей, — Ад: достоверность его существования и и т. д. («Смелые мысли», 1910 г., № 53, стр. 1111). —
«…Мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящшее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грeх против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение видения, которое, — в чем всякий согласен, — дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко: она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой» (Исаак Сир., — Слово 19–е, по рус. пер., а по греч. Фeoтоки — 84–е («Творения», изд. 3–е, Серг. Пос., 1911, стр. 76).
«Нощь не светла́ неверным Христе, вeрующим же просвещение сладостию словес Твоих» (канон воскресн. 7–го гл., ирм. 7–й). — Помню, когда я учился, то среди моих товарищей ирмос этот был предметом пререканий, ибо одни считали за подлежащее слово «нощь», а другие — «Христе». При первом толковании ирмос парафразировался так: «ночь, т. е. время богослужения, несветла́, о Христос, для неверующих, а для верующих она оказывается просвещением, ибо в это время они слушают божественные словеса». При втором же толковании ирмос парафразируется так: «Ты, Христос, — несветлая ночь для неверующих, а для верующих — Ты просвещение чрез сладость Твоих словес». — Греч. текст показывает, что правильно именно последнее толкование. В сам. дел, в ирмосе: «Νύξ άφεγγής τοΐς άπίστοΐς Χρίστε, τοϊς δέ πιστοίς φωτισμός [мист. термин] τροφή των θείων λόγων σου» (Ειρμοί εις ήχον βαρυν, ωδή ε'. — Είρμολόγιον, έκδ. 'Ιωάν. Νικολαϊδου, εν Άθήναις, 1906, σ. 120) слово «νΰξ», как стоящее без члена, есть сказуемое, а «Χριστέ» служит при нем подлежащим.
О λίθος άκρογωνιαίος см.: Ив. Мансветов, — Новозаветное учение о Церкви, М., 1879, стр. 40–41. — Ноffmаnn, — Heil. Schr., Th. IV, 1, 1870, S. 104. — По бл. Феодориту («Творения», Т. VII, стр. 428), это есть камень, полагаемый во главу угла и потому связующий и сдерживающий, «смыкающий две стены здания». По св. Иоанну Златоусту «краеугольным камнем называется то, что поддерживает и стены и основание, — на чем утверждается все здание» (Бес. на посл. к Ефес., стр. 90).
Библ. ук. соч. К. Н. Леонтьева и литер, о нем, составл. А. М. Коноплянцевым, см. в лит. сб. «Памяти К. Н. Леонтьева», СПБ., 1911, стр. 403–424. Но его необх. пополнить недавно найденным соч. Леонтьева: «Четыре письма с Aфoна» («Бог. В.», 1912 г., нояб. и дек.= К. Н. Леонтьев, — Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимн. связь. Изд. «Рел. — фил. Библ.», Серг. — Пос. 1912) и «Собр. соч. К. Леонтьева» в 12 том., М., 1912.
Речи подобного рода приходится слышать очень часто, даже от людей простых и весьма благочестивых. Припоминается мне сейчас один престарелый и почтенный, 80–ти летн. крестьянин; глядя на картину Страшн. Суда, он говорит раз мне: «М. б. эфтаго и не получим мы, но нельзя же без эфтаго страху: без него совсем обезбожимся». Добавлю еще, что этот старик на редкость благочестив и прилежен Церкви. Другие же просто решают: «Все попы выдумали, чтобы доходу поболее было»; или: «Все наврано, Бог добрый, простит»; или «И что у нас за грехи…» и т. п.
Григ. Нис., — Слово к скорбящим о преставившихся от настоящ. жизни в вечную («Твор.», М., 1868. Ч. 7, стр. 514–534). — См. также статью: «Св. Григ. Нис.» («Приб. к тв. свв. отцев», Ч. 20, 1861 г., стр. 77–92).
id. — Также сравнение грешника с куском железа, кот. куют, чтобы тем удалить изгарь и сделать пригодн. для тонких вещей.
Стихи 602–603 критиками почитаются нелепыми и поэтому признаны ими за вставку Ономакрита, редактировавшего Гомера при Пизистрате. Относительно этого подозрения С. С. Глаголев («Греч. рел.»[332], стр. 123) замечает след.: «Когда Ономакрит вставлял эти стихи, если действительно он их вставил, он должен был отдавать себе в них отчет. Нужно полагать, что он допускал возможность двойственного существования души,… причем в данном случае в аду это существование было призрачным и печальным, а на Олимп оно было реальным и блаженным. Гомер называет из смертных Ганимеда и Клита, пребывающими на Олимпе. Значит, и мысль о том, что Геракл может пребывать на Олимпе, не стоит в противоречии с текстом поэм… Геракл существенно отличается от других обитателей Олимпа тем, что его призрак находится в аду. Но хотя это сообщается об одном Геракле, в поэмах не говорится, чтобы этого не было ни с кем кроме Геракла. Возможность этого, полагаем, должна была допустить греческая мысль с её представлениями о призрачности души». — Эта остроумная догадка — первостепенной важности для ист. и филос. рел., и я весьма рад, что могу доказать, что предлагаемое объяснение — не одна только возможность, но и истор. действительность. Вот что читаем мы у древнего философа и богослова: «Если душа не может согрешить, то как же происходит, что она наказывается. Это мнение находится в полном несогласии со всеобще–принятым убеждением, что душа совершает ошибки, что она их искупает, что она терпит наказания в Аиде, и что она переходит в новые тела. Хотя кажется необходимым выбрать одно из этих двух мнений, но может быть было бы возможно показать, что они не несовместимы. В самом деле, когда приписывают душе непогрешимость, это предполагают ее единой и простой, отождествляя душу и сушность души — τό αύτό ψνχήν καί τό ψυχή είναι. Когда ее называют погрешимой, то это предполагает ее сложною, и к её сущности — αυτή — другой род души, который может испытывать животные страсти. Душа, так понимаемая, есть сложное, происходящее из различных элементов: это–то сложное и испытывает страсти, совершает ошибки; это оно также, а не чистая душа, терпит наказания. Это о душе, рассматриваемой в таком состоянии, говорит Платон: «Мы видим душу, как мы видим Главка, морского бога» [Государство, X, ed. Beckeri, р. 497. — Превращаясь в морского бога, Главк покрывался ракушками, кремнями, морскими травами, которые делали его неузнаваемым]. И он добавляет: «Тот, кто хочет узнать природу души, самой, должен, освободив ее от всего, что ей чуждо, рассматривать в особенности в ней её любовь к истинe, зреть, к каким вещам она прилепляется и в силу какого сродства она есть то, что она есть». Её жизнь и её дела — есть иное, чем то. что наказано, и отделит душу — это ее оторвать не только от тела, но также и от всего того, что было прибавлено к душе. — Рождение — γένεσις — прибавляет нечто к душе, или скорее оно заставляет возникнуть другую форму души. Но как происходит это рождение?… Когда душа нисходит, она производит, в самый момент когда она приклоняется к телу, образ — το εϊδωλον — самое себя. — По–видимому Гомер принимал это различение, говоря о Геракле, раз он отправляет образ — το εϊδωλον — этого героя в Аид, а его самого помещает в обители богов (Одис. XI 602–605); это, по крайней мере, — мысль, содержащаяся в этом двойном утверждении, что Геракл — в Аиде и что он — на небе, следовательно, поэт различает в нем два элемента. Вот объяснение, которое можно дать этому месту: Геракл имел деятельную добродетель, и по причине своих великих достоинств был сочтен достойным быть возведенным в сан богов, но т. к. он обладал только деятельною добродетелью, а не созерцательною, то он не мог быть весь целиком допущен на небо; в то самое время, как он — на небе, есть нечто от него в Аиде» (Плотин, — Эннеады, 1, 1, 12 — Plotini Enneades edidit Ric. Volkmann, Vol. Lipsiae, 1883. Vol. I pp., 47–49. — Les Enneades de Plotin, traduites — par M. — N. Bouillet, Paris 1857, Т. I, pp. 48–49). — Или, в другом месте: «… когда наше тело уже не существует, — что тогда означает выражение «душа в Аиде»? Если душа не успела отрешиться от своего образа, то что мешает ей быть там же, где её образ или тень? А если она отрешилась от тела посредством философии, тогда только тень её идет в худшее место, между тем как сама она остается в сверх–чувственном мире, ничего от себя не оставив здесь. Вот какова судьба той тени, которой присуща душа (во время земной жизни); сама же она, если только удастся ей сосредоточить внутри себя светящий в ней свет, обращается всецело к миру сверх–чувственному и вступает туда …» (Плотин, — Эннеада IV, кн. 4, § 16. По переводу Г. В. Малеванского, «Вера и разум», 1899 г, Т. II, Ч. I, отдел философский, стр. 78; Bouillet, 1861, Т. III, р. 339–340).
Это глубокое место Марсилио Фичино рационализирует и делает плоским, истолковывая «idolum animae» как «vitale spiraculum animae circa corpus, quod in nobis est geminum».
Таково египетск. воззрение на кху, индусск. на питри, парсистск. на феруеров или фравашей, греческ. на агафодемонов, героев и т. д., римск. на гениев и юнон, скандинавск. на фильгиев и т. д.
Исаак Сир., — Слово 38–е по рус. пер. (изд. 1893 г. — стр. 409), а в греч. Феотоки — 57–е, б. 345.
Ср. Иак 36: ό τροχος τής γενέσεως. Это же речение — основное для языка мистерий. Многочисленные параллели ему из буддийской литер. собраны в: Арт. Шопенгауэр, — Отдельн., по систем. распред. мысли о разн. рода предм., гл. XV: о религии, § 179 («Собр. соч.» в пер. Ю. И. Айхенвальда, М. Вып. XIV, стр. 975–977)…. Весьма вероятно, что основа терминологии буддийской, мистерической и ап. Иакова — одна, а именно переживание дурной бесконечности греха.; но во всяком случай несомненно, что метафизическая надстройка душепереселения ничуть не содержится в речи Брата Господня.
Мефодий Олимпийский, — Mi. gr. Т. 18, col. 264А, ср. id. col. 506А) — Ср.: «Если душа твоя страстно прилепляется к красивым телам и подвергается потом тиранству страстных помыслов, рождающихся от сего: не предполагай, что они–то и суть причина происходящей в тебе бури помыслов и страстного движения; но знай, что причина сего сокрыта внутри души твоей, которая, как камень некий магнит — железо, привлекаете к себе вред от лиц, в силу предрасположения к тому и злой страстной привычки. Творения же Божии все добры зело по слову Самого Бога, и ничего не имеют такого, что давало бы основание к похулению создания Божия» (Никита Стиф., — 1–ая сотн., 50. [264], стр. 95.
Амвросий Мед., — О девственницах I, VIII, 40 (Mi lat. pr. Т. 16, col. 200. — рус. пер. I, VII, 40).
[Еп. Феодор (Поздеевский), рек. М. Дух. Ак.], — Из чтений по пастырск. богосл. (Аскетика). Серг. Пос., 1911, стр. 21.
Ср.: Ф. Симон, — Психология Ап. Павла, пер. с нем. Еп. Георгия, М., 1907, A I, стр. 1–5 и дал. — П. С. Страхов, — Атомы жизни («Бог. Вест.», 1912, янв., стр. 1–25). Тут дается интересн., хотя и мало вероятн., перев. и коммент. 1 Кор 15, 51–52: «Вси бо не успнем, вси же изменимся εν άτόμω, во мгновение ока». Слово άτομος Страхов считает за термин философск., за «атом», так что речение έν άτομω, — обычно переводимое чрез «вскоре», по нему, — «вводит нас в глубины самого субстрата всего сущего, в глубины… материи». Вся материя наших тел изменится при воскресении до атома. — О том, что спасение есть спасение не души только, а всего человека, с его телом, и на существенном значении для челов. жизни тела его останавливается особ. настойчиво и твердо В. [И.] Несмелов, — Наука о человеке, изд. 2–е, Т. 2, Казань, 1906.
Як. Тарновский, — Образование главных суффиксов («Фил. Зап.», г. 45–й, вып. VI, 1909 г., стр. 4–5): «переход "т" в "ц" в белорусск. говоре и в польск. языке дает нам нек. основание сближать слова «тело» (по белорусск. — цело) с прилагат. «целый», тем более потому, что под телом человеч. разумеется нечто строго законченное, правильно организованное и не подлежащее делению (individuum); с таким взглядом вполне согласуется значение латинск. слова «corpus»».
Ал. Ст. Хомяков, — Сравнение русск. слов с санскритскими (Полн. собр. соч., Т. 5, изд. 4–е, М. 1904 г., стр. 582 — id., изд. 3, 1900 г., стр. 582).
Prel. [12], — Cur. [12]. — Е. Аквилонов, — Новозаветн. учение о Церкви, СПб., 1896, стр.25.
Лосский, — Обосн. инт. [86], 2–e изд.СПБ., 1908 г., III, 2., стр. 77–78 — Т. Липпс, — Самосознание, СПб., 1903 — Руд. Штейнер, — ΘΕΟΣΟΦΙΑ [28]. — Г. Риккерт, — Введение в трансцендентальную философию. 1904. — Фихте, — Назн. чел., СПб., 1905.
Стр. 587–592. — Соотношение трех начал чел–го тела, имеющих центры свои в трех частях его, животе, груди и голове, схематически м. б. представлено как взаимное проникновение этих трех систем, но с наибольшею напряженностью деятельности, в соответств. части тела.
Папюс. — Филос. оккульт. [376J. — В древности учение о трех–составности челов. тела в связи с трех–составностью души считалось определенно решенным: достаточно напомнить хотя бы учения Платона, Аристотеля и др. Но это же решение содержалось и впоследствии. Так в рукописном сборнике «Большой Панфект» или «Куварас», принадлежащем Афоно–Иверскому монастырю, Еп. Порфирием Успенским найдены были в 1845–м году неизвестные фигурные стихотворения Феокрита и при одном из них, «Свирели», любопытное изъяснение, принадлежащее хартофилаксу первой Иустинианы всей Болгарии господину Иоанну Педиасиму, жившему в XIV–м веке, следующее любопытное указание на устойчивость этого древнего учения: «είδέναι δε αξιον, ώς υποδοχήν του τρίμετρους τής ψυχής, λέγω δή λόγου, θυμοϋ και έπιθυμίας, τρεις σωματικός άρχας κυριωτάτας ή φύσις έδημιουργησεν εγκέφαλον μεν εις υποδοχή του λογιοτιχοϋ, καρδία δε του θυμοειδούς, ήπαρ δε του επιθυμητικόυ αρχή δε… αυτών ή καρδία. διο καί απαθέστατη… εΐ καί εγκάρδιόν τις τόν πόθον έρεΐ, ουχ' άμάρτη του δέοντος διά το καί τού ήπατος είναι την καρδίαν άρχή. — Достоит знать, что природа устроила три главнейшие телесные вместилища трисоставной души, т. е. её ума, чувства и хотения: череп для ума, сердце для чувства и печень для хотения. Начало же — их — сердце» (Еп. Порфирий Успенский, — Восток христианский. Афон. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. Часть I, отд. 2–е, Киев, 1877. гл. XVII, стр. 230–231).
[П. Д. Юркевич], — Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия («Труды Киевск. Дух. Ак.», г. 1–й, 1860, кн. 1), стр. 63.
Юркевич [460], стр. 70. — Ср.: Ф. Симон [452], B. I, стр. 22–24. Что сердцу приписывается такая важная роль во внутрен. жизни, — что все функции душевно–духовн. жизни перенесены сюда, — это не есть произвол слово–выражения, но есть результат естественно выросшей психологии, построенной на наблюдении» (Симон, id, стр. 24–25 а далее — разъяснение этого тезиса). — «Духовное чувство или чувствилище находится в сердце» (о. Иоанн Кронш. [45], кн. III, стр. 773). По учению Каббалы человеческое существо трех–составно. Тело, форма или эфирный двойник и принцип жизни — вот первое начало, с его подразделениями, носящее название нефеш. Душа, седалище воли, основа человеческой личности, это начало, именуемое руах второе. Наконец, третье начало, дух, носит название нетама (Папюс, — Каббала, наука о Боге, Вселенной и Человеке перев. с французского А. В. Трояновского, под редакцией Н. А. Переферковича. СПб., 1910. Гл. VIII, стр. 158). Как сказано, человеческую личность образует собственно орган воли, руах. «Его седалище — сердце, которое, следовательно, составляет корень жизни, это царь (мелек — מלך), центральная точка соединения мозга с печенью… Каббала говорит: в слове מלך (Царь) сердце — «это как бы центральная точка между мозгом и печенью», что должно объясняться мистическим значением букв. Мозг מן изображается первой буквой טלר. Печень כבד его последней буквой и, наконец, сердце לב буквой ל, находящейся в средине» (id., гл. VIII, II, стр. 178).
Горяев [6], стр. 317 — Miklosich [8], SS. 292–293. — Срезневский [285], III, столб. 338–339: «середа» и др.
Из трудов, посвящ. рассмотр. plexus solaris офиц. науки, назовем: Maxime Laignel–Lavastine, — Recherches sur le Plexus solaire, Paris, 1903, III+430 pp. — полная сводка различн. опытн. данных и теоретическ. соображений о plex. sol., представленных со сторон офиц. науки. Гл. V (рр. 407–428) содержит обильн. библиогр. вопроса, причем отдельно даны библ. указания по анатомии, физиологии и патологии солнечн. сплет. — На русск. яз. мне известна только диссерт.: Блох, — Физиология plexus caeliaci, М., 1910. Тут тоже имеются некот. литер, указ. — Что же касается до гораздо более интересн., хотя порою и фантастических, взглядов на plex. sol. науки мистической, то множество отдельн. замечаний читатель найдет в трудах дю Преля и др. (библиограф. указатель их см. в: Kiesewette г, — Gesch. d. neueren Occultismus, 2–te Aufl. besorgt von R. Blum., Lpz., 1909. SS. 844 ff.), особ. [350], теософов, оккультистов и т. д. (русск. библиогр., хотя и не полно содержится в: И. К. Антошевский, — Библиография оккультизма, 1910; есть 2–е доп. изд. — Лидбитер, — Астральный план, пер. с фр. А. В. Трояновского, СПб., стр. 159–175. — Иностранная лит.: Папюс, — Первоначальные сведения по оккультизму, изд. Г. И. Пожарова и Л. И. Докмана, СПб., 1904, пер. с 5–го франц., стр. 296–304. — В новом, 3–м, изд. библиограф. выпущена. Та и другая [указатель указателей]:
Эрн. Радлов, — Сочинении о магии.
Ges. [21], — Handw., 12–te Aufl., SS. 377a und XI, An. — Слово לבה (Eз. 16, 30), обычно объясняется как побочная форма от לב, — б. м. просто ошибка переписчика.
До какой степени тут мало определенности, видно хотя бы из рассмотрения словаря одного автора. Так, √לבב у Гезения [24] в 3–м изд. Словаря, 1828 года, оставлено без объяснения; в Tesaur., 1839–го года, объяснено чрез «pinguis fuit», во 2–м латинск. изд., обработанном Гофманном, объяснено чрез «cavus fuit»; в 7–м изд. 1868–го г., обработанном Дитрихом, этот корень связывается с понятиями «verbinden», «sich winden», «convolutus» и т. д.; в 11–м изд. 1890–го г., обработанном Мюлгау, Фольком и Мюллером, за основное значение признается «haften an etwas», «sich fess Anlegen», а 12–м, 1895 г., обработанном Социном, Циммерном и Булем, опять оставлено без объяснения.
Jul. Fürs t, — Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das alte Testament, 2–te Aufl, Lpz, 1863, Bd. I, SS. 655–656.
474 Ges., — Handw. [24], bearbeit, von F. Mühlau und W. Volck mit Beiträgen von D. H. Müller, 11–te Aufl., Lpz., 1890, S. 418.
Впрочем, это наша догадка, у Горяева ([6] стр. 394) «хальва» и «гальва» сближаются с тюркск. hалва и арабск. hal’vijat, сласти.
Иннокентий, Арх. Херс., развивает даже ту мысль, что тварь является и помимо человека, своего представителя, лицом, вступившим в завет с Богом, так что и у животных, по его убеждению, есть религия. (Иннокентий, лекц. первая о религии вообще [123], стр. 9–12). Того же убеждения держится и известный своими апологетическ. и религиозно–историч. трудами проф. С. С. Глаголев; эти свои воззрения он неоднократно высказывал мне во время наших бесед.
В Писании религия «называется заветом, законом, служением богу, путем Иеговы, или просто путем» (Иннок. [476], стр. 4). Вот почему вовсе не неожиданным должно признать учение святых отцов о том, что верховная цель религии, спасение, — а спасение состоит в обожении, — есть удел не человека только, но и всей твари. Так, Дион. Ареоп. говорит о фактическом обожении природы в доступной для неё мере (О бож. имен. 95, — Mi gr Т. 3, col. 912D; id. 12, 3 — col. 912D; id. 12, 3 — col. 972A; id. 2, 7 — col. 645A. — Цит. по работе: И. В. Попов, — Идея обожения в древне–восточн. Церкви, М., 1907, стр. 33, прим. = «Вопр. филос. и псих.», 1909). А св. Максим Исповедник пошел дальше. Он распространил идеал обожения человека на всю природу. Через Христа сначала обожается человек, а чрез человека будет обожена и вся природа (цит. оттуда же). — Среди русских религиозных мыслителей нового времени, особенно живо чувствовавших эту космическую сторону христианства, должно указать, кроме упомянутого уже Арх. Иннокентия и С. С. Глаголева, — Еписк. Порфирия Успенского [57], Вл. Соловьева [4], С. Н. Булгакова, Вяч. И. Иванова, В. Ф. Эрна и др.
Вот почему, благодатн. мистика сердца — явление здоровья и уравновешенности организма, тогда как ложная мистика головы или чрева всегда имеет либо своим корнем, либо своим плодом болезнь и души и тела. Во Христе — «Начальник жизни» — полная уравновешенность и совершенное здоровье. Напротив, вне Христа т. е. вне Жизни, нет и здоровья. — Психиатр В. Ф. Чиж [234] — известный своими многочислен. работами о разных литературн. типах и исторических деятелях, в которых он открывает душевные болезни, — он признает святых подвижников русских (вне его рассмотрения остаются юродивые) за типических представителей душевного здоровья и равновесия. И, напротив того, редкая книга по психопатологии обходится без того, чтобы не сделать выписок из сообщений о себе святых и мистиков вне–церковно–православных, как типических примеров душевного расстройства. Конечно, психиатры упрощают дело, когда видят тут только душевн. расстр.; но несомненно то, что есть и оно. — Относительно патологичности пре́лестной мистики много материалов собрано во множеств психологических и психопатологических и психиатрических трудов. В частности укажем: Д. Г. Коновалов, — религиозный экстаз в русск. мистич. сектантств. Серг. Пос. 1908. Пока вышел лишь 1–ый вып. 1–ой части XI + 258 стр. (= «Богосл. Вестн.», 1907 и 1909 гг.) — Тут указана многочисл. лит. предмета. — Д. Г. Коновалов, — Психология сектантск. экстаза. Серг. Пос. 1909, 2–е изд. 13 стр. (= «Богосл. Вестн.», 1908, № 12), — А. Вертеловский, — Западная средневековая мистика и отношение её к католичеству. Историческое исследование. Харьков. Вып. I, 1888; Вып. II, 1898. — М. Шагинян, — О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус. [М., 1912]. 42 стр. См. также [28]. О прелести см. в «Словах подвижнических» Исаака Сир. и Григория Синаита («Добротолюбие», изд. 2–е, М. 1900, Т. 5) и др. отцов, совокупленных в «Добротолюбии», у Еп. Феофана Затворника, особенно в его «Письмах о духовной жизни»; наиболее подробно рассуждает о сей духовной болезни Еп. Игнатий Брянчанинов, особ. см. «Сочинений» Т. I.
«Кто действие внешних чувств заменяет внутренними, — зрение устремлением ума к зрению света животного, слух — вниманием душевным, вкус — разумным рассуждением, обоняние — умным постижением, осязание — бодренным трезвением сердечным: тот Ангельскую на земле проводить жизнь, — для людей он и есть и видится человеком, для Ангелов же и есть и понимается Ангелом» (Никита Стиф., — 1–ая сотн., 8 [136], стр. 84).
Григорий Синаит говорил своим ученикам и еще сильнее, а именно, что «тот, кто возвышался к Богу, благодатию Св. Духа видит как бы в зеркале всю тварь световидною, «аще в теле, или кроме тела не вем» (2 Кор. 12, 2), как говорит божественный Павел, до тех пор, как будет какое–нибудь препятствие ему во время созерцания, заставляющее его прийти в самого себя» («Афанасий Патерик или жизнеописание святых, во св. Афонск. горе просиявших», СПб., 1860, Ч. 1, стр. 356. Житие преп. и богон. о. наш. Григория Синаита, из Νέον εκλόγιον). — На вопрос: «Если достиг кто сердечной чистоты, что́ служит её признаком? И когда познает человек, что сердце его достигло чистоты?» преп. Исаак Сирин дает такой ответ: «Когда всех людей видит кто хорошими и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем» (Исаак Сирин, — Слово 21–е, в греч. изд. — 85–e. «Твор.», изд. 3–е, стр. 96).
«К праведному Антонию [Велик] приступил один из тогдашних мудрецов и сказал: «Как сносишь ты, отче, такую жизнь, лишаемый утешения, какое доставляют книги?» Тот отвечает: «Книга моя, господин философ, есть эта сотворенная природа. Она всегда со мною и, когда хочу, могу читать в ней словеса Божии» (Евагрий Монах, — Наставления о деятельн. жизни, 92. — «Добротолюбие», изд. 4–е, М., 1905 г., Т. I, стр. 588. — Mi gr Т. 40). — Эта мысль затем повторяется безчислен. множ. раз у мистиков, как церковн., так и вне–церковн. Неоднократно высказывает ее Максим Исп. (ed. Oeler. 105 сл., 152, 162, 212, 242, I 31, 75, 83, 463, — цит. по М. Д. Муретову). — «Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей: пред ними открылась книга природы. Это — книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? — учение о воскресении мертвых! …» (Архим., впоследств. Еп. Игнатий Брянчанинов, — Сад во время зимы. «Сочинения», СПб., 1865 г., Т. I, стр. 97–98). — «Мир, как произведение живого, премудрого Бога. полон жизни: везде и во всем жизнь и премудрость, во всем видим выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это — настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из откровения, учиться богопознанию» (о. Иоанн Крон. [45], кн. III, стр. 113–114). — «Если мы, написавши какую–либо книгу, знаем о всем её расположении и составе, о всех мыслях, в ней помещаемых, и когда другие высказывают нам мысли, особенно план нашей книги, мы говорим, что это наш план, наши мысли, то как же у Господа отнять всезнание всех миров, всех тварей, всех вещей в мире с их качествами и состояниями! — Не книга ли она Божия?» (id, стр. 665–666). — Эта же мысль о природе, как книге, образует основу сочинения И. А. Ф. — А. Ω. Gemma Маgica, или магический драгоценный камень; то есть краткое изъяснение книги натуры, по седьми величайшим листам её, в которой можно читать Божественную и натуральную премудрость, вписанную перстом Божиим. М. 1784.
Удивительное дело! Ка́к в древности люди, вроде эпикурейцев, боровшиеся с «суеверием» религии ради рационального познания, ничего на самом деле не познавали, да и не старались познать (Ср. Вл. [А]. Кожевников, — Нравствен. и умствен. развитие римского общества во II век, Козлов, 1874 г., стр. 101–102); так же точно и сейчас церкво–борцы всяких сортов, откалываясь от Церкви то под предлогом, что она «стесняет» исследование, то обвиняя ее в неприязни к твари, сами не знают этой, защищаемой ими, твари, не занимаются ею и едва ли видят из «природы» что иное, кроме диванов салона и газет. Те же, кто занимается естествознанием, не с природою живет, а усиливается создать ей тюрьму из понятий, ибо такова именно сущность современного естествознания, разоблаченная приверженцами — предателями его, современными неокантианцами и др. гносеологами, особенно же марбуржцами.
Как психология чувства природы, так и история развития его изучались чрезвычайно мало и известны недостаточно. Но и то, что сделано в этом направлении, определенно подтверждает выставленный в текст тезис. Вот несколько книг и статей по этому вопросу: Альфр. Бизэ, — Историческ. развитие чувства природы. Пер. Д. Коробчевского, СПб., 1890 г. — Гр. Оленев, — Чувство природы в древности («Мир», 1910 г., Янв., № 4, стр.286–288). — В. Ф. Саводник, — Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева, М., 1911 (тут же, на стр. 2–4, библиография вопроса о чувстве природы). — Еm. Мiсhеl, — Le sentiment de la Nature et l'hist. de la Peinture de Paysage («Rev. de syntese histor.», Т. XI, 2, № 32, pp. 150–164). — A. фон Гумбольд, — Космос, пер. Вейнберга, М., 1863, II. — De Lарrаdе, — Le sentiment de la nature avant le Christianisme et chez les modernes. — Μоtz, — Ueber d. Empfindung d. Naturschönheit bei d. Alten. — Сaesar, — Ueber d. Naturgefühl bei d. Griechen последн. три книги указыв. по Кожевникову [483]). — Отдельн. замеч. на нашу тему разбросаны в труд. по эстет. и по ист. искус., особ. живописи.
— Э. дю–Буа–Реймон, — Культурн. история и естествознание, пер. с нем. под ред. С. И. Ершова, М., 1900, стр. 29. Ср.: «Христианство есть несомненно одно из чистейших проявлений… влечения к культуре и притом именно к непрерывному созиданию святого» (Фр. Ницше, — Несвоевременные размышления, III, 6. «Полн. собр. соч.», «Московское книгоизд.», 1909. Т. 2, стр. 228).
Вот почему вне благодати мир представляется призраком, «Ничто», оформленным видимою реальностью, воистину лишь «foenomenon bene fundatum». То — это Майя Индии, то — μή ον мистерий, Платона и, в сущности, всего древнего жизнепонимания. Мудрец — тот, кто проник за «грубую кору вещества» и сумел увидать там… не «нетленную порфиру Божества», не «книгу откровения», не «славу божию», не «премудрость Божию», а — лишь пустоту и ничто.
О демоничности язычества свидетельствуют многие свв. отцы и писатели церковные, знавшие язычество не по наслышке, а по личному наблюдению и даже по печальн. опыту (Иустин, Киприан, Лактанций, Августин и др.). Но достойно особливого внимания сознания в том же самих язычников. Таково, напр., свидетельство апологета язычества, бывшего, к тому же, жрецом Аполлона, Плутарха. «Я не могу поверить, — гов. он устами благочестивого Клеомврота, — чтобы боги могли взирать с удовольствием на то, как в день мрачных жертвоприношений люди свирепо разрывают человеческ. жертвы, пожирают сырое кровавое мясо, подвергаются тяжелым постам, предаются заунывным стенаниям, позволяют себе грязные, бесстыдные выражения, испускают ужасные крики»: предположить это было бы жестоким суеверием и нечестием. Но я скажу, — продолж. Клеомврот, — что эти праздники и жертвоприношения были установлены лишь с целью удовлетворить и успокоить злых демонов, отвратить проявление их злобы». А ведь демонов или гениев, — говорится незадолго пред тeм, — «мы обязаны признавать и почитать согласно отеческ. преданию» (Плутарх, — Об оскудении оракулов, XIV, 417D Plutarchi cheroneus. Scripta Mopalia, Parisiis, 1839, vol. II, р. 508). Теория об умилостивит. культе злым демонам была, по словам Плутарха, высказана впервые платоником же, главою Академии Ксенократом. «Ксенократ думает, что в окружающем нас воздухе живут существа могуществен. природы, угрюмые и мрачные духи, любящие этот мрачный культ, как–то самобичевания, постыдн. слова, и не делающие зла людям, когда их почитают подобн. образ.» (Плутарх, — Об Изиде и Озирисе, XXVI, 361 В (Plut. Scr. Мог., id., Vol. 2, р. 441). Новейшие исследователи тоже нередко высказываются в том смысл, что язычество было культом демонов, а язычники — демоноодержимые. Такая мысль проводится, напр., в работах: Кн. С. Н. Трубецкой, — Религия («Энц. Слов.» Брокгауза и Ефрона = «Собр. соч.», Т. 2, М., 1908, стр. 499–509). — Его же, — Этюды по ист. греч. рел. (id., Т. 2, стр. 434 сл.). — Его же, — учение о Логосе в его истории («Собр. соч.», Т. 4, М., 1906. особ. стр. 187–190). — Его же, — Ист. древн. филос., М., 1906, Ч. 1, гл. II, 2, 3, 4, стр. 30–34. — C–te Gоblеt d'Аlviella, — L’idée de Dieu, d’apres l’antropologie et l'histoire, Paris–Bruxelles, 1892, Chp. III, p. 103 suiv. — H. [C.] Арсеньев, — В исканиях Абсол. Богa, M., 1900, особ. стр. 37–39. — Демонизмом язычества объясняется и то, что исцеление от демоно–боязни и спасение от демонов служило, в глазах всего древн. мира, едва ли не главн. залогом успеха христ. проповедн. Кроме вышеназван. книг о сем см.: А. Гарнак, — религюзно–нравств. основы христианства в истор. их выражении (из истории миссион. проп. хр–ва за первые три века). Пер. А. [А.] Спасского, Харьков, 1907, гл. III, стр. 60–79 и VIII, стр. 178–194, — Е. Г., — Демонические болезни («Хр. Чт.», 1912, Июль–авг., стр. 775–790. — А. А. Спасский, — Вера в демонов в древн. церкви и борьба с ними («Бог. Вест.», 1907, II, 6, стр. 357–391). — Мысль о том, что страх создал первых богов, высказана впервые Демокритом; по крайней мер Секст Эмпирик (Adv. math. XIII, 259) признает за ним это первенство. По словам Цицерона (De nat. deor. II, 5) такого же мнения держался стоик Клеанф. Вероятно, от Демокрита заимствовали этот взгляд Эпикур и его римский последователь Лукреций Кар. — Интересные замечания о связи демоноодержимости, страха и неспособности к исследованию действительности высказываются в: О. Вейнингер, — Посл. Сл. [350], отд. «Культура», стр. 159–161.
Арис., — Эфик. Ник. IX, 9. Ореrа [101], Vol. 2, рр. 1158b35, 1159a4; — Больш. Эф. II, 11 Oр. id., р. 1208b29 сл.; — Евдем. VIII, 3, Op., id. р. 1238b27.
Хр. Зигварт, — О моральных основах науки (рус. пер. помещен в «Вестн. Воспит.», 1904 г., № 9), стр. 176. Из сборника его Kleine Schriften» Bd. II, 1881 (2–te Auflg. 1889). Ср.: «Необходимо должен существовать вне нас такой ум, который состоит не в одной способности понимать истину, но обладает такою силою, что может производить все возможные истины из себя самого; котор., существуя самостоятельно, составляет самое существо истины, объемлет собою всю полноту света, любви и жизни. Иначе нигде не было бы, да и не могло бы быть ни истины, ни добра. Иначе основанием всех вещей, всякого познания, было бы чистое ничто» [Архим., впоследств. Apxиеп. Херсонск. и Тавр. Иннокентий Борисов], — О бытии Божием («Хр. Чт.», Ч. 30. 1824, стр. 205). Принадлежность этой анонимной статьи именно Иннокентию открыл и доказал ученик мой, И. М. Успенский, канд. LXVII вып. М. Д. А., в своем соч. «Философск. воззрения Иннокентия, Арх. Хер.». — То же у древних, напр.: «Άλήθεια δη πάντων μεν άγαθοΐς θεοΐς ήγείται, πάντων δε άνθρώιποις» (Πлатон, — Зак. V 730 С [29, 28] р. 335 24–28). —
Маймонид, — Наставник I, 72 (ц. по: М. Базилевский, — Влиян. мон. на разв. зн., Киев, 1883, стр. 15–20. — Тут же, на стр. 15–24 приводится полностью глава из Маймонида, истолковывающая вселенную как единое существо).
Р. Бехай, — Хаб. Галеб. (Об обязанностях сердца), гл. «Об искрен. служении Богу» (ц. из Базилевского [495], стр. 93–94, 95–96).
О борьб с полифеизмом, шедшем изнутри античн. мира см.: Р. Dесhаrmе, — La critique des traditions religieuses chez les Grecs des origine, au temps de Plutarque. Paris, 1904. XIV + 518 pp. — Gоblet d’Alviellа [493]. — Кожевников [486]. — Ч. Буасье, — римская религия от Августа до Антонинов. пер. М. Корсак, М. 1878. — М. С. Корелин, — Падение античного миросозерцания. СПБ., 1895.
Лукреций Кар в начале почти всех песней своей поэмы «О природе вещей» ублажает Эпикура и даже называет его богом; ср. [486].
О сост. древн. естествознания см.: Кожевников [486]. гл. II, стр. 93, 206 (заголовок главы у́же её содержания). — Уэвелль, — Ист. индукт. наук, пер. с 3–го англ. изд. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина, СПБ. ТТ. 1 и 2 — 1867 г., Т. 3 — 1869 г. — П. А. Любимов, — Ист. физики. Опыт изучен. логики открытий в их истории. Ч. I, период греч. науки. СПб., 1892. V+268 стр. — Ферд. Розенбергер, — Очерк ист. физики. Ч. I, пер. с нем. под ред. И. М. Сеченова, СПБ. 1883, V+178 стр — Эдм. Пeрье, — Основные идеи зоологии в их истор. развитии с древн. времен до Дарвина, пер. А. М. Никольского и К. П. Пятницкого, СПБ., 1896, 302 стр. гл. I–III, стр. 1–29.
Э. дю–Буа–Реймон, [488], стр. 41. — Кожевников стр. 107. — Е. Деннерт, — Христос и естествозн., пер. с нем. СПБ.
'Ωκεανός απέραντος άνθρώποις και οι μετ' αύτον κόσμοι (20, 8). — Указание на Америку? Что́ это: предчувствие будущего знания или, м. б., исчезающее памятование прошедшего?
Ср. Кожевников [486], стр. 97. — На христианск. воззрении о само–законности мира особ. настаивает М. М. Тареев, — Основы христианства, Серг. Пос., 1908, ТТ. 1–4, — и даже делает это понятие краеугольн. камнем своей системы. Но само–законность и само–утверждение твари в этой системе почти сливаются под общим термином «свободы плоти».
По не совсем точному переводу Преосв. Филарета еп. Черниговск., — Ист. обзор песнопевцев и песнопения прав. Церкви, изд. 2–е. Чернигов, 1864. — Текст и объяснения: Titi Flavii Clementis Hymnus in Christum Salvatorem, Ed…. Ferd. Piper, Gottingae, 1835. — Потребн. исправления вышеуказан. перевода см. в: Ф. Смирнов, — Гимн Клим. Александр. («Тр. Киев. Д. А.», 1879 г., Т. 2, стр. 370–372). — Текст и разъяснения этого гимна см. еще в: Гр. А. С. Уваров, Христ. символика, Ч. 1–я. II, 5. Символика древне–христ. периода, М., 1908, посмертн. изд., стр. 44–49.
Кожевников [486], стр. 96–97. Тут же цит.: «Вся древность не знала наслаждения природой» (Гервинус, — Litcraturgesch, I, S. 124); отцы Церкви впервые решились поставить природу выше искусства (Humboldt, — Kosmos, II, 30); «древние ощущали пластически; христианский мир ощущает живописно… Чувство природы у греков не столько постигало взаимодействие вещей, связывающее их в одно органическое целое, сколько, напротив, хваталось за какую–ниб. частность, чтобы подробно разработать ее в подобие той или другой человеческой черты или олицетворить в человеческ. образе» (Каррьер, — Искуство, II, стр. 276–277 рус. пер.). То же мнение у Шназе, — (Gesch. d. bildenden Künsten, II, 129 ff.). — «рисуя картины природы классич. поэты исключ. занимались описанием внешности, да и то в самых общих чертах; оттого в них незаметно даже и следов глубокомысленного понимания внутренней жизни природы, в роде того, как оно выражено, напр., в произведениях Шелли …» (Кож., стр. 97, прим. 3). «Несмотря на ревностн. защиту классицизма его поклонниками, большинство занимавшихся этим вопросом об интересе древних к природе склонно думать, что древн. миру чувство к природе было, если не сов. чуждо, то, во всяк. случ., менее свойственно, нежели новому обществу. — Нет ник. оснований предполагать, чтобы народ, оделенный такой богатой фантазией, как греки, оставался сов. равнодушным к окружавшей его природе; тем не менее, с сам. ранних пор, греч. цивилизация сложилась так, что чувство к природе не могло быть в ней особ. сильным… Самые широкие сравнения легко доказывают, наск. клас. мир предпочитал сосредоточиваться на изучении ч–ка, нежели на исслед. природы: как коротки и бедны описания этой последней у греч. поэтов, сравн. с их же изображениями челов. жизни! Как роскошно развита в древности пластика, вполне соответствующая античн. любви к гуманизму, тогда как ландшафт вовсе [П. Ф.] не был известен ни грекам, ни римлянам. Если в эст. и даже в научн. отн. древние обращались к природе, то они спешили прежде всего искать в ней отражение своего любим. челов. идеала; постоянно стремились они не столько изучать её самост. жизнь, сколько её аналогию и связь с ним. Обоготворяя все пластичное, ант. мысль, и при изучении природы, сосредоточивала свое вним. на явлениях особ. выдававшихся, особ. поражавших своей внешностью. Грандиозное, трагическое, словом то, что скорее всего напоминает человеч. страсти, — вот что преим. интересует в прир. не только древн. поэтов, но и древн. учен. Напр. того, скрытые, сразу неуловимые силы, внутрен. жизнь и превращения материи — вещь почти непонятная древним и даже не интерес. их…. Мало того, что древние недос. интересовались природою: они смотрели на нее сов. с неправ. точки зрения: во–пер., старались приводить её явления в иск. связь с челов. идеалами, чрез что впадали в пост. ошибки; во–вт., они следили только за сам. крупными, сам. наглядн. фактами и так. обр. приучались пренебрегать изучением внутрен. сил природы, для того, чтобы обращать вним. на её внешность — Как усердно замечали греко–римск. учен. те явления, кот. казались редкими, почти чудесн. и как презрит. смотрели они на обыден. физич. факты; — напр., отдeл метеорологии очень интересовал их, тогда как менее поразит, явления света, звука и пр. почти вовсе не удостаивались их вним.; точно также — древн. ботаники и зоологи собирали сотни анекдотов по пов. иностр. диковин, растен. и животн. и не имели почти ник. понятия о своей родн. фауне и флоре» (Кож., id., стр. 96–98). — Впрочем, вопреки сказ. иногда пытаются приписать чувство природы именно древн. миpy, напр., связывая его с именем Плиния, а искоренение романтич. понимания природы — христианству (Д. С. Мережковский, — Вечн. спутники, СПб., 1899, изд. 2–е, стр. 102–103, Плинии Мл.).
Ср: «Если нек. церкви прибавляют что бог принял челов. природу, то, как я это откровенно высказал, мне не вполне понятен смысл этих слов: по правде сказать, мне кажется это не менее странным, как если бы кто сказал, что круг принял природу квадрата» (б. де Спиноза, — Пис. XXI (LXXIII) к Генр. Ольденбургу. — Переписка [229], стр. 148.)
«Господь им. полн. уважение к создан. Им природе и её законам, как произведению Своей беск., совершеннейш. премудрости; посему и волю Свою совершает обыкнов. чрез посредство природы и её законов, напр., когда наказывает людей или благословляет их. Чудес, поэтому, не требуй от Него без крайней нужды» (о. Иоанн Крон. [45], стр. 667).
П. Флоренский, — Антоний романа и Антоний предания, Серг. Пос., 1907 (= «Бог. В.», 1907, № 1). — Тут делается попытка конкретно сопоставить два аскет. настроения, — нигилист. и правосл. — В. [А.] Кожевников, — О значении подвижничества в прошлом и настоящем, М., 1910 («Рел. — Фил. Библ.», Вып.. ХХII–ХХIII = «Хр. Чт.», 1909 г.). Тут же изобильн. библ. — М. В. Лoдыженский, — Сверхс. [28]. — Его же, — Свет незримый. Из области высш. мистики, СПБ., 1912.
Об обожении: И. В. Попов, — Идея обожения в древне–вост. церкви, М., 1909 («Воп. ф. и пс.») — Его же, — религиозн. идеал св. Афанасия Алекс., Серг. Пос., 1904 (= «Бог. В.»). — Его же, — Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. Макария Егип., Серг. Пос., 1905 (=id). — С. Зарин, — Аскетизм по православно–христ. учению, Т. 12. См. также у Смирнова. [532] —
Вот нагл. пример церковн. ощущения тела. Когда на Ник. соб. в 325 г. была сдeлана, — вероятнее всего, еп. Осиею Кордубс., — попытка сделать обязательным для всех клириков воздержание от своих жен, то, по–видим., многие склонялись в пользу так. предложения. «Но против него высказался чел–к, кот. и как исповедник и как подвижник пользовался высоким уважением. Это был Пафнутий, еп. из верхн. Фиваиды. Его голос имел тем больше веса, что, сам строгий девственник, Пафнутий свободен был от всяких подозрений, что он руководится как. — ниб. эгоист. мотивами. Он высказался в том смысле, что апостол и брак называет «честным» (Евр. 13, 4), что след. нет побуждений требовать от всех безбрачия, возложив на всех то иго, кот. с честью могут нести только немногие, можно принести вм. пользы только вред Церкви, подвергнув опасным искуш., если не самих священ. лиц, то жен их. Мнение Пафнутия восторжествовало, и по–прежнему, свободному усмотрению поставляемых предоставлен был выбор между брачн. и безбрачн. жизнью (Soz. I, 23)» (Болотов, — Лекции [240], Т. 3, СПб., 1912, стр. 142–143).
Симеон Н. Б., — Сл. 27. Mi gr., Т. col. 452 D. Ср. 1d. 451–45, прим. 13: άνθρωπος Θεω ένούται ηνευματικώς και σοματικώς. Подробнее на тему прим. [521, 523] см. Зарин [519], стр. 53.
Правила св. Апостол, св. Соборов, всел. и пом., и св. отец с толкованиями, изд. Моск. О–ва Люб. Дух. Пр., М., 1877, стр. 7, 95.
Фалассий [52]. Полную противоположность этой Восточной мистике личности представляет Западная мистика вещности: «Dass du nicht Menschen liebst, das thust du recht und wohl, Die Menschenheit ist’s, die man im Menschen lieben soll» (Angelus Silesius [349] I, 163, S. 27).
Вехи. Сб. статей о русск. интеллигенции. М., 1910, изд. 5–е и более новое изд. Около «Вех» выросла целая лит., указат. кот. прилож. к поздн. изд. этой книги. — H. М. Соколов, — русские святые и русск. интеллигенция. Опыт сравн. хар., СПБ. 1907.
Старец Киево–Печ. Лавры, Иеросхим. Парвений, — один из тех избранников Пречистой, кот. с детства благоухают горнею свежестью, ангел во плоти, даже в сам. юных летах не изведавший борьбы с плотию и никогда не запятнавший сердца своего ниже́ приражениями греховными («Сказание о жизни и подвигах старца Киево–Печ. Лавры Иеросхим. Парфения», Киев, 1898, стр. 13, 19), — этот преизряднейший чтитель Приснодевы очень много искал узнать, в чем сущность схимы. И вот, однажды пред иконою Её, всегда бывшею в келлии его, молясь, да поведает ему Владычица, что́ есть принятое им на себя схимничество, он услышал от Неё глас: «Схимничество есть — посвятить себя на молитву за весь мир» (id., стр. 27). Иер. Парфений род. 24–го авг. 1790 г. в селе Симонове, Тульск. г., а почил в Вел. Пятницу 1855 г.
С. [И.] Смирнов, — Духовный отец в древней Восточной Церкви, Ч. 1 (пер. вселенск. соб.), Серг. Пос. 1906 (= «Бог. В.»). Кожевников [516], тут же лит. — Ηоll, — Enthusiasmus Lpz., 1898.
Повечер. четвертка перв. седм. Великого Поста, пес. 2, троп. 3. Или, вот в каких нежных тонах говорит о теле Тертуллиан: «Душа не может остаться проституткою, чтобы жених принял ее нагою. Она имеет свою одежду, свое украшение и своего раба — плоть. Плоть есть истинная невеста… И никто так не близок к тебе, душа, как она. Ее ты должен любить больше всего после бога» (Тертуллиан, — О воскресении плоти, 63).
В чине погребения особенно характерно сплетения двух мотивов: плач о растленной красоте в человеке и радость о восстановленной красоте в Богоматери. В древности эти переживания сплетались еще теснее. О древне–христ. переживании смерти см.: В. Ф. Эрн, — Письма о христианском Риме, Пись. («Бог. В.», 1913, янв.). — Г. Буасье, — Катакомбы, М. («Рел. — Общ. библ.», сер. III). — А. фон Фрикен, — Римские катакомбы и памятники первонач. христ. иск., М., Ч. 1, 1872 г., Ч. 2, 1877 г. — С. Н. Булгаков, — Два града, М., 1911, ТТ. 1 и 2, статьи о первохристианстве. — Идея воскресения и святости тела особ, живо чувствуется из древн. пис. у св. Иринея Лион., а из новых — у Η. Ф. Федорова.
«Не можно никому изобразить, — описывает жизнеописатель Петра В. впечатление от указа о брадобритии, — того великого смущения, каковое произвел в сердцах россиян такой его величества указ». «Велят нам бороды брити, — говорили россияне святит. Дмитрию Рост., — а мы готовы главы наши за брады наши положити, пусть лучше отсекут наши главы, нежели бреются наши брады». Известны многоч. бунты из за бороды; но и суровые наказания со стороны правительства (так, в астрах. бунт было казнено 365 чел. и много сослано в Сибирь) не устрашали защитников священного благообразия. А какое знач. придавалось бороде в почитании святых, это видно из особливо больших бород свв. подвижников и из пост. указаний в иконописн. подлинниках на особенности бороды того или иного святого. Особ. характерна борода у отшельников и аскетов. (П. Смирнов, — Брадобритие «Прав. Энц.» [241], 1901 г., Т. 2, ст. 1005–1022. — Тут же, на ст. 1011–1022 лит. вопроса и др. поучит. сведения, Чрезвыч. интер. подр. см. в: Ф. Буслаев, — Исторические очерки рус. нар. словесности и искус., СПб. 1821, Т. X., стр. 216–232: «Древне–русская борода»). — Сила сопротивления Петровскому брадобритию со стороны правосл. Руси весьма выразительно измеряется значит, ежегодной пошлиною на бороду, наложен. Петром 1, а имен., по 60 р. на всех придворных, городск. жителей и подъячих; по 100 р. на купцов и торговцев; по 60 р. на мещан, боярск. слуг, ямщиков почтов. ведомства и на церковно–служителей, исключая попов и дьяконов; по 30 р. на Московск. жителей всех сословий; а по 2 деньги на всяк. мужчину при проезде в город или из города чрез заставу. («Полн. собр. зак.», ук. 16 генв. 1705 г.). Любопытн. веществен. памятником этой непосильной для народа борьбы за бороду остались «бородовые значки», т. е. серебр. или медн. жетоны под назв. «бородовая», кот. выдавались плательщикам пошлины за бороду; эти значки нужно было носить при себе. Крайняя редкость таких серебряных значков наглядно доказывает, что не многим было под силу уплачивать бородовую пошлину. «Значок сего рода в моем собрании величиною с двугривенник серебряный (20 коп.); на лицевой стороне изображен русской орел и (1705) г., а на обороте — нижняя часть лица; нос и рот с усами и бородою, и надпись: деньги взяты. Медные значки были двух родов; одни похожи на серебряные и есть такие, на кот. русский орел переклеймен; они вероятно служили на 2–й раз; другие четвероугольные, величиною и весом в рубль. На них простая надпись на одной стороне с бороды пошлина взятаי а на ободке слова: борода лишняя тягота (барон Станислав де Шодуар, — Обозрение русских денег — пер. с фр. В. А., СПб., 1837, Ч. I, гл. VI, стр. 169–170. — Еще о том же: Авг. Шлецер, — История о монетах, деньгах и горном деле Рос. Гос., с 1700–1784, Геттинген, 1791, стр. 67, 78. — Чулков, — Истор. описание Рос. коммерции, М., 1781, I, стр. 698. — Чулков описывает еще один вид бородов. значка, но Шодуар сомневается в существовании такового). — Изображения бородовых значков можно видеть в упом. соч. Шодуара (Ч. II «Собр. изображ.», СПб., 1837, доска 22, рис. 5 и 6; доска 23, рис. 1, объясн. к ним на стр. 12) и в: Н. В. Мигунов, — редкие русские монеты с 1699 до 1912 г., 4–е изд., М. 1912. стр. 80; бород. знак, изображен. здесь, интересен тем, что он — с погасительной контрамаркой. — Пошлина за бороду — это, т. ск., мера сопротивления средн. человека. Но известно, как решит. и непреклонно защищали бороду, а с нею — и идею священности тела, от разрушения этой идеи западным, интеллигентско–скопческим нигилизмом многие отдельные лица и отд. течения древней Руси. О неслучайности всей этой борьбы проговаривается философ, весьма родной по духу интеллигенции и сильно воздействовавший на типичнейшего западника, Ив. С. Тургенева, — Арт. Шопенгауэр, с его отвращением от религии и брезгливым оплеванием тела. «Борода, как полумаска, должна бы не допускаться полицией, — брюзжит он против естества челов–го. — К тому же она, как знак пола на лице, непристойна, почему и нравится женщинам …» (Арт. Шопенгауэр, — Отдельные, по системат. распр. мысли о разн. рода предм., XIX: к метафизике прекрасного и эстетике, § 233, прим. 1. «Собр. соч.» в пер. и под ред. Ю. И. Айхенвальда, вып. XIV, стр. 766). — Да! Чуть ли ни все свв. мужи, большинство великих людей, миллионы честных исполнителей воли божией носили бороду, видели в ней признак доблести, считали предосудительным снимать ее; мало того, многие из них деятельно боролись за право её ношен1я, — упомянем хотя бы наших славянофилов (А. С. Хомяков, — Полн. собр. соч., Т. 8: Письма, М., 1904, Пис. 15–е, к А. Н. Попову, стр. 191; Письмо 2–е к гр. А. Д. Блудовой, стр. 375), — и вот, далеко не безупречной нравственности интеллигенту угодно было в своем гнушении полом, против которого он сам же погрешал, дойти до открытия, что борода непристойна, и потребовать вмешательства полиции, — этого опять–таки всецело интеллигентского по духу учреждения, — для борьбы с бородою!
Тертуллиан, — правда в произведениях монтанист. периода, — высказывает весьма своебр. соображение о теле, как образе Божием. По мнению этого писателя, не Спаситель принял образ бытия человеческого, а человек был предобразован Творцом по образу имеющего явиться на земле Сына Божия. Образ Божий есть образ Христов, кот. был дарован человеку еще за много лет до пришествия И. X. в этом образе. ««Et fecit Deus hominem, ad imaginem, Dei fecit illum» (Gen 1, 27). Cur non, suam, si unus qui faciebat, et non erat ad cujus faciebat? Erat autem ad cujus imaginem faciebat: ad Filii scilicet, qui homo futurus certior et verior, imaginem suam fecerat dici hominem qui tunc de limo formari habebat, imago veri et similitudo» (Tepтул., — Против Праксея, 12. — Mi lat pr., T. 2, coll. 168A). «"Сотворим ч–ка", сказал Бог, прежде нежели сотворил его. Он созидает его, т. ск., собственными руками по причине его преимущества, дабы он не был сравнен со вселенною…. Все вообще существа, в качестве рабов, произведены по одному повелению, по одному мановению могущества. Напротив того, ч–к, в качестве господина, создан Самим Богом… Припомни однако–ж, что плоть, собственно так именуемая, есть то самое, что называется ч–ком: "И созда бог ч–ка, персть взяв от земли" — hominem autem memento carnem proprie dici: "Et finxit Deus hominem limum de terra". Он был уже ч–к, хотя составлял еще и персть. "И вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть ч–к", т. е. персть, "в душу живу. И насади Господь Бог рай в Едеме, и введе тамо ч–ка, его же созда" (Быт. 2, 7–8). Так–то ч–к, бывши сперва перстию, учинился полным ч–ком уже впоследствии. К чему эти истины? К тому, дабы ты видел, что все блага, предопределенные и обещанные Богом ч–ку, принадлежат не только душе, но и плоти, если не по общности происхождения, то по преимуществу имени. — Продолжаю идти к цели своей, будучи однако ж не в состоянии придать плоти то, что даровал ей Сотворившей ее, облекши славою, когда персть, это ничтожество, побывала в руках Божиих, в каких бы–то ни было. Без сомнения, она была бы и тогда счастлива, когда бы Бог только прикоснулся к ней. Что же? Разве Бог не мог сотворить человека одним прикосновением, без всего прочего? Так–то справедливо, что готовилось какое–либо великое чудо, когда Он решился Сам работать над сим веществом с таким старанием. Действительно, сколько раз плоть эта чувствовала прикосновение рук Божиих, сколько раз была она ими осязаема, мешана, перерабатываема, во сколько раз она возрастала в чести и в славе. Вообрази себе, что весь Бог занимался сим творением. Руки свои, ум, действие, премудрость, провидение, и особливо любовь: все Существо Свое Он тут употребляет. Для чего же Он это делает? Для того, что сквозь эту грубую персть провидит Христа Своего, Который некогда сделается человеком, подобным сей персти, сделается вочеловечившимся Словом. Отец начинает с того, что обращается к Сыну своему с сими словами: "Сотворим человека по образу нашему и по подобию. И сотвори Бог человека", т. е. сотворил то, что создал, "по образу Божию", т. е. по образу Иисуса Христа, "сотвори его"… Следовательно персть, в которую с того времени облекся образ Иисуса Христа в предбудущей Его жизни, была не только творение Божие, но и залог Божий. Зачем же для поругания плоти выставлять нам землю за какой–либо грубый и презрительный элемент, тогда как в случае если бы другое вещество способно было к сотворению человека, то не следовало бы никогда терять из виду достоинства художника, который, избрав это вещество, счел бы его достойным того, или сделал бы таковым, дотронувшись только до него» и т. д. (Его же, — О воскресении плоти, 6. id. coll. 802В–803А, и вообще см. все это сочинение. — По переводу Карнеева: Творения Тертуллиана, СПБ. 1850, ч. 3, стр. 63–65). Ощущение святости плоти у Тертуллиана тем более достойно всяческого внимания, что погрешностью Тертуллиана была именно чрезмерная строгость в отношении к телу. Это соединение крайностей монтанистического аскетизма, чаяние и искание полноты духовности и глубокое благоговение пред телом в высокой степени характерно, но, как старались мы показать в сем сочинении, ничуть не неожиданно. «Начни же любить плоть, — увещевает Тертуллиан, — когда она имеет Творцом своим столь превосходного Художника — incipiat jam tibi caro placere, cujus artifex tantus est» (id., 5, coll. 801В). Но любить плоть, для него, это вовсе не значит потакать её слабостям; напротив, это значит требовать чистоты плоти, непорочности сего образа Божия, сего сосуда Духа Его. «Персть славна тем, что руки Божии к ней прикасались, а плоть еще славнее от дыхания Божия, посредством которого она уступила грубые элементы персти и восприяла достоинство души. Ты не искуснее бога. Если ты в чугун, в медь, в железо, ни даже в серебро, не вставляешь драгоценных камней Скифии и Индии и блестящих [жемчужин Чермного моря, если напротив того украшаешь их чистейшим золотом самой отличной работы, если для лучших вин и благоуханий готовишь сосуды, качеству их соответствующие, если хорошие мечи одеваешь в превосходные ножны: то можешь ли ты себе представить, чтобы бог вложил в какой–либо презрительный сосуд тень души Своей, дыхание Своего Духа, деятельный образ Слова Своего — animae suae umbram, spiritus sui auram, oris sui operam — и чтобы осудил их на изгнание в поносное место?» (id. 7, col. 805А). — В позднейш. богословии нет установившегося понимания, в чем имен. заключается образ Божий в ч–ке. В труде: (Филаpет., Митр. Моск.], — Записки, руководствующие к основательному разумению Кн. Бытия…, ч. 1, изд, 2–е, СПБ., 1819, стр. 34–38 — перечисляются различные способы толкования сего предмета, но без решительного выбора или отвержения того или др. из них и с признанием существенной неопределенности в этом вопросе повествования библейского. Арх. Херс. Иннокентий высказывается в пользу понимания образа Божия в отнош. ко всему человеку: «Мнения об образе Божием различны, — говорит он, — одни распространяют его на душу и тело, а другие ограничивают одним духом или же душою. Но мнение первых справедливее: весь человек был образ Божий, а не одна часть его — душа. Но как в теле мог отразиться образ Существа бестелесного? Так же, как и в духе. Для нас кажется это странным потому, что мы представляем тело слишком грубым. Но что такое оно в себе самом, — отлично ли от духа или нет? — мы не знаем. Что–ж, если оно в существе своем одинаково с духом? В таком случае весь соблазн исчезает. Можно верить, что оно и есть таково: ибо гораздо лучше представлять существо человека состоящим из одного чего–то, а не из двух разнородных» (О человеке. [125], лекц. 2–я, стр. 85). — Интересн. мысли о том же предмете содержатся в «Дневнике» о. Иоанна Кроншт. и в «Книге Бытия моего» Еп. Порфирия Успенского.
Этот взгляд на монашество из новейш. пис. особенно настойчиво проводится Еп. Игнатием Брянчаниновым. Но именно тогда делается непреложно ясным, что монашество требует совсем особых условий жизни и совсем вне–мирно, так что «ангел во плоти» не может вмешиваться в дела не только политики, но даже церковные, как то постановлено 4–м правиломь 4–го Халкидонского вселенского собора.
Ориген, — О нач. I, 7, § 5. — Mi gr, Т. 11, coll. 1751–1776. — Должно сказать, впрочем, что вопрос о само–оскоплении Оригена весьма темен. По крайней мер, даже не скрывающий своей враждебности к Оригену св. Епифаний Кипрский повествует о сем в выражениях весьма неопределенных: «Об этом Оригене рассказывают, что он умыслил нечто против своего тела. Одни говорят, что он оскопил себя, чтобы не волноваться сладострастием, не разжигаться и не распаляться плотскими движениями; иные же говорят не так, а что он придумал прикладывать к известным членам какое–то лекарство и иссушать их. Другие отваживаются взносить на него и нечто другое, напр., будто он отыскал какую–то траву, целительно действующую на память. Мы не совсем верим необыкновенным рассказам о нем, однакож не опустили передать эти рассказы» (Епифаний Кипр., — Об Оригене… 44–ой, а по общ. пор. 62–й ереси, гл. 3. Твор., М., 1872, ч. 3, стр. 84). Это сообщение невольно заставляет считать все эти слухи об Оригене сплетнями, подобными тем, какие окружали свв. Афанасия В., Иоанна Злат. и др., и от тягот которых не бывает избавлен ни один выдающийся ч–к. Можно считать установленным лишь факт беспримерной умствен. продуктивности Оригена и, вероятно стоящий в связи с этим, факт полного воздержания. Но от Оригена действительно веет скопческим духом, как и вообще ото всех душ с рационалистическим строем.
Ср. «Гимн Солнцу» Франциска Ассизского, тоже сурового аскета. П. Сабатье, — Жизнь Франциска Ас., пер. с фр., М. 1895 г., стр. 313, 314, 336, 339; подлин. итал. текст на стр. 311–312.
Б. [А.] Тураев, — Некоторые жития абиссинских святых («Визант. Времен.», Т. 13, вып. 2, 1906 г.). Житие Яфкерана–Эгзиэ находится в числе коллекции рукописей Пар. Нац. Библ. (бывшая кол. d’Abbadie, № 56) и переведено на рус. яз. в ук. раб.
Так, преп. Сергий Радон. (XIV в.) и Серафим Саровск. (XIX в.) принимали у себя гостем медведя; Пахомий Егип. (IV в.) и св. Феодора переезжали через Нил на крокодиле; иных кормили вороны, львы и т. д. Сам Господь в пустыне «был со зверями» (Мк. 1, 13). Ср. «Соль земли» [567]. Ср. в житии Франциска Ассизск. рассказ о трапезе его с Кларою, когда все трапезующие были объяты огнем духовной любви и им насытились («Цветочки» Франциска Ассизского (Fioretti), гл. 15, пер. с итал. О. С. «Нов. Путь», 1904 г., Май, стр. 123–124). Есть и отд. изд. М., 1913 г., пер. А. П. Печковского, изд. «Мусагет», стр. 46–49.
Cp. «Честные твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый» (мол. 1–я пр. Сергию Рад.).
Уже беглый просмотр переписки Иоанна Злат. с Олимпиадою убеждает, что их связывала одухотворенная любовь, гораздо более личная, чем просто нравственная связь епископа и диакониссы. Конечно, обвинения противников Златоуста вроде того, что будто он во время богослужения воскликнул: «Погибаю, схожу с ума от любви» — нелепы, но названная переписка объясняет, что́ именно послужило поводом к наветам врагов. Страдания Олимпиады во время ссылки Златоуста, взаимные заботы о здоровье и просьбы заботиться о себе, извещения о своем благосостоянии, — чтобы утешить и ободрить, — просьбы писать о себе и т. д. — тут все оттенки личной любви. Эта интимность выступает с особенною наглядностью, если сделать некоторые статистические подсчеты. Так, в русском переводе переписки Златоуста 17 писем к Олимпиаде занимают 84 страницы (= 3612 строк), а группа в 17 писем к другим лицам занимает в среднем 11,9 стран. (=511,7 строк). Так — включая пустые промежутки между письмами в 4–6 строк. Делая редукцию на эти промежутки, находим, что текст 17–ти писем к Олимпиаде занимает 3544 строки, а текст 17–ти писем к другим лицам занимает в среднем 444 строки, т. е. в среднем, значит, одно письмо к Олимпиад содержит 208,5 строк, а к иным лицам — 26,1 строк. Итак, письмо к Олимпиаде, в среднем, в 8 раз длиннее писем к иным лицам. Эта цифра «8» есть лишь подтверждение Житию Иоанна Златоуста, где говорится, что Иоанн «любил Олимпиаду духовною любовью, как некогда св. ап. Павел Персиду, о кот. пишет: «Целуйте Персиду, возлюбленную, которая много трудилась о Господе». Олимпиада же святая сотворила не менее Персиды. Когда же Иоанн был изгоняем неповинный со своего престола, блаженная Олимпиада с прочими честными диакониссами плакала о том много».
Еще недостаточно принята во внимание склонность многих духовных старцев на вершине своего подвига и умерщвления страстей, строить женские монастыри. Достаточно назвать хотя бы имена преп. Серафима и старцев Амвросия Оптинского и Варнавы Гефсиманского, чтобы пояснить сказанное.
Иоанн Леств., — Лествица, сл. 15, 61 (в рус. п.), — Mi gr. Т. 88, coll. 893с, d –894а, Grad. XV, 33.
Димитрий Рост., — Жития святых, мес. окт., день 8–й. (= Lipроmаnus, — Acta sanctorum, V. 5, p 225.
Безразлично при этом, будет ли оно называться Браман, Нирвана, Энсоф, Тао, Добро (у Толстого) и т. д.
Свящ. И. Четверухин, — Сведения о преп. Исааке Сир. («Творения Ис. Сир.» Изд. 3–е Сер. Пос. 1911).
Исаак Сир., — Сл. 48 по р. п., а по изд. Фeoт. ПА (81), σσ. 451–453 Заключ. в < > заимств. из древн. слав. пер.
Еп. Феофан Затв. Ср. «Как чувственные, должны мы добре воспринимать чувствами впечатления от чувствен. вещей и чрез красоту их востекать к созерцанию создателя их» (Никита Стифат, — 3–я умозр. глава сотн., 72. «Добр.» [136] стр. 155–156.
П. Флоpенский, — О суеверии («Нов. Путь», 1903 г. № 8). Тут говорится о чуде, как о восприятии божеств. момента твари; оговариваю, что статья редакцией обработана в кантианск. духе, и поэтому нек. мыслей, в нее внесен., я не могу принять.
А. Бельский, — Как земная тварь Богу молится (расск. странника) («Родник», 1897 г., Т. II, стр. 900–913).
Конкретн. изображ. этой двоякой духовн. красоты; «Соль Земли, то есть сказание о жизни старца Гефсиманского скита иером. Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским», Серг. Пос., 1909 (= «Христианин», 1908 г., №№ 10, 11, 12 и 1909 г., №№ 1 и 5). — Духовность есть предел тварной красоты; красота приближается к этому своему пределу по мере проникновения от феноменальн. периферии существа к его ноуменальн. корню и, следов., по мере своего внедрения в мир божественный: красота — от приобщения дольнего горнему, самостоятельна же лишь красота горнего. Можно написать такую нисходящую ска́лу ступеней красоты: Само–красота, или Утешитель > Духоносный > духовный > прекрасный > красивый > пригожий > изящный > недурной > хорошенький > смазливый > смазливенький >… и т. д.
Термин, введенный Н. В. Бугаевым в его статьях: «Геометрия произвольн. величин» и «Прерывн. геометрия».
В приведен. примере я не считался, конечно, с действит. или мним. возможностью изменения пространственной формы созерцания, как это указывают исследов. Хинтона (C. H. Нintоn, — The New Era of Thought; его же, — The Tourth Dimension. — Изложение см. в П. Д. Успенский, — Четвертое измерение. СПб. 1909; его же, — Tertium Organum, СПБ., 1911).
Канту принадлеж. заслуга выяснить, что «единство апперцепции» не есть простая данность, но есть единство синтетическое, т. е. устанавливаемое. Цельность эмпирической личности опять есть живая цельность, вырабатываемая «искусством из искусств», а не просто данная. Но «единство апперцепции» есть, под иным углом зрения, единство всего мира. Цельность личности — цельность всей твари. Но и этот опыт, и эта тварь мыслятся как нечто организованное, как единый организм. Тут гносеология, и метафизика вплотную подходят к Павлову учению о Церкви, как едином организме, в коем каждое отдельное лицо есть член.
Слово «σοφία» хотя и переводится мудрость или премудрость, но однако вовсе не означает простого пассивного восприятия данности, вовсе не означает нашего: разум, знание, наука и т. п. В нем содержится вполне определенное указание на творчество: Prel. [17] SS. 294–295, на художество, на зиждительство, — так–то, передавая имя Σοφία на совр. язык, следовало бы говорить Зиждительница, Мастерица, Художница и т. п. Этимон слов σοφία, σοφός, равно как и равносильного ему санскр. dhrobhós, уясняется из древнейшей формы, а им. τFοφός, происходящей от √dhvobo; dhvob значит «passend machen», «делать подходящим», «прилаживать», и потому первоначально σοφός = τFοφός = faber = мaстак, мастер (Prel. [17] SS. 294–295). Σοφία, у Гомера и у Гезиода, и др. производные того же корня употр. в смысле технического знания, т. е. способности воплощать некот. замысел в действительности. Так, у Гомера читаем: «Точно равняльный снурок выпрямляет бревно судовое, ежели им управляет искусного плотника руки, кто изучил свою мудрость, покорный внушеньям Афины: так над войсками был ровно натянут сражения жребий. — άλλ' ωστε στάθμη δόρυ νήιον έξιθύνει τέκτονος έν παλάμησι δαήμονος ό ρά τε πάσης εν είδή σοφίης υποθημοσύνησιν Άθήνης,… (Илиада Гомера, пер. H. M. Минского, M., 1896, XV 410–413. — Homerica Carmina ed. A. Nauck, Vol. I., lias, pars post., XV 410–413, Berolini, 1879, p. 73). — Eврейское ﬣﬤמﬣ, xoxма или xoкма — слово производн. от √ﬣﬤﬦ имеющего во всех семитск. яз. одинаковое знач. — «быть разумным, мудрым», первонач. — «быть сильным разумом»; отсюда, хака́м — мудрый, мудрец. «Если в одн. местах [Библии] премудрость рисуется, как доступное людям состояние, — то в других она приписывается только Богу, единому обладателю её от вечности. Разгадку этой двойственности нужно искать в библейск. учении о душе человеческой, как дыхании Божества (Быт. 2, 7, ср. Еккл. 12, 7). Божественное свойство премудрости, как совершенного знания, вечно и неизмеримо, но поскольку ч–к есть образ Божий, постольку и он, при известных условиях, может получить от Господа этот небесный дар …». В нек. местах «премудрость олицетворяется, ей приписывается как бы самостоятельная сила действования, хотя и в зависимости от Бога», т. е. имеется «олицетворение премудрости как творческой и промыслительной силы Божией …» (прот. А. П. Рождественский, — Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, СПб., 1911, стр. 2–3). — Ветхо–заветн. учение о Софии рассматривается в: Вenkenstein, — Der Begriff d. Chokhmа in den Hagiographen des Alten Testaments. Inaug. — Dissert., Nordhausen, 1895. В § 58 — кое–какие лит. указ. — Вл. Соловьев, — Россия и Вс. Цер. [4], кн. 3–я, стр. 303–451, в особ. — главы III–V, стр. 325–353. «Как справедливо во всех языках различается мудрость от разума! Настоящая мудрость состоит в том, чтобs, признавая права разума в теории, как можно менее доверять ему на практике. А из этого противоречия следует, что безусловное значение принадлежит не умственной, а нравственной области, в кот. никакого противоречия нет, ибо правила: «не людоедствуй», или, не воруй сверх должного» — одинаково хороши и в теории и на практике» (Вл. С. Соловьев, — Письмо 9–е к А. А. Фету, 21 авг. — 6 сент. 1888 г. «Письма Вл. С. Соловьева», Т. 3., под ред. Э. Л. Радлова, СПб., 1911, стр. 118.
Отеческое, особ. свойствен. Григорию Нис·, понятие о едином «естестве» твари разъясняется Антонием (Храповицким), Архиеп. Волынск., в «Нравств. идее догмата церкви» («Полн. Собр. соч.», Т. 2, Изд. 2 е, СПБ., 1911). — В. [А.] Троицкий, — Триединство Божества и единство человечества, М., 1912 (= «Голос Церкви», 1912, № 10). — Оно составл. подоснову в: C. [H.] Булгаков, — Философия хозяйства, r. I, М., 1912, в учен. о Церкви Вл. Соловьева и т. д. Вся история грехопадения, домостроительства, искупления и спасения, учение о таинствах и т. д. получают в свете этого понятия реальный смысл; вне же его они делаются пустыми формулами.
Ср. [331]. — Это учение особ. определенно высказывалось в средневек. философии: Stоckl [331]. — А. Штёкль, — Ист. и система средневековой философии, пер. Н. Стрелкова и И. Э. под ред. И. В. Попова, М., 1912. — Г. Эйкен, — Ист. и система средневекового миросозерцания, пер. с нем. В. Н. Линя, СПб., 1907. — Ch. Jourdain, — La Philos. de S. Thomas d’Aquin, Paris, 1858. — J. H. Lоewe, — Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus im Mittelalter, Prag» 1876 (= Abh. d. k. böhm. Ges. d. His. VI F., 8 Bd.). — B. Виндeльбанд, — Ист. философии, пер. с нем. П. Рудина, СПб. 1898, стр. 241–323. — Эта мысль высказывалась и новейш. мыслителями. Так: С. [С.] Глаголев, — По вопросам логики, Харьков, 1910, стр. 215–221.
Еп. Феофан [Затворн.], — Толк. на 1–е посл. к Кор., 8 гл. 3 ст., стр. 266. — Впрочем, ср. стр. 63 и [73].
«… Незамечаемое в наших богосл. системах и незамеченное [В. И. Несмеловым] изречение кн. Прем. Солом.: «Бог сделал ч–ка «образом вечного бытия своего» (2, 23). Так. обр., не только наша разумность и нравств. требования представляют собою умаленный образ Божий, но и вечность, т. е. свойство именно безусловного бытия, отразилась на личности человека» (Антоний, Арх. Вол., — Новый опыт учения о богопознании, «Полн. собр. соч.», Казань, 1900, Т. 3, стр. 427). «Как вечное проявляется во времени (а что оно проявляется, в том нет сомнения)? — Чтобы приблизить это к разуму и уничтожить все противоречия, надобно отвлекать мысль от дробления и представлять время в целости: тогда оно, если не сравняется с вечностью, то будет ей оттенком, т. к. оно есть зыблющееся отражение покоящейся вечности. Посему и неудивит., что вечность проявляется во времени». Иннокентий, — О Боге вообще [123], стр. 273.
Bertr. Russel, — L’idee d’ordre et la position absolute dans l’espace et le temps («Bibl. du Congr. Intern. de Philos.», Paris, 1901, T. 3, pp. 241–277). «I1 faut d’abord distinguer parmi les series celles qui sont des positions, et celles qui ont des positions. Les nombres entiers, les quantitas, les instants (s’il у en a) sont des positions; les collections, les grandeurs particuliers, les evenements ont des positions» (id., p. 242).
Др. слов, «время» так же относится ко «Времени», как вообще Канторовский «тип порядка Ordnungstypus» к «множеству», «время» — это и есть тип порядка Времени. — О типах порядка. [1, 844, 855, 856].
Потоп; гибель Содома и Гоморры; гибель Атлантиды; события на Мартинике и в Мексике и т. д. — вот несколько примеров того, как земля стряхивает с себя богохульников и богопротивников.
Эти и соприкосновен. вопросы подробно рассмотрены в рукописн. работ: П. Флоренский, — Идея Церкви, 1906, особ. гл. 5–я, § III. См. отчасти Sоhm, — Kirchenrecht, Bd. I, Erst. Kap., § 4, SS. 36–38. — Руд. Зом, — Церковный строй в первые века христианства, пер. А. Петровского и П. Флоренского, стр. 64–66. — Смирнов, — Дух. от. [532], особ. стр. 165–171. В. [A.] Троицкий, — Очерк из ист. догмата о Церкви, Серг. Пос., 1912, см. в указ. «власть ключей», «харизматики» и т. п. С известн. ограничен. этот взгляд характерен для Восточной Церкви, тогда как юридическое понимание исповеди возникло на Западе и только там получило свою полную силу. Особенно определ. высказывает этот взгляд на исповедь Симеон H. Б.
Рукопись эта не датирована, но она им. водян. знак 1812–го г., а по наблюдению исследователя рукописей М. М. Сперанского, вод. знаки на бумаге «обыкнов. довольно точно совпадают с действительным годом написания, отставая только на год или на два» (А. В. Ельчанинов, — Мистицизм М. М. Сперанского, «Бог. Вест.» 1906, № 1, стр. 99).
Вот одобрит. отзывы о мистике М. М. Сперанского: «Он изображает дело духовной жизни и очень здраво». (Еп. Феофан, — Письма о духовн. жизни, изд. 4–е, М., 1903, стр. 7–8, 10). «Он был человек, развивший в себе полную христианск. жизнь» (id., стр. 10) и т. п. Но т. к. они основываются на десяти письмах Сперанского, помещен. в «Рус. Арх.» за 1870–й г., то таковую оценку нельзя не признать поспешной и недост. обоснованной (Ельчанинов [587], стр. 109–110).
Оборотом «от создания» передается в указ. мест речение «απο καταβολής». В слов. пер. стои́т «от сложения», в нем. Лютера — «Von Anbeginn», в англ. «from the fondation», в итал. «dalla fundazione», в франц. Остервальда «des la création», в лат. Безы мы находим своеобразн. передачу: «a jacto mundi fundamento». Слово καταβολή, действит., объясняется чрез синонимы: «τό καταβάλλειν κατάθεσις Πληρωμή (έπϊ χεΐρας) θεμελίωμα εναρξις αρχή, καταγωγή» и те. η. Εκ — или από καταβολής значит «από καινουργής, άπο θεμελίου, έξ άρχής, από μιας άρχής» (Λεξικόν της Ελληνικής γλωσσης συντεθεν μεν υπο Σκαρλάτου δ. του Βυζάντιου, εχδοθ'εν δε… υπο Ανδρεου κορομηλα, εν Αθηναις, 1852, σ. 666). Но, вопреки этому согласию переводчиков, Ориген утверждает, что слово «constitutio», т. е. «сложение» или «создание», которым уже в его время обозначался акт устроения этого мира, есть неудачный перевод греческ. καταβολή. По мнен. Оригена, καταβολή должно было бы перевести скорее словом «низвержение» или «свержение вниз», чем «сложение» или «создание», — т. к. словом καταβολήי по–видим., указывается низвержение всех вообще существ из высшего состояния в низшее: «per καταβολήν, a superioribus ad inferiora videtur judicari, deductio …» (Ориген, — О началах III, 5, 1, — Mi gr., T. 11, col. 329, 328), и: «καταβολή, quod Latine inproprie translatum constitutionem mundi dixerunt; καταβολή vero in graeco magis dejicere significat, id est deorsum jacere …» (id., col. 328). Такой перевод был бы во всяк. случ. точным этимологическ. эквивалентом κατα–βάλλω, т. е. «сверху вниз бросаю».
Попытку дать худож. — рел. синтез этих идей о Царств Бож., как пред–существ. миру за–предельн. реальности, представляет пасхальн. слово: П. Флоренский, — Начальник жизни, Серг. Пос., 1907 (= «Христианин», 1907, № 4). Отчасти сюда же: А. Бухарев, — Исследование о достоинстве, целости и происхождении 3–й кн. Ездры, М., 1864.
Для ориентировки в различн. пониманиях Евангельск. «Царства Божия» см.: [31], [Н. Г. Городенский], — Новозаветн. учение о Царстве Бож. в новейшей богосл. лит. Западн. («Чт. в Об. люб. дух. пр.», г. 31, 1894, 2, стр. 747–814). — Прот. П. Я. Светлов, — Идея Царства Божия в её значении для христ. миросозерцания, Свято–Тр. Серг. Лавра, 1906. — М. М. Тареев, — Основы хр–ва, Серг. Пос., 1908, Т. 2. — Schmoller, — Die Lehre von Reiche Gottes in den Schriften Neues Testaments. 1891. — Weiss, — Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 1892. — Issel, — Die Lehre von Reiche Gottes im Neuen Test., 1891. — J. Воvоn, — Theologie du Nouveau Testament, Lausanne, 1893–1894. — Bern. Weiss, — Lehrbuch d. Bibl. Theol des Neuen Test., Berlin, 1868. — J. Holtzmann, — Lerbuch der neutest. Theol., Freiburg i/B u. Lpz., 1897. — G. B. Stevens, — The Theology of The New Test., Edinburgh, 1901. — J. M. King, — The Theologie of Christ’s Teaching, London, 1902. — По вопросу об Иудейской апокалиптике: Прот. Ал. Смирнов, — Мессианск. ожидания и верования Иудеев около времен И. X., Казань, 1889. — Кн. С. Н. Трубецкой, — учение о Логосе, Т. I, М., 1900 (= «Собр. соч.», Т. 4). — H. [H.] Глубоковс кий, — Благовестие св. Ап. Павла, кн. 1–я, СПб., 1905, тракт. 2–й. — Tареев, — id. — С. Н. Булгаков, — Апокалиптика и социализм, «Два града», Т. 2, [367] (= «Рус. М.». 1910, кн. 6–7). — F. Wеbеr, — Jüdische Theologie auf Grund d. talmud und verwandter Schriften… her. von Fr. Delitzsch u. Schnedermann, 2–te Auff., Lpz., 1897.
Th. Zahn, — Der Hirt der Hermas, Gotha, 1868. Друг. иссл. этот памятн. относится к 140–му г. Ср. Funk, id., S. XXXII. — Попов [592], стр. 19–20.
id., Вид. III, 3, 3, S. 125. — О понятиях «церкви мистич.» и «церк. историч.» и о неосновательности разделения той и другой у протестантов и у людей «нов. религ. созн.» см. Эрн, — Историч. церковь [16], стр. 321–328. — Утверждение (и даже чрезмерное католичествующее) момента видимости в Церкви на основании сир. слова עדתא, 'edta (этта, 'edta), соотв. евр. עדה эда, кот. вероятно употребил Спаситель, см.: В. В. Болотов, — Лек. [240], I, Введение в церк. ист., СПб., 1907, I, 2, стр. 10–13.
1–е прав. 6–го всел. соб. (или, точнее, поместн., ибо по свидет. Аристина, ни 5–й, ни 6–й соб. не издали правил) очень точно указывает, что осуждению подверглись лица «σωμάτων τινων και ψυχών ήμϊν περιόδους και αλλοιώσεις άναπεμπάσαντας ταϊς του νου παραφοραϊς τε καί όνειρώξεσι» или, по славян. перев., «прехождения и превращения некоторых тел и душ паки нам представивших на позор, в сонных мечтаниях блуждающего ума» («Прав.» [524] стр. 439). Иными слов., тут осуждается не учение о сверх–временной природе челов. личности, а о метемпсихозе и метенсоматозе. Эта осужден. идея о предбытии души во времени несомн. вне–христ. происхожд. и наиболее ярко выражена в Индии. В. Милославский, — Древнее языческ. учение о странствованиях и переселениях душ, Казань, 1873. — В. А. Кожевников, — Повести о перевопл. Готамо Будды, «Бог, В.», 1912, нояб. и дек., — необ. по эр. и проникн. глава из иссл. «Буддизм в ср. с хр–вом», ч. 2. — Еще: F. Lаudowicz, — Wesen u. Urspr. d. Lehre von d. Präexistonz d. seele… in. d. grich. Philos. Berlin. — Eго жe, — De doctrinis ad animarum praexist butiam… spectantibus, Lipsiae, 1898. — В обеих книг. указ. лит. напротив слова автора Кн. Прем. Солом.: «Я был отрок даровитый и душу получил добрую; при том, будучи добрым, я вошел и в тело чистое» (Прем. Сол. 8, 19, 20), несомненно, утверждают учение о предсуществ. души. В как. смысле? См. H. Н. Глубоковский [591], Тр. IIΙ, 2, стр. 478 слл., тут же лит.
Поэтому–то Иуд. богословие говорило о высших духовн. ценностях, как о предсуществующих миру или даже как о вечных. «Шесть вещей предшествуют миротворению; среди них находятся такие, кот. действительно были сотворены, и такие, о кот. было решено до творения; Тора и Престол господства — действительно сотворены» (Берешит Рабба, 1. — Weber [595], S. 16). (— Заметим кстати, что эта идея о предсуществовании Престола господства как–то отразилась и на христианской иконографии, создав здесь весьма распространенный, но и не менее загадочный сюжет «уготование престола», входящий, между проч. в состав софийной композиции. См. стр. 374). В др. талмуд. трактатах, а им. в Песахим 54a, в Недарим 39b, в Ялкут Шимеони и в Берешит Рабба 20, таких вещей поименовывается число более круглое, а им. семь: Тора, Покаяние, Сад Эдемский, Геенна, Престол господства, Святилище и Мессия. При этом, по Береш. Рабба, Тора и Престол госп. признаются действительно сотворенными прежде времени, а Отцы, т. е. праотцы, — Израиль, Святилище и Имя Мессии — предсуществующими миру в мысли Божией (Weber, S. 198). Предсуществующими признаются в ин. местах также и души (id., SS. 212, 225). — Наиболее значительным и влиятельным среди этих учений представляется учение о предсуществовании Торы, довольно близко подходящее к учению о Премирной Премудрости Божией. Тора есть отображение Существа Божия, существует вечно и называется, напр. в Вайикра Рабба 20, «дщерью Божией» (подробн. — Weber, SS. 14–18); она — закон не только мира, но и Божествен. существования, так что Бог Себя Самого создает посредств. Торы (id., S. 17). Посредством неё создан мир, и в ней — план его творения, так что цель мира — осуществить этот план. В связи с этой онтологией стоит самый решительный онтологический сионо–центризм иудейск. богословия. Святое место рассматривается здесь как центральн. и исходн. для творения пункт, в отнош. к которому все остальное лежит на онтологическ. периферии. По Иома 54b мир сотворен из Сиона; Сион — центр творения, а Xрам называется в Песикта 25b сердцем мира. Земля Израильская — первая земля, кот. была сотворена, и объединяет в себе все, что порознь содержится в остальном творении, говорится в Сифрэ 76b, и т. д. Точно также и язык Израиля имеет онтологическ. первенство пред всеми другими языками. Творческое слово было изречено на свящ. языке, — на языке Сиона, — свидетельствует Берешит Рабба 18, 31 и Ялкут Шимеони 52. Самое время миротворения стоит в связи с историей возникновения священ. народа. Рабби Элиезер говорить, по Рош Гашшана 10b, что мир был сотворен в месяц тишри, ибо в тишри и родились и умерли праотцы; а р. Иocya, id. 11a, думал, что миротворение произошло в месяце нисане, ибо в нисане родились и умерли праотцы. Другие авторитеты иудейства высказывались по иному, но характер аргументации у всех один и тот же (Web., SS. 198–199). М. б., в связи с этим сионо–центризм. — мнение, что «Адам говорил языком сирским» (родословие от созд. мира, статья из ркп. Афоноиверск. мон. Большой Панфект. Еп. Порфирий Успенский, — Перв. пут. в Афонск. мон. и ск., ч. 1, отд. 2, Киев, 1877, стр. 204) (ср. Вас. В., — Бес. на шест. 2, 6, — Mi gr. Т. 29, col. 44В: сирск. яз. весьма выразителен и особ. подходит для уразумения Св. Пис.). — На том же филос. языке своего века говорили и первые христ. апологеты; и в их сознанин древность — синоним превосходства, т. ск., онтологической родовитости, а потому–то на упрек в новшестве, в том, что «они существуют со вчерашн. дня», следовал ответ: «Мы только повид. новый народ; скрытно мы существовали изначала и предшествовали всем народам; мы — перво–народ Божий! Основн. положения иудео–центрическ. понимания истории переносятся ими на себя; это им.: 1°, наш народ древнее, чем мир; 2°, мир создан ради нас; 3°, ради нас он и продолжает существование; мы задерживаем суд над миром; 4°, все в мире — начало, средина и конец — открыто для нас и ясно для нас; 5°, мы будем участвовать в суде над миром и наслаждаться вечн. блаженством. Эти убeждения рассеяны в разл. др. — хр. памятн., появляющихся еще ранее пол. 2–го в., в проп., апокалипсисах, посл. и апол., и сам Цельс свое яростное презрение к бесстыдн. и смешн. притязаниям хр–ан нигде так ярко не выражает, как в этом пункте (Ориген, — Против Кельса, IV, 28) (Гарнак [493], VI, 1, стр. 144) (ср. Тертуллиан, — Против иудеев, 2, — Mi lat. рг.,Т. 2, coll. 637 В, С, 638 В, С, 639 А, и др.).
Об Ипостасях Пр. Троицы рассуждает Ориген: «Когда мы говорим: «всегда», «был», или допускаем какое–н. другое обозначение времени, то это нужно принимать просто и в переносн. знач., потому что все эти выражения имеют врем. знач., а предметы, о кот. мы гов., только на словах допускают времен. обознач., по природе же своей превосходят всякую мысль о времени» (О нач., I, 3, § 4. — Mi gr., Т. 11, col. 150). Итак, о Боге нужно ли выразиться: «Он был», или «Он есть», или «Он будет»? — В сущности — ни то, ни др., ни третье. Но нельзя сказать и обратного, т. е. что «Он не был», или что «Он не есть», или что «Он не будет». Бог — ни «был», ни «не–был»; ни «есть», ни «не–есть»; ни «будет», ни «не–будет». Ведь все эти слова выражают различн. соотношения Времени и того, что во Времени, — определяют отношение моментов Времени к «теперь». Бог же — не во Времени (— ибо быть во Времени — это и значит принадлежать к миру —), так что Его нельзя соотносить с «теперь», и след., к Нему не применимо ни «был», ни «есть», ни «будет». Но, будучи частью мира, Он не оставляет мира без Себя и является миру; явления же Его — во Времени, и потому неправильно сказать о Боге и «не был», и «не есть», и «не будет». Он — ни «был», ни «не–был», но Он же и «был» и «не был»; Он ни «есть», ни «не есть», но Он же и «есть», и «не есть»; Он ни «будет», ни «не будет», но Он же и «будет» и «не будет». Короче, Он, хотя и не во Времени, — ибо Вечность не во Времени, — однако и не вне Времени, ибо Время — в Вечности. Из всех глагольных видов слова «быть», которые вместе с тем имеют времена (как то: вид совершенный, указывающий на законченность действия или состояния, вид несовершенный, указывающий на их незаконченность, вид многократный, указывающий на их неопределенную повторяемость), — ни один не должен сказываться о Боге. Но не должны сказываться о Нем и те, — мыслимые, — виды, которые берут глагольную тему отвлеченно от Времени, т. е. без различения времен. К богу применим только особый глагольный вид, — вид вечный, указывающий на действие или состояние уже не во Времени, а в Вечности. Русский язык богаче др. языков тем, что вообще сохранил идею глагольного вида, — столь присущую языкам древнейшим, — и сохранил некоторые из видов. Но этого, вечного, вида глагола мы не находим в своем родном языке, как, тем более, не находим его в яыках западных. Чтобы отыскать этот вид, мы должны обратиться к Востоку, именно к языку ассирийскому. Тут имелись три глагольные вида, а им.: вид совершенный, для обозначения действия законченного, т. е. связанного с определенным временем ; внд не совершенный, для обозначения действия незаконченного, т. е, относящегося ко времени неопределенному; и, наконец, вид вечный, для обозначения действия безвременного или сверх–временного. Западные ученые, у которых нет и быть не может чутья и привычки к виду, за отсутствием такового во всех языках, кроме славянск. и, отчасти, греческ., пытаются приравнять эти виды — временам и называют их perfectum, imperfectum, или aoristum, и, наконец, permansivum. Но сами же они характеризуют их так, что для нас, привыкших к видам, делается очевидным, что это — вовсе не времена, а — виды. Да и вообще, раз семитским языкам чужды глагольные времена (— а это признают все гебраисты, хотя все же упорно говорят о praesens или futurum, об imperfectum или aoristum —), то мало оснований надеяться найти их в языкt ассирийском. Что же касается до занимающего нас пермансива, то «по форме он соответствуешь перфекту других семитск. яз.; по смыслу же он соответств. причастию, употребленному как сказуемое, отдельно или в сопровождении местоимения, языками арамейскими Он означает состояния, без определения времени настоящего, прошедшего или будущего. В пермансиве различения лиц, родов, чисел отмечаются посредством окончаний, которые суть не что иное, как сокращенные личные местоимения» (V. Scheil et С. Fosseу, — Grammaire Assyrienne, Paris, 1901, 2–re part. Chp. V, §§ 107–108. — Ср.: Joachim Μenant, — Expose des elements de la Grammaire Assyrienne, Paris, 1868, 1–re part., Ch. V, § 1 c, pp. 138–141). Этот–то вечный вид глагола и прилагается к обозначению действований горнего мира.
«Слово "простой" им. в наш. яз. такое множество значений, что его употреблять надо весьма осторожно, если хочешь быть ясным: простой значит: 1 — глупый; 2 — щедрый; 3 — откровенный; 4 — доверчивый; 5 — необразованный; 6 — прямой; 7 — наивный; 8 — грубый; 9 — не гордый; 10 — хоть и умный, да не хитрый. Изволь понять это словечко в точности! За это я его не люблю» (K. [H.] Леонтьев, — о Вл. Соловьеве и эстетике жизни; М., 1912. Пис. 1–е, от 24 янв. 1891 г., стр. 8). Ввиду этой многозначительности слова «простота» полезно конкретн. чертами пояснить его в его значении высшем, подвижническом. — Итак, кому присуща простота? — «бывает смирение от страха Божия и бывает смирение из любви к Богу: иной смиряется по страху Божию, другой — по радости. И смиренного по страху Божию сопровождают во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушенное сердце, а смиренного по радости сопровождает великая простота, сердце возрастающее и неудержимое» (Исаак Сир. — Сл. 89–е, а по изд. Фeoт. — 58–е. «Твор.», изд. 3, Серг. Пос., 1911, стр. 421). Простота — источник и корень чистоты. «Чистота есть забвение способов ведения через естество, заимствованных от естества в мире. А чтобы освободиться от них и стать вне их, вот сему предел: прийти ч–ку в первоначальную простоту и первоначальное незлобие естества своего и сделаться как бы младенцем, только без младенческих недостатков…. Авва Сисой пришел в меру сию так, что спрашивал ученика: «Ел я или не ел?» И другой некто из Отцев пришел в таковую простоту и почти в младенческую невинность, почему совершенно забывал все здешнее, так что стал бы и есть до Приобщения, если бы не препятствовали ему в том ученики; и как младенца приводили его ученики к Приобщению. Итак, для мира был он младенец, для Бога же — совершен душею» (id., сл. 21–е, по Феот. — 85–е, «Твор.», стр. 97).
Афанасий В., — К Серапиону еп. тмуйскому послание I, 26. S. Athаnasii Arich. Alexandr. Opera Omnia… opera et studio Monachorum Ordinis s. Benedicti, Parisiis, 1798, T. 12, p. 675.
Ср. И. В. Попов, — религиозн. идеал св. Афан. В. Серг. Пос., 1904 (= «Б. В.», 1903–1904). — Его же. — Конспект [593], стр. 153–168.
Два окружн. посл. св. Климента Римск. О девстве или К девственникам и девственницам. Посл. 1–е, гл. 5 («Тр. Киев. Дух. Ак.», 1869 г., Т. II, стр. 205). Впрочем, по латинск. перев. кардинала Виллекура, сделаняому с сирск. текста, конец этого места имеет иной смысл, а им.: «Nunc quae te sors beata in coelesti Jerusalem maneat, perpendisti?» (Mi gr., Т. 1, col. 390).
Исаак Сир., — Сл. 5, в р. п., изд. 2–е, 1893 г., стр. 37 (Феот. — 44–е, σσ. 275–276). Ср.: Сл. 9, стр. 54 (Феот. — Сл. 7, 656); Сл. 34, стр. 154, 155–156 (Феот. — Сл. 37, σσ. 235–236, 238–239); Сл. 57, стр. 294 (Феот. — Сл.57, σ. 77).
Напеч. курсивом представляет наименования различных явлениях икон Божией Матери. Прочие же величания Её взяты из церковных песнопений. — Иконы Б. М. описаны во мног. труд. Назовем нек. из них, заимствуя часть указаний из статьи: Сергий, Архиеп. Владим., — русская лит. об иконах Пресв. Богородицы («Странник» 1900 г., июнь–июль). — Архим. Иоанникий Голятовский, — Новое небо, с новыми звездами сотворенное, т. е. преблагословен. Дева Богородица с чудесами своими. Издавалась многократно, — в 1662, 1667, 1699 гг. — Гр. Свешников, — Описание явлений чудотворных икон Пресв. Богородицы, 1838. — Иер. Сергий, Казн. Тр. — Сер. Лав., — Изображение икон Пресв. Богородицы, 1848 г., 2–е изд., 1853 г. [продолжен. предыд.]. — С. И. Пономарев, — Алфавитный список икон Богоматери, изд. в «Паломник», 1889 г. — Архиеп. Димитрий, — Месяцеслов, 1893 и слл. гг. — Сказания о земной жизни Пресв. Богородицы, 1897, изд. 7–е, Пантел. Афон. мон. Тут прилож. «Церк. — Слав. и рус. лит. о Б. М.», с 1611 г. Список этот пополнялся в: П. С. Казанский, — Величие Пресв. Богородицы и Приснодевы Марии, 1845. — Его же, — Слава Пресв. Влад, нашея Бoгор. и Приснод. Марии, 1853 г.[прод. пред]. — Его же, — Благодеяния Богоматери роду хр–му чрез Ея святыя иконы, 1891 [прод. пред.]. — София Снессорева, — Земная жизнь Пресв. Богородицы, 1891. — Rohault de Fleur у, — La sainte Vierge, Paris, 1878, 2 vol.
Икона «умиления» замечательна тем, что на ней Б. М. изображена без Младенца и даже до Его зачатия, — в момент «Архангельского обрадования», т. е. как Пречистый Сосуд Духа Св. Пред нею у Преподобного Серафима было вожжено семь светильников, занимавших почти всю келлию, — а это опять знаменуем Духа Св. в Его семи дарах — семи высших духах. Вот знаменательный план келлии Преподобного, как его начертил Н. А. Мотовилов (С. Нилус, — Великое в малом, изд. 2–е, Царск. Село, 1905, «Служка Божией Матери и Серафимов», IV, стр. 110): А — Входная дверь в келлию, Б и В — окна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — большие подсвечники с зажженными свечами; 8 — столик и на нем икона Богородицы Радости всех Радостей; 9 — скамья, на которой спал Бaтюшка; 10 — камень, служивший ему изголовьем; 11 — изразцовая лежанка; 12 — сени, в кот. впоследствии стоял гроб Преподобного. — Мать Мотовилова, когда он был еще ребенком, водила его с собою в эту келлию. Однажды ребенок, пораженный обилием свеч, стал бегать и резвиться в келлии. Мать с упреком его остановила, но батюшка возразил: «С малюткой Ангел Божий играет, матушка! Как можно ребенка останавливать в его беспечных играх!.. Играй, играй, деточка! Христос с тобой!» (id., стр. 110–111). — О том, что Преп. заповедал называть икону «умиления» — «радостью всех радостей» [тут — сближение Б. М. с Утешителем, id., «Поездка в Саровскую пустынь», XVII, стр. 80.
'Επί σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα ή κτίσις, 'Αγγέλων τό σούστημα, καί άνθρώπων τό γένος… Έπι σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα ή κτίοις δόξα σοι» (Είρμολόγιον, έκδοσις 'Ιωάν. Νικολαϊδου, έν Άθήναις, 1906, σ. 208). 'Επι σοϊ χαίρει, т. е. Тобою радуется, Ты — источник и предмет радости: χαίρειν έηί τινι или έν τινι — радоваться чем или кем. Замечательно, далее, сближение «радования»и «облагодатствования», — это один глагол, χαίρω. Можно передать поэтому смысл так: «Тобою, Получившая Утешителя, получает Его тварь …». Πάσα ή κτίσις — целокупная тварь, тварь, как единый организм, но не «всякая». 'Αγγέλων τό σύστημα — словом, «собор» передается плохо, ибо «σούστημα — όλότης ή σώμα έκ πολλών μερών–μελών ή πρωσόπων συνισταμένον ή συντιθεμενον, «κόμσος» (Анфим. Гази [134l, Т. 3, στ. 529), — опять таки целокупность, а не сумма. Ανθρώπων τό γένος — род человеческий, как не что единое, prius каждого человека. Итак, все тварное бытие, как единое Существо, одухотворенное Носительницею Духа. — Ср. изображение «О Тебе радуется»: Дионисiй Фурноаграфиот, — Ерминия или наставление в живописном искусстве, 1701–1733 г. Пер. Порфирия, Еп. Чигиринск., Киев, 1868, стр. 155–156. Ч. 3, V, 11.
Когда в 1780–м г. юноше Прохору, впослед.· преп. Серафиму, во время болезни явилась Б. М., то она сказала, указывая перстом на Прохора, Иоанну Богослову. «Этот — нашего рода». Эти же слова были сказаны Ею и о друг. подвижнике, а им. о 80–ти лет. старце архим. Паисии, в Тр. — Сер. Лавре. Об этом расск. иером. Иоасаф в аноним. книге: «Житие старца Серафима, Саровской обители иером., пустынножителя и затворника», СПб, 1863. стр. 25 и прим. — Впрочем, эти случаи не исключит., можно было бы указать и иные.
Восклицание: «радуйся столпе девства — χαίρε ή στήλη τής παρθενίας» (Είρ. [631], σ. 205) находится в Акафисте Б. М., ик. 10, а туда внесено из Слова на благовещение Иоанна Златоуста (Макарьевск. Четьи Минеи, л. 602, 604, 616. — В русск. п. «Творений» Иоан. Зл., СПб., 1896, Т. II, 2, стр. 854–857 этого речения не находится.
Это — та правда о Б. М., которую огрубленно и орассудоченно выразили католики своим догматом immaculatae conceptionis. См.: Прот. А. Лебедев, — Разности церквей Вост. и Зап. в уч. о Пр. Дев Марии Бог., Т. I: О непорочном зачатии, СПБ., 1903, изд. 2–е.
Среди ликов ангелов изобрази «Бoгоматерь с распростертыми руками и напиши над нею: Матерь Божия Владычица ангелов» (Дион. Фурноаграф. [631], Ч. 41, стр. 233).
Николай Кавасила, — Изъяснение божеств. литургии, 38 («Писания свв. оо.» [327], Т. 3, стр. 385).
Дионисий Ареоп., — О божественных именах (Цит. по: R. de Flеury [629], Т. I, стр. X, § 12, рр. 237–238.
Никифор Каллист заимств. свое описание у Εпифания, — Письмо к Феофилу: об иконах. Перев. текста Епифания помещен в Вел. Чет. — Мин. Макария, изд. 1868 г., сент., стр. 363 и дал.
Вот поэтому признание или непризнание возгласа: «Пресвятая Богородице спаси нас!» определяет православность или неправославность умонастроения (стр. 358, ср. [638]. Известный H. Н. Неплюев, которого долгое время подозревали в протестантстве, высказывался вполне искренно, возмущаясь, что «этот возглас «спаси нас», обращенный к простой женщине, кажется ему кощунством». Да, это неизбежно было, есть и будет, когда Б. М. признается «простою женщиною». Но Она — Церковь, а протестантство Церковь–то и отвергает; в этом все дело.
Амвр. Мед., — О девственницах. О вдовицах. О девстве. О воспитании девы. Увещание к девству. О падении девы (Mi lat pr., Т. 16. — «Творения св. Амврос. Мед. по вопросу о девстве и браке, в рус. пер.», пер. с лат. А. Вознесенский, под ред. Л. Писарева, Казань, 1901).
А. С. Хомяков, — Опыт катехизического уч. о Церкви, § 9 («Собр. соч.», Прага, 1867 r., Т. 2, стр. 18).
Имею в виду применение имени Софии–Премудрости к двенадцати–летнему Иисусу Христу, поучающему во храме Иерусалимском (Ипатьевский складень. «Вестн. археол. и истор. издав. Археол. Инст.» 1885 г.. вып. IV, стр. 22, табл. V, 2) и к Иисусу Христу, раздающему св. хлеб и чашу (икона пинского князя Феодора Ив. Ярославича 1499–1522 г. «Археол. Вестник», Т. I, стр. 193. М. 1867). См. Н. Покровский, — «Евангелие в памятниках иконографии», Спб., 1892, стр. 375. — К числу исключительных вариантов относится и миниатюра из рукописи ΧΙΙ–го или, быть может, XI–го века «Психомахии» Пруденция, хранящаяся во дворцовой библиотек Святого Петра в Лионе.
Изображение, интересующее нас, помещено среди ряда аллегорических миниатюр. Оно представляет Иисуса Христа с крестчатым нимбом, сидящим в сегменте; лицо Господа, — приблизительно тридцати–летнего, — с бородою. Протянув обе руки, Он как бы передает: десницею книгу, а шуйцею — свиток. Около Него надпись крупными буквами: «SANCTA SOPHIA». По объяснению Дидрона, этот символ выражает полноту разумения, даваемого Премудростью, ибо тут представлены два наиболее употребительные вида манускрипта, — орудия Её, — а именно свиток и книга. По указанию Гюйома Дюрана (G. Durand, — Rat. div. offi. lib. I, cap. III), в руку пророков ветхозаветных вкладывается на изображениях свиток, в руку же евангелистов, как обладавших полным боговедением, а не образным, — книга, поскольку книга, более значительная по объему и способная вместить большее содержание, является атрибутом и совершенной мудрости. Впрочем, это указание западного символиста справедливо лишь отчасти, ибо известны случаи, когда пророки изображались с книгами и, наоборот, апостолы — со свитком.
Изображение разбираемой нами миниатюры см. в книге: М. Didron. — Iconographie chretienne. Histoire de Dieu. Paris, 1843, pp. 160–161; Fig. 50.
Eп. Виссарион [Нечаев], — Иконы и др. свящ. изображения в русск. Церкви (в сбор. «Духовная пища», изд. 2–е, М., 1891 г., стр. 284) называет эту Софью Холмогорскою.
«Жалобница благовещенского попа Селивестра» ([Бодянский], — Московские соборы на еретиков XVI в. в царств. Ивана Васильевича Грозного, М., 1847, стр. 20. Акты Археограф. Экспедиции, Т. I, стр. 248).
Толстой, стр. 241. — Арсеньев, стр. 263–264. — Филимонов, стр. 5–6. — Никольский, стр. 291. Тут описывается икона на переплет Новгородск. Синодика XVII в. — [Муравьев], — стр. 553–554 [702]. Еще я пользовался некоторыми иконами Софии Новгородской: в Успенском Соборе Свято–Троицкой Сергиевой Лавры (1–ый ярус иконостаса, 2–я икона справа от Царских врат); в Костромском Успенском Соборе (стенопись притвора, у входа, справа и на наружной Алтарной стене, — северной, что составляет замечательную особенность этого храма); в Церковном Музе при Моск. Дух. Академии; в боковом притворе Троицкого Собора Свято–Троицкой Сергиевой Лавры; в Московской Третьяковской галлерее (№ 54); — стенописью Московского Успенского Собора: в Церковном Музее при Киевской Дух. Акад. (№ 2570, в складне) и др.
Даль ([7], СПб., 1866, ч. I, стр. 384 = 3–е изд., т. 4, стлб. 606) дает объяснение иное. Он сближает слово тороки или тороци не с торока́ или тороко́ — ремешки позадь седла, для пристежки, — а с то́рок, что на архангельском наречии значит порыв, удар ветра, шквал, Отсюда у Даля получается, что «тороки и тороци, икнпсн. — ток божественного слуха, изображенный на иконах в виде излучистой струи, тока, лучей», хотя далее приводится и обычное значение для тόроки — тесемка, лента. Можно указать еще, что слово торженный или торченный (от торчать?) значит поднятый к верху, закрученный (напр. «усы торженыe»). (И. Ф. Наумов, — Дополнения и заметки к Толковому Словарю Даля. Прилож. к XXIV Т. Зап. Имп. Ак. Н. № 1, СПб, 1874, стр. 37).
Существует и иное понимание этих кругов. Согласно ему, «круги концентрические, или сферы в разрезе, которыми на древнейших иконах всегда окружен Спаситель, — символизировали сосредоточие всех Божеских свойств в Первородном, как то: премудрости, всемогущества, правосудия, милосердия, царской власти, силы, славы и др., представленных в вид кругов из одного центра описанных. А еще таковые свойства означались и тремя лучами около главы Его, с именем Божиим: «Сущий (ό·Ών)>. (Вас. Арсеньев [702], стр. 261).
Н. Покровский, — Евангелие в памятниках иконографии и искусства, изд. 2–е, СПб., 1892 г., стр. 374–375 — Его же, — Очерки памятников христианской иконографии и искусства, изд. 2–е, СПб., 1900 г., стр. 426–427, 433.
Такова икона Софии, находящаяся в Оптиной Пустыни в келлии у о. игумена М. Икона эта — тонкой, — италианской, по–видимому, — работы (сужу по технике письма и по надписям — греческим и славянским, которые сделаны настолько безграмотно, что показывают полное незнание этих языков иконописцем). — Нечто вроде этой иконы я видел еще в Тифлис. Церк. Муз. при Сионск. Соб., в Митроп. пок. Св. — Тр. Серг. Лав. и еще кое–где.
Так — на Киевской иконе; на описываемой же не все можно разобрать вследствие мелкости изображений.
[Свящ. Ал. Сулоцкий], — Описание краткое всех церквей, существующих в г. Тобольске, и пространное Тобольского Софийского Собора, М., 1852. В Тобольск. соб. имеется две иконы Софии, одна местная, другая — малая.
Подробн. у: Филимонова, стр. 20; Лебединцева, стр. 556 сл.; Орловского, стр. 50–52; Болховитинова, стр. 16 сл.; Толстого, стр. 458–460; Муравьева, стр. 553 [702].
А. И. Кирпичников, — Успение Божией Матери в легенде и в искусстве («Труды VI Археол. съезда в Одессе; 1884 г.», Одесса, 1888 г., стр. 227).
Из прилагаем. схемы можно увидеть эту пронизанность всего иконостаса Киево–Соф. Соб. апокалипсическим духом и, отсюда, убедиться в апокалипсическ. момент идеи и иконы Софии.
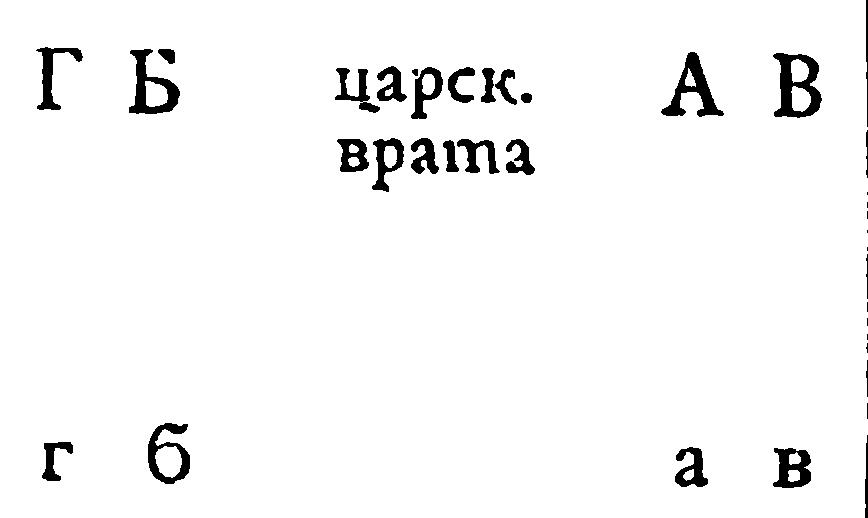
Иконы расположены так: А — ик. Спасителя. Б — ик. Божией Матери, с написью: «Предста Царица одесную меня», так что Б. М. отождествляется с «Невестою» Пс. 44 (по евр. счету — 45, 11). В — ик. Софии Премудрости. Г — Эммаусская группа и напись: «Ту есмь посреде их», т. е. опять загадочное свечение преображенной плоти. Но особый тон иконостасу дают в особен. медальоны, расположен. под перечислен. выше икон, и, к сожалению, неудобо–разглядываемые из–за решетки. а изображает восемь ангелов около жертвенника с пылающим пламенем. Один из них изливает пламя из амфоры на цепи, причем цепь обмотана около руки ангела; два другие ангела получают трубы из рук, протягивающихся из–за облака; наконец, пять остальных трубят в трубы; под иконою подпись: «И изыде дым кадильный молитвами святых от руки Ангела пред бога. Апокалипсис И». б им. подпись: «И даны быша Жене два крыла Орла великаго, да воспарит богу в пустыню. Апок. ДБ». На верху иконы представлена стоящею Жена с младенцем. Оба они простирают руки вверх, к левому углу композиции, где изображен свето–лучащий треугольник. Жена повернула голову направо, как бы молясь за стоящую вправо от неё Жену, стоящую на луне. У этой, второй, женск. фигуры на голове — корона, а на спине — ангельск. крылья. Руки её сложены молитвенно, а лицо обращено влево, либо к Жене с младенцем, либо к Треугольнику. В нижней части иконы расположены Архангел, вооружен. щитом и рыцарск. шлемом в страусовых перьях; в деснице его нечто вроде пламенных перун, которыми он поражает расположенного справа от него Семиглавого Зверя, выходящего из бездны. Под Архангелом — пространство, заполненное огнем, а справа, т. е. под зверем, — темные волны. Наконец, под сияющим Треугольником, Символом Троицы, над Архангелом помещено какое–то желтое (золотое?) изображение с вертикальн. надписью; но ни изобр., ни надписи мне не удалось разобрать, ибо мешала решетка перед иконою. М. б., дозволительно сделать предположение, что это — Иерусалим Горний. — Замечу кстати, что в Софийском Соборе имеется еще одно софийное изображение — стенопись над вратами оградки. А в Десятинной Церкви, в левом, — северном — пределе на царских вратах времени Петра Могилы — та же софийная икона богоматери, но без такой надписи и без окружающих фигур; это — упрощенная композиция Софии Киевской.
«Фигура Богоматери, изображенная в колоссальных размерах в конце нашей абсиды, стоит на подножии с воздетыми вверх руками, в том типе, который известен в христианской иконографии под именем оранты, а в сценах Вознесения, как образ церкви на земле. Эта двойная характеристика женской фигурки на сценах Вознесения констатируется и памятниками. Начиная со сцены на дверях церкви св. Сабины, где каждую фигуру в виде оранты венчают диадемой Апостолы Петр и Павел, в памятниках последующего времени, напр. в Сирийском Евангелии, видим ту же фигуру оранты. На сосуд города Монца (VI в.), над головой оранты изображен голубь, символически сливающий сцену Вознесения с Сошествием св. Духа, для более полного выражения торжества оставленной на земле церкви… В памятниках от IX по XI ст. по сторонам оранты встречаем иногда только двух Апостолов Петра и Павла, как представителей церкви ex gentibus и ex circumcisione, предстоящих по сторонам её, как символа церкви вообще (напр., на каменном кресте Новгородского храма). Как символ церкви, оранта отмечается и другими чертами: в миниатюрах Армянского Евангелия X ст. монастыря св. Лазаря, к оранте Петр и Павел благоговейно протягивают руки, покрытые плащами, как бы для принятия освящения. Часто также она стоит на возвышении, как и у нас и как находим в греческой рукописи Импер. Публ. Библ. № 105, в фресковой сцене Вознесения Старо–Ладожской церкви, нашего Собора и в др. Haряду со сценами, где эта фигура характеризована как церковь на земле, мы имеем примеры, где она характеризована как Мария. — Отсюда, следовательно, вообще в сценах Вознесения центральная фигура, так или иначе данная, содержит значение и церкви на земле, и Матери Божией, или лучше: образ церкви, конкретно данный в образе Марии» (Д. Айналов и E. Редин, — Киево–Софийский Собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи. СПБ., 1889, VII, стр. 39–40; разрядка моя). Этот образ Марии–оранты: возрождается и распространяется с 431–го года, т. е. с эфесского собора, «в силу роста почитания Богородицы». «Богородица молящаяся есть собственно Дева Мария, в то время как Мария с Младенцем есть образ Богоматери. Пречистая Дева почиталась как заступница царей — и вообще как «Дева, поднявшая за нас пречистые руки» (id., стр. 40 и далее). Итак. общий вывод таков: "изображение Марии в сцене Вознесения посреди 12 апостолов указывает на исторический факт основания церкви, и Мария, следовательно, является здесь со скрытым символическим значением образа церкви земной. Выделенная же, как отдельный и самостоятельный образ из сцены Вознесения, она приобретает более специальный характер, как Заступница, сохраняя однако и первоначальный свой смысл. В таком отношении к купольной композиции, как заступница пред лицем Христа Вседержителя, она и изображена в конце алтарной абсиды; в таком отношении она была изображена и в алтарной абсиде Новой базилики. Общего характера надпись, взятая из 45, 6 псалма Давида и выполненная мозаикой над образом Пречистой Девы нашего собора, по буквальному пониманию греческого текста, отнесена к Марии. Надпись уподобляет ее Небесному граду, из которого исшел Христос на спасение миру, и читается так: Ό θεός έν μέσω αυτής και ού σ'άλευθήσεται: βοηθήσει αυτή θεος ήμερα και ήμερα, т. е. Бог посреде Ея (его) и не подвижется; поможет Ей (ему) Бог день и день. В этой надписи устанавливается постоянное пребывание Бога посреди Её, как земной церкви, и выражается непрестанная помощь членам церкви, заступницей которых она является. Богородица изображена на золотом фоне. Лилового пурпура мафорий пышно спадает с плеч; иссиня лиловая стола подпоясана и дробится на множество складок. Одежды эти мы видим на Богородице очень рано: так одета она уже на дверях ц. св. Сабины. Мафорий отцвечен золотом, оторочен золотой тесьмой и бахромой; на челе и на плечах три белых креста, на поручах по золотому кресту…. На ногах Богородицы красные сапожки, усвоенные ей, как царице, по принятому в Византии обычаю, дозволявшему ношение богатой красной обуви лицам царского происхождения. Подножие, на котором стоит Богородица (σκάμνιον)י есть черта религиозного благоговения: посредством его образ уединяется и возвышается над остальными образами» (id., стр. 41–42).
Писатель XIV в., Конст. патр. Филофей, в духе учения св. Григория Паламы толкует Премудрость, как «общее действие единосущной и нераздельной Троицы». «Σοφία… ή κοινή τής όμοουσίον καί αδιαιρέτου Τριάδος, τής μιας φημι καί παντοδυνάμου καί άσυγχύτου Θεότητος, εστιν ένέργεια» (еписк. Арсений, — Филофея, патр. Конст. три речи к еп. Игнатию: с объяснением изречения притчей: Премудрость созда себе дом и проч. Греч. текст и рус. пер., Новгород, 1898, стр. 103, сл. ΙΙΙ, 3). Это толкование, в сущности, весьма недалеко от понимания Премудрости как Церкви.
На долю народа русского выпало редкое счастие получить хри–во тогда, когда еще почти не успели выразиться черты национального самоопределения. Хр–во не сталкивается тут ни с оформившимся учением, ни с богатым культом какой–либо иной религии; не находит укоренившихся нравственных привычек или государственных стремлений. Самый язык, еще незапятнанный и гибкий, доверчиво дает устроить из себя сосуд благодати. Одним словом, хр–во попадает в души младенческие, и все дальнейшее возрастание их, все внутреннее их устроение совершалось под прямым водительством Церкви. Весьма понятно, что народный дух, так сложившийся, не мог не быть существенно православным. Если же прибавить сюда еще природную мягкость русского характера, то станет вполне понятным, что православие должно было запечатлеться на этом воске со всеми особенностями той передачи, к которой предназначило Провидение первоучителя славян, духовного родителя русского народа, — св. равноапостольного Константина, в мон. Кирилла. — В чем же особенность его духовного склада? — Все житие его пронизано тонами софийными. Это не египетский или палестинский авва, в истощании своем нашедший свое спасение, а муж царственных богатств и пышности, житием своим благословляющий не отсечение, а преображение полноты бытия. Не резкий поворот от греха к чистоте характерен для подвига св. Константина, но благодатная непрерывность в его росте. Родитель его — знатный и богатый вельможа, по имени Лев, и мать его Мария жили благочестиво, исполняя все заповеди Божии. Константин, — имя царственное, — был седьмым сыном (7 — число Софии). Когда мать, по рождении, отдала его кормилице, чтобы та вскормила его, он никак не желал питаться чужим молоком, но — только молоком матери (благословение семейственности). С рождением Константина, родители его дали обет жить, как брат с сестрой, и так прожили чeтырнадцать (14 = 7 x 2) лет до самой смерти. Семи лет от роду Константин видел сон (мистическая чуткость) и рассказал его отцу и матери, а именно в след. словах: «Воевода, стратиг нашего города, собрал всех девиц нашего города и сказал мне: "Выбери себе из них кого хочешь на помощь и в сверстницы себе". Я, оглядев, посмотрел их всех и приметил одну, прекраснейшую всех, с лицом светящимся, украшенную многими золотыми монистами и жемчугом и украшениями; имя ей было София. Ее я избрал». родители поняли, что Господь дает отроку Деву Софию, т. е Премудрость, возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только книжному чтению, но и богоугодному добронравию — премудрости духовной. «Сын, — говорили они Константину словами Соломона, — чти Господа — и укрепишься; храни заповеди — и поживешь; словеса Божии напиши на скрижали своего сердца; нарцы Премудрость сестру тебe быти, Разум же знаем [т. е. близким, родным] сотвори тебе (Прт. 7 1–4). Премудрость сияет светлее солнца, и если ее будешь иметь своей помощницей, она избавит тебя от многого зла». Известно, какие успехи проявил сей отрок в учении, особенно в изучении св. Григория Богослова. Он изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию под руководством Льва и Фотия, из коих второй был патриархом Цареградским. Кроме того, он изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все светские науки и знал, кроме греческого языка, языки латинский, сирский и др. Он был прозван Философом. Хотя и воспитывался он при царском дворе, под личным наблюдением императора, однако он помнил о Подруге своей. Отказавшись от знатной, богатой и прекрасной невесты, он был возведен в иерейский сан и сделан библиотекарем при храм св. Софии. Вот от этого–то избранника Софии и получило начало свое русское православие. Удивительно ли, что Та, которая избрала Константина на просвещение народа русского и побудила его к этому подвигу, стала, особенно на первых порах, особой Покровительницей ново–просвещенного народа–младенца и что икона её возникла впервые именно здесь и стала народною святынею? Не удивительно и то, что храмы Успенские, Благовещенские и пр. первоначально были Софийскими и лишь впоследствии, — как мне неоднократно передавал свое убеждение † А. П. Голубцов, — были приурочены к моментам жизни богоматери. — О св. Конст–не см.: О. Бодянский, — Пространные или паннонские жития Константина Философа («Чт. в Имп. Общ. Ист. и Др. Рос.», 1863 г., кн. 2, стр. 1–224» 1864 г., кн. 2, стр. 225–398; 1873 г., кн. 1, стр. 399–534).
Покровский [680], — Ф. [И.] Буслаев, — Истор. очерки, СПб., 1861, Т.2, О мин. Углич. псалт. — Ε. [К.] Редин, — Античные боги (планеты) в лицевых рукописях сочинения Козьмы Индикоплова («Зап. клас. отд. Имп. Рус. Арх. О–ва», Т. 1, СПб., 1904 г., стр. 33–43). Тут поименовываются еще нек. олицетворения (Галгал, Иерихон, Гай, Гевол, Источник, гора Гемскахор, Ευρεσις, Φρόνησις, Μεγαλοψυχία и т. д.) и затем изучаются олицетворения планет: Луны, Солнца, Крона, Афродиты, Зевеса, Арриса и Ермиса.
А. П. Голубцов, — Соборные чиновники, 1–я пол. иссл., М., 1907 г., стр. 23, прим. — В «Сл. Соф.» [712], стр, 9, пес. 4, троп. 2: «Премудрость Божия, еже есть смотрения таинство всем человеком». В 9–м послании Дион. Ареоп. тоже толкует Премудрость, как Промысел.
Подр.: Голубцов, — id., стр. 21–24. Ср. «Сл. Соф.» [712], стр. 11, кан., пес. 6, конд.: «Видим чудотворную икону Премудрости Божия, Пречистыя Его Богоматере».
Умалчивают о значении Св. Софии, — вопросе столь естественном при описании храма, — и епископ VII–го века Аркульф, сказание которого сохранилось в записках Адамнана, и писатель половины IХ–го века Бернард Мудрый, и высокообразованный епископ Лиутпранд, посетивший Константинополь дважды, в 948–950 и 968–69–ых годах, и весь обширыый ряд писателей, тянущийся до конца ХII–го века. Ничего не говорят в своих записках о занимающем нас вопросе и те западные люди, которые явились с войсками, покорившими Царьград, в частности — и самый видный из них, подробно описавший взятие Константинополя Латинами — Вилльгардуэн. Северные путешественники, в записках которых есть любопытные показания о Константинополе, тоже не сообщают ничего об основной религиозной идее этого города. Так, аббат Николай, в своем Итинерарии, отделывается замечанием: «В Маклагарде есть церковь, называемая Agiosophia, а северными людьми Aegisit, и церковь эта по устройству и величин превосходнее всех церквей на земле» (Werlauff, — Symbolae, 10) — и только. В прибавлении к запискам его тоже ничего нет. Вот факты, пред которыми историку нельзя не остановиться с изумлением! Сведения эти заимствую из реферата: И. И. Срезневский, — Св. София Царьградская по опис. рус. паломника конца XII в. — «Тр. третьего арх. съезда в России, бывш. в Киеве в авг. 1874 г.», Киев, 1878 г., Т. 1, стр. 105–106). Срезневский гов., что он пересмотрел все описания, «какие только мог достать» (id., стр. 104).
Robert de Сlarу, — Li prologues de Constantinoble comment ele fu prise (по изд. гp. дe Pиaна, — Li estoires de chians qui conquisent Constantinoble de Robert de Clari en Aminois, Chevalier, s. a. p. 67 — по изд. K. Гопфа, — Chroniques Gréco–Romanes inedites ou peu connues, Berlin, 1873, p. 67. Пикардский текст описания Соф. Соб. и рус. пер. его наход. у Срезневского [699], стр. 107–108.
По учению Вл. Соловьева («Рос. и все. Ц.» [4] кн. 3–я, глл. ΙII–V, стр. 325–353, особ. см. стр. 326–327, 328, 331–332, 349), София — не только идеальн. личность Твари, но и «Субстанция Пресв. Троицы» (— не хотел ли С–ев сказать: «общая энергия» или «общая благодать»? —). Нет надобности разъяснять, как друг от друга далеко отстоят это учение об отдельной от Ипостасей Сущности Божией и правосл. учение Афанасия В., твердо стоящего на формуле έκ Πατρός, έκ ουσίας του Πατρός. рационализм С–ва обнаруживает себя именно в том, что для С–ва не живая Личность, не Ипостась и не само–обосновыйающееся Живое Триединство — начало и основание всего, а субстанция, из которой уже выявляются Ипостаси. Но эта субстанция в так. случ. не может не быть признана без–личною, а поэтому — вещною. Философия С–ва, тонко–рационалистическая по своей форме, неизбежно есть философия вещная по своему содержанию. То, о чем учит С–ев, несомненно примыкает к савеллианству, к спинозизму, к шеллингианству, по крайней мере в его первом фазисе. — Учение С–ва о Софии и о Мировой Душе (эти два Лица у него то отождествляются, то различаются) изложено в: Волжский [А. С. Глинка], — Проблема зла у Вл. С–ва («Вопр. религии», М., 1906, вып. 1–й, стр. 221–297). Лит. см. [4]. Сюда надо добав. еще: Кн. E. [H., Трубецко й, — Миросозерцание Вл. С. С–ева, М., 1913 г.; Э. А. Радлов, Вл. С–в, СПб., 1913 г. — С–в называет Дж. Пордеджа (1625–1698 гг.) «специалистом по Софии». Действ., не только по происх. своему его феософск. система софийна» но и по содерж. она гл. обр. посвящена Софии, если не прямо, то косвенно. Откровение, ему бывшее 21–го, 22–го и 23–го Июня 1675 г., описано им в небольш. соч., рус. рук. перев. кот., хранящийся у меня, озаглавлен: «София Вечная Дева Вечной Премудрости, открывшаяся Иоанну Пордечу». Феософское учение о Софии развито в особ. в «Бож. и ист. метаф.» [125], Т. 2, кн. 2, гл. 5, отд. 3, §5 44–58, стр. 202–213.
Подробности см. в Софийно–иконографической литературе. Ради удобства привожу библиографию её, хотя и неполную (звёздочками отмечены те книги или статьи, где имеются рисунки по Софийной инонографии): А. И. Никольский, — Статья в «Вестн. Археол. и ист., издаваем. Имп. Археол. Инст.», 1906 г., Вып. 17. (Мне не удалось видеть ее). — А. И. Успенский, — Иконопись в России до второй половины XVII вeка («Золотое руно», 1906 г. 7–8-9). — Е. К. Редин, — Материалы для византийской и древнерусской иконографии. I. София, Премудрость Божия. («Археологические Извeстия и Заметки». Т. 1, М. 1893). — Гр. М. [В.] Толстой, — Иконы Софии, — Премудрости Божией («Душеп. Чтен.» 1890 г., Ч. I, стр. 240–241, 458–460). — В. Арсеньев, — О Церковном иконописании («Душеп. Чтен.» 1890, Ч. I, стр. 263–265). — Свящ. Богословский, — Святая София в Великом Новгороде («Христ. Чтен.» 1877 г., Ч. I, стр. 188–189, 191, 201). — Гр. М. [В.] Толстой, — Письма из Киева («Душеп. Чтен.» 1870 г., Ч. II. «Извест. заметки», стр. 69–71). — Прот. Петр Орловский, — Святая София Киевская, ныне Киево–Софийский кафедральыый Собор, изд. 2–е, 1901 г. — Сахаров, — Исследования о русском иконописании, кн. 2. стр. 30–34. — П. Г. Лебединцев, — О св. Софии Киевской. («Tpyды III Археологического съезда в Киеве в 1874 г.», Т. I. Киев, 1878). — [Прот.] П. Л[ебединце]в, — София Премудрость Божия в иконографии Севера и Юга России («Киевск Старина», Т. 10, 1884 г., Сентябрь, стр. 555–567). — *Г. Д. Филимонов, — Очерки русской христианской иконографии. София Премудрость Божия («Вест. Общ. древне–русск. искусства при Моск. Публ. Музее». № 1–3, 1874 г., М., стр. 1–20). — «Сказание известно, что есть Софей премудрость Божия» и Сказание о Святой Софии в Цареграде (там же, «Материалы», стр. 1–17). — А. [П.] Голубцов, — Соборные Чиновники и особенности службы по ним, М., 1907 г., стр. 13–32 и далее. — *Н. [В.] Покровский, — Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских, СПб., 1892, стр. 374 сл. XXXV–XXXVI, 207 и др. — *Митр. Евгений Болховитинов, — Описание Киевософийского Собора и Киевской Иерархии, Киев 1825, стр. 16 и далее. — Ф. [И.] Буслаев, — Исторические Очерки русск. нар. словесн. и искусства, СПб., 1861 г., Т. 2, стр. 294–298. — Свящ. Константин Никольский, — Анафематствование, совершаемое в первую неделю Великого Поста, СПБ., 1879 г., приложение, стр. 291 сл. — Вл. С. Соловьев, — Идея человечества у Августа Конта, IX («Собр. Соч.» Т. 8, СПб., стр. 240–241). — *E. М. Кузьмин, — Икона со. Софии и объяснения её. «Вестник Теософии» 1909, I, стр. 1–3 [попытка истолковать Софию в духе теософии]. — Пр. Ф. И. Титов, — Слово в день рождества Пресвятой Богородицы. (Об истинной Премудрости божией — св. Софии и о заблуждениях современной теософии) («Труды Киевской Духовной Академии», 1910, Октябрь, 10, стр. Ι–VII) [против предыдущей статьи]. — Еписк. Виссарион, — «Иконы и другие священные изображения в русской церкви» (в сборник «Духовная Пища», изд. 2, Москва, 1891 г. стр. 284–286). — [А. Н. Муравьев], — Древности и символика Киево–Софийского собора («Прибавления и изданные творения святых отцев», ч. 18, М., 1859, стр. 553–554). — М. Didron, — Iconographie chretienne. Histoire de Dieu. Paris, 1843, pp. 160–161. Указание на дальнейшую библиографию можно найти в перечисленных здесь источниках.
Привожу лишь часть матер., нек. — по рук. Издано: «Сказ. известно» [702], стр. 1–5; «О образе — Софии Прем. Бож., списано с местного образа, что в Вел. Новгороде» (из ркп. Синод. Библ., содержащей в себе Толк. на Пс. Афан. Алекс., № 233). См: Буслаев, — Очерки [702], стр. 297–298; [А. В. Горский и К. И. Новоcтруев], — Опис. Рук. Син. библ., отд. 2, стр. 74; Никольский, — Анаф. [702]; Свящ. П. Флоренский, — Служба Софии [712J; М. Сменцовский, — Цер. — ист. мат. [712].
Иконостас Тр. — Сергиева Усп. Соб. [677]. Самый Собор освящ. 15 авг. 1585 г. Привед. текст списан мною неск. лет тому назад. Но во время последн. реставрации Собора икона подверглась обновлению и обложена ризою, закрывающею надпись, почти все древнее изображение и, сколько помнится, не вполне соответствующею этому изображению. В тексте введена пунктуация мною.
«Сборн. полем., канон, и истор. статей», хранящийся в библ. Моск. Дух. Ак. за № 10 (175) на лл. 199 06. — 201 всего тома, или лл. 82 об. — 84 дан. ркп., напис. скорописью.
«Апокал. толковый в лицах, толкование Андрея, Архиеп. Кесар.», напис. полу–уставом XVI ст., переходящ. в скоропись, хранится там же, под № 11 (16), — им. на л. 96 «Прибавл.»
«Книга Алфавит» напис. мелким полу–уставом XVII в. и хранящ. там же, под № 36 (230), лл. 232–251.
Дальн. сведен. — из «Опис. Слав, рукоп. библ. Св. — Тр. Серг. Лав.», М., 1878 г., ч. I, стр. 89–90; ч. III, стр. 214.
«Апок. толк. Андрея Кес. с приб.», л. 147 «Приб.», ркп. нап. полу–уст. XV в. и хран. в библ. Св. — Тр. Серг. Лав. за № 122 (1829).
«Сборник», пис. полу–уст. XVI в., там же Библ., № 788 (1649); на л. 220 «Слово св. Софии».
«Служба Софии Премудрости Божии». Издал [по ркп., принадл. Моск. Софийск. церкви, что на Лубянке] свящ. П. Флоренский. Св. — Тр. Серг. Лавра, лета 1823, стр. 42 (= «Бог. В.», 1912, № 2). — См. также: Еп. Виссарион, — Иконы [702] стр. 286, пр. 1. — Кем составлена служба Софии — неизвестно. В начале XVIII–го века она уже существовала. А около ноября 1707–го года братья Иоанникий и Софроний Лихуды исправили эту службу и вновь написали пролог, стихирь и канон в честь Софии. Митрополит Иов отправил эту работу справщику Московской типографии Федору Поликарпову «посмотреть и исправить, яко же лепотствует» (Строев, — Библ. словарь, стр. 190, 191; «Стран.» 1861, кн. I, стр. 125). Исправленное Лихудами «тропарь и кондак Софии, со изъявлением о образах и о соборной церкви в Нове граде и о создателех ея» — показаны в описи книг митр. Иова (Опис. Арх. Св. Син., Т. I, пр. VIII, стр. XCV). Между тем, новая служба не всем понравилась, и Иоанникий Лихуд написал ответ «о порицании новосочиненныя службы Софии, Премудрости Божией» (Опис. Арх. Св. Син., т. I, пр. VIII, стр. XCIII, XCIV). (Эти сведения заимствую из книги: Сменцовский, — Братья Лихуды, Спб., 1899, стр. 349–350). В сентябре 1708 г. Иоанникий Лихуд окончил новое сочинение — «Слово торжественное о Софии, Премудрости Божией». Оно представляет из себя отчасти историко–археологический, отчасти догматический трактат. Цель автора — объяснить, кто и когда построил Константинопольский «превеликий и пресловутый и достослышанный храм, сущий во имя Софии, Прем. Божией,… и кто оному сицевое… именование возложи, и чего ради Мудрости Бога и Отца огневидна, в крылех орлих и в венце и скипетре и в одежде церковней и в иных различных знамениях, — на престоле преукрашенна предася нам и на иконе пишется». Судя по заключению Слова, можно думать, что оно было произнесено с церковной кафедры, в качестве поучения. (М. Сменцовский, — Братья Лихуды, СПб., 1899, стр. 364–367. Тут же дается изложение Слова. Подлинный же текст его по рук. Моск. Рум. Муз. за № 244 напечатан в кн.: М. Сменцовский, — Церковно–исторические материалы. СПб., 1899, стр., 5–32). — Пользуюсь случаем выразить свою благодарн. Н. А. Туницкому за его указание на бр. Лихудов, как авторов службы Софии.
«Сл. Соф.» [712], кан. песнь 1, тр. 3: «Всем сердцем взыщем Премудрость Божию от Пречистыя Девы в плоть пришедшую» и др.
Здесь, более чем кого–либо, но совсем особняком, должно помянуть таинственную фигуру А. Н. Шмид.
Вл. Соловьев, — Идея человечества у Авг. Конта, IX («Собр. соч.», Т. 3, СПб., стр. 240–241). — В дополн. к сказ. ранее отметим, что окрыленность Предтечи знаменует, что «это лицо просветленное, вознесенное в горний лик Ангельский и, слeд., отрешенное от своего земного жития. Богородица с крыльями — точно также лицо, вознесенное в мир горний, стоящее вне земного круга исторических деяний» (Буслаев, [702], стр. 295).
Подробности и доказательства по вопр. о классич. словоупотребл. глаг. любви и их производн, см. в: J. H. Hein. Sсhmidt, — Synonimik d. griechischen Sprache, III, Lpz., 1879, n° 136, §§ 476–491; n° 134, §§ 463–471; n° 135, §§ 471–474. Еще — [725].
Bois. [12], 1–re liv., pp. 3–4, αγα-, et p. 6: αγαπάω. Тут же точн. цит на критиков Прелльвица.
Слова: «το φιλεΐσθαι άγαπάσθαι έστιν αύιον δί αυτόν», франц. переводч. переданы поср. оборота: «étre aime signifie étre cherie — pour son merite personnel», т. e. как раз обратно нашей передаче, хотя почти несомненно, что перев. хотел сказать то же, что и в наш. перев. См. «La Rhetorique d’Aristotel», grec–frangais, trad. nouv. par M. E. Gros, Paris, 1822, p. 155.
Нужно заметить, что я не прин. тут в расчет своеобразн. слово–употребления εράν, έρως и производн. у Платона, придавшего им гносеологический и онтологический моменты и более одухотворенное содержание. Для словоупотр. Платона см.: Fr. Astius, — Lexicon Platonicum, Lipsia, 1835, vol I, pp. 822–829, 830–831.
Подробн. и док. по вопр. о слово–употр. Библейск. глаг. любви и их произв. см : Cremer [17], G–te Aufl., Gotha, 1902, §§ 10–15, 15–19, 19–20, и С. Смирнов, — Филологические замечания о языке новозавeтн. в сличении с классич. при чтении Посл. ап. Павла к ефессянам, Μ, 1873, стр. 31–36. — А Concordance to the Greek Testament — edited by Rev. W. F. Moulton… and Rev. A. S. Geden — Sec. ed., Edinburgh, 1899, pp. 6–8, 990–991.
Если св. мистики не побоялись пользоваться словом, явно подвергшимся к тому времени осуждению чуть ни всего общества, то, значит, были очень веские внутренние побуждения к словоупотреблению столь смелому, и, значит, другого подходящего слова вовсе не находилось.
Слово αγάπη до последн. врем. авторитетные филологи определяли, как «vox solum biblica et ecclesiastica», «vox mere biblica», как «der Profan–Gräcität völlig fremd», «vox profanis ignota». Однако, новейшие открытия в области папирологии заставляют с большою степенью вероятности признать это слово за слово разговорного языка. Так, в письме некоего Дионисия к Птоломею, отысканном в архиве Серапеума (Pap. Раr. 49, 3) и относящемся ко времени между 164 и 158 до Р. X., содержится слово αγάπη (G. A. Deissmann, — Bibelstudien, Marburg 1895, S. 80. Тут же текст. — Его же, — Neue Bibelstudien, S. 27). Известен еще случай употребления его, относящийся к I в, до Р. X. (Его же, — Licht vom Osten, Das Neue Testament — Tübingen, 1909, SS. 48 и сл. 12 An. 5). Так. обр., если оно и относится к «άπαξ εύρημενα», то во всяк. случ. не из числа «άπαξ ειρημένα» (id. S. 48).
P. N. Land. Hagae Comitum, 1893, Vol. III, pp. 9. 14); id, — Annotata ad Ethicam, pp. 154–163.
Один такой роман описан у J. Воis, — Le Monde invis. [153]. Эта любовь изобр. в «Огнен. Ангеле» В. Брюсова и во мн. лит. и автобиогр. произв.
Св. Мефодий, — Пир десяти дев или о девстве («Полн. собр. твор.», пер. с греч. под ред. проф. Евгр. Ловягина, изд. 2–е, Спб., 1905) — [245].
Об агапах: П. Соколов, — Агапы или вечери любви в древне–хр. мире. Серг. Пос., 1906 г. — F. X. Kraus, — Real–Encyklopädie der christl. Alterthümer, Freiburg in Br., 1880, Bd, I, §§ 25–27. — H. Leclercq. — Agaре (в «Dict. d’archeol. сhr…. par. F. Cabrol [24], T. l, coll. 775–848). Прилож. иллюстр., изображ. агапическ. древности, и на coll. 845–848 обильн. библиогр). — Об остатках агап у грузин и армян: H. Маpр, След άγάπη у армян («Христ. Восток», Т. I, вып. I, Спб., 1912, стр. 41–42).
738 Это словопроизв. указыв., между проч., в «Фил. Зап.», 1888 г., стр. 2, матер. — О сомнительности его: Walde [19], S. 313; Cur. [12], S. 303; Прелльвиц же [12], S. 341, решит. отвергает его.
В новейшее время усиленно и неустанно выдвигал вперед существенную и непреложную важность для церк. жизни систематически–организован. братства — † H. Н. Неплюев. Как бы ни относиться к конкретн. осуществлению им «Трудового братства», нельзя отказать этому деятелю в заслуге оживления этого фундамента церковн. жизни. См. «Соч.» Неплюева; о нем — панегирический сборник: «Неплюев, подвижник земли русской. Венок на могилу». Серг. Пос., 1908, (= «Христианин», 1908 г.).
Несомн., что первоначально хр–во охранялось глубокою тайною, по внешн. своему положению уподобляясь мистериям. Таинства крещения, миропомазания, рукоположения и причащения; литургия, учение о Св. Троице, символ веры и молитва Господня — эти восемь тайн передавались одним только посвященным, и существовали многочисленные выражения для обозначения правила молчания о сих тайнах, а именно: έπίκρυψις σιωπή, άπροσηγορία, το κρύβδην, αδημοσίευτον, μυστήριον, γνώσις απόρρητα, μυστηριοκρυψία, δόγμα, τρόπος παιδείας, occultatio, reticentia sacrorum, silentium sacrum, arcanum и изобретенное в XVII веке Гебг. Феод. Гейером название, disciplina arcani (Augusti, — Handb. der christ. Archäologie. Lpz. 1836–1837, Bd. I, S. 93). Соблюдение тайны, свидетельствуемое целым рядом свидетельств, не было, однако, лишь доброхотною скромностью. Нет, церковные правила требовали от «со–мистов» или «сотаинников» — «συμμύσται» (Игнатий Бог., — Посл. к ефес. 12, 2, Funk [319], § 84), т. е. посвященных в тайны Церкви, строгого молчания, и даже видели в отсутствии этого последнего характерную черту еретических сообществ. Отчасти на почве этих правил произрос симв. язык древн. хр–ва, который назван у бл. Феодорита, писавшего в V–м веке, «κεκρυμμένος και μυστικός λόγος». На существенности для древн. хр–ва disciplinae arcani особенно настаивал † гр. А. С. Уваров, см.: гр. А. С. Уваров, — Христианская символика. Посм. изд., ч. I, М., 1908. — На стр. 3–7 — свид. и прав. относительно disc. arc. — Свид, такого же рода и лит. указ. см.: F. X. Kraus, [737] Bd. I, §§ 74–76, Art.: Peters, — Arcandisciplin…. Но, сверх этого, внешнего, и т. ск., грубого эсотеризма Церкви, есть в ней эсотеризм гораздо более тонкий. Это им. таинственность её жизни для всякого, в эту жизнь непосвященного, т. е. существование в ней особого устроения души, без коего ничто в Церкви не может быть правильно воспринимаемо и понимаемо, и кое передается лишь в цепи живого церковного предания. В этом смысле, если угодно, можно говорить о нек. аналогии церк. жизни древн. мистериям, гдe тоже давалось новое, совсем особое миро- и само–чувствие. На тему о внутр. отнош. мистерий и хр–ва кое–что в: Р. Штейнер [118]. Его же, — Путь к посвящению, Калуга, 1911. — Ed. Schure, — Sanctuaires d’Orient, 4–mе ed. Paris, 1907. — Его же, — Les grands initias, Paris, более 10–ти изд. Есть рус. пер. — «Великие посвященные». — G. Wоbbermin, — Religions–gesch. Studien zur Frage d. Beeinflussung des Urchistentums dur das antike Mysterienwesen, Berlin, 1896. — G. Anrich, — Das antike Mysterienwesen in seiner Einfluss auf das Christentum, Göttingen, 1894. — Fr. Cumont, — Die Mysterien des Mithra. Autor, deutsche Ausg. von G. Geurich, Lpz., 1903.
Ad. Trendelenburg, — Zur Gesch. des Wortes Person («Kantstudien», XIII, SS. 1–17). — R. Eisler, — Wörterbuch d. Philos. Begr. 3–te Aufl., Berlin, 1910, Bd. 2, SS. 989–993, «Person». — Stern [2 к 5]. —
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Text with erit. Apparatus, published by the Brit. and Foreign Bible Society, London, 1904, р. 27.
Двоица — число женское; поэтому «двое» образуют молекулу с женствен. восприимчивостью и мистическою податливостью, — как к хорошему, если они внимают Богу, так и к плохому, — если они обращаются к Диаволу. Но во всяк. случ. в двойствен. психологии, в противоположность психол. единичной или троичной, — активн., мужествен., — есть, несомн., какая–то особен. «мягкость», способность «впитывать в себя» нездeшние дуновения. Жизнь двоицы — это жизнь чувства, но без контроля разума. Один — воля, два — чувство, три — разум.
Об онтологическ. реальности и мист. значении Имени Иисус, см.: о. Иоанн Кронш., — Моя жизнь во Христе [45] (во многих мест.). — Добротолюбие, особ. Т. 5, раccужд. Каллиста и Игнатия Ксанфопулов. — Откров. расск. стран. [564]. — Из рассказов странника о благодатном действии молитвы Иисусовой. Изд. Оптиной пустыни. Серг. Пос., 1911. — Схим. Илapион, — На горах Кавказа. Изд. 3–е, Киево–Печерск. Лавры, Киев, 1912. — Иеросхим. Антоний (Булатович), — Апология веры во Имя Iисус, М., 1913. Изд. «Рел. — Фил. Библ». [Инок Павел Кусмарцев], — Мысли отцов церкви о Имени Божием. Материал к выяснению Афонского богосл. спора. СПб., 1913. — Материалы к спору о почитании Имени Божия. Вып. I. Изд. «Рел. Фил. Библ.», М., 1913. — Полемич. характера: Ф. Е. Мельников. — В тенетах ересей и проклятий. М., 1913. — «Церковн. Ведом.», XXVI–й г., 1913 г., № 20 (Синодское послание и статьи Арх. Никона, Антония и Е. Троицкого). — Остальная (ныне ставшая необозримой) лит., преимущ. газетная, имеет второстепенное значение. Еще: Еп. Феофан [258]; [20].
Petrus Bungus Bergomatus, — Numerorum Mysteria, Lutetiae Parisiorum, 1618. — А. И. Садов, — Знаменательные числа, Спб., 1909 (= «Христ. Чт.», 1909–1910 г.). (Тут же лит. вопроса). — Еще: бар. Д. О. Шеппинг, — Символика чисел. Воронеж, 1843 «= Фил. Зап.». — Нellenbасh, — Die Маgie der Zahlen, 1882. — L. Keller, — Die heiligen Zahlen u. die Symbolik d. Katakomben. Lpz. u. Jena, 1906, (= Vorträge u. Anfsätze aus d. Comenius–Ges., XIV, 2).
Taковою признают ее чуть не все толковники. Часть многочислен. попыток истолковать ее перечислена, как указ. Тренч, в кн.: Schreiter, — Explic. Parab. de improbo oeconomo, Lips., 1803. — На рус. яз.: Тренч, — Толкование притчей Господа наш. И. X., 2–е изд. Спб., 1888, притч. 25, стр. 356–378. — Филарет, Митр. Моск., — Слова и речи, Т. 3, собр. второе, 1861 г., стр. 362. — М. М. Tареев, — Осн. хр–ва, Т. 2, стр. 364–366 (= «Бог. В.», 1904, май, стр. 149–160). — Ив. П. Ювачев, — Тайны Царствия Небесного, Ч. 1, Спб, 1910 г. стр. 134–144. — О. Д. Дурново, — Так говорил Христос, изд. 2–е, испр. и доп. М., 1912, стр. 48–52, 270–271. — Есть еще исследования М. Д. Муретова и прот. Т. Буткевича.
Это уяснили у нас славянофилы, и по их следам пошли и нек. школьные богословы. Назовем наудачу: Ю. Ф. Самарин, — Иезуиты и их отнош. к России («Сочин.», Т. 6, М., 1887). — Еп. Сергий, — Прав. уч. о спас. [281].
Переживание бытия, как блага, есть зародыш онтологическ. доказат. бытия Божия, в наивной ли форм Ансельма Кент., или в утончен. аргументации Шеллинга (Philosophie d. Offenbarung, «Samtl.» 1858, Abth. II, Bd. 3, Введение). Эта же мысль составляет и основной узел жизнепонимания Ф. М. Достоевского. Поэтому существенно неоснователен ответ А–ра И. Введенского С. С. Глаголеву на защиту этим последним онтолог. аргумента. В том–то и дело, что «осуществившееся зло» менее реально, нежели неосуществившееся, реальность его призрачная, и своим «осуществлением» зло лишь удаляет себя из области бытия во тьму внешнюю (С. С. Глаголев, — Вера и знание, «Вера и разум», 1909 г., № 21. — А–р И. Введенский, — Логика [86], стр. 404, пр.).
«Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда — это очищенная в горниле времени ото всего случайного, просветленная художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность. «Легенда — живое предание, почти всегда более истинное, чем что мы называем историей», — по слову Авг. Тьерри. Легенда — это и есть история по преимуществу, ибо «поэзия ближе к философии и содержательнее, нежели история», как засвидетельствовал и трезвейший из философов, отец современной науки, Аристотель». (П. Флоренский, — Пращуры любомудрия, «Бог. В.», 1905 г., май).
Aug. Мommsen, — Athenae Christianae, Lipsiae, 1878, р. 185, adnot. 2. Тут же ссылка на Гельдриха (Heldricus).
Шестаков [262], стр. 151, 157, 187, 250 (= «Варш. Ун. Изв.», 1910 г.). № 10, № 4). «Список дан по Шестакову; имена же в скобках — по Мом.
Подбор соборн. постан. и мон. правил касат. необходимости для монахов быть всегда вдвоем в: A. Dad. Аltesеrrа, — Asceticon sive originum rei monasticae libri decem… rec. C. F. Glück, Hale 1782, lib. VI, cap. X, pp. 558–561. — Древн. иноч. уставы пр. Пахомия вел., св. Вас. Вел. и пр., собран. Еп. Феофаном, М., 1892. — Монашеский обычай ходить по–двое характерно выразился, между прочим, в следующем анекдоте, сообщаемом в одной из эпиграмм Конрада Цельтиса (IV, 53). с ссылкой заглавия на Альберта Великого: Двух монахов застигла гроза: одного молния будто бы испепелила, не тронув, однако, его плаща; у другого она сожгла плащ, но сам он остался невредим. Этот последний, не видя товарища, надел его плащ и рассказал в монастыре, что его спутник взят, по–видимому, живьем на небо (Г. Зенгер, — Критич. заметки к тексту эпиграмм Конр. Цельтиса, 96. — Ж. М. Η. П. н. с., Ч. XXXVI, 1911 г., ноябрь, отд. клас. фил., стр. 540).
Григ. Бог., — Сл. 11–е, говорен. брату Вас. В., св. Григ. Нис. — Mi gr., Т. 35, col. 831В. С. — Ср. с этим слова пр. Макс. Исп. «Другу верному ничего нет равноценного».
Гр. Бог., — увещат. посл. к Еллинию, о монахах, ст. 231–232. — Mi gr., Т. 37, col. 1468, v. 231–232.
Вас. В., — Правила обширно изложенные, 3. Отв. на вопр. о любви к ближнему. Mi gr., Т. 32, col. 917A и вообще вся гл., coll. 915С–917D.
Во избежание недоразумений считаю нелишним напомнить, что истинный предмет наших рассуждений — внутренняя жизнь, а не лингвистика. Вот почему, здесь, — равно как и во многих других местах, — делаются определенным тоном ссылки на этимологии, признаваемые сомнительными или, по меньшей мере, не окончательно выясненными. Лингвистические теории, для нас, — не аргументы в собственном смысле. (— Да и возможны ли вообще таковые в вопросах внутренней жизни? а если бы и были возможны, то нужны ли они, — там, где сама жизнь говорит красноречивее всяких аргументов? —). Но если они — не аргументы, то что же такое? — Конечно, своеобразные символы. При этом вовсе уж не так важно знать, насколько эти символы одобрены современными лингвистами; ведь переживания внутреннего опыта — для всех времен и народов, научные же мнения — дело текучей и изменчивой моды, постоянной нисколько не более, чем мода на дамские шляпы или рукава. А если скромность не дозволяет слишком отставать от того, чего в данную минуту держится весь свет, то само–охранение тем менее может допустить суетную бeготню за «последним криком» моды, — как дамской, на шляпы, так и мужской, на веяния науки. Итак, если некоторая символика идет к нашей ближайшей задаче, то мы позволим себе не тревожиться, что скажут на нее лингвисты.
Мало того. Опираясь на величайший из авторитетов в философии, — на авторитет Платона, — мы не затруднились бы, по его примеру, сослаться на такие положения языко–знания, которые нами же в свое время и на своем мeстe были или будут опровергаемы: философия, — хотя и Ancilla Theologiae, — однако не Ancilla scientiarum; в отношении к науке она — Domina. Философия язык творит, — не изучает. Скажем прямо: по ставшему классическим выражению Вильг. Гумбольдта, язык — не неподвижная вещь, не έργον, а вечно–живая деятельность, ένέργεια. Слово непрерывно созидается, и в том — самая суть его. Следовательно, слово есть то, чем дарует ему быть творец языка, — поэт или философ. «Внешняя форма слова», т. е. его фонема вместе с морфемою, существует ради души его, — семемы, — и вне её — не слово, а только физический процесс: семема — лишь считается до известной степени с внешнею формою, но — далеко не раба её. — Объяснимся примером. Неужели поэту возбранено облекать свои творческие замыслы в одежду еще непризнанных или уже устарелых естественно–научных терминов и теорий? «Материнское сердце — вещун». Сказав так, неужели мы обязаны боязливо озираться на теорию эмоций Джемса–Ланге и хлопотать у неё об оправдании? Или: неужели выражение «духовная атмосфера была насыщена электричеством» ждет своего суда от физика?
Так — и философ, — больше из вежливости, чем всерьез, прислушивающийся к поучениям лингвиста. Но, если для спокойствия читателя непременно требуется суждение «от науки», то, насколько мы в силах, удовлетворим его, — хотя бы приемом Sacchari albi в облатке (— «Непременно через 1/2 часа после еды!» —):
Русское слово прiятель бывало производимо некоторыми от глагола действительного залога прiяти с корнем иму и настоящим временем прiемлю (см. Этимологический словарь Рейфа). Толкование слова «приятель» как «приемлющий» не чуждо, по–видимому, богослужебным книгам, — хотя бы в виде игры слов. Так, в стих. на литии в праздн. рожд. Пр. Богop. поется: «Мати и дева, и приятелище Божие», а в стих. на стих. («сл. и н.») на тот же день Она именуется «Храм святый, Божества приятелище». Впр., решительно утверждать, что тут есть сближение понятий: «принявшая в себя Бога» и «друг Божий», — не приходится. Но впоследствии глагол прiяти, лежащий в основе слова прiятель, был признан за глагол особый, — хотя и с созвучным корнем иму, а именно за глагол среднего залога и с настоящим временем прiяю (при–ia–iу). От него и происходить все гнездо слов, родственных также по смыслу разбираемому слову, а именно (по недостатку в типографии букв с надстрочными знаками многие слова набраны неправильно): польск. przyjac, sprzyac, przyja–je, — ciel; чешск. präti, priti, preji; румынск. prii, prieten, preten (= amicus) и др., — ср. с санскр. pri, pri–nati, prij–a (любезный друг), — ajate, praj–as, (любовЬ), pri–ti–s, ргe–tar-, pri–jamana; зендск. fry–a; готфск. frij–on, frij–ond–s; др. верхн. — нем. fri–unt, fri–u–dil; лит. pri–e- tel–is; нем. Freund, frei, — en, Frei–her (жених), Frei–tag (== Veneris dies) и т. д. См.: Шимкевич, [10] стр. 26–27: «прiять». Горяев, [6] стр. 280–281: «приятель».
«Tanto nostri [sc. М. Minucii Felicis] semper amore flagraverit [Octavius], ut et in ludicris, et seriis pari mecum voluntate concineret, eadem vellet vel nollet. Crederes unam mentem in duobus fuisse divisam» (M и h. Фел., — Октавий, I, II, Mi lat. pr. T. 3, col. 233 А, и вообще см. всю главу I, ср. col. 232–234).
«Nec enim possent in amicitia tam iideli cohoercre, nisi esset in utroque mens una, eadem cogitatio, par voluntas, aequa sententia» (Лакт., — О смерти преследователей, 8. Lucii Coleii Lactantii Firmiani Opera Omnia, ed. Io. Ludolph. Bünemann. Halae, 1765. T. 2, p. 234, 1).
Apистот. — риторика, II 8 (Aristotelis Opera, ed. Acad. Reg. Borussica. Vol. 2, Berolini 1831. pp. 1385–1386). — La Rhet. d’Arist. [724], pp. 286–295.
Театр Еврипида. Пер. И. Ф. Анненского, Т. I, СПб. [1907], стр. 351–412: «Геракл». Весьма интересный анализ этой трагедии см. там же, стр. 415–448, «Миф и трагедия Геракла», особенно стр. 442–447.
Иоанн Злат., — На 1–ое Посл. к ефес. Сл. II 439. — (Mi gr., Т. 62, col. 406). И вообще см. всю 3–ю и 4–ую части этого слова (coll. 402–406), посвященные восхвалению дружбы.
C. Нилус, — Жатва жизни. Пшеница и плевелы («Троицкая народная беседа», кн. 46–я). Св. Троице–Серг. Лавра, 1908, стр. 30.
Ср. «Добродетель действует с величием ради законов, фанатизм — ради своего идеала, любовь — ради своего предмета. Из первой категории выбираем мы себе законодателей, судей, царей, из второй — героев, а только из третьей — своих друзей. Первых мы уважаем, вторым удивляемся, а третьих — любим» (Шиллeр, — Письма о Дон Карлосе, Письмо XI. «Собр. соч.» в пер. рус. пис., под ред. С. А. Венгерова, СПБ., 1902, Т. 4).
Шиллер, Дон–Карлос, 2 действ., 2 вых., перев. М. Достоевского (id., 1901, Т. 2, стр. 105).
Плат., — Лизис., 221Е [37], р. 554: «υμείς άρ εϊ φίλοι έστον άλληλοις, φύσει πη έσθ' υμϊν αύτοις — если вы друзья друг другу, то вы свои друг другу по природе» id. 222А, р. 554: «τό μέν δή φύσει οίκεϊον αναγκαίον ήμΐν πέφανται φιλεϊν — по природе свое необходимо бывает в дружбе».
О разнице этих терминов см.: А[-р И.] Введенский, — Опыты постр. теории материи на принципах критич. философии, Ч. 1, СПб., 1888, стр. 36–39. — Его же, — предисл. к «Размышл.» Декарта, стр. XLV прим. — Г. [И.] Челпанов, — Проблема восприятия пространства, Ч. 2, Киев, 1904, стр. 134–137.
М. Мaeterlinck, — Le Tresor des Humbles, 24–me 6d. Paris 1901, «La bonte invisible», pp. 236–237. Текст слегка изменен.
Ради колоритности заимствую текст этого повеств. из редчайшего «Алфавитного Патерика», печатан. в Супрасльской типографии в 1791 г. и носящ. полн. загл.: «Собрание словес и дeании преподобных отец скитских, яже обретаются в патерицех по–алфавиту», знамение 10, глава 33. — Экземпляр этого наиболее полного из всех существующих патериков имеется в Библ. Моск. Д. Ак. (Гор. 4151).
Приведем — частично — литературу по вопросу о братотворении и побратимстве: H. А. Начов, — За побратимство («Периодическо списание», година десета, 1895 г., кн. 49–50, 51; 1896 г., кн. 52–53) (тут же литер, вопроса). — Еще: Прот. Конст. [Т.] Никольский, — О службах рус.Церкви,бывших в прежн. печати, богосл. книгах. СПб., 1885. (На стр. 370–388 — «чин о братотворении»; в прилож. даны чины братотв. из разн. требников). — J. Goar, — Euchologion graecum. Lutetiae Parisiorum 1647·σσ. 898–900; ακολουθία εις άδελφοποίησιν. — A. [C.] Павлов, — 50–я глава Кормчей книги, как ист. и практ. ист. рус. брач. права. М., 1887. III, 1, стр. 187–190. — Его же, — Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. Статья 165, стр. 310–313: запрещение братотворения и мотивы этого запрета. — Свящ. М. [И.] Горчаков, — О тайне супружества. Происх., ист. — юр. знач. и кан. дост. 50–й главы печатной Кормчей книги. СПб., 1880. — [А. В. Горский и К. И. Невоструев], — Описание славянск рукоп. Моск. Син. библ. (кн. богосл.). Отд. III, Ч. 1, М. 1869. № 371, стр. 128, № 377, стр. 206. — † E. [E.] Голубинский, — Ист. рус. Церкви, Т. I, 2. Период перв., М., 1881. Гл. V, отд. 2, стр. 398 и доп. на стр. 784. — Сказание о блаженном Петре, царевиче ордынском. Одна редакция этого трогат. сказ. носит загл.: «Житие святого отца Кирила, архиепископа Ростовского, како ходи в татарове с честию, како явися святая Богородица с младенцем и святым Николою и святым Дмитрием великомучеником, како явистася отроку». Она находится в Сборн. (под № 854 в 4 д.) Каз. Дух. Ак. и напеч. в «Прав. Соб.», 1859 г., Ч. 1, стр. 360–376 (Ν. В. стр. 371–372). Относится ко времени «не позже XVI в.» — Другая редакция, под з.: «Житие блаженного Петра, братанича царева Беркина. Како прииде во страх Божий и умилився душею и пришед из орды в Ростов крестився и како видение виде святых апостол Петра и Павла на поли. Идеже ныне церковь стоит святых апостол Петра и Павла», — помещена в Сборн. XVII в. житии святых, принадл. проф. В. И. Григоровичу (см. «Прав. Соб.», id., стр. 357, прим.). — А–др Н. Веселовский, — Гетеризм, побратимство и кумовство в купальной обрядности («ЖМНП», 1894, февраль. Т. 291, стр. 287–318). Тут приводятся обильные библиографическия справки. — Вruckner, — Ueber pobratimstvo bei Polen und Russen im XVI. Jahrh. (Archiv f. slavische Philologie, — herausg. von V. Jagic. 1893, Bd XV. SS. 314–315: kleine Mitteilungen). — Древние перечни знаменитых в древности пар братеев–друзей, Древние перечни знаменитых в древности пар братьев–друзей, φιλάδελφοι, и товарищей–друзей, φιλέταιροι, см. в: Παραδοξόγραφοι. Scriptores rerum mirabilium graeci, ed. Ant. Westermann, Brunsvigae–Londini, 1839, p. 219–220 sqq.
Типично интеллигентские суждения о ревности слышим от интеллигента из интеллигентов — В. Г. Белинского. «Сердцем Алеко одолевает ревность… говорит он. — Эта страсть свойственна или людям по самой натуре эгоистическим, или людям неразвитым нравственно Человек нравственно–развитой, любит спокойно, уверенно, потому что уважает предмет любви своей (любовь без уважения для него невозможна). Охлаждение [«любимого предмета»] заставит его страдать, потому что любящее сердце не может не страдать при потере любимого сердца; но он не будет ревновать. Ревновать, без достаточного основания, есть болезнь людей ничтожных, которые не уважают ни самих себя, ни своих прав на привязанность любимого ими предмета; в ней высказывается мелкая тирания существа, стоящего на степени животного эгоизма. Такая ревность невозможна для человека нравственно развитого; но таким же точно образом невозможна для него ревность на достаточном основании: ибо такая ревность непременно предполагает мучения подозрительности, оскорбления и жажды мщения …» и т. д., и т. д., и все это резонерство пересыпано: «если бы человек», «существо нравственно развитое», «человеческое достоинство» и т. п. (В. Г. Белинский, — Сочинения А. Пушкина [о «Цыганах»]. «Соч.», Т. 8, стр. 458 слл.).
Fr. Kirchner, Wörterbuch d. Philosophischen Grundbegriffe, 3–te Aufl., Lpz., 1897, S. 106: Eifersucht.
Привед. афор. цит. по: Н. Макаров, — Энциклопедия ума, или словарь избран. мыслей авторов всех народов и всех веков, СПб., 1877, стр. 271–272.
id., pars III, Propp. XXXIII–XXXVIII, pp. 150–154. — Б. Спиноза, — Этика, изложена в геометрическом порядке, пер. с лат. Н. А. Иванцова, М., 1892. — Ср. излож. у Куно Фишера, — Ист. Нов. Филос., Т. II, СПб., 1906, стр. 444–445.
Фр. Ницше, — Мысли и наброски к несвоевременному размышлению Мы филологи. Из посмертн. произ. 1874–1875 г. Пер. П. Рутковского II, 3. 103 («Полн. Собр. Соч.», «Моск. Книгоизд.», Т. 2,1909 г., стр. 302).
Горяев [6], стр. 296: рвение; стр. 297: ревнив — Даль [7], Т. 3, стлб. 1666–1667: ревнивец; пол. 1667: ревновать.
Boisacq [12] 4–me livr., р. 309, тут приведены нек. из этимологий. Еще: Cur. [12], 4–te Aufl. Lpz., 1873, SS. 380–381, n. 567.
[О. К. Штейнберг], — русско–еврейский словарь, СПб., 1860, изд. Мин. Н. Пр., стр. 737.
Определение непрерывного, данное в современной математике Г. Кантором (G. Cantor, — Fondements d’une theorie generale des ensembles. «Acta Mathem.», 1883, 2:4, pp. 405–406) и представляющее его как совокупность точечных элементов, идет рука об руку с современным стремлением всюду вводить понятие прерывности. Так, электричество уже разложено на неделимые электроны; «гипотеза квант» (М. Планк и А. Пуанкарэ, — Новейшие теории в термодинамике. Пер. С. А. Алексеева, СПб., 1913, «Physice») пытается сделать нечто подобное для теплоты; сделана попытка возобновить «теорию истечения», т. е. и свет раздробить на своего рода атомы. Наконец, нельзя не упомянуть о попытке о. Серапиона Машкина́ понять пространство и время как сложенные из конечных, далее неделимых элементов. — Самое же определение непрерывного у Кантора в настоящее время выросло в обширную «Continuumproblem», входить в контроверсы которой здесь нет ни возможности, ни нужды.
О Зеноновских антиномиях см. между проч.: Тannerу, — Le concept. scientifique du continu («Rev. philos.», 1885, № 10). — Именно на этих антиномиях, как преодоление их, зиждется вся филос. система о. Серапиона.
Полной библиографии по учен. о бесконечн. не имеется, кое–что указано в: Vivanti, — Lista bibliografia della teoria degli aggregati 1893–1899 («Bibliotheca mathematica», 31, 1900, p. 160), где названо 70 статей и книг; — L. Couturat, — De l'Infini Mathématique, Paris, 1896, pp. 657–660; — «Encyclopädie d. Math. Wissensch.», Lpz., 1898–1904, Bd. 11, SS. 184 ff. — Кроме многочисленных трудов основоположника совр. уч. об акт. беcк. Г. Кантора (Grundl. einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre, Lpz. 1883; — статьи в «Math. An.» Bdd. 46, 49; важнейшие статьи из др. журн. собраны в «Acta Math.», 1883, 21), след. назвать в особ.: Кilling, — Ueber transfiniten Zahlen («Math. An», Bd. 48); — Veronese, — Intorno ad alcune osservazioni sui segmenti infiniti e infenitesimali attuali (id., Bd. 47); — Lindelöf («Comptes Rendus», 1903(2), 37); — Evellin, — Infini et Quantité. Etude sur le concept de l’infini en philos. et dans les Sciences, Paris. 1880; — Ger. Hessenberg, — Grundbegriffe der Mengenlehre, Göttingen, 1906 (Sonderabdr. aus den «Abhandl. der Fries’schen Schule», Bd. 1, Hft. 4). — Его же, — Das Unendliche in die Mathematik (id. Bd. 1, Hft. 3). — E. Zermelo, — Beweis, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann («Math. An.», Bd. 59,1904, SS. 514–516). — Arth. Schoenflies, — Die Entwickelung d. Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten («Jahresbericht d. Deutschen Mathematiker–Vereinigung», Lpz., 1900, Bd. 8, Hft. 2). — Couturat (см. выше). — Borel, [856]. — На рус. яз.: И. [И.] Жегалкин, — Трансфинитные числа, М., 1907. — H. Weber и S. Wellstein, — Энциклопедия элементарн. математики, пер. с нем. под ред. В. Когана, изд. «Mathesis», Т. 1, Одесса, 1907. — А. Пуанкаре, — Наука и метод [208]. — А. В. Васильев, — Введ. в анализ, вып. II., изд. H. Н. Иовлева, Казань, 1908. — Флор. [1]. — «Нов. идеи в матем.», Сб. № 1, изд. «Образ.», СПБ., 1913. — Больцано [208].
Н. Poincare, — La Science et l'Hypothese, pp. 20 s. Есть р.п. — Подобно сему Ж. Таннри утверждает, что «в понятии о целом числе содержится уже понятие о бесконечности» (Ж. Таннри, — Чистая математика. «Метод в науках», пер. со 2–го фр. изд. И. С. Юшкевича и И. К. Брусиловского, изд. «Образование», СПб., 1911, стр. 35).
Con. Gutberlet, — Das Problem d. Unendlichen («Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kr.», Bd. 88, 1886. S. 215).
Этот экскурс — сокр. отрыв. из «О симв. беск.» [1]. — В доп. указ. [44] работ по ист. пон. о беск. укаж.: Tаnnеrу, — Hist. du concept de l'infini au IV siecle («Rev. philos.», XIV, 618).
Cout., — Pr. d. М., [211], р. 16, со ссылкою на статью Кэрроля, помещен. в «Mind», 1905, апр. и июль, рр. 293, 400.
Общедост. излож. теории синевы неба см. в: Дж. Тиндаль, — роль воображения в развитии естественных наук. Пер. Ф. Павленкова, Вятка, 1873 («речи и статьи», М., 1875). — Его же, — Пыль и болезни (Дж. Тиндаль, — Очерки из естеств. наук, с пред. и прим. Гельмгольца, пер. с нем. О. Бобылева, П. Гезехуса, Н. Егорова и др., СПб., 1876, стр. 1–62).
Р. Дедекинд, — Непрерывность и иррациональные числа [1872]. Пер. с нем. с прим. С. О. Шатуновского. Одесса, изд. «Mathesis». Изд. 2–е, 1909 г., — с присоед. статьи «Док. сущ. транец. чисел». — Weber и. Wellstein [844]. — Васильев [844], $$ 18–31. — Ж. Таннери, — Введение в теорию функций одного переменного, 1913 (франц. 1–е изд. стал библиогр. редк.). — Его же, — Курс теоретич. и практич. арифметики. Пер. А. А. Котляревского под ред. Д. Л. Волковского, М., 1913. — М. Волков, — Эволюция понятия о числе. СПб., 1899. — Ф. Клейн, — Вопросы элементарной и высшей математики, Ч. 1, Одесса, 1912, пер. под ред. В. Когана, изд. «Mathesis», стр. 47–56. — F. Klein — Anwendung d. Differential- u. Intergralrechnung auf die Geometrie. Eine Revision d. Principien, Lpz. 1901, 2–te Ausg. 1907. — A. Фосс, — О сущности математики. Пер. 1. В. Яшунский. СПБ., 1911. Изд. «Physice». — Ch. du Meray, — Nouv. Precis d'Analyse infini tésim. Paris, 1872 (он называет основной ряд «сходящеюся вариантою», а равные ряды — «эквивалентными». — G. Cantor, — Ueb. die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie d. trigon. Reihen («Mat. An», Bd. 5). — Pasсh, — Einl. in d. Dif. u. Int. — rechn., Lpz. 1882.— B. Russel, — Principies of math., 1902. — Heine, — Die Elemente d. Functionenlehre («Crelle’s Journ.», Bd. 74). — Теория Вейерштрасса не изложена им в ориг. трудах; изл. её: Kоrsаk, — Die Elemented. Arithmetik, Berlin, 1872. — Dini, — Grundl. für eine Theorie d. Fuktionen, Halle, 1880; 2–te Aufl., 1898 A. Pringsheim,— Irrationalzahlen и. Konvergenz unendlicher Processe («Enc. d. Math. Wis.» Lpz. 1898–1904, Bd. 11, SS. 47 ff.). — P. Natоrp, — Die logischen Grundlagen d. exakten Wissenschaften, Lpz. 1910. — O. Stolz и. I. A. Gmeiner, — Theoretische Arithmetik, Lpz. 1902. — Соut., — Inf. Mat. [844].
N. H. Abel, — Note sur un memoire de M. L. Olivier ayant pour titre «Remarque sur les series infinies …» («Oeuvres compl.» de N. H. Abel, nouv. éd. par L. Sylov et S. Lie, Т. 1, p. 399–402). Абель доказывает, что признак сходимости не м. б. дан в вид равенства. — [Н. В.] Бугаев, — Сходимость беск. рядов по их внешн. виду, М., 1863. — Его же, — Введ. в анализ и диф. исч. лит. лек., изд. 2–е, [М.], 1898, стр. 143–144. — L. Euler, — De Infinities infinitis gradibus («Acta Petrop.», 1778). — P. du Bois–Reymοnd, — Die allgemeine Funktionentheorie, Tübingen, 1882. — E. Воre1, — Legons sur la theorie des Fonctions, Paris, 1898. — Eго же, — Lec. s. les Fonctions entieres, P., 1900. — Eго же, — L. s. l. series divergantes, P., 1901. — Его же, — L. s. l. series a termes positifs, rec. et red. par R. d’Adhemar, P., 1902. — Его же, L. s. l. Fonctions meromorphes. — H. Парфентьев, — Иcслед–ия по теории роста функции, Казань, 1910 г.
Из немногих попыток в эт. напр., да и то только в отнош. иррациональностей, — мне известны: попытка Соломона Маймона (о нем см.: Б. Яковенко, — Философск. концепция Сол. Маймона, «Вопр. фил. и псих.», 1912, кн. 114 (IV) и 115 (V);затeм: Вenno Kerry, — System einer Theorie d. Grenzbegriffe. Eine Beitrag zur Erkenntnisstheorie. Erst. Theil, her. von G. Kohn, Lpz. u. Wien, 1890. Посмертн. соч., 2–я часть не выходила, — К. Жаков, — Основы эволюционной теории познания (лимитизм). СПБ., 1912. (Автор расходится с основн. теч. совр. матем.). — Свящ. П. Флоренский, — Пределы гносеологии, Серг. Пос., 1913 (= «Бог. В.», 1913 г., янв.). Пользуются понятием предела и новейшие трансценденталисты, но, к удивлению, далеко не в тех размерах, в каких могли бы воспользоваться, не только не нарушая, но даже укрепляя основные линии своих построений.
Фома Акв., — Summa. I. q. XLVII, a. 2с; Contra Gent., 92; Qq. dispp., De Ver., q. XII, a. 13 ad 3.
Nuntius Signоriello, — Lexicon peripateticum philosophico–theologicum in quo scholasticorum distinctiones et effata principua explicantur. Ed. novissima, locupletior atque emendatior. Neapoli, 1906, litt. G, II, pp. 150–151. Цит. [858, 859] — оттуда же.
Фома Акв., — In lib. I Sent., Dist. XXIV q. I, а 1 sol. (Sign. [860], litt. U, VI, p. 371).
Suar, — Disput. metaphys., sect. 9, num. 9. Цит. по: Соrnоldi, — Thesaurus Philosophorum, 1891, U. V. II, 70, p. 156.
Уже по написании этого экскурса я нашел собрание цитат на ту же тему о Времени–Разрушителе, — «Tempo Destruttore», — у Лапшина [28], стр. 562–564.
Миклошич сравнивает слово «вре–мя», старо–слав. вре–мя, с *vert–men от врет–е-ти, как коловорот, с чем можно было бы сблизить пре–врат–н-ый, о времени. Бругманн тоже сравнив. слово время с санскр. vart–man — Bahn, подвиг — и отсюда же производить нем. werd–en, Gegen–wаrt — настоящ. время (Гор. [6], стр. 57). — Микуцкий ([9], Вып. II, стр. 58) приводит сравнение интересующего нас слова с литовск. wоrá — вереница, длинный ряд идущих, движущихся предметов, собств. ход, шествие — и объясняет время — как движение, течение. «Время измеряется движением, и само оно представлялось (казалось) нашим праотцам беcпрерывным, беcконечным движением, течением» (id., стр. 58).
И. Соломоновский, — Материал для словопроизводствен, словаря, 7, прим., д. («Фил. Зап.», г. 27–й, 1888, стр. 5). — По указ. Потебни ([882], стр. 156) польск. rок — «судебный срок и год», сербск. рок — «срок».
Гор. [6], стр. 301. — Чешск, rok — «разговор, то что определено, условлено договором, между проч. срок, определенное время, год» (А. А. Потебня, — О доле и сродных с нею существах, I. «Древности. Тр. Моск. Археол. О–ва», М., 1865, Т. 1, стр. 156). Несколько иначе, чем сделано в тексте наш. кн., рассуждает о слове «рок» Потебня: значение для «рок» — fatum «могло образоваться из зн. решение (пол. wyrock, чеш. vyrok), в частности решение верховного существа. Однако нет оснований предпочесть это объяснение тому, кот. посредствует идеи судьбы и изречения идеей времени, «указаний на зависимость доли от времени, особенно от времени рождения, довольно [далее идут примеры]… зависимость участи от времени может быть легко примирена с верованиями в долю, как живое существо. Время рождения виною, почему человеку посылается та или другая доля» (id., стр. 156–157). Но что такое Доля в народн. понимании? — Потебня, указав на возможность двоякого разумения Доли: как олицетворения и как мифического существа, склоняется ко второму решению (id., стр. 164–168) и устанавливает связь Доли с другими мифическими существами, ей сродными. (id. стр. 168 слл.).
W. F. Otto, — Genius (Paulys Real–Encyklopädie der classischen Alterthumswissenschaft. Neue Bearb., herausg. v. G. Vissowa и W. Kroll, Stuttgart, 1910. Bd. VII, 1, coll. 1155–1170). — Preller–Jorda n, — Rоm. Myt. 3 Aus., Bd. I, SS. 76 ff. — Roscher, — Lex., Bd. I, S. 1613 ff. и т. д.
(Bd. I, 2, SS. 764–765).·— Еще см. любой курс по теор. вероятн.: Лаплас, — Опыт философии теории вероятностей. Пер. A. J. В., под ред. А. К. Власова, М., 1908. — А. К. Власов, — Теория вероятностей. М., 1909. — [Л. К.] Лахтин, — Теория вероятностей. М., 1902. Лит. — П. А. Некрасов, — Теор. вероятн., изд. 2–е, СПБ., 1912. — Роincare [208], chp. XI. — и т. д. Джевонс [211] глл. XII, XVI и XVII. — Милль, — Логика [179], кн. III, и т. д.
На мысли о суждениях с коэффициeнтом вероятности особенно настаивает П. А. Некрасов [182].
П. Стоян, — Пути к Истине, социально–философский очерк, СПб., май, 1908, ч. 1, § 15, стр. 34 — На стр. 35–36 дается пример применения этих характеристик к частн. сужд.
Величина нравственного ожидания и возможных приращений α, β, γ,… ценности а измеряется функцией h==(а+α) р(а+β)q(а+γ) r… — а, где p, q, r,… суть вероятности получения этих приращений (D. Вernoulli, — Specimen Theoriae Novae de Mensura sortis, Petrop. Comm. 5 (1738) и нов. изд., нем., Lpz., 1896. — Laplасe, — Thdorie analyt. des probabilitds, Paris, 1812, 1814, 1820. «Oevr.», T. 7, стр. X).
Джев. [217], кн. IV, гл. XXVI, стр. 548. — «Паскаль замечает, что нужно было бы счесть безрассудным того, кто не согласился бы отдать себя на смерть, если три игральный кости дадут 6 двадцать раз сряду, а если этого не случится, то он получит корону; но так как шанс смерти в этом вопросе есть только 1: 660, или единица, деленная на число, состоящее из ряда в 47 цифр, то можно сказать, что мы каждый день подвергаемся большему риску смерти при игре в крокет» (Джев. [211], стр. 206–207). Подобную же мысль о необходимости, при всякой деятельности, каких–то сверх–рассудочных движений воли высказывает Дж. Локк. «Не that will not eat, till he has Demonstration that it will nourith him; he that will not stir, till he infallibly knows the Business he goes about will succeed, will have little elfe to do, but sit still and perish — кто не станет есть, пока не получит доказательства, что эта пища будет ему питательна, и кто не станет действовать, пока не узнает наверное, что задуманное им пред приятие будет успешно, тому остается только бездействовать и погибнуть.» (J. Locke. — Essai conceming Human Understanding. Ed., London, 1768, Vol. II. Book IV, Chap. XIV, § 1 p. 271). — А между тем вопросы веры — не какие–нибудь вопросы, а существенно–необходимые для самой жизни нашей. Мы вынуждены выбрать либо веру, либо неверие, — пока живы.
id. 6 ad 7. [913 – 919], займ. из: Bähr, — Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg 1837, Bd. I, SS. 303–311, 316–340 и H. Lesétre, — Couleurs («Dict. d. la Bible.» par F. Vigouroux. Paris, 1899, T. 2, coll. 1069–1071) По принятой у католиков символике цветов, «белый знаменует невинность, радость или простоту. Голубой (blue) указывает небесное созерцание. Красный провозглашает любовь, страдание, могущество, справедливость. Прозрачный (cristalline) дает идею беспорочной чистоты и ясности. Зеленый говорит о надежде, или о нетленной юности, или о созерцательной жизни. Золотой ставится для небесной славы. Желтый означает испытание страданием, также завистью. Бурый или серый — цвет смирения. Фиолетовый выражает молчание или созерцание. Черный — краска скорби, смерти или покоя. Пурпурный — символ королевского или епископского сана». (Rev. М. С. Nieuwbarn, О. Р., — Church symbolism. А Treatise on the general symbolism and iconography of the roman catholic church Edifice. Translated from the dutch — by the Rv. John Waterreus, London, 1910, pp. 140).
О. Вейнингер, — Последние слова. Пер. А. Грен и Б. Ц. Изд. «Сфинкс» [s. 1. et а.]. Метафизика, стр. 143.
Дж. Рескин, — Прогулки по Флоренции. Заметки о христиан. искус. Пер. А. Герцык, СПб, 1902, SS. 110–145, стр. 136–146. — Точно также, на изображении «Семи таинств» Рогер фон дер Вейдена ангелы написаны в одеждах символических видов. Так, напр., Ангел в таинстве благословения (миропомазания) — в зеленой (надежда), покаяния — в огненно–красной (искупление), священства — в фиолетовой (духовный сан), брака — в голубой (доверие и верность) и т. д. (Nieuwbam, — id. [919], р. 141).
П. Муратов, — Образы Италии, М., 1911, Т. I, стр. 134–135, — изображ. описываем. свода, к сожал. не красочное, см. в «Словаре» Каброля [24], 1907, Т. 12, «Astres», col. 3019, Lig. 1050.
Frédéric Portal, — Des Couleurs symboliques dans l'antiquité, le moyen–age et les temps modernes, Paris, 1837, 312 рр. — Его же, — Les Symboles des Egyptiens, comparés a ceux des Hebreux. Paris, 1840, 148 pp. Chp. III, Application aux symboles des couleurs, pp. 109–124.
Платон, — Тимей 67C-68D. — M. Sartоrius, — Plato und die Malerei («Arch. f. Gesch. d. Philos.», Bd. IX, N. F. II. Bd. SS. 123–148).
Walth. Кranz, — Die ältesten Farbenlehren d. Griechen («Hermes», 1912, I, XLVII, SS. 126–140).
Leonardo da Vinсi, — Trattato della pittura, 254 (цит. по Э. Mаx, — Анализ ощущений, пер. с 5–го нем. изд. Г. Кутлера, изд. 2–е, М., 1908, IV, 6, стр. 72. — Тут же точн. ссылки).
W. Göthe, — Zur Farbenlehre, 6–te Abth. Sinnlich–sittlich Wirkung d. Farbe (Goethe’s Sam. Wer. in vierzig B–de. Stuttgart u. Tübingen, 1840, Bd. 37) §§ 765–777, SS. 251–254.
Л. Геннинг, в первый раз в летн. семестр 1823 г., читал в Берлинск. унив. публичную лекцию «Об учении Гете о цветах с точки зрения натур–философии» (Куно Фишер, — Ист. нов. филос. Т. 81. СПб, 1902, стр. 162).
Joh. Müller, — Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes, VIII. Fragmente zur Farbenlehre, insbesondere zur Goetheschen Farbenlehre, Lpz., 1826, S. 395 ff.
Шопенгауэр, — О зрении и цветах. — Его же, — Парерга, II, гл. VII, к учению о цветах. — Подробн. излож. см. в: К. Фишер, — Арт. Шопенгауэр, пер. с нем. под ред. В. И. Преображенского, М., 1896, стр. 191–202.
Фр. Гегель, — Курс эстетики или наука изящного. Пер. Вас. Модестова. М. 1859. Третье отделение, первая часть, II, 2, стр. 137–139. (= Werke, Bd. X). Его же, — Энциклопедия философских наук в очерке (1817 г.), §§ 317–320. (= Werke, Bd. VII, Abth. I, SS. 3, 7). — Изложение: К. Фишер, — Ист. нов. филос.. Т. 81, СПБ., 1901, стр. 620–626).
По вопросу о символике драгоценных камней литература указывается в трудах И. Геминиана [974], Менцеля [971], Бэра [913], Патканова [968], Levesque [970I и др. — Из других авторов в особен. надо указать на Плиния Старшего (Ест. ист.), Исидора Испанского (Mi lat. ТТ. 82, 83), Еще: Д. О. Шeппинг, — Символика драгоценных камней («Древности», Труды Моск. Арх. О–ва, М., 1865 г., Т. I., стр. 135–152). — Изборник Святослава (Буслаев, — Истор. христоматия, стр. 263). — М–me Felicie (d'Ауzас, — Symbolique des pierres précieuses, Paris, 1846. — Grasse, — Symbolik d. Edelsteine (в сборнике: Ромберг, — Die Wissenschaft der XIX Jahrhundert). — Me1anges Archeologiques, Paris, 1851, II, IV. — И. П. Ювачeв, — Тайны цар.[749], ч. I, стр. 225–231: «Яспис и сардиос» (автор пытается доказать, что под (Библейск. ясписом должно разуметь алмаз, а под сардием — рубин).
Так: сапфир и рубин в группе корунда; разные виды циркона; топаз и аквамарин; гранаты — буровато–красные, кровяно–красные, ярко–красные, желтые, зеленые, черные, белые; всевозможные виды кварца: черный хрусталь, дымчат. топаз, аметист, яшма, гелиотроп, халцедон, карнеол, агат и т. д., и т. д.
C. W. Кing, — The natural History, ancient and modern of precious stones and germs, and of the precious metals, London, 1865, p. 195. Цит. по: K. П. Патканов, — Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям армян в XVII веке, СПБ., 1873, стр. 14.
С. Plinius Secundus, — Hisorae naturalis IX, 41. Ed. ex. rec. J. Harduini, Parisiis, 1723, T. 1, p. 527. — «Eas gemmas Magorum vanitas resistere ebrietati promittit, et inde appelatos» (id. XXXVII, 40, T. 2, p. 784). — То же: Marbodeus, — Lib. de lapidib. pret. 4; Albertus Magnus, — Lib. 2 de miner., p. 228: «(ameth.) operatur autem contra ebrietatem, ut dicit Aaron, et facit vigilem» (id., T. 2. p. 784, прим. 14).
E. Levesque, — Pierre precieuse, IV, 19 (статья в «Dictionnai de la Bible», publie par F. Vigouroux, Paris, 1908, Fasc. ХХХII, col. 426).
О так. употреблении ляпис–лазури см.: Wolfg. Menzel, — Christliche Symbolik, Regensburg, 1854, Erster Theil, S. 135 со ссылками на: Ritter, — Vorhalle, 133, Вeckmann, — Gesch. d. Erfindungen, III, 184.
Joannes S. Geminianus, — Summa de exemplis et rerum similitudinibus locupletissima — post omnes alias editiones diligenti cura aucta a Magistro D. Aegidio Gravatio. Antverpiae, 1630. Lib. II, сар. VI, fol 123v. — Вот подлинные слова Геминиана: «Contemplatio assimilatur saphyro. — Primum propter aspectum coloris. Est enimsaphyrus gemma caerulea coelo sereno in colore simillima. Similiter contemplativi viri habent colorem, id est conversationem serenam & caelestem, secundum illud Phil. (4) Nostra conversatio in coelis est. Supra firmamentum, quod erat imminens capiti eorum, quasi aspectus lapidi sau[p?]hyri. — Secundo, propter excessum valoris» etc.
id., id. fol. 123 v. — r.: «Item centemplatio coelestium assimilatur Zimeth, id est venae terrae, de qua fit laturium. — Primo, ratione coloris. Quia lapis hic est tanto melior, quanto colori coelesti similior. Et habet quaedam corpuscula, quasi aurea intersecta: Ita contemplativi viri, tanto sunt meliores, quanto coelestibus civibus sunt in contemplatione, & conservatione similiores. Unde virginitas coniugio praefertur, quia incorruptioni vitae coelestis similius conformatur (Luc. 20). In resurrectione neque nubent, neque nubentur, sed erunt sicut Angeli Dei in coelo. Secundo …», etc. — Добавим еще, что, по указанию папы Иннокентия III в его послании к Ричарду, королю английскому, «небесный цвет сапфира указывает на надежду нашу, обращенную к небесам, напротив белизна берилла, подобная цвету воды, когда в ней отражаются солнечные лучи, олицетворяет Священное Писание, проникнутое мудростию Божественного Слова» (Д. О. Шеппинг, — Символика драгоценных камней [966], стр. 139, со ссылкою, кроме вышеупомянутого послания, еще на J. Brunon. Astens. Praefat. in lib. sup. Apocal.). — Еще о сапфире см. у И. Геминиана, id. fol. 128 [в книге опечатка — 123) v. — r, 135 r.
С. Нилус, — Свидетельство живой веры, III. Видение одного послушника (С. Нилус, — Сила Божия и немощь человеческая, Серг. Пос. 1908, стр. 264).
Еп. Игнатий Брянчанинов, — Сочинения, Т. 3, стр. 13–15; Т. 4, стр. 277–278; Т. I, стр. 108–109, 118.
id., Феос., стр. 154–158. — Великолепные цветные изображения аур и дальнейшие подробности можно видеть в: Аnnie Вesant and C. W. Leadbeater, — Thought–Forms, London and Benares, 1905. — Ethel M. Mallet, — First Steps in Theosophy, London, 1905; — также: Leadbeater, — Man Visible and Invisible.
Вяч. [И.] Ивaнов, — Покров (Вяч. Иванов, — Соr аrdens, 1911, отд. «Повечерие», стр. 77. — Вот, кстати, один из беcчислен. примеров «странного» совпадения «случайностей»: числа 7, 77 и т. д. — числа Софии, а стихи о Ней оказываются на 77–й стр.
Иеросхим. Парфений «однажды, размышляя с некот. сомнением о читанном им где–то, что Пресв. Дева была первою инокинею на земле, задремал, и видит от святых врат Лавры идущую, в сопровождении многочисленного сонма иноков, величественную монахиню в мантии, с жезлом в руках. Приблизившись к нему, Она сказала: «Парфений, я монахиня!» Он пробудился и с той поры с сердечным убеждетем именовал Пр. Богородицу Пещеро–Лаврскою Игуменьей» («Сказание» [531], стр. 26).
id., стр. 106. — Удивительную параллель к приведенному случаю находим в словах бл. Нила: «Если кто желает видеть обновление — κατάστασις — своего ума, — утверждает бл. Нил, — пусть лишит себя всех помыслов и тогда увидит себя подобным сапфиру или небесной краске». Эти слова сообщает св. Григорий Палама (Mi gr., Т. 150, col. 1083. — Еп. Алексий, — Византийские церковные мистики 14–го века, Казань, 1906, стр. 45).
Цветное воспроизведение Нерушимой Стены по рис. Ф. Г. Солнцева см. в: Древности российского Государства. Киево–Софийский Собор. Изд. Имп. рус. Арх. О–ва. Табл. 3.
Такова икона, принадл. Церк. Музею при Моск. Дух. Ак. — В восполнение всего сказанного приведем еще свидетельство исследователя католической символики. «Цвета Её, — говорит он о Божией Матери, — имеют свой символический смысл. В изображении увенчания Она одета в очень пышные одежды, и при этом из того же материала, как и её божественный Сын. В изображении Благовещения Она носит как «Прислужница Господа» простую красную и голубую одежду. Как Царица Небесная — Она облечена в лазурь, нередко усеянную золотыми звездами, или одета в королевскую мантию из пурпурной или золотой парчи, розовокрасный изображает зарю, предшествующую восходу Солнца Правды. Зеленый в завесах и нижней одежде, именно в изображениях Благовещения, говорит об ожидании народов, а незапятнанный белый указывает Деву дев» (Nieuwbam [1019], рр. 113–114).
L. F. Lelut, — De l’amulette de Pascal («C. R. Acad. d. Sc. Mor. et Pol.», Т. VI, 1844, pp. 453–476, Paris, 1846 — Еще, его же, — L’abime imaginaire de Pascal (id. VIII, p. 139).
Если не изменяет память, — это: Sully Prudhomme, — La vraie religion selon Pascal. Paris, 1905.
A. C. Хомяков, — Полн. собр. соч., Т. 2, изд. 5–е, М., 1907 г., стр. 543, прим. издателя к стр. 147. — С. С. Глаголев, — Из чтений о религии, Св. Тр. — Серг. Лавра, 1905, стр. 222, 233–235.
E. A. Sophocles, — Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. New York, 1885; p. 185.
Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, — Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης, έκδοτε υπό 'Ανδρέου Κορομηλα. Εν Άδήναις, 1852, σ. 123.
'Ανθιμος ό Γάζης, — Λεξικόν ελληνικόν. 'Εκδοσις πρώτη. Τόμος πρώτος. 'Εν Βενετία, 1809, στ. 446.
M. Fabius Quintilianus, — Institutio oratoria VII, 10, 2. Сравн. VII, 115 и VII, 7, 1. — Это сочинение относится к 93–95–м годам.
Бл. Августин, — риторика, 11. — Сочинение, это относится к последней четверти IV–го в. (Rhetores lat. min. ed. Halm, p. 137–151).
Codex Justinianus, lib. 1, tit. 17 constit. 1 § 8 (Krüger, — Corpus juris civilis, ed. stereot., II, 1877.
C. Jul. Viсtоr, — Ars rhetorica, 3, 11. (Rhet. lat. min. ed. Halm, p. 373–448). — Hermоg. 15, 3. 56, 4. Rhetores graeci. — Hierосl. — C. A. 42, 2 (Gaisford's Stobaeus, II). — P1ut. II, 741 D (Парижск. изд. 1624 г.). Примечания [1015–1 018] составлены, кроме у помяну тых выше [1011, 1012, 1018] словарей, на основании статьи Ленерта в Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobomenensis. Vol. II, Fasc. 1, Lipsiae, 1901, col. 170, «Antin.».
«άντινομικός, — ό άνήκων εις (περιέχων) άντι· νομίαν, αντιφατικός» (Σκαρλάτου του Βυζαντίου Λεξικόν, о. 123); «άντινομικός — οποίος ανήκει εις τήν αντινομίαν» (Άνθίμου Γάζη Λεξικόν, στ. 446); «άντινομικός — pertaining to άντινόμία (Плутарх, II, 741D, по парижскому изданию 1624 г.); άντινομικώς, adv. by αντινομία (Argum. Dem. Androt. 592)» (Sophocles, — Lexicon, р. 185).
Fr. Astius, — Lexicon Platonicum, Lipsiae, 1835, Vol. I. — Herrn. Вοnitz, — Index Aristotelicus, Berolini, 1870.
Напр, у Корнольди [48 а] и у Синьориелло [860]; нет также в: P1exiасus, — Lexicon philosophicum, Hagae Comitis, 1716.
Rud. Eucken, — Geschichte d. philosophischen Terminologie, Lpz. 1879. — На эту книгу ссылается Эйслер (Wort. d. philos. Begr., 3 te Aufl. Berlin, 1910, Bd. 1, S. 62), но я не нашел этой ссылки у Эйслера.
По Канту, антиномии — это «Widerstreit der Gesetze der reinen Vernunft» (Kp. ч. раз., В., S. 440, Kherbach — S. 340), «противоречия, в которых необходимо запутывается разум при своем стремлении мыслить безусловное, противоречия разума с самим собою» (id.). — Для уяснения Кантовского понятия антиномии, кроме «Кр. ч. р.» весьма важно еще его соч. на премию «Какие действительные успехи сделала метафизика в Германии со времени Лейбница и Вольфа?», пер. Н. [О.] Лосского («Труды С. Пет. Филос. О–ва», Вып. VI, СПб., 1910). —
[125]. Сюда надо добавить: свящ. К. Н. Аггeев, — Хр–во и его отношение к благоустроению земной жизни, Киев, 1909 и отзывы об этой кннге проф. В. Экземплярского и В. Завитневича («Извлечение из журналов Совета Киев. Дух. Ак.». за 1909–1910 уч. г. Киев, 1910, стр. 243–272).
D–r Adrien Рeladаn, — Anatomie homologique. La triple dualite du corps humain et la Polarite des organs splanchniques. Paris. Изложение по: G. Encausse–Papus, — L'Anatomie philosophique et ses divisions. Paris, 1894, pp. 107–111.
Burt. G. Wilder, — Polarité pathologique, ou ce qui a ete appelé symetrie dans les maladie. — Эта работа вышла первоначально в 1866 г. на англ. яз., в Америке, а затем франц. пер. её был приложен к книге Пеладана [1031]. (Encausse, id., pp. 113–114).
D–r Fоltz, — l'Homologie des membres pilviens et thoraciques de Thomme («Journ. de physiologie» de Brown Sequard, 1863, № 21, janv., et № 24, juil.; «Bulletin de la Societé des conferences anatomiques de Lyon», 1866, 1872 bis, 1873 bis, 1874). — Экстракт этих работ у Encausse, id., pp. 89–107.
Péladan [1031], p. 127 (= Encausse, id., p. 112). — Прекрасные изображения Нейф в так. положении см. напр. в: C. L. F. Раnckoucke, — Description de l'Egypte ou recueil des observations et des recherches qui out éte faites en Egypte pendant l'Expedition de l'armee francaise. 2–me id., Antiquite. Paris, 1822· T. 2, Pl. 82; Т. I, Pl 96, 1; Т. I, Pl. 10, 1.
Вот почему учение о Троичности должно быть, а полу–сознательно — часто бывало, основанием философствования. «Учение о Св. Троице не потому только привлекает мой ум, что является как высшее средоточие всех святых истин, нам откровением сообщенных, — писал 2–го окт. 1852 г. А. И. Кошелеву И. В. Киреевский, — но и потому еще, что, занимаясь сочинением о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит, в первом начале своем, от того понятия, которое мы имеем о Пресв. Троице» (Н. А. Елагин, — Материалы для биографии И. В. Киреевского «Полн. собр. соч. И. В. Киреевского в двух томах», под ред. М. Гершензона. «Путь», М.. 1912, Т. 1, стр. 74). Шеллингова «Философия откровения» — вот одна из немногих попыток осуществить философствование на сознат. принятом догм. Троичности. Философствование о. Серапиона Машкина — другая. (далее скан неразборчив).
(Начало сноски неразборчиво)… ное обоснование этого утверждения, отметим пока тот примечательный факт, что глубочайшие философы, особенно на вершинах своих размышлений, всегда тяготели к спекуляциям над числами; напомним хотя бы имена Пифагора, Платона, Плотина, Ямвлиха, Прокла, Августина, Ник. Кузанского, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, В. Соловьева и т. д., не говоря уже о мистиках всех стран и народов. См. [747].
Не обременяя книги библиографией эт. вопр., я считаю своим долгом отметить одну, весьма достойную внимания историка, книгу мыслителя богато и всесторонне одаренного и беcплодно погибшего; это им.: Н. [А.] Гулак [-Артемовcкий], — Опыт геометрии о четырех измерениях. Геометрия синтетическая. Тифлис, 1877, 150 стр.
Rene des Saussure, — Theorie des phenomenes physiques et chimiques («Archives des Sciences hysiques et naturelles», 1891, №№ 1, 2). — Leo Königsberger. — Die Printipien d. Mechanik. 1901. (Механика многомерн. простр.).
Их делали немецк. идеалисты — Фихте, Шеллинг и Гегель; см. также: R. Н. Lotze, — Syst. d. Philos, Thl. II: Metaphysik, 1879; eго же, — Grundzzüg d. Metaphysik, 2 Aufl. Lpz. 1887. Густ. Тейхмюллер, — Действительный и кажущийся мир. Пер. с нем. Е. Красникова. Казань, 1913, кн. 2–я, гл. 1–я. Весьма характерно беcсилие рационализировать трехмерность пространства у П. Н. Страхова, — Мир как целое, СПб., 1872, стр. 246. — Новейш. постановка вопроса о мерности простр. связана с те. наз. «принципом относительности»: Гер. Минковский, — Пространство и время Пер. И. В. Яшунский, СПб., 1911, «Physice».
Особен. см. у нем. идеалистов, у Лотце [1043], у Тейхмюллера [1043], кн. 2–я, гл. 2–я.
Хотя и делались неоднократн. попытки свести психич. жизнь к одному из начал, — к представлению, к воле или к чувству.
Это–то формальное сходство в развитии каждой из трех координат психической жизни и служило соблазнительным поводом к попытке свести какие–нибудь две к третьей.
Интересн. примеры тому собраны А. И. Садовым но число их можно было бы увеличить во много раз. (Характерно пристрастие Канта и последующих идеалистов к трихотомии, служащее пружиною их диалектики).
H. Usener, — Dreiheit («Rheinishes Museum f. Philologie», N. F., Bd. 58, 1903, SS. 3–4).
Usener, id., SS. 1–47, 161–208, 321–362. — Th. Neidhard, — Ueber Zahlensymbolik der Griechen und Römer, I, Th., Die Drei und Neunzahl («Progr. d. k. Progymnasiums in Fürth., 1895, S. 1–40). — Maтериал, собран. в обеих назван. раб., лег в основу исследования: А. И. Садов, — Знаменательные числа («Христ. Чт.», 1909 г., окт., ноябрь, дек.; 1910 г. февр. О числе три — окт. 1909 г.) тут же, на стр. 1313–1315 и в ноябре, стр. 1458, приводится лит., хотя и неполная. — Назван. иссл. имеется и в отд. оттиск., СПб., 1909 г. — Из него взяты [1049–1051]. Еще см. [747].
Их мы находим уже у неоплатоников и, пожалуй, даже у Платона. Многочисленны попытки такого рода у свв. оо., напр., у Афанасия В., у Вас. В, у обоих Григориев и т. д., и т. д. В новое время особенно занимались такою дедукцией многие мистики, вроде Я. Бема, Пордеджа, Баадера и др., и философы, — немецк. идеалисты и среди них по преим. Шеллинг в своей «Филос. Откровения», Фр. фон Баадер, С. — Мартен, Вл. Соловьев, Архим. Серапион Машкин и др. Из мало известных сочин. на эту тему назовем: Догмат о Св. Троице и полное знание, Сергиев Посад, 1904 г. Глубокие мысли о Троичности высказывали Η. Ф. Федоров и А. Н. Шмид.
[т. е. 3, N. В.] Бл. Август., — О троичности. Августиновские подобия, которыми уясняется тайна Троичности, собраны в книгВ: Th. Gangаuf, — Augustinus Speculative Lehre von Gottem dem Dreieinigen, SS. 204–295. См. также П. И. Вepeщацкий, — Плотин и бл. Августин в их отношении к тринитарной проблем. Казань, 1911 г. — Кн. E. H. Tрубецкой, — рел. общ. идеал западн. хр–ва в XI в. Миросозерцание бл. Августина. М., 1892. А. [П.] Орлов, — Тринитарные воззрения Илария Пиктов., Серг. Пос., 1908. — И. И. Адамов, — учение о Троице св. Амвросия Мед., Серг. Пос., 1910.
Dig. Lib. 50, tit. 17. fr. 202. (Corpus juris civilis, ed. stereot. cura L. L. G. Beek, Lipsiae, 1829, p. 778).
П. Флоренский. Догматизм и догматика. — «Христианска мисъль» (София), 1907, ч. 1, кн. 3–4. Цит. по русскому рукописному оригиналу.
Священник Павел Флоренский. Вступительное слово… Сергиев Посад. 1914, с. 9–10 (см. наст. изд., с. 822).
Иеродиакон Андроник (Трубачев). Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. — «Журнал Московской Патриархии», 1982, № 4, с. 17.
Игумен Андроник (Трубачев). «75 лет <книге> «Столп и утверждение Истины» П. А. Флоренского. — В кн.: 1989. Памятные даты. М., 1989. С. 56.
См.: П. А. Флоренский. Воспоминания. — «Литературная учеба», 1988, № 6. С. 144–145, 158.
См. о нем: Соль земли, то есть сказание о жизни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. Сергиев Посад. 1909.
См. о нем: Сборник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троицкого. † 2 ноября 1910. Тифлис. 1912.
Иеродиакон Андроник (Трубачев). Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. — «Журнал Московской Патриархии», 1982, № 4. С. 16.
См.: Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины (Письма к Другу). — В кн.: Вопросы религии. <Сборник.> Выпуск 2. <М.,> 1908. С. 226—384. То же. Отд. оттиск. М., тип. Вильде <,1908>. 163 с.
Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. Письмо восьмое: тварь. — В кн.: Религия и жизнь. Со. статей. М., 1908, с. 36—61. То же. Отд. отт. М., печатня А. И. Снегиревой. 1908. 26 с.
См.: Глаголев С. Отзыв о сочинении студента Флоренского Павла на тему: «О религиозной истине» — В кн.: Журналы собраний Совета имп. Московской Духовной Академии за 1908 г. Сергиев Посад, 1909. С. 129—135. Сохранился один из экземпляров кандидатского сочинения П. Флоренского: оттиски напечатанных глав «Столпа» 1908 г. были переплетены вместе с машинописью X–XII разделов.
Глаголев С. Отзыв о сочинении… С. 134—135. При публикации отзыва указание на оценку было снято, однако она имеется в официальном рукописном оригинале.
Священник Павел Флоренский. София (Из писем к Другу) — «Богословский вестник», 1911, № 5. С. 135—161, № 7/8. С. 582—613.
Павел Флоренский. Дружба (из писем к Другу). Приложение: Экскурс о ревности. — «Богословский вестник», 1911, № 1, С. 151–182. № 3. С. 467–507.
Священник Павел Флоренский. О Духовной Истине. Опыт православной теодицеи. Вып. <1>–2. М. Т–во тип. А. И. Мамонтова. 1913. <Вып. 1>. 1913 (на обл. 1912). 2, 534 с. Вып. 2. Примечания и заметки. 1913, LXXIII с.
Ср. сходные переживания одного из друзей Флоренского протоиерея Иосифа Фуделя (1864—1918), описанные его сыном (С. И. Фудель. Воспоминания. Рукопись).
Игумен Андроник (Трубачев). Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной Академии и редактор «Богословского вестника». — В кн.: Богословские труды. Сб. 28. М., 1987. С. 296–297.
В «Столпе» (М., 1914) это выражение находится на с. 421 без ссылки. В подготовительных материалах указывается, что это выражение — цитата из творений святителя Николая Кавасилы.
См. журналы собраний Совета имп. Московской Духовной Академии за 1914 год. Сергиев Посад, 1916. С. 152–154.
См. И. Магистерский диспут в имп. Московской Духовной Академии.— «Московские ведомости», 21 мая 1914,·№ 116.
Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского. М. «Путь». 1914, 814 с.
С него были сделаны издания: Берлин, 1829. Фототип; Gregg International Publishers Ltd., England. 1970. Reprint; Собрание сочинений под ред. Н. Струве. Т. 4. Париж, 1989.
С этого издания были сделаны также следующие переводы: Р. Florenskij. La colonna е il fondamento della veritä. Milano, 1974; P. Florensky. La colonne et le fondement de la verite. Lausanne, 1975.
Отрывки из «Столпа» вошли в различные сборники по истории русской религиозно–философской мысли на русском и других языках: Der Pfeiler und das Grundfest der Wahrheit. Auswahl — В кн.: Östliches Christentum Documente herausgegeben von v. Bubnoff und Ehrenberg. II. Philosophiрывки из «Столпа» вошли в различные сборники по истории русской религиозно–философской мысли на русском и других языках: Der Pfeiler und das Grundfest der Wahrheit. Auswahl — В кн.: Östliches Christentum Documente herausgegeben von v. Bubnoff und Ehrenberg. II. Philosophie. G. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München, 1925; Sophia — В кн.: Ahren aus der Garbe. Kleines Jahrbuch des Matthius — Grünewald — Verlages für das Jahr 1926; Christi Reich im Osten. Mainz, 1926; В кн.: C. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. Вашингтон, Нью–Йорк, 1965; В кн.: S. L. Frank. Il pensiero religioso russo. Antologia. Milano, 1977; On the Holy Spirit — В кн.: A. Schmeman. Ultimate Questions. An Antology of Modern Russian Religious Thought. Oxford, 1977; La luce della verita. La Sofia — В кн.: Maria Giovanna Valenziano Osb. Florenskij. La luce della veritä. Edizioni studium. Roma, 1986. рывки из «Столпа» вошли в различные сборники по истории русской религиозно–философской мысли на русском и других языках: Der Pfeiler und das Grundfest der Wahrheit. Auswahl — В кн.: Östliches Christentum Documente herausgegeben von v. Bubnoff und Ehrenberg. II. Philosophie. G. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München, 1925; Sophia — В кн.: Ahren aus der Garbe. Kleines Jahrbuch des Matthius — Grünewald — Verlages für das Jahr 1926; Christi Reich im Osten. Mainz, 1926; В кн.: C. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. Вашингтон, Нью–Йорк, 1965; В кн.: S. L. Frank. Il pensiero religioso russo. Antologia. Milano, 1977; On the Holy Spirit — В кн.: A. Schmeman. Ultimate Questions. An Antology of Modern Russian Religious Thought. Oxford, 1977; La luce della verita. La Sofia — В кн.: Maria Giovanna Valenziano Osb. Florenskij. La luce della veritä. Edizioni studium. Roma, 1986. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München, 1925; Sophia — В кн.: Ahren aus der Garbe. Kleines Jahrbuch des Matthius — Grünewald — Verlages für das Jahr 1926; Christi Reich im Osten. Mainz, 1926; В кн.: C. Л. Франк. Из истории русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология. Вашингтон, Нью–Йорк, 1965; В кн.: S. L. Frank. Il pensiero religioso russo. Antologia. Milano, 1977; On the Holy Spirit — В кн.: A. Schmeman. Ultimate Questions. An Antology of Modern Russian Religious Thought. Oxford, 1977; La luce della verita. La Sofia — В кн.: Maria Giovanna Valenziano Osb. Florenskij. La luce della veritä. Edizioni studium. Roma, 1986.
Епископ Феодор (Поздеевский). Рец.: «О Духовной Истине». Опыт православной Теодицеи («Столп и утверждение Истины») свящ. П. Флоренского. Сергиев Посад, 1914. С. 42.
Document ID: ooofbtools-2014-1-17-15-29-52-1141
Document version: 2
Document creation date: Январь 2014 г.
Created using: FineReader 11, OOoFBTools-2.21 (ExportToFB21), MS Word 10, XML Spy, FictionBook Editor Release 2.6 software
OCR Source: Владимир Шнейдер
Версия 2.0 — исходный текст
This file was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter version 1.1.5.0.
(This book might contain copyrighted material, author of the converter bears no responsibility for it's usage)
Этот файл создан при помощи конвертера FB2EPUB версии 1.1.5.0 написанного Lord KiRon.
(Эта книга может содержать материал который защищен авторским правом, автор конвертера не несет ответственности за его использование)